Загрузил
irina.golynya
Коммуникация и не-коммуникация: Винникотт
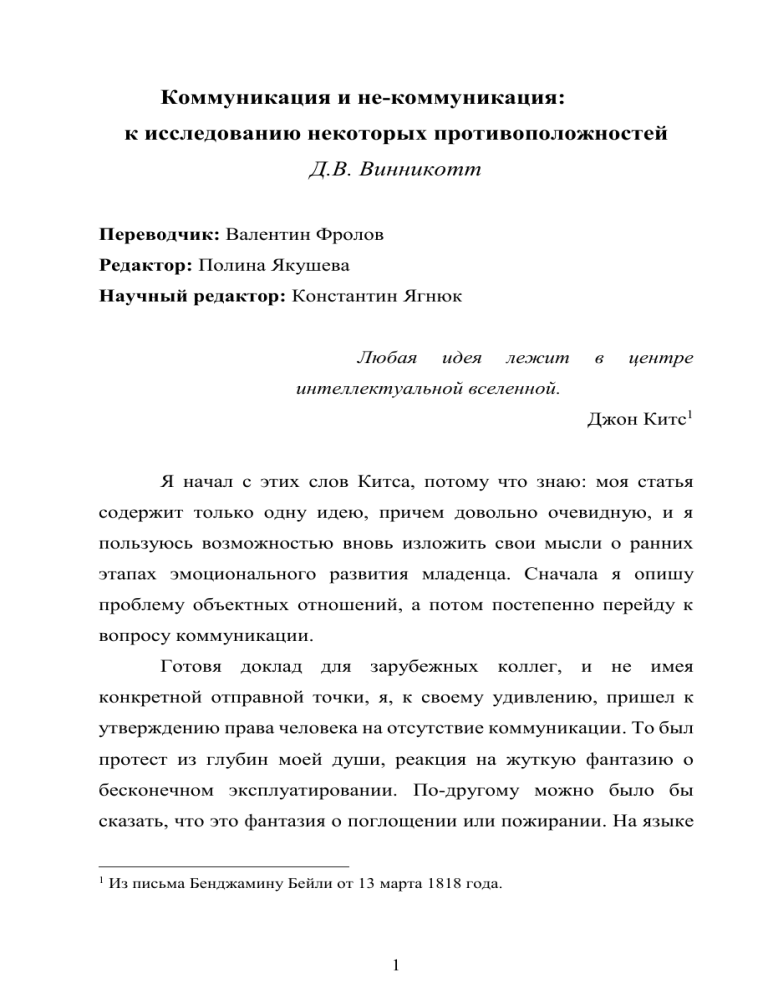
Коммуникация и не-коммуникация: к исследованию некоторых противоположностей Д.В. Винникотт Переводчик: Валентин Фролов Редактор: Полина Якушева Научный редактор: Константин Ягнюк Любая идея лежит в центре интеллектуальной вселенной. Джон Китс1 Я начал с этих слов Китса, потому что знаю: моя статья содержит только одну идею, причем довольно очевидную, и я пользуюсь возможностью вновь изложить свои мысли о ранних этапах эмоционального развития младенца. Сначала я опишу проблему объектных отношений, а потом постепенно перейду к вопросу коммуникации. Готовя доклад для зарубежных коллег, и не имея конкретной отправной точки, я, к своему удивлению, пришел к утверждению права человека на отсутствие коммуникации. То был протест из глубин моей души, реакция на жуткую фантазию о бесконечном эксплуатировании. По-другому можно было бы сказать, что это фантазия о поглощении или пожирании. На языке 1 Из письма Бенджамину Бейли от 13 марта 1818 года. 1 же данной статьи речь идет о фантазии обнаружения (the fantasy of being found). Есть немало работ о молчании пациентов в психоанализе, но сейчас не место и не время их разбирать. Я также не ставлю перед собой цели исчерпывающе раскрыть тему коммуникации, скорее наоборот, я оставляю за собой право следовать за темой туда, куда она сама меня ведет. В конце статьи я позволю себе поднять еще один вопрос — изучение противоположностей. Но сначала следует повторить некоторые из моих убеждений относительно отношения к объекту (objectrelating) в раннем возрасте. Отношение к объекту Непосредственно рассматривая феномен коммуникации и способности к ней, можно увидеть тесную связь с отношением к объектам. Отношение к объектам – это сложное явление, и развитие способности к объектным отношениям (capacity to relate to objects) — это отнюдь не просто вопрос созревания. Как всегда, созревание (в психологии) требует благоприятного окружения (facilitating environment) и зависит от его качества. С позиций теории ранних и наиболее важных этапов развития человека там, где нет преобладания лишения или депривации, и где, следовательно, благоприятное окружение может считаться само собой разумеющимся, в индивидууме постепенно происходит изменение сущности объекта. Будучи сначала явлением сугубо субъективным, объект начинает восприниматься объективно. Процесс этот требует времени, и должны пройти месяцы и даже годы, прежде чем произойдет аккомодация индивидуумом 2 лишений и деприваций без искажения основных процессов, лежащих в основе отношения к объекту. На этом раннем этапе благоприятное окружение дает младенцу опыт всемогущества. Под последним я подразумеваю нечто большее, чем ощущение магической силы, ибо включаю в него и творческий аспект опыта. Адаптация к принципу реальности возникает естественным образом из опыта всемогущества, в пространстве отношений с субъективными объектами. Маргарет Риббл [Ribble, 1943], которая занимается этой темой, упускает, на мой взгляд, один важный момент, а именно идентификацию матери с младенцем (то, что я называю временным состоянием первичной материнской озабоченности). Вот, что пишет Риббл: Младенец в первый год жизни не должен сталкиваться с фрустрацией или лишением, поскольку эти факторы сразу вызывают чрезмерное напряжение и стимулируют скрытые защитные реакции. Если последствия таких переживаний не будут умело нейтрализованы, могут возникнуть расстройства поведения. Для младенца должен преобладать принцип удовольствия, и все, что мы можем сделать, — это привести его в действие. Только после достижения значительной степени созревания мы можем научить младенца адаптироваться к тому, что мы, взрослые, называем принципом реальности. Имеется в виду вопрос отношения к объекту или удовлетворений ид, но, я уверен, автор приведенных строк присоединилась бы и к более современным взглядам об эго-связи1 1 Ego-relatedness — термин, которым Дональд Винникотт описывает жизненно 3 (ego-relatedness). Младенец, испытывающий всемогущество под эгидой благоприятного окружения, создает и воссоздает объект, и этот процесс постепенно становится встроенным и опирающимся на память об этом опыте. Без сомнения то, что в конечном итоге становится интеллектом, влияет на способность незрелого индивидуума совершить этот очень сложный переход от субъективных объектов к воспринимаемым объективно объектам, и я предположил, что то, что в конечном итоге определяет результаты в тестах на интеллект, действительно влияет на способность индивидуума справляться с относительными сбоями в окружении и адаптации к ним. В здоровом состоянии младенец как бы сам создает то, что фактически его окружает и должно быть им найдено. И в норме объект именно создается, а не просто обнаруживается. Этот интереснейший аспект нормального отношения к объектам был мною описан в различных работах, в том числе в статье «Переходные объекты и переходные явления» [CW 5:4:24]. Хороший объект не является таковым для младенца, если он не создан им самим. Следует ли тут добавить, что он создается из нужды? Возможно, однако, чтобы быть созданным, объект сначала должен быть обнаружен. Парадокс этот надо принять, а не пытаться переформулировать, и устранить посредством важное присутствие другого, эмоциональную связь, которая укрепляет и поддерживает индивидуума, позволяя ему развиваться. – Прим. науч. ред. 4 взвешенного умозаключения. Есть еще один момент, который имеет значение, если учитывать местонахождение объекта. Переход объекта из «субъективного» в «объективно воспринимаемый» происходит более эффективно неудовлетворенности, благодаря чем переживаниям удовлетворения. скорее Удовлетворение, получаемое от питания, менее релевантно для установления отношения к объекту, чем неудовлетворенность объектом, служащим препятствием к этому питанию. Удовлетворение же инстинктов дарует младенцу личный опыт и мало влияет на положение объекта. У меня был взрослый шизоидный пациент, для которого удовлетворение устраняло объект: он не мог лежать на кушетке, ведь в этом положении воспроизводилась ситуация детского удовлетворения, устранявшего внешнюю реальность или «внешнесть» объектов. Я могу описать это иначе: после удовлетворительного кормления младенец чувствует, что от него «просто откупились», а беспокойство кормящей матери может быть основано на страхе, что, если младенец не будет удовлетворен, мать подвергнется нападению и будет уничтожена. После кормления удовлетворенный младенец не представляет опасности в течение нескольких часов, он теряет катексис. Напротив, агрессия младенца, которая относится к мышечному эротизму, движению и непреодолимым силам, сталкивающимся с неподвижными объектами, служит процессу размещения объекта, отделения объекта от себя, в той мере, в какой Я начинает возникать как сущность. В развитии, предшествующем достижению 5 слияния, необходимо учитывать поведение младенца, являющееся реактивным вследствие сбоев благоприятного окружения или матери-окружения; оно может выглядеть как агрессия, но на самом деле является дистрессом. В норме, когда младенец достигает слияния, фрустрирующий аспект поведения объекта имеет значение для формированию у младенца уважения к существованию мира, который не является частью его самого. Неудачи адаптации имеют ценность в той мере, в какой младенец может ненавидеть объект, то есть может сохранять представление об объекте как о потенциально удовлетворяющем, неспособность вести себя признавая при удовлетворительно. этом Тут его теория психоанализа, на мой взгляд, описывает все точно. Однако в ней часто упускается из необходимый для положительная роль виду большой формирования скачок слияния, неблагоприятных в а условий развитии, значит и окружения, благодаря которым младенец начинает познавать мир, который он не хочет признавать. Я обдуманно не говорю «внешний мир». При здоровом развитии существует промежуточная стадия, на которой важнейшим опытом пациента в отношении хорошего или потенциально удовлетворяющего объекта является отказ от него. Отказ от него есть часть процесса создания объекта (Именно это сильно усложняет работу терапевта в случае нервной анорексии). Этому нас учат наши пациенты, и я чувствую себя даже неловко, выдавая эти открытия за свои собственные. Все аналитики сталкиваются с подобными трудностями, и в некотором 6 смысле аналитику гораздо сложнее быть оригинальным, чем комулибо другому, потому что все, что мы говорим, на самом деле мы узнали от пациентов, если только не брать обсуждение статей, докладов и личное общение. В своей работе, особенно с шизоидными, а не психоневротическими аспектами личности, мы всегда ждем, хотя уже все знаем – ждем, когда пациент сам все скажет, а потом даем творческую интерпретацию. Если же мы даем интерпретацию, опираясь на свой опыт, и свои знания, то пациент вынужден ее отвергнуть или разрушить. По сути, тому, что я сейчас пишу, меня учит один мой пациент с анорексией. Теория коммуникации Эти вопросы, хотя я и изложил их с точки зрения отношения к объекту, действительно влияют на изучение коммуникации, поскольку естественным образом происходит изменение цели и средств коммуникации по мере того, как объект становится объективно воспринимаемым, и в той мере, в какой ребенок постепенно отказывается от ощущения всемогущества как жизненного опыта. Пока объект субъективен, в явном общении с ним нет необходимости. По мере того же, как объект становится объективно воспринимаемым, с ним начинается общение — вербальное или нет. Здесь появляются две новых сущности: а) использование индивидуумом форм общения и получение наслаждение от них: б) не вступающее в коммуникацию Я индивидуума, или личностное ядро Я, которое действительно изолировано. Все это сложно анализировать, потому что младенец 7 одновременно развивает два вида отношений: с окружениемматерью и с объектом, который становится объектом-матерью. Окружение-мать — это человек, а объект-мать — вещь, хотя также является матерью или частью матери. Обоюдная коммуникация между младенцем и окружениемматерью, несомненно, в определенной степени тонка, и ее изучение потребовало бы от нас столько же внимания к матери, сколько и к младенцу. Я только едва коснусь этого вопроса. Возможно, опыт ненадежности окружения-матери делает для него очевидным существование коммуникации с ней. Когда младенец переживает себя разрушенным, расколотым (the infant is shattered), это может быть воспринято матерью как вид коммуникации, если она способна поставить себя на место младенца и распознать сокрушение в его состоянии. Когда ее надежность превалирует, можно сказать, что младенец коммуницирует просто продолжая существовать и развиваясь в соответствии с личными процессами взросления, но такого рода процесс едва ли можно описать термином «коммуникация». Возвращаясь к отношению к объекту: по мере того, как объект становится для ребенка объективно воспринимаемым, нам важно начать противопоставлятькоммуникацию одной из её противоположностей. Объективно воспринимаемый объект Объективно становится воспринимаемый личностью с частичными объект объектами. противоположностями коммуникации являются: 8 постепенно Двумя 1. Простое отсутствие общения (или «не- коммуникация»; 2. Не-коммуникация активная или реактивная. C первым все ясно. Поведение, при котором коммуникация просто отсутствует, сродни отдыху. Это отдельное состояние, которое способно переходить в состояние коммуникации и происходит это естественно. Второе же необходимо описать как с точки зрения патологии, так и с точки зрения нормы. Начнем с патологии. До сих пор мы считали благоприятное окружение, хорошо приспособленное к потребностям, которые возникают из бытия и процессов взросления, само собой разумеющимся. В психопатологии же, которую нам теперь необходимо обсудить, окружение неблагоприятно для созревания, и в вопросе отношения к объекту у младенца развивается раскол (split). Одной половиной младенец относится к представленному объекту, и для этой цели развивается то, что я назвал ложным или покладистым Я. Другой половиной младенец относится к субъективному объекту или к простым явлениям, основанным на телесных ощущениях, которые практически не подвержены влиянию объективно воспринимаемого мира (с чисто клинической точки зрения, разве не это мы наблюдаем, скажем, в аутистических раскачивающихся движениях или в абстрактной картине, которая является тупиковым средством коммуникации?). Таким образом, я ввожу понятие коммуникации с субъективными объектами и одновременно понятие активной некоммуникации с тем, что объективно воспринимается младенцем. 9 Кажется, нет никаких сомнений в том, что, несмотря на всю свою бесполезность с точки зрения наблюдателя, «тупиковое» общение (общение с субъективными объектами) вполне реально. А общение с миром, которое происходит из ложного Я, напротив, не воспринимается как реальное: это не подлинная коммуникация, потому что в ней не участвует ядро личности, то, что можно назвать истинным Я. Теперь подойдем к проблеме психопатологии, рассмотрев случай тяжелого заболевания, детской шизофрении. При этом нам необходимо исследовать всю эту картину в той мере, в какой она может быть обнаружена у более нормальных индивидуумов, у которых развитие не было искажено грубыми нарушениями благоприятного окружения и у которых был шанс пройти через нормальные стадии развития. Легко увидеть, что в случаях более легких заболеваний, когда имеется как некоторая патология, так и норма, следует ожидать активной не-коммуникации (клинического отчуждения) из-за того, что коммуникация так легко связывается с некоторой степенью ложного (или покладистого) отношения к объектам. Безмолвная, тайная коммуникация с субъективными объектами, несущая в себе ощущение реальности, должна периодически брать верх, иначе не будет восстановлено равновесие. Я утверждаю, что у здорового (зрелого с точки зрения развития отношения к объектам) человека существует потребность в чем-то, что соответствует состоянию раскола, когда одна часть раздвоенности безмолвно общается с субъективными объектами. И представляется, что при этом значимые отношения с объектами 10 и коммуникация остаются безмолвными. Норму не следует описывать только с точки зрения отсутствия у здоровых людей признаков того, что можно назвать заболеванием. Следует уметь дать положительную оценку здоровому использованию не-коммуникации в формировании ощущения реальности. При этом, возможно, нам придется затронуть культурную жизнь человека, которая для взрослых является эквивалентом переходных явлений младенчества и раннего детства, в которой коммуникация осуществляется безотносительно того, воспринимается объект субъективно или объективно. На мой взгляд, психоаналитик только так может подходить к явлениям культуры. Он может говорить о психических механизмах художника, но не об опыте коммуникации в искусстве и религии, если только он не готов заниматься спекуляциями предшественником которой в той является пограничной переходный области, объект младенца. Я думаю, что в любом художнике можно обнаружить некую внутреннюю дилемму, связанную с сосуществованием двух закономерностей: острой потребностью в общении и еще более острой потребностью остаться незамеченным. Возможно, поэтому мы не можем представить себе художника, который достиг бы предела в том порыве, который занимает всю его сущность. На ранних этапах эмоционального развития человека невербальная коммуникация касается субъективного аспекта объектов. Я полагаю, что это связано с концепцией Фрейда о психической реальности и бессознательном, которое никогда не 11 может стать сознательным. Я бы добавил, что в здоровом состоянии от этой невербальной коммуникации происходит прямой переход к внутренним переживаниям, в том виде, в котором их определила Мелани Кляйн. В описаниях случаев Мелани Кляйн некоторые аспекты детской игры, например, оказываются «внутренними» переживаниями, то есть происходит полная проекция констелляции из внутренней психической реальности ребенка, так что комната, стол и игрушки оказываются субъективными объектами, и ребенок и аналитик находятся в этой модели внутреннего мира ребенка. То, что находится за пределами комнаты, находится за пределами ребенка. Это хорошо известно в психоанализе, хотя разные аналитики описывают данный процесс по-разному. Тут можно вспомнить «медовый период» в начале анализа и особую ясность самых первых часов. Это связано с зависимостью в переносе. Есть тут связь и с работой, которую я сам провожу, используя первые часы в краткосрочном лечении детей, особенно антисоциальных детей, которым полноценный анализ недоступен и для которых он даже не всегда целесообразен. Но моя цель в этой статье — не в том, чтобы вещать как клиницист, а в том, чтобы подойти к самому раннему варианту того, что Мелани Кляйн называла «внутренним». Поначалу слово «внутренний» не может быть использовано как у Кляйн, поскольку младенец еще не сформировал границы эго и не овладел психическими механизмами проекции и интроекции. На этом раннем этапе «внутренний» означает только личное, и личное в той мере, в какой индивидуум является тем, чье Я находится в процессе развития. Благоприятное окружение или эго-поддержка 12 матерью (the mother’s ego-support), оказываемая незрелому эго младенца, по-прежнему являются неотъемлемыми составляющими ребенка как жизнеспособного существа. Изучая психологию мистицизма, обычно сосредотачиваются на том, как понять феномен ухода мистиком в личный внутренний мир сложных интроекций. И, возможно, не уделяется достаточного внимания уходу мистика в такое состояние, в котором он может тайно коммуницировать с субъективными объектами и явлениями, а потеря контакта с миром общей (делимой с другими людьми) реальности при этом компенсируется приобретением ощущения реальности. Одна моя пациентка видела сон: две подруги выступали в качестве сотрудников таможни там, где она работает. Они с нелепой тщательностью досматривали все вещи пациентки и ее коллег. Затем она случайно протаранила автомобилем стеклянную перегородку. В сновидении были детали, которые указывали на то, что эти две женщины не только не имели права находиться там и проводить осмотр, но и выставляли себя в глупом свете своим отношением к происходящему. Стало ясно, что пациентка над ними насмехалась. Они не могли узнать ее тайну. Они олицетворяли мать, которая не позволяет ребенку от нее что-то скрывать. Пациентка рассказала, что в детстве (в девять лет) у нее была тетрадь, в которую она собирала стихи и пословицы, и она написала на ней «Моя личная тетрадь». На первой странице она написала: «Что человек думает в своем сердце, таким он и является». Мать как-то спросила, откуда эта пословица. Это было 13 ужасно, ведь получалось, что мать читала тетрадь. И, с другой стороны, все было бы в порядке, если бы мать прочитала тетрадь, но ничего бы не сказала. Перед нами картина, в рамках которой ребенок формирует свое приватное Я, не вступая в коммуникацию, но в то же время желая общаться и быть замеченным. Это сложная игра в прятки, в которой радость от того, что тебе удалось остаться скрытым, , сменяется расстройством от того , что тебя не нашли. Еще один пример, который не потребует от меня слишком глубокого или подробного описания, взят из диагностической беседы с семнадцатилетней девушкой. 1Ее мать беспокоится, что она может заболеть шизофренией, так как это семейная особенность, но в настоящий момент находится в самом разгаре всех переживаний и дилемм, присущих подростковому возрасту. Далее приведу выдержку из отчета о нашей беседе: «Затем X. перешла к теме блаженной безответственности детства. Она сказала: Ты видишь кошку и ты с ней, она — субъект, а не объект. Я: Как будто ты живешь в мире субъективных объектов. Она: Хорошо сказано. Вот почему я пишу стихи. На этом поэзия и зиждется. Разумеется, это лишь моя бесполезная теория, но мне так кажется, и это объясняет, почему мужчины пишут 1 Этот случай подробно описан в моей работе «Выводы, сделанные на основе психотерапевтического интервью с подростком» [CW 7:1:5]. 14 больше стихов, чем девушки. Девушки так сильно поглощены уходом за детьми или рождением детей, что их воображение и безответственность тратятся на детей. Затем мы поговорили о мостах, которые нужно сохранять между воображаемой жизнью и повседневным бытом. Она вела дневник, когда ей было 12 лет, а затем снова в 14, оба раза примерно в течение примерно семи месяцев. Она: Теперь я записываю только то, что чувствую, и записываю в стихах. В поэзии что-то выкристаллизовывается. Мы сравнили это с автобиографией, которая, по ее мнению, пишется обычно в более позднем возрасте. Она: Между старостью и детством есть что-то общее. Когда ей нужно соединиться с детским воображением, это ее ощущение выкристаллизовывается в стихотворении. Писать автобиографию ей было бы скучно. Она не издает свои стихи и даже никому их не показывает, потому что, хотя поначалу она и любит каждое свое стихотворение, вскоре теряет к ним интерес. Ей всегда было легче писать стихи, чем ее друзьям, благодаря неким, так сказать, техническим способностям, которые, кажется, присущи ей от природы. Но ее не интересует вопрос: действительно ли стихи хороши? Или, другими словами, понравятся ли они другим людям?» Я предполагаю, что в норме существует ядро личности, которое соответствует истинному Я раздвоенной личности; я предполагаю также, что это ядро никогда не взаимодействует с миром воспринимаемых объектов и что отдельный человек знает, 15 что с этим ядром никогда не следует взаимодействовать извне и что на него не должно влиять внешнее реальное окружение. Это моя основная мысль, которая является средоточием моего интеллектуального мира и моей статьи. Хотя здоровые люди коммуницируют и получают от этого удовольствие, верно и другое: каждый индивидуум пребывает в изоляции, является перманентно не вступающим в коммуникацию, неизвестным, фактически необнаруженным. В жизни и быту этот суровый факт смягчается благодаря совместному опыту, который является частью спектра культурного опыта. В центре каждого человека находится не поддающийся передаче элемент, который является священным и наиболее достойным сохранения. Оставляя пока в стороне еще более ранние и разрушительные переживания неудач и промахов окружения-матери, я бы сказал, что травматические переживания, которые приводят к формированию примитивных механизмов защиты, связаны с угрозой изолированному ядру, угрозой его обнаружения и изменения. Защита состоит в дальнейшем сокрытии тайного Я, вплоть до его проекции и бесконечного рассеивания. Изнасилование и пожирание людоедами — пустяки по сравнению с нарушением ядра Я, изменением стержневых элементов Я в результате проникновения коммуникации сквозь защитные механизмы. В моем понимании это страшнейший грех против самого себя. Нелюбовь людей к психоанализу понятна, ведь он глубоко проникает в человеческую личность и представляет угрозу для индивидуума в его потребности в тайной изоляции. Вопрос в том, как остаться изолированным, не 16 защищаясь? Каков же ответ? Должны ли мы перестать пытаться понять людей? Ответа, возможно, можно спросить у матерей, которые общаются со своими младенцами только в той мере, в какой они (матери) являются субъективными объектами. К тому времени, когда матери становятся объективно воспринимаемыми, их младенцы уже осваивают различные приемы непрямой коммуникации, наиболее очевидным из которых является использование языка. Однако меня особенно заинтересовал переходный период, в котором появляются переходные объекты и явления и у младенца начинает формироваться способность пользоваться символами. Я полагаю, что важная подоплека для развития эго лежит в этой области коммуникации индивидуума с субъективными явлениями, которые только и дают ощущение реальности. В наилучших условиях происходит рост, и ребенок теперь обладает тремя линиями коммуникации: общением, которое всегда остается неявным; общением явным, косвенным и доставляющим удовольствие; и этой третьей, промежуточной формой, которая вырастает из игры в культурный опыт. Связана ли невербальная коммуникация с концепцией первичного нарциссизма? На практике же в нашей работе мы должны учитывать некоммуникабельность пациента как нечто положительное. Спросим себя: позволяет ли наша методология пациенту сообщить, что он не-коммуницирует? Для этого мы, как аналитики, должны быть готовы к сигналу «Я не коммуницирую» 17 и уметь отличать его от сигнала дистресса, связанного с нарушением способности коммуницировать в принципе. Здесь прослеживается связь с идеей одиночества в присутствии другого человека, что в детстве является чем-то естественным, а в более позднем возрасте становится вопросом приобретения способности к уходу из ситуации без потери идентификации с тем, от чего произошел уход. Это проявляется в способности сосредоточиться на задаче. Я высказал свою основную мысль и мог бы на этом остановиться. Тем не менее, предлагаю обсудить и противоположности коммуникации. Противоположности Итак, есть две противоположности коммуникации: простое её отсутствие и активная не-коммуникация. Иными словами, коммуникация может возникнуть из отсутствия коммуникации, как нечто естественное, либо может стать отрицанием молчания, или отрицанием активной или реактивной не-коммуникации. В явном психоневротическом случае нет никаких трудностей, поскольку весь анализ проводится посредством вербализации. И пациент, и аналитик хотят, чтобы так и было. Но анализ (при наличии скрытого шизоидного элемента в личности пациента) порой слишком легко превращается в бесконечно затянутый сговор аналитика с отрицанием пациентом его «некоммуникации». Такой анализ становится утомительным из-за отсутствия результатов, несмотря на проделанную работу. В таком анализе период молчания может быть самым позитивным вкладом, 18 который может внести пациент, и тогда аналитик оказывается вовлеченным в игру ожидания. Конечно, можно интерпретировать движения, жесты и всевозможные детали поведения, но в случае, который я имею в виду, аналитику лучше подождать. Однако более опасным является положение дел в анализе, когда пациент позволяет аналитику проникнуть в самые глубокие слои своей личности из-за его положения субъективного объекта или из-за зависимости пациента в психотическом переносе. Здесь возникает опасность, когда аналитик интерпретирует, вместо того чтобы ждать, пока пациент сам творчески раскроет себя. Только здесь, в том месте, где аналитик не перешел от субъективного объекта к объективно воспринимаемому, психоанализ становится опасным, и этой опасности можно избежать, если мы знаем, как себя вести. Если мы ждем, мы становимся объективно воспринимаемыми в собственном времени пациента, но если мы не ведем себя так, чтобы способствовать аналитическому процессу пациента (что эквивалентно процессу взросления младенца и ребенка), мы внезапно становимся для пациента «не-Я», и тогда мы знаем слишком много и становимся опасны, потому что мы слишком близки к центральной, неподвижной и безмолвной точке эго-организации пациента. По этой причине мы считаем целесообразным даже в случае простого психоневротического случая избегать контактов, выходящих за рамки анализа. В случае шизоидного или пограничного пациента вопрос о том, как мы обращаемся с контактами, выходящими за рамки переноса, становится очень важной частью нашей работы с пациентом. Здесь можно обсудить 19 цель интерпретации аналитика. Я всегда считал, что важной функцией интерпретации является установление пределов понимания аналитика. Индивидуумы как пребывающие в изоляции Я выдвигаю и подчеркиваю важность идеи перманентной изоляции индивидуума и утверждаю, что в глубине души индивидуум не вступает ни в какую коммуникацию с миром вне «Я». Здесь безмолвие связано с неподвижностью. И тут мы обращаемся к трудам и идеям корифеев. Кстати, я хотел бы сослаться на очень интересный обзор концепции Самости в трудах Юнга, сделанный Майклом Фордхэмом. Он пишет: «Факт остается фактом: первоначальный опыт имеет место в одиночестве». Естественно, то, о чем я говорю, описано и в книге Уикса «Внутренний мир человека» [Wickes, 1938], но не всегда ясно, проводится ли различие между патологическим уходом в себя и здоровой внутренней коммуникацией [ср. Laing, 1961]. Психоаналитики часто формулируют идею «неподвижного, безмолвного» центра личности и первоначального опыта, имеющего место в одиночестве, но аналитики обычно не занимаются только этим аспектом жизни. Среди ближайших коллег, пожалуй, Рональд Лэинг наиболее обдуманно выдвигает идею «обнажения скрытого Я» наряду с нерешительностью в раскрытии себя [см. Laing, 1961, p. 117]. Тема индивидуума как изолированного существа имеет важное значение в изучении младенчества и психозов, но она также важна и в изучении подросткового возраста. Мальчика и 20 девочку в период полового созревания можно описать по-разному, и один из способов - понимать подростка как находящегося в изоляции. Сохранение личной изоляции является частью поиска идентичности и установления личной техники коммуникации, которая не приводит к нарушению центрального Я. Это может быть одной из причин, по которой подростки в целом избегают психоаналитического лечения, хотя интересуются психоаналитическими теориями. Они чувствуют, что психоанализ станет для них изнасилованием, не сексуальным, а духовным. На практике аналитик может избежать подтверждения опасений подростка, но аналитик подростка должен быть готов к тому, что его будут тщательно проверять, и должен быть готов использовать неявные формы коммуникации и распознавать простое нежелание общаться, не-коммуникацию. В подростковом возрасте, когда человек переживает половые изменения и еще не готов стать частью взрослого общества, усиливается защита от того, чтобы быть обнаруженным, то есть быть обнаруженным до того, как ты к этому готов. То, что является по-настоящему личным и кажется реальным, необходимо защищать любой ценой, даже если это означает временную слепоту к ценности компромисса. Подростки образуют скорее скопления, чем группы, и, выглядя одинаково, подчеркивают сущностное одиночество каждого индивидуума. По крайней мере, так мне кажется. Со всем этим связан кризис идентичности. Уилис, который боролся с проблемами идентичности, ясно и резко формулирует проблему профессионального выбора аналитика [Wheelis, 1958] и 21 связывает ее с его одиночеством и потребностью в близости, которая в аналитической работе обречена на провал. Аналитик, который, на мой взгляд, наиболее глубоко рассмотрел эти вопросы, — Эрик Эриксон. Так, в эпилоге к своей книге «Юный Лютер» [Erikson, 1958] он приходит к выводу, что «покой приходит из внутреннего пространства» (то есть не из исследования внешнего пространства и всего подобного). Прежде чем закончить, я хотел бы еще раз вернуться к противоположностям, которые относятся к отрицанию. Мелани Кляйн использовала понятие отрицания в концепции маниакальной защиты, в которой депрессия, уже являющаяся фактом, отрицается. Бион писал об определенных видах отрицания в своей статье о мышлении [Bion, 1962], а де Моншо продолжил эту тему в своем комментарии к статье Биона [de Monchaux, 1962]. Если я беру идею «жизненной силы» (liveliness), я должен допустить по крайней мере два противоположных понятия: одно — мертвенность, как в маниакальной защите, а другое — просто отсутствие «жизненной силы». Именно здесь молчание приравнивается к коммуникации, а неподвижность — к движению. Так, мы обращаемся к теории инстинктов жизни и смерти. Я понимаю, что не могу противопоставить жизнь смерти в качестве противоположности, за исключением маниакально-депрессивного клинического расстройства и случая концепции маниакальной защиты, в которой депрессия отрицается и сводится к нулю. В развитии младенца жизнь возникает и утверждается из не-жизни, и бытие становится фактом, заменяющим небытие, так же как коммуникация возникает из безмолвия. Смерть приобретает 22 смысл в жизненных процессах младенца только с появлением ненависти, то есть на позднем этапе, далеко от явлений, которые мы можем использовать для построения теории корней агрессии. Поэтому я не вижу смысла соединять слово «смерть» со словом «инстинкт», и еще меньше смысла в употреблении слов «инстинкт смерти» для обозначения ненависти и гнева. Трудно докопаться до корней агрессии, но такие противоположности, как жизнь и смерть, не имеют никакого значения на рассматриваемых нами ранних стадиях развития. В конце я бы хотел поговорить еще об одной противоположности «жизненной силы». Эта противоположность не релевантна в большинстве случаев. Обычно у матери младенца есть живые внутренние объекты, и младенец вписываетсяв ее преконцепцию о живом ребенке. Обычно мать не находится в депрессии и не склонна к депрессии. Однако в некоторых случаях центральный внутренний объект матери умирает в критический момент раннего детства ребенка, и ее настроение становится депрессивным. В этом случае младенец должен приспособиться к роли мертвого объекта противодействовать или предвзятому же быть живым, представлению чтобы матери о «мертвости» ребенка. В этом случае противоположностью «жизненной силе» младенца является анти-жизненный фактор, происходящий от депрессии матери. Задача младенца в таком случае — быть живым, выглядеть живым и сообщать о том, что он жив; фактически это конечная цель такого индивидуума, которому таким образом отказано в том, что дано более удачливым младенцам, — в наслаждении тем, что может принести жизнь и 23 существование. Быть живым — это все. Это постоянная борьба за то, чтобы добраться до отправной точки и удержаться там. Неудивительно, что есть люди, которые превращают жизнь в свое дело, в религию. В двух своих книгах Рональд Лэинг [Laing, 1960, 1961] пытается описать такое затруднительное положение, с которым многие сталкиваются из-за аномалий окружения. При здоровом развитии младенец (теоретически) начинает свое существование (психологически) без жизни и становится живым просто потому, что он, фактически, жив. Как я уже говорил ранее, это «бытие живым» является ранней формой коммуникации здорового младенца с материнской фигурой, и она настолько бессознательна, насколько это только возможно. Жизненность, отрицающая материнскую депрессию, есть форма коммуникации, призванная удовлетворить ожидания. Жизненность ребенка, чья мать страдает депрессией, является коммуникацией успокаивающего характера, и она неестественна и является невыносимым препятствием для незрелого эго в его функции интеграции и общего созревания. Вы, наверное, заметили, что я сделал полный круг и вернулся к теме коммуникации, но я признаю, что позволил себе большую свободу в развитии этой мысли. Заключение Я постарался обозначить необходимость признания важного аспекта нормы: не коммуницирующего центрального Я, вечно иммунного к принципу реальности и вечно безмолвствующего. Здесь коммуникация не является невербальной; она, как музыка сфер, абсолютно приватна. Она принадлежит самому бытию. И в 24 норме именно из этого естественным образом возникает коммуникация. Явная коммуникация доставляет удовольствие и включает в себя чрезвычайно интересные техники, в том числе языковые. Две крайности — явная непрямая коммуникация и безмолвная, или личная, коммуникация, которая воспринимается как реальная, — каждая из них занимает свое место, а в пограничной зоне культурной среды для многих, но не для всех, существует способ коммуникации, который является наиболее ценным компромиссом между двумя крайностями. 25




