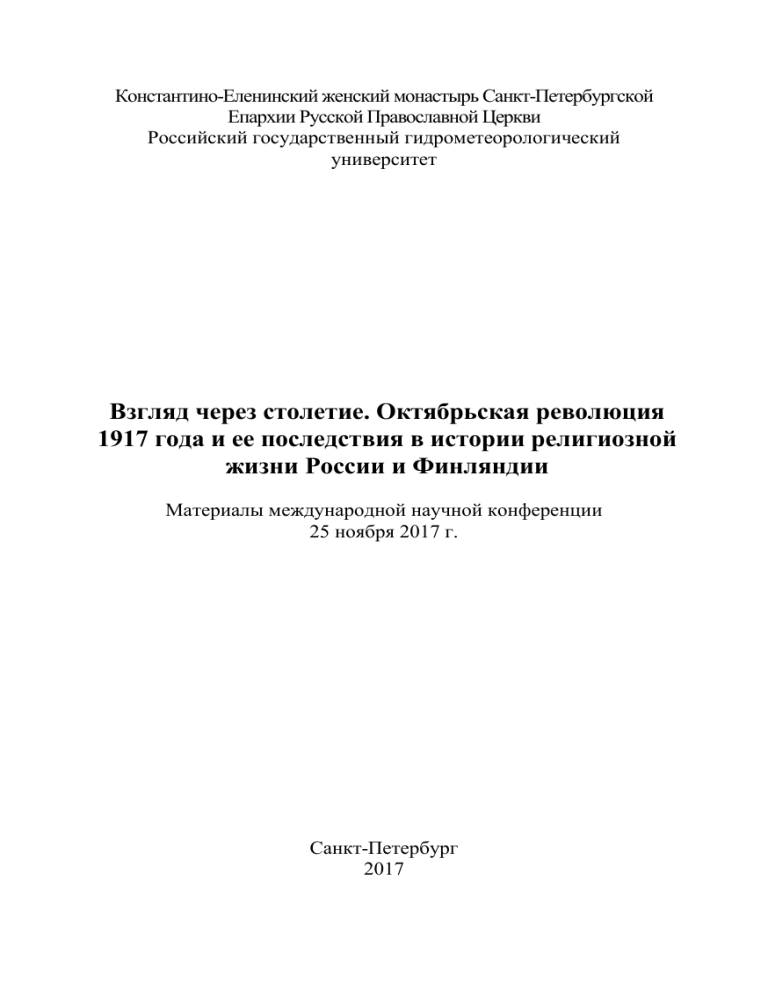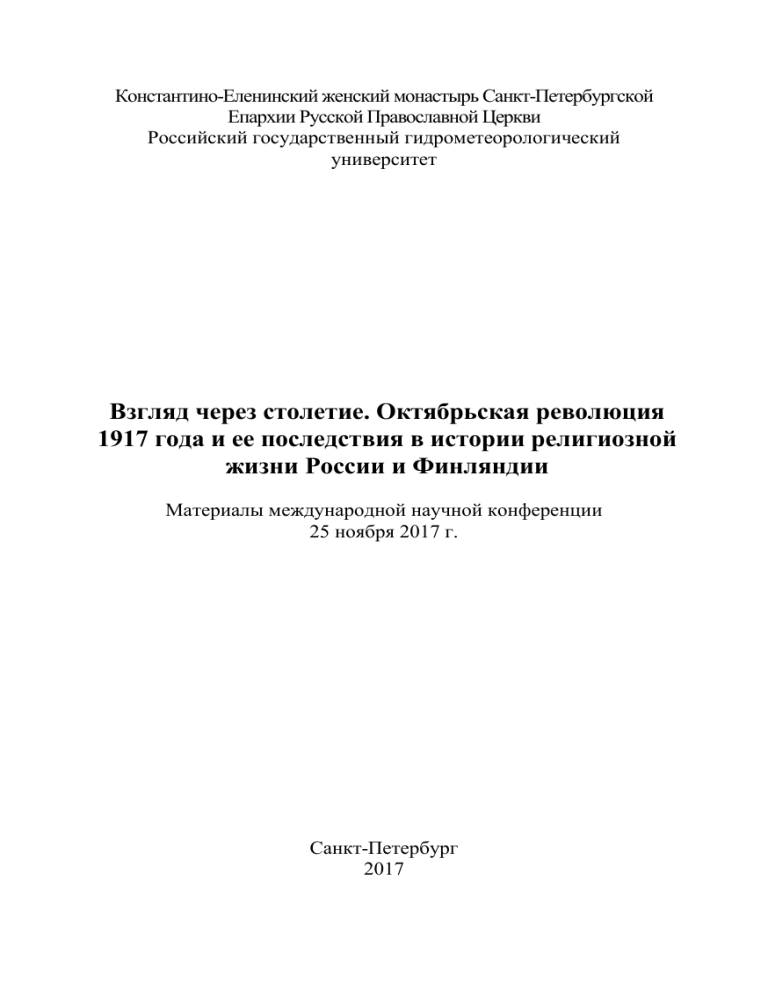
Константино-Еленинский женский монастырь Санкт-Петербургской
Епархии Русской Православной Церкви
Российский государственный гидрометеорологический
университет
Взгляд через столетие. Октябрьская революция
1917 года и ее последствия в истории религиозной
жизни России и Финляндии
Материалы международной научной конференции
25 ноября 2017 г.
Санкт-Петербург
2017
УДК 327.5
ББК 63.3
Редакционная коллегия:
Алексеев-Борецкий А.А.
канд.филос.н. Гусева А.Ю.
канд.искусствоведения Казарина В.Б.
(ответственный редактор)
д-р.филос.н. Кефели И.Ф.
д-р.филос.н. Лазар М.Г.
д-р.ист.н. Судариков А.М.
«Взгляд через столетие. Октябрьская революция 1917 года и ее
последствия в истории религиозной жизни России и
Финляндии». Материалы международной научной конференции
25 ноября 2017 г. / отв. ред. В.Б. Казарина. – СПб.: Изд-во
«КультИнформПресс», 2017. – с.
ISBN 978-5-8392-0682-3
В сборнике представлены материалы международной научной
конференции «Взгляд через столетие. Октябрьская революция
1917 года и ее последствия в истории религиозной жизни России и
Финляндии». В конференции приняли участие ученые,
преподаватели вузов, специалисты-практики, представители
православных монастырей, общественных организаций и
учреждений культуры, науки и образования Санкт-Петербурга,
Москвы и других регионов Российской Федерации, а также
зарубежных государств. Многоаспектность представленных
докладов и статей адресована широкому кругу: преподавателям
высших и средних учебных заведений, научным работникам, а
также аспирантам и студентам.
«Look over a century. The October revolution of the 1917 and its
consequences in his history of religious life of Russia and Finland».
Materials of the international scientific conferences on 25 of
November, 2017 / ex. edit. V.B. Cazarina. – SPb.: P.H.
«CultInformPress», 2017. – p.
2
The materials of the international scientific conference «Look over a
century. The October revolution of the 1917 and its consequences in his
history of religious life of Russia and Finland» are presented in the
collected stories. Scientists, teachers of higher education institutions,
specialists-experts, representatives of orthodox monasteries, public
organizations and cultural institutions, science and education of St.
Petersburg and other regions of the Russian Federation, and also the
foreign states have taken part in conference.
The versatility of the introduced reports and articles is addressed to a
wide range: to teachers of the highest and average educational
institutions, scientists, and also to graduate students and students.
Материалы публикуются в авторской редакции.
© Константино-Еленинский женский монастырь Санкт-Петербургской
Епархии Русской Православной Церкви
© Российский государственный
гидрометеорологический университет, 2017.
3
Cодержание
Предисловие………………………………………………………
Доклады пленарного заседания............................................
Бежанидзе Г.В. Кризис церковно-государственных отношений
в предреволюционной России…………………………………
A crisis in relationships between the Chantry and the State before
October revolution in Russia.
Будашевский Г.В. История отношений России и Финляндии в
первой половине ХХ века………………………………………..
History of contact between Russia and Finland in the first half of
twentieth century.
Кефели И.Ф. Великий октябрь: «десять дней, которые
потрясли мир», и… сто лет спустя.
The great October: ten days
Иеромонах Силуан (Никитин)
Изменения в жизни духовенства Финляндской и Выборгской
епархии после событий 1917 года и до образования
Финляндской Православной Церкви.
Шкаровский М.В. Церковная жизнь Петрограда в период
работы Всероссийского Поместного Собора 1917—1918 гг.
Судариков А.М., Гусева А.Ю.
Балтийские моряки и большевистское руководство в октябре
1917 – марте 1918 гг.
Секция 1
Алексеев-Борецкий А.А. Благотворительная деятельность СвятоТроицкого Линтульского женского монастыря в революционное
время.
Абезгауз С.А., Алымов Юрий Владимирович. Исторический
антагонизм между казаками и крестьянами на примере
Уральского казачьего войска в 1917 г.
4
Бубнова Я.В., Вокуев А.М. Основные причины свершения
октябрьской революции в Крыму.
Будашевский Г.В. История отношений России и Финляндии в
первой половине ХХ века.
Граматиков П. Болгарский след в центре так называемого
«дела Локкарта», направленного против большевистского
режима.
Дударев К.В. Морально-психологическое состояние войск
Русской Императорской Армии накануне Февральских
событий 1917 г.
Илюшин М.А., Шугалей И.В., Смирнов А.В. Технологический
Институт в октябрьские дни 1917 г. и годы гражданской
войны.
Кокоулин В.Г. Сибирское общество в 1917 г.: сползание в
катастрофу.
Колышницына Н.В..
Императорский Историко-филологический институт в годы
Первой мировой войны и революции.
Лоек Кшиштоф
Польский город Остроленко
войны.
во время польско-советской
Лысенко Игорь Владимирович
Личность императора и восприятие его семьи в сознании
русского общества 1896—1918 годов.
Михеев Валерий Леонидович, Палкин Иван Иванович,.
Моряки Кронштадта и Гельсингфорса между февралем и
октябрем 1917 г.
5
Нурышев Геннадий Николаевич, Когут Виктор Григорьевич,
Октябрьская революция в России в геополитическом
измерении.
Портнягина Наталья Александровна
От 1905 к 1917: изменение представлений о революции у
правых либералов (на примере текстов С.Н. Булгакова).
Рогожкина Софья Петровна
Отношения России и Финляндии в конце XVI – первой
половине ХХ века
Славнитский Николай Равильевич
Борьба крестьян за хлеб на северо-западе России осенью 1917
г.
Холяев Сергей Владимирович
Руководство армии в условиях революционного кризиса 1917
г.
Черных Никита Сергеевич
Щегловитов Иван Григорьевич – государственный деятель,
последний председатель Государственного совета Российской
империи.
Секция 2
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ
РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Глотов Михаил Борисович
Октябрьская революция и институциализация народного
художественного творчества.
2.
Желобов Андрей Петрович, доктор философских наук,
профессор, Российский государственный гидрометеорологический
университет. Санкт-Петербург.
О характере религиозности И.В. Вернадского и «колебаниях»
его ценностного сознания.
6
3.
Канышева Ольга Альбертовна, кандидат философских
наук,
доцент,
Российский
государственный
гидрометеорологический университет. Санкт-Петербург.
Проблема индивидуализации России в послеоктябрьский
период.
4.
Лазар Михай Гаврилович, доктор философских наук,
профессор, Российский государственный гидрометеорологический
университет. Санкт-Петербург.
Отношения церкви и государства в России: исторические и
социальные аспекты.
5.
Овчинникова Елена Анатольевна, кандидат философских
наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет.
Санкт-Петербург.
Мораль и идеология в послереволюционной России (1920—
1930-е гг.).
6.
Петушков Сергей Александрович, старший преподаватель,
Российский
государственный
гидрометеорологический
университет. Санкт-Петербург.
Революционные события 1917 года и распространенность
девиантного поведения в молодом Советском государстве.
7.
Резвицкий Иван Иванович, доктор философских наук,
профессор, Российский государственный гидрометеорологический
университет. Санкт-Петербург.
Духовно-религиозные поиски нового человека в философии Н.
Бердяева.
8.
Романов Константин Владимирович, доктор философских
наук, профессор, заведующий кафедрой, Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования. СанктПетербург.
7
Гуманистический реализм философии образования: чему учит
истории.
9.
Спиридонова Вера Анатольевна, кандидат социологических
наук,
доцент,
Российский
государственный
гидрометеорологический университет. Санкт-Петербург.
С.Н. Булкагов – исследователь хозяйства.
10.
Федоренко Наталья Владимировна, старший
преподаватель,
Российский
государственный
гидрометеорологический университет. Санкт-Петербург.
И.А.Ильин в поисках морального оправдания насилия над
злом.
11.
Чурзин Вячеслав Васильевич, СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Санкт-Петербург.
Революция – одна из форм реставрации.
Секция 3
РЕЛИГИОЗНАЯ
ЖИЗНЬ
И
ДУХОВНЫЙ
РУССКОГО ОБЩЕСТВА В 1917 Г.
КРИЗИС
107 ауд., 1 этаж
Руководитель секции:
Шкаровский Михаил Витальевич, доктор исторических наук,
главный архивист Центрального государственного архива СанктПетербурга. Санкт-Петербург.
Секретарь секции:
Рашитова Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук.
Санкт-Петербург.
1.
Воронцова Ирина Владимировна, кандидат исторических
наук, кандидат богословия, старший научный сотрудник отдела
Новейшей истории Русской Православной Церкви Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Москва.
8
Вопрос общественно-политической деятельности духовенства
в 1905–1907 гг. и его отражение в решениях Поместного
Собора 1917–1918 гг.
2.
Гаевская Надежда Зеноновна, соискатель аспирантуры
Русской христианской гуманитарной академии. Санкт-Петербург.
Внутренний путь. Православное подвижничество в России в
первой половине XIX века.
3.
Евдокимова Елена Александровна, кандидат философских
наук, доцент Санкт-Петербургский государственный институт
кино
и
телевидения.
Санкт-Петербург.
Русское духовенство и революционное сознание.
4.
Есикова Татьяна Владиславовна, кандидат педагогических
наук,
доцент,
Российский
государственный
гидрометеорологический университет. Санкт-Петербург.
Кризис духовных ценностей российского
следствие Октябрьской революции.
общества
как
5.
Королев Александр Анатольевич, магистрант СанктПетербургской духовной академии. Санкт-Петербург.
Духовный облик святого страстотерпца Евгения Боткина.
6.
Пименов Георгий Германович, священник, соискатель
аспирантуры Санкт-Петербургской духовной академии. СанктПетербург.
Русские паломничества в финские монастыри в 1917—1939 гг.
7.
Рашитова Ольга Анатольевна, кандидат исторических
наук. Санкт-Петербург.
Церковная жизнь Ямбургского уезда Санкт-Петербургской
епархии после революции 1917 г.
9
8.
Сартаков Алексей Владимирович, магистрант СанктПетербургской духовной академии. Санкт-Петербург.
О некоторых нововведениях в жизни Казанской духовной
академии к началу XX века.
9.
Филимонов Валерий Павлович, русский писатель-агиограф.
Санкт-Петербург.
К 100-летию начала гонений на Русскую Православную
Церковь. «Умереть на молитве – это высшее счастье для
христианина». «Кого расстреливать первым – Тебя или
сыновей?» О непостижимых подвигах и мученичестве
пресвитера Философа Орнатского.
10.
Ханин Дмитрий Самуилович, кандидат педагогических
наук, преподаватель физики, информатики,
кафедра
компьютерных
технологий
и
электронного
обучения
РГПУ им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург.
Церковь в годы революционного лихолетья (начало XX века).
11.
Шевченко Татьяна Ивановна, кандидат богословия,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела
новейшей истории Русской Православной Церкви Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Москва.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь в 1917—1918
гг.
Секция 4
ОКТЯБРЬСКАЯ
ИСКУССТВЕ
РЕВОЛЮЦИЯ
В
КУЛЬТУРЕ
И
217 ауд., 2 этаж
Руководитель секции: Казарина Вера Борисовна, кандидат
искусствоведения, член Союза художников России, начальник
научно-библиографического отдела Научного архива РАХ. СанктПетербург.
10
Секретарь секции: Канышева Ольга Альбертовна, кандидат
философских наук, доцент, Российский государственный
гидрометеорологический университет. Санкт-Петербург.
1.
Александрова-Осокина Ольга Николаевна, доктор
филологических наук, доцент, профессор Тихоокеанского
государственного университета. Хабаровск.
Валаам как оплот духовной православной традиции (по
материалам русской литературы).
2. Жэрве Нина Наумовна, заведующая сектором Музея истории
Санкт-Петербургского .
государственного университета,
выпускающий редактор журнала «София». Санкт-Петербург.
Православные храмы Русской Финляндии сто лет назад
(Сестрорецк, Терийоки, Райвола).
3.
Иванов Игорь Анатольевич, священник, кандидат
философских наук, доцент,
доцент, заведующий кафедрой иностранных языков СанктПетербургской духовной академии. Санкт-Петербург.
Революция и «утечка умов»: американский византолог А.А.
Васильев (1867—1953). К 150-летию со дня рождения.
4.
Казарина Вера Борисовна, кандидат искусствоведения,
начальник научно-библиографического отдела Научного архива
Российской Академии художеств. Санкт-Петербург.
Деятельность Ю.И. Репина в приходской жизни СпасоПреображенской церкви в Куоккале (по материалам Научного
архива РАХ).
5.
Канышева Ольга Альбертовна, кандидат философских
наук,
доцент,
Российский
государственный
гидрометеорологический университет. Санкт-Петербург.
11
Великая Октябрьская
культуры.
революция
и
вечные
ценности
6.
Кипнес Людмила Владимировна, кандидат педагогических
наук,
доцент
Российский
государственный
гидрометеорологический университет. Санкт-Петербург.
Поэма А.А. Блока «Двенадцать»: революционный циклон.
7.
Кононова Алла Викторовна, член Международной
ассоциации искусствоведов, член Творческого союза работников
культуры, член Союза художников России, старший научный
сотрудник Государственного Русского музея. Санкт-Петербург.
Борис Григорьев: Россия на переломе глазами очевидца.
8.
Корпелайнен Елизавета Александровна, преподаватель
иконописи Государственного университета в г. Ювяскюля.
Финляндия.
История развития иконописания в Финляндии.
9.
Личак Наталья Алексеевна, доктор культурологи, доцент,
ФГБОУ ВО Ярославский государственный технический
университет. Ярославль.
Октябрьская революция – новый этап в деле сохранения
исторического и культурного наследия страны.
10.
Михайленко Татьяна Вячеславовна, иконописец, член
союза
художников
России.
Санкт-Петербург.
Берега во времени.
11.
Меньшов Николай Петрович, кандидат исторических наук,
историк-архивист. Москва.
Деятельность Священного
изобразительных источниках.
Собора
1917–1918
гг.
в
12.
Устинова Ирина Олеговна, старший преподаватель СанктПетербургского института кино и телевидения. Санкт-Петербург.
Кинематограф в годы октябрьской революции в России.
12
13
ПРЕДИСЛОВИЕ
1917 год был временем потрясений, временем перемен.
Участники конференции собрались обсудить события той бурной
эпохи. Несомненно, в истории России этот год стал переломным.
Российская буржуазия много лет добивалась права вершить судьбу
России, в её руках было многое – заводы, фабрики, банки,
железные дороги; этого как раз не хватало в момент свержения
царскому правительству. И вот – буржуазию поддержали западные
союзники, она получила огромные властные полномочия. Но даже
при таком раскладе ей не удалось собрать ресурсы для ведения
войны, не удалось оздоровить экономику.
Временное правительство довело страну до глубокого
кризиса за 8 месяцев. Новая сила – большевики – взяли и власть, и
собственность; первое время советсткой власти сопротивлялись
довольно слабо. Модернизация страны в начале XX века
осуществлялась так, что активное и образованное население
рассматривало как пережитки прошлого и веру в Бога, и веру в
Церковь и духовенство. В провинцию проникали антирелигиозные
и антицерковные настроения и влияли на молодежь.
Во время войны наступил кризис общественной морали,
ценностей, смыслов, идеалов; это привело к падению авторитета
Православной Церкви. Наметился раскол в православии – между
пастырями и паствы; между духовентсвом – белым и черным.
Доходило до того, что священников обвиняли в стрельбе из
пулеметов по тем, кто выходил на демонстрацию. К осени 1917 г.
массовое движение приобретает бунтовской характер.
В этих условиях большевики (преобладающие в
Петербургском и Московском Советах) перехватили власть у
Временного правительства, осуществили разгон Учредительного
собрания. Нарастает социальная агрессия; Православная Церковь
не может противостоять самоуправству стихийных толп. Это были
продовольственные
и
пьяные
погромы,
самосудные
антицерковные акции в городе и деревне.
В соотвествии с одним из первых декретов СНК у
Православной Церкви конфискуются учебные заведения; все
сельскохозяйственные
земли
(включая
церковные
и
монастырские) передаются государству; дело воспитания и
14
образования также передается из духовного ведомства в ведение
Наркомата по просвещению. Церковь отделяется от государства на
основе «Декрета СНК о свободе совести, церковных и
религиозных обществах» (2 февраля 1918 г.). Главный пафос
декрета – идея о «возвращении народу неправедно нажитого
церковью». Все выплаты в пользу духовенства прекращаются.
«Народным достоянием» становится церковная собственность
(деньги, земли, здания). По декрету Церковь теряет право
юридического лица, право иметь и приобретать собственность.
Главное, что отличало декрет от зарубежных аналогов – лишение
религиозных общин права юридического лица; ничего подобного в
зарубежном законадательстве не было.
До конца существования советсткого строя политику
руководства страны определяло убеждение, что в обществе
социализма нет места религии и Церкви. Коммунисты были
атеистами и однозначно были настроены против Церкви. Власть
жестоко пресекала действия, при которых для решения текущих
проблем можно было использовать авторитет Церкви.
Октябрьская революция оказала мощное влияние на
судьбы России, на весь мир; за пределами нашей страны она
вызвала глубокие сдвиги. В новом обществе, как представлялось
большевикам, будет царить социальная справедливость, и эта
новая идеология вызвала симпатии к России всех тех, кто был
угнетен и эксплуатируем. Но практика создания нового общества
оказалась иной. Начался террор, гражданская война, снижение
жизненного уровня народа. Целые классы были устранены из
социальной структуры (помещики, буржуазия); большой урон
понесли духовенство, казачество, зажитые крестьяне. Сокращение
образованного слоя закрепило разрыв нового общества с
историко-культурной традицией страны.
Настоятельница Константино-Еленинского женского
монастыря Санкт-Петербургской Епархии игумения Илариона
(Феоктистова)
И. о. ректора РГГМУ
В.Л. Михеев
15
ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
КЕФЕЛИ И.Ф.
ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ:
«ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР»,
И… СТО ЛЕТ СПУСТЯ
«Многие авторы объясняют свою враждебность к советскому
строю тем, что последняя фаза русской революции была просто
борьбой «порядочных» элементов общества против жестокостей
большевиков. Но в действительности именно имущие классы,
увидев, как возрастает мощь народных революционных
организаций, решили разгромить их и остановить революцию…
После целого года существования Советской власти все еще модно
называть восстание большевиков «авантюрой». Да, то была
авантюра, и притом одна из поразительнейших авантюр, на какие
когда-либо осмеливалось человечество, авантюра, бурей
ворвавшаяся в историю во главе трудящихся масс и все
поставившая на карту ради удовлетворения их насущных и
великих стремлений…
Что бы ни думали иные о большевизме, неоспоримо, что русская
революция есть одно из величайших событий в истории
человечества, а возвышение большевиков – явление мирового
значения».
Дж. Рид. Нью-Йорк, 1 января 1919 г.
«Сто лет назад орудийные залпы Октябрьской революции донесли
до Китая марксизм-ленинизм. Научные истины марксизмаленинизма указали передовым элементам в Китае пути решения
китайских проблем…
Китайская нация имеет более чем пятитысячелетнюю историю,
она создала великолепную китайскую цивилизацию…
С момента своего создания Коммунистическая партия Китая
рассматривает реализацию коммунизма как свой высший идеал и
конечную цель».
16
Из доклада Си Цзиньпина на XIX Всекитайском съезде КПК 18
октября 2017 г.
Между приведенными в эпиграфе словами американского
журналиста Джона Рида и китайского лидера Си Цзиньпина – сто
лет, охватившие первую в истории социалистическую революцию,
научные и технологические революции, взлеты и падения великих
держав, мировую и множество локальных войн, рождение и распад
мировой социалистической системы и «социализм с китайской
спецификой новой эпохи», утверждающий «высокий идеал
коммунизма и общий идеал социализма». Слова Джона Рида из
предисловия к первому изданию его знаменитой книги «Десять
дней, которые потрясли мир», изданной в 1919 г. в США, да и все
ее содержание явились первым «журналистским отчетом»
очевидца революционных событий в Петрограде, сохранивших
свою историографическую ценность. Недаром она попала в
опубликованный в газете «Нью-Йорк Таймс» 1 марта 1999 года
список «100 лучших работ по журналистике» под номером семь (в
этом списке работа Дж. Стейнбека заняла 31-е место, а Э.
Хемингуэя – 33-е).
Рис. 1. Обложка книги Дж. Рида 1919 г.
Весьма лестную оценку книги Рида дал спустя 70 лет после
выхода ее первого издания его идеологический оппонент Джордж
Кеннан: «Несмотря на его откровенно предвзятый, в политическом
отношении, характер, отчёт Рида о событиях того времени
превосходит все иные исторические свидетельства той эпохи в
силу своего литературного дара, своей проницательности и
особого внимания к деталям. Эту книгу будут помнить даже тогда,
когда иные свидетельства постигнет участь забвения. Во всём этом
рассказе, во всём этом причудливом повествовании о собственных
приключениях и недоразумениях мы видим отражение
кристальной честности и чистоты помыслов автора, чем он оказал,
даже не предполагая этого, честь американскому обществу,
взрастившему его и достоинства которого он так и не смог
осознать в полной мере» [1].
А текст доклада Си Цзиньпина на XIX Всекитайском съезде
Компартии Китая 18 октября 2017 г. «Добиться решающей победы
в полном построении среднезажиточного общества, одержать
17
великую победу социализма с китайской спецификой в новую
эпоху» наверняка скоро разойдется на цитаты и аналитические
разработки. «Народ – это центр», «К экологии следует относиться
как к собственной жизни», «Прочно утверждая высокий идеал
коммунизма и общий идеал социализма с китайской спецификой,
необходимо культивировать и внедрять в практику основные
ценности социализма» – вот некоторые выдержки из его доклада,
над которыми стоит задуматься.
Великий Октябрь в контексте историографического
и философского дискурса
В нашей стране уже давно, после распада Советского Союза
широким фронтом ведется дискуссия о том, как бы получше
переименовать
Великую
Октябрьскую
социалистическую
революцию, чтобы угодить и отечественному либералу, и
западному научному гостю. Дело доходит даже до того, что и
Великой французской революции досталось. Один из когорты
«официальных историков» (не будем называть автора) заявил, что
мол «Слово «великая» не совсем удачное, оно не несет в себе
позитивного смысла. Его использование продиктовано не
величием революции, а влиянием, которое она оказала. По
аналогии Французская революция во всем мире называется
«Великой французской революцией», однако из этого не следует,
что ее события имеют лишь положительное значение». В канун
100-летия Великого Октября официальный статус обрела
историографическая концепция, согласно которой Февральская
революция, Октябрьская революция и Гражданская война стали
рассматриваться как неразрывно связанные между собой этапы
«Великой российской революции 1917-1922 годов». Эта
концепция «обладает большим потенциалом.
Убедительно, на первый взгляд, звучит утверждение о том, что
революция – это длительный и многоэтапный процесс,
начавшийся в 1917 году и завершившийся с окончанием
Гражданской войны в России». Таково мнение председателя
Российского исторического общества С.Е. Нарышкина, которое он
озвучил 9 октября 2017 г., выступая перед участниками
международной научной конференции «Великая российская
революция 1917 г.: сто лет изучения» в Институте российской
18
истории РАН [2]. Аналогичную точку зрения высказал и научный
руководитель Института всеобщей истории РАН, член РСМД
академик РАН А.О. Чубарьян: «Сегодня мы, – заявил он в одном
из недавних интервью, – придерживаемся иной точки зрения,
когда говорим о периодизации революции. Два года назад было
утверждено, что революцию следует рассматривать как процесс,
который начался в феврале 1917 г., получил продолжение в
октябре и закончился Гражданской войной. После долгого
обсуждения мы пришли к выводу, что Гражданская война –
неотъемлемая часть революции, поэтому сегодня мы ее называем
«Великой российской революцией 1917–1922 гг… Она внесла
изменения геополитического характера – в международных
отношениях ясно обозначилось противостояние социального
плана в лице новообразованного Советского Союза, который
объявил о строительстве социализма, и капиталистического мира»
[3]. Следует напомнить, что еще два десятилетия назад, в период
господства перестроечной идеологии, подобные взгляды созревали
в среде профессиональных историков. Председатель Научного
совета РАН «История революций в России» С.В. Тютюкин
отмечал, что в 90-е годы началось переосмысление истории
Октябрьской
революции
и
всего
советского
периода
отечественной истории. Тогда же «наметилась тенденция
рассматривать Февральскую и Октябрьскую революции, а также
Гражданскую войну как неразрывно связанные между собой части
Великой российской революции 1917-1922 гг., которая стала
одной из крупнейших вех мировой истории» [4; с. 5].
Отказ от признания Октябрьской революции социалистической по
своему содержанию и форме проявления – это дань ныне
процветающей либеральной моде. Вдумаемся в слова одного из
известных
отечественных
историков
В.П.
Булдакова:
«Несомненно, революционность в России имеет особенности –
путчистские у интеллигенции, традиционалистские – в низах.
Новейшая российская партийность не исключала соблазна
последовать примеру декабристов, оставив народ пассивным
свидетелем переворота. Что касается масс, то можно допустить,
что в основе их лежала не борьба за свободы, а привычное
«демонстративное» бунтарство… Революция повлекла за собой
19
феномен «превращение эмоций в концепции» – это был способ
идеологической сакрализации ее итогов, который обернулся, как
ни парадоксально, догматическим омертвлением образа
прошлого… Если учесть, что после Первой мировой войны массам
поневоле пришлось выбирать между «виновным» в ней
капитализмом и «указавшим» выход из нее «социализмом», то
станет ясным, что Октябрь стал грандиознейшим историческим
самообманом XX в.» [5; с. 19, 20, 22]. Как говорится, здесь
комментарии излишни, ведь специалистам-историкам также не
пристало менять десятилетиями сложившиеся принципы даже
своих собственных научных исследований. По этому поводу
вполне уместно вспомнить слова философа В.И. Толстых,
высказанные в те же 90-е годы: «У сторонников марксизма
настали трудные времена. Но и у тех, кто марксизм хоронит и
оспаривает, положение не лучше. Наступает момент, когда от
критики надо перейти к позитивным предложениям, что, как
известно, делать всегда труднее» [6; с. 350]. Представляется более
существенным то, как можно увязать этот дискурс с философской
рефлексией, претендующей на понимание смысла исторических
процессов – минувших и настоящих. В «Лекциях по философии
истории» Гегель рассуждения о внутренней логике всемирной
истории строил, исходя из различения трех видов историографии:
а) первоначальная история, b) рефлективная история, c)
философская история. Первый вид историографии описывает
события и деяния людей, протекающие на их глазах: «внешнее
явление преобразуется во внутреннее представление». В
рефлективной истории Гегель различает четыре подвида:
всеобщая история (история какого-либо народа или страны). При
этом главной задачей является «обработка исторического
материала, к которому историк подходит со своим духом,
отличающимся от духа содержания этого материала». Вторым
подвидом рефлективной истории Гегель называет прагматическую
историю (события прошлого становятся современными). От
мастерства, духа самого историка зависит, будут ли такие события
интересны, жизненны и современны. Критическая история –
третий подвид рефлективной истории – это история истории, в
рамках которой дается та или иная оценка исторических
20
повествований, выявляется их истинность и достоверность.
Наконец, четвертым подвидом рефлективной истории выступает
частичная история (история искусства, права, религии, науки и др.,
которые находятся в тесной связи со всей историей народа),
которая,
прибегая
к
абстракции,
представляет
собой
непосредственный переход к философской всемирной истории.
Рефлективная история стремится к установлению общих точек
зрения, которые, если оказываются в своей сути истинными,
выступают «не только внешнею нитью, внешним порядком, но и
внутренней душой, направляющей сами события и факты». А это
как раз приводит к философской истории, которая, как утверждал
Гегель, означает не что иное, как мыслящее рассмотрение самой
истории. Завершает методологическое обоснование философии
истории Гегель следующими словами: «…мы, обозревая
прошедшее, как бы велико оно ни было, имеемдело лишь с
настоящим, потому что философия, как занимающаяся истинным,
имеет дело с тем, что вечно наличествует. Все, что было в
прошлом, для нее не потеряно, так как идея оказывается налицо,
дух бессмертен, т. е. он не перестал существовать, и не
оказывается еще не существующим, но по существу дела
существует теперь. Таким образом, уже это означает, что
наличествующая настоящая форма духа заключает в себе все
прежние ступени. Правда, эти ступени развились одна из другой
как самостоятельные; но дух всегда был в себе тем, что он есть,
различие состоит лишь в развитии этого сущего в себе. Жизнь
настоящего духа есть кругообращение ступеней, которые, с одной
стороны, являются как минувшее. Те моменты, которые дух, повидимому, оставил позади себя, он содержит в себе и в своей
настоящей глубине» [7].
В этих глубоко проникновенных словах усматривается, во-первых,
идея о включенности, следуя терминологии Гегеля, в
философскую историю предшествующих видов и подвидов
истории (в частности, как это следует из заключительных слов
автора, прагматической истории) как ее отдельных моментов,
ступеней. Во-вторых, дух у Гегеля – это, по сути, явленная в мире
человеческая мысль, охватывающая бесконечное множество
граней, моментов, этапов развития природы и социума и
21
фиксирующая на языке науки связи и внутреннюю логику
развития («жизнь настоящего духа есть кругообращение
ступеней»). В-третьих, это следует рассматривать как
определенную методологическую установку, не зависящую от
политической конъюнктуры, но нацеленную на получение
достоверного знания и понимания смысла истории. Если же речь
вести о поисках смысла всеобщей истории (в гегелевском
понимании) России, то мы, очевидно, не должны посыпать голову
пеплом и признавать, как по мановению волшебной палочки,
героическое (и трагическое) в отечественной истории
«грандиознейшим историческим самообманом». В противном
случае мы сами по себе начинаем терять ориентиры в поисках
смысла истории и своей жизни в ней, мы сами себя настраиваем на
отрицание достижений, полученных нашими предками,
предшественниками, родителями. Аксиологические ориентиры
должны предохранять историографический дискурс от выхода за
пределы национальных интересов, которые выступают своего рода
смысловыми скрепами народа, общества, страны, государства.
Геополитическая роль Октября в сохранении российской
государственности
В цепи революционных событий начала XX века именно
Октябрьская революция, и победное завершение Гражданской
войны позволили сохранить российскую государственность и
Советскую Россию как одного из акторов геополитической
истории. Дело в том, что тогда в Европе сложились основные
центры силы, реализовавшие две геополитические концепции.
Формирование одной было вызвано заключением договора между
Россией и Великобританией (август 1907 г.), который, в частности,
регулировал интересы этих стран в Средней Азии и на Дальнем
Востоке. Россия, Великобритания и присоединившаяся к ним
Франция образовали геополитический блок, получивший название
«Тройственного согласия». Неофициально союз был назван
Антантой (от франц. Entente cordiale– сердечное согласие).
Германия и Австро-Венгрия представляли собой противостоящую
геополитическую коалицию.
Как известно, одним из итогов Первой мировой войны явилось
крушение империй, представлявших основу политической
22
системы мира, – Германской, Австро-Венгерской, Турецкой и
Российской. Версальский мирный договор определил новый
мировой порядок без участия Советской России. Согласно этому
договору, Франция признавалась европейской континентальной
державой, а Англия – морской державой. Территорию России
предполагалось поделить на сферы влияния стран Западной
Европы, Турции и США. Еще 23 декабря 1917 г. Англия и
Франция заключили между собой соглашение о разделе «зон
влияния» в России. Замыслы Антанты были изложены в записке
главного командования союзными армиями «О необходимости
интервенции союзников в России» от 18 января 1919 г. В ней, в
частности, отмечалось следующее: «Если Антанта хочет сохранить
плоды своей победы, добытой с таким трудом, она сама должна
вызвать перерождение России путем свержения большевизма и
воздвигнуть прочный барьер между этой страной и центральными
державами...
Большевистский
режим
несовместим
с
установлением прочного мира. Для держав Антанты жизненной
необходимостью является уничтожить его как можно скорее; их
солидарный долг состоит в том, чтобы объединить с этой целью
свои усилия. В деле осуществления плана действий, который они
должны принять, обязанности каждой из них должны быть, повидимому, распределены следующим образом:
Англия: Действия в Северной России и в Прибалтике. Участие в
интервенции в Польше. Действия в Юго-Восточной России с
целью соединить вооруженные силы Сибири с армиями Деникина
и Краснова. Организация этих армий.
США: Действия в Польше (руководство действиями союзников).
Франция: Действия в Сибири и на Украине. Организация польской
армии.
Италия: Участие в действиях на Украине» [8; с. 83, 87].
Таков был сценарий геополитического раздела Советской России,
который строился в соответствии с доктриной Х. Макиндера и при
его непосредственном участии в качестве британского посланника
при главном командовании союзными армиями и одного из
авторов Версальского договора. Причем в качестве ударной силы
против Советской России командующий союзными армиями Фош
рассматривал все народы, живущие на ее окраинах, – финнов,
23
эстонцев, латышей, литовцев, поляков, чехов и др. [9; с. 319].
Программа расчленения России была предложена на Парижской
мирной конференции американским президентом Вильсоном («14
пунктов Вильсона»). Для обсуждения на конференции
американской делегацией предлагался документ, в котором, в
частности, отмечалось: «Всю Россию следует разделить на
большие естественные области, каждую со своей экономической
жизнью. При этом ни одна область не должна быть достаточно
самостоятельной, чтобы образовать сильное государство» [10]. В
ответ на эти притязания американской администрации В.И. Ленин
в октябре 1920 г. говорил: «Нравится это им (США. – И. К.) или
нет, Советская Россия – великая держава. После трех лет блокады,
контрреволюции, вооруженной интервенции и польской войны
Советская Россия сильна, как никогда прежде. Америке ничего не
даст вильсоновская политика благочестивого отказа иметь с нами
дело на том основании, что наше правительство им не по вкусу»
[11; с. 254].
Следует отметить особо, что, начиная с 1921 г., Советская Россия
достаточно четко определила свой геополитический вектор на
Восток. (И это несмотря на то, что в 20-х годах ХХ в. взлет
геополитической мысли в Советском Союзе да и …. само понятие
геополитики было изъято из научного оборота…в отечественной
литературе…интерпретировалось как одно из проявлений
буржуазной науки [12; с. 330]. – И.К.) Советское государство
аннулировало все неравноправные договоры и соглашения,
которые имела царская Россия со странами Востока (это
относилось в первую очередь к Ирану, Афганистану и Турции, с
которыми были заключены первые мирные договоры и
установлены дипломатические отношения). Восточная политика
России, как отмечалось в ноте Советского правительства,
направленной правительству Ирана, «останется диаметрально
противоположной восточной политике империалистических
держав, стремясь к самостоятельному экономическому и
политическому развитию восточных народов и оказывая им в этом
всяческую поддержку. Народ и Советское правительство России
усматривают свою роль и свое призвание в том, чтобы быть
естественными и бескорыстными друзьями и союзниками народов,
24
борющихся за свою полную самостоятельную экономическую и
политическую свободу» [13; с. 80-81]. Новый мировой порядок
был направлен против Советского Союза, Германии и Китая и
потому был противоречив и недолговечен. В предвоенный период,
помимо Англии и Франции, к великим державам, определявшим
основы системы международных отношений, относились также
США, СССР, Германия, Италия и Япония. Реализуя свой
геополитический статус великой державы, СССР направлял
внешнюю политику исходя из необходимости сохранения своих
национально-государственных интересов.
Версальско-Вашингтонская геополитическая эпоха наступила
после окончания Первой мировой войны, итоги которой
подводились на Парижской (Версальской) мирной конференции,
проходившей с перерывами с 18 января 1919 г. по 21 января 1920
г. Версальский мирный договор представлял собой попытку
фиксации соотношения сил в мире и в Европе, установившегося в
результате Первой мировой войны [14]. Вместе с последовавшими
за ним Сен-Жерменским, Трианонским, Нейинским договорами и
итогами Вашингтонской конференции 1921-1922 гг. он создал
систему международных отношений, вошедшую в историю как
Версальско-Вашингтонская система. Она создавала благоприятные
условия для гегемонии Франции на Европейском континенте и
Англии за пределами Европы. Великобритания получила
значительную часть германских колоний в Азии и установила свое
господство над Ираком, Палестиной, утвердилась в Египте,
Персидском заливе, Красном море, а также получила полное
превосходство на Средиземном море и на морских коммуникациях
в Индию. Германские колонии в Африке – Того и Камерун – были
поделены между Францией и Англией. США не претендовали на
новые территории, но, тем не менее, заняли выдающееся место в
соотношении мировых сил. К моменту подписания Версальского
мирного договора США являлись самой сильной и влиятельной
страной мира.
В результате Версальского договора углубились противоречия и
между странами-победителями: Англией и Францией, США и
Англией, США и Японией, Италией и другими странами.
Версальская система привела к изоляции Советской России от
25
Европы, начав период длительного противостояния государств с
различными режимами. Версальская система и антикоммунизм
превращались в синонимы. В итоге мирного урегулирования
европейская карта претерпела существенные изменения. На ней
появились новые государства: Польша, Чехословакия, Венгрия,
Австрия, Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г.
королевство Югославия), Эстония, Латвия и Литва. Версальская
система явилась отражением нового баланса сил, сложившегося в
результате победы стран Антанты. Произошли существенные
изменения в составе пятерки великих держав, из числа которых
выпала Россия.
Вся новая система международных отношений выстраивалась на
основе концепции коллективной безопасности, которая носила
настолько общий характер, что оказалась неприемлемой в
конкретной ситуации. Все это привело к тому, что Россия и
Германия подписали во время Генуэзской конференции
Рапалльский договор 1922 г., согласно которому были
восстановлены дипломатические отношения между РСФСР и
Германией в противовес Версальской системе международных
отношений, которая перерастала в Версальско-Вашингтонский
мировой порядок. 12 ноября 1921 г. открылась Вашингтонская
конференция, на которой решался вопрос об «ограничении
вооружений». Вашингтонская конференция завершила передел
мира. Но если в 1919 г. в Париже английские и французские
дипломаты сумели обойти дипломатов США, то в Вашингтоне
американская дипломатия добилась значительного успеха в
решении дальневосточных вопросов. Англия шла на компромисс в
целях борьбы с Японией и Францией; Япония вынуждена была
уступить американцам в китайском вопросе и заявить, что уведет
свои войска из Сибири, но первой нарушила принятые
обязательства. В мировой политике в 1919-1922 гг. произошла
перестановка сил в пользу США и утвердилась система
международных договоров, получившая название ВерсальскоВашингтонской, или межвоенной, которая должна была
регулировать сложившиеся к тому времени межгосударственные
отношения. Не ликвидировав разногласия между победителями и
побежденными, она выявила противоречия между самими
26
победителями, что позднее привело к созданию новых
политических группировок и к новой мировой войне.
Ялтинско-Потсдамская геополитическая эпоха наступила после
окончания Второй мировой войны. С завершением войны в Европе
на первое место во внешней политике встали вопросы мирного
урегулирования, начиная с определения границ и налаживания
взаимоотношений и кончая решением социально-экономических
задач. Для их решения необходимо было созвать международную
конференцию. С 17 июля по 2 августа 1945 г. в пригороде Берлина
Потсдаме состоялась встреча глав правительств трех держав:
СССР, США и Великобритании. Советское правительство было
готово продолжить сотрудничество с союзниками, оформившееся
во время Тегеранской и Ялтинской конференций. Прежде всего,
участникам конференции предстояло решить вопрос мирного
урегулирования в Европе. Необходимо было создать такой
международный орган, который подготовил бы мирные
переговоры с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и
Финляндией, а в дальнейшем и с Германией. Атмосфера
Потсдамской
конференции
отличалась
от
Ялтинской:
руководители СССР, США и Англии держались менее
дружелюбно, чем прежде. Еще в мае 1945 г. Черчилль писал
Трумэну о том, что «над Восточным фронтом опускается
железный занавес». За день до открытия конференции в США был
проведен испытательный взрыв первой атомной бомбы.
Потсдамская конференция имела большое международное
значение. Принятые решения содержали программу устойчивого
послевоенного европейского устройства и были высоко оценены
общественностью.
Успеху
Потсдамской
конференции
способствовала благоприятная международная обстановка. СССР
в это время занимал прочные позиции в самой Германии, его
вооруженные силы стояли в ее центре, на Эльбе. Через неделю
после окончания конференции предстояло вступление СССР в
войну против Японии. Руководители США и Англии вынуждены
были считаться с возросшим авторитетом СССР и с чувством
глубокой симпатии, которую народы Европы питали к своим
освободителям. К сожалению, Ялтинско-Потсдамская система
международных отношений, сложившаяся по итогам Второй
27
мировой войны, оказалась нежизнеспособной в условиях мирного
развития. Из союзников СССР США и Англия превратились в
открытых геополитических противников.
Говоря о нашей стране, необходимо отметить следующее.
Советская геополитическая эпоха в мировом масштабе охватила
Версальскую эпоху, последовавшую вслед за окончанием Первой
мировой войны, и Ялтинско-Потсдамскую эпоху, которая, после
завершения Второй мировой войны, определила переход от
многополярного к биополярному миру. Советский Союз в начале
50-х гг. ХХ в. впервые за всю свою историю достиг пика военнополитического могущества, обладал самыми мощными в мире
вооруженными силами и стал, наряду с США, глобальной ракетноядерной сверхдержавой. Какое место во второй половине XX в.
занимал на геополитической карте мира Советский Союз?
Геополитический парадокс 1930-х гг. заключался в том, что
«континентальный» Советский Союз стремился к достижению
союза с «континентальной» Германией против «морских» США и
Англии (что нашло подтверждение в подписанном в августе 1939
г. в Москве пакте о ненападении и дополнительном секретном
протоколе, согласно которому разграничивались «сферы
интересов» Германии и СССР в Восточной Европе). Однако все же
Советскому Союзу пришлось объединиться с США и Англией
против «континентальной» Германии, поскольку нацистская
империя была для СССР в то время гораздо более чуждой, нежели
либеральный мир «морских» держав Запада. История
распорядилась таким образом, что Советский Союз вышел из
Второй мировой войны, несмотря на колоссальные потери,
окрепшим геополитически, военно-стратегически и духовно.
Впервые в отечественной истории наша держава оказалась
недосягаемой в военном отношении, вокруг нее был образован
мощный геополитический континентальный блок.
Рост могущества СССР как геополитического центра Евразии
вызывал ответную реакцию со стороны другого центра силы –
США. В противовес созданию к концу 1940-х гг. мировой системы
социализма внешняя политика США реализовалась в доктрине
Трумэна, и плане Маршалла, в создании Североатлантического
союза (НАТО). Еще в годы войны началось образование нового
28
типа международных отношений и международного права. 12
декабря 1943 г. СССР заключил договор о дружбе, сотрудничестве
ивзаимопомощи с Чехословакией, 11 апреля 1945 г. – с
Югославией, 21 апреля 1945 г. – с Польшей, 4 февраля 1948 г. – с
Румынией,18 февраля 1948 г. – с Венгрией, 18 марта 1948 г. – с
Болгарией, в феврале 1950 г. – с КНР. На протяжении 1947–1949
гг. страны народной демократии заключили аналогичные
договоры между собой, что юридически закрепило создание
мировой системы социализма. Так стал складываться тот тип
международных
отношений,
для
которого
принцип
сотрудничества стал основой формирования современного
(послевоенного) международного права. «Чтобы народы могли
действительно объединиться, – писал еще К. Маркс, – у них
должны быть общие интересы. Чтобы их интересы могли быть
общими, должны быть уничтожены существующие отношения
собственности, ибо существующие отношения собственности
обусловливают эксплуатацию одних народов другими» [15; с.
371]. Реакция Запада на это была достаточно жесткой и
однозначной, хотя на нее определенные ограничения накладывали
нормы международного права, в т. ч. новый свод императивных
норм, т. е. таких норм, которые создаются международным
сообществом в целом и от которых государства не могут отступать
даже по взаимному соглашению. Однако еще 5 апреля 1947 г.
американский президент Г. Трумэн заявил, что «мир смотрит на
нас как на своего руководителя» [16; p. 116], тем самым открыто
выразив притязания США на мировое господство. Как известно,
поводом для экспансии американского империализма в Европе и
открытого провозглашения антисоветского курса послужило
принятие английским правительством в феврале 1947 г. решения
вывести свои войска из Греции и прекратить финансовую
поддержку Турции. Уже 12 марта того же года Трумэн обратился в
конгресс США с просьбой ассигновать 400 млн долларов для
оказания срочной «помощи» Греции и Турции. Однако истинные
намерения доктрины Трумэна достаточно четко выразил в то
время американский публицист У. Липпман, который писал: «Мы
выбрали Турцию и Грецию не потому, что они являются
блестящими образцами демократии, а потому что они
29
представляют собой стратегические ворота, ведущие в Черное
море, к сердцу Советского Союза» [17; с. 130]. Вскоре, летом 1947
г., государственный секретарь США Д. Маршалл заявил о желании
Соединенных Штатов помочь экономическому восстановлению
европейских стран. Суть «плана Маршалла» заключалась в
использовании американской экономической помощи в качестве
средства для обеспечения господствующего экономического,
политического и военного влияния США в странах Западной
Европы. Образованный по инициативе Англии в марте 1948 г.
Западный союз представлял собой первый после войны военнополитический блок, направленный против СССР и положивший
начало разделению Западной и Восточной Европы. Этот союз был
тесно связан с планом Маршалла и привел к образованию в апреле
1949 г. НАТО. Советская геополитическая эпоха завершилась
поражением Советского Союза в мировом соперничестве с США.
В собственно геополитическом плане завершение советской эпохи
было связано с нарушением того, что следует называть принципом
геополитической
полноты.
Для
государства
или
же
цивилизационного мира (в данном случае, для нашей страны)
действие этого принципа определяется: наличием естественных и
исторически сложившихся границ; дружескими отношениями с
непосредственными соседями и возможностями мирного решения
спорных территориальных вопросов; материально-сырьевой и
экономической самодостаточностью; наличием оптимального
демографического, информационного и интеллектуального
потенциала; эффективностью действия норм международного
права. При этом необходимо учитывать, что сразу же после
окончания Второй мировой войны Запад навязал Советскому
Союзу «холодную войну». Особую остроту она приобрела в
период с конца 40-х до 60-х годов и охватила практически все
сферы
международных
отношений:
политическую,
экономическую, военную и идеологическую. Пролог «холодной
войны» следует относить к заключительному этапу войны.
Предпосылками ее надо полагать, во-первых, попытки У.
Черчилля открыть второй фронт не во Франции, а на Балканах и
продвигаться не с Запада на Восток, а с Юга на Север, чтобы не
допустить дальнейшее продвижение Советской Армии. Во-
30
вторых, одной из предпосылок этому была договоренность
руководства США и Англии не информировать Советский Союз о
работах по созданию атомного оружия. В-третьих, в последний год
войны вынашивались планы оттеснения советских войск с центра
Европы к довоенным границам. Наконец, 7 марта 1946 г. У.
Черчилль в своей речи в Фултоне открыто объявил крестовый
поход против коммунизма. Период «холодной войны» еще долго,
по мере публикации рассекреченных документов, будет
привлекать внимание ученых и политиков, но одно можно
утверждать с достаточной мерой определенности: «холодная
война» развернулась между двумя сверхдержавами США и СССР.
В частности, в качестве примера следует привести Директиву 20/1
Совета Национальной Безопасности США от 18 августа 1948 г.
«Задачи США в отношении России» [18].
Советская геополитическая эпоха завершилась, к великому
сожалению, поражением Советского Союза в мировом
соперничестве с США. В собственно геополитическом плане
завершение советской эпохи было связано с нарушением того, что
следует называть принципом геополитической полноты. Для
государства или же цивилизационного мира (в данном случае для
нашей страны) действие данного принципа определяется:
наличием естественных и исторически сложившихся границ;
дружескими отношениями с непосредственными соседями и
возможностями мирного решения спорных территориальных
вопросов;
материально-сырьевой
и
экономической
самодостаточностью; наличием оптимального демографического,
энергоинформационного и интеллектуального потенциала;
эффективностью действия норм международного права. При этом
необходимо учитывать, что сразу же после окончания Второй
мировой войны Запад навязал Советскому Союзу холодную войну.
Особую остроту она приобрела в период с конца 1940-х до 1960-х
гг. и охватила практически все сферы международных отношений:
политическую, экономическую, военную и идеологическую.
Пролог холодной войны следует относить к заключительному
этапу войны. Предпосылками ее надо полагать, во-первых,
попытки У. Черчилля открыть второй фронт не во Франции, а на
Балканах и продвигаться не с Запада на Восток, а с Юга на Север,
31
чтобы не допустить дальнейшее продвижение Советской Армии.
Во-вторых, одной из предпосылок этому была договоренность
руководства США и Англии не информировать Советский Союз о
работах по созданию атомного оружия.
В-третьих, в последний год войны вынашивались планы
оттеснения советских войск с центра Европы к довоенным
границам. Наконец, 7 марта 1946 г. У. Черчилль в своей речи в
Фултоне открыто объявил крестовый поход против коммунизма.
Период холодной войны еще долго, по мере публикации
рассекреченных документов, будет привлекать внимание ученых и
политиков, но одно можно утверждать с достаточной мерой
определенности: холодная война развернулась между двумя
сверхдержавами– США и СССР. В подавляющем большинстве
случаев обострение обстановки и доведение конфликтов до
критического состояния исходили от США. В годы холодной
войны стало правилом применение силы или его угроза. Первыми
в этой конфронтации выступали США, которые строили
отношения с СССР исключительно на основе постоянной
кризисной конфронтации и стремления к военному превосходству
над СССР. Задача американской внешней политики состояла в
«ускорении разложения советской системы» и установлении всего
мирового господства над миром [19; с. 294-299]. США как
сохранившийся полюс мировой силы пытался сохранить «новый
мировой порядок», при котором России было уготовано место
сырьевого придатка Запада.
Уроки геополитической истории учат тому, что в тысячелетней
российской истории именно Октябрьская революция и
Гражданская война как завершающие звенья «Великой российской
революции
1917-1922
годов»
сохранили
российскую
государственность в виде Советской России. Недаром в вышедшей
еще в 1927 г. в Праге книги Г.В. Вернадского «Начертание
русской истории» прямо указывалось: «Союз Советских
Республик (так у автора. – И.К.), потеряв много коренных русских
земель на западе бывшей Российской империи, удержал русские
владения на востоке и даже отчасти продвинул Евразийское
государственное объединение к востоку… ныне Евразия
представляет такое геополитическое и хозяйственное единство,
32
какого ранее она не имела» [20; с. 31, 33]. Советская эпоха (по
определению Вернадского – «Евразийское государственное
объединение»), начало которой было положено Октябрьской
революцией, остается связующим звеном в тысячелетней
евразийской истории России.
Литература:
1.
Kennan G. F. Russia Leaves the War. – Princeton, New Jersey:
Princeton University Press, 1989. - P. 68-69.
2.
Сергей Нарышкин. Выступление на конференции в ИРИ
РАН:http://rushistory.org/sergey-naryshkin/vystupleniya-s-enaryshkina/sergej-naryshkin-vystupil-na-konferentsii-velikayarossijskaya-revolyutsiya-1917-g-sto-let-izucheniya.html
(дата
обращения – 09.10.2017).
3.
http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/interview/revolyutsiya-1917-g-menyaya-geopoliticheskuyukartu-mira/ (дата обращения – 03.11.2017).
4.
1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция:
от новых источников к новому осмыслению / РАН. Отделение
истории. Науч. совет «История революций в России». Ин-т рос.
истории и др.; Ред. кол.: С.В. Тютюкин (отв. ред.) и др. – Москва:
ИРИ, 1998. – 510 с. ISBN 5-8055-0007-8.
5.
Булдаков В.П. Октябрь и ХХ век: теории и источники:
(1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от
новых источников к новому осмыслению). М.: ИРИ, 1998. С. 11-36
6.
Толстых В.И. От критики надо перейти к позитивным
предложениям // Освобождение духа / Под ред. А.А. Гусейнова,
В.И. Толстых. – М.: Политиздат, 1991. – 352 с. ISBN: 5-250-007406 / 5250007406.
7.
Гегель Г.В. Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993.
С. 57, 59, 60, 63, 125.
8.
Из истории Гражданской войны в СССР: Сб. материалов и
док-тов. М., 1960. Т. 1.
9.
Ллойд-Джордж Д. Правда о мирных договорах. М., 1957. Т.
1.
10.
История внешней политики СССР. 1917–1980 гг. / Под ред.
А.А. Громыко, Б.Н. Пономарева. В 2-х т. Т. 1. М., 1980. С. 98; См.
33
также: Кунина А.Е. Провал американских планов завоевания
мирового господства в 1917–1920 гг. М., 1954. С. 95-100.
11.
Ленинский сборник. XXXVII. М.: Политиздат, 1970. 400 с.
12.
Кефели И.Ф. Философия геополитики в контексте
современного теоретического знания // Политическая экспертиза:
ПОЛИТЭКС. 2006. Т. 2. № 1. С. 322-332.
13.
Документы внешней политики СССР. М., 1961. Т. 5.
14.
Кстати, Маршал Франции Ф. Фош (именно он 11 ноября
1918 г. подписал соглашение о прекращении военных действий в
Первой мировой войне – Компьенское перемирие), узнав о
подписании Версальского договора, заявил: «Это не мир, это
перемирие на 20 лет!». Он же был одним из организаторов
военной интервенции против Советской России.
15.
Маркс К. О Польше // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4.
16.
Truman H. Memoire. Stuttgart, 1955. Bd. II. S. 116.
17.
История внешней политики СССР: В 5 т. / Под ред. А.А.
Громыко, Б.Н. Пономарева. М., 1981. Т. 2.
18.
Задачи США в отношении России. Директива 20/1 Совета
Национальной Безопасности США от 18 августа 1948 года //
Геополитика и безопасность. 2016. № 3-4 (35-36). С. 159-176.
19.
Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История
международных отношений и внешней политики России (16482000). М., 2010. ISBN: 978-5-7567-0329-0
20.
Вернадский Г.В. Начертание русской истории. СПб.: Изд.
«Лань», 2000. – 320 с.
Иеромонах Силуан (Никитин)
Изменения в жизни духовенства Финляндской и Выборгской
епархии после событий 1917 г. и до образования Финляндской
Православной Церкви
Территория Великого княжества Финляндского на 1917 г. в
церковно-административном отношении входила с состав
образованной 24 октября 1892 г. Финляндской и Выборгской
епархии. Постановлением Святейшего Синода от 14 февраля 1913
г. в данной епархии было учреждено
Сердобольское
34
(впоследствии Сортавальское) викариатство. На момент
провозглашения
независимости
Финляндии
в
епархии
насчитывалось 34 прихода (по мнению В.И. Мусаева, 29 [14; с.
344]) (40 храмов), 3 гарнизонных походных церкви и 3 монастыря:
Спасо-Преображенский Валаамский (мужской), РождествоБогородичный Коневский (мужской) и Свято-Троицкая женская
община в Линтуле [1; с. 230].
С 1898 по 1919 г. приходы Финляндской епархии разделялись на
четыре благочиния:
•
1-й благочиннический округ — приходы Южной и
Западной Финляндии (Або-Бьернеборгская и Нюландская
губернии), пользовавшиеся репутацией «благочестивых» [21; c.
71]. Значительную роль в их жизни играли состоятельные русские
граждане, принявшие финское гражданство [19; c. 83]. В основном
это были промышленники и купцы, на свои средства строившие и
содержавшие храмы. Духовенство данного округа получало
жалование из Финляндского Сената.
•
2-й благочиннический округ — приходы Карельского
перешейка, в основном посещаемые петербургскими дачниками и
землевладельцами. Как отмечают современные исследователи,
данные
приходы
не
оказывали
абсолютно
никакого
миссионерского влияния на местное лютеранское население, но,
наоборот, раздражали своей исключительно «обслуживающей»
петербургских дачников функцией. Так, финский историк Юрки
Лойма пишет, что «эти приходы со своими пасхальными
демонстрациями были живой памятью о тех временах, когда рубль
регулировал все вопросы землевладения на территории “дачной
популяции”» [19; c. 85]. Все приходы, кроме Кексгольма (фин.
Кякисалми, рус. Приозерск) и Вильманстранда (фин.
Лаппеэнранта),
содержались
на
средства
российского
правительства [21; c. 75].
•
3-е и 4-е благочиния объединяли карельские приходы на
востоке Финляндии (Салминский уезд Выборгской губернии), в
которых богослужения проходили и на церковнославянском, и на
финском языках. Это были самые многочисленные и богатые
приходы: третий округ в основном получал дотации от
Финляндского Сената, а четвертый — от Святейшего Синода.
35
Самым проблематичным для священноначалия являлся третий
округ по причине активного влияния лютеран на жизнь
православного населения [21; c. 71].
Духовенство Финляндской и Выборгской епархии на 1917 г.
состояло из 40 приходских священников и 12 диаконов, число
псаломщиков уточнить не удается [14; c. 345]. К 1922 г. число
священников — 46, диаконов — 12, псаломщиков — 25 [17; c.
112].
В этническом аспекте приходы разделялись на русские
(преимущественно городские и находящиеся на Карельском
перешейке) и карельские. Интересным видится сообщение
протоиерея Сергия Солнцева, что «сельские священники
карельских приходов, отправляя в Духовную консисторию
ежегодные доклады, не желали сопровождать их денежными
подношениями» [19; c.86] и за их независимый характер
консисторскими служащими пренебрежительно назывались
«финляндскими баронами». Архиепископ Финляндский Серафим
(Лукьянов) в октябре 1922 г. сообщал Вселенскому Патриарху
Мелетию (Метаксакису), что в состав Финляндской Церкви входят
7 карельских приходов (29 864 прихожанина), восемь финских (18
508 прихожан) и 15 русских (17 601 прихожанин) [17; c. 112].
Разделение приходов также выражалось:
1)
в языке богослужения (многие сельские приходы
(Иломантси, Кителя, Корписелка, Тайпале, Тиурула, Суйстамо)
[11] еще с конца XIX в. перешли на финский язык богослужения);
2)
в особенностях богослужебной жизни (так, для сельских
приходов было характерно отсутствие вечерних богослужений,
для большинства же городских была характерна санктпетербургская традиция [13]);
3)
в этническом и образовательном уровне духовенства
(практически все клирики городских храмов заканчивали СанктПетербургскую духовную академию, клирики сельских храмов
имели семинарское образование, полученное в Санкт-Петербурге
или Олонце, многие из сельских клириков были карелами);
4)
в материальном обеспечении духовенства (священники 1го и 2-го благочиний (47 человек) получали содержание от
российских правительственных учреждений, а 3-го и 4-го (29
36
человек) существовали за счет сбора с прихожан, а также на
выплаты из Финляндского Сената).
Стоит особо указать и на то, что духовенство Финляндской
епархии было в значительной степени либеральным. С одной
стороны, это объясняется их обучением в Санкт-Петербургских
духовных школах [8], а с другой стороны, большое значение
имело архипастырское влияние на подчиненное духовенство таких
финляндских архиереев, как Антоний (Вадковский) и Николай
(Налимов), образованных и
широкомыслящих. О желании
духовенства преобразований в церковно-приходской жизни
говорит, например, тот факт, что в 1917 г. протоиереем Сергием
Окуловым было предложено сократить число праздников и
постов. Он объяснял это неудобством соблюдения многодневных
постов Православий Церкви в условиях северного климата, где
люди не имеют другой пищи, кроме мяса, рыбы и молока. Он
считал возможным строго блюсти правила о посте лишь в
Страстную и Крестопоклонную недели Великого поста, среды и
пятницы Великого поста, Рождественский и Крещенский
сочельники [14; с. 349].
Многие священнослужители состояли в родственных союзах,
были целые священнические роды, давшие несколько поколений
клириков (Казанские, Аннинские, Окуловы, Карпины, Ильтоновы)
[9].
Не стоит забывать и то, что еще в 1880–1910-е гг. в связи с
началом процесса русификации православие в Финляндии стало
объектом критики и давления со стороны шовинистически
настроенных финнов. Православная Церковь «в глазах финновлютеран, а также тех карелов, в которых успело проснуться
национальное самосознание, стала враждебной для финской
национальности и самобытности организацией, духовенство
выглядело “агентами-обрусителями”, а православная вера —
средством к обрусению» [15; с. 119]. Финский поэт Карл Август
Альквист прямо заявлял, что «Православная Церковь опасна для
национального духа финнов» [21; с. 38].
О религиозно-нравственном состоянии к началу XX в.
финноязычной паствы Финляндской епархии второй предстоятель
Финляндской Православной Церкви архиепископ Павел (Олмари)
37
писал
следующее:
«Богослужения,
совершаемые
на
церковнославянском языке и непонятные народной массе, привели
лишь к поверхностному восприятию карелами христианства и не
способствовали более глубокому пониманию христианских истин.
С другой стороны, по той же самой причине некоторые
православные, оставаясь в лоне своей Церкви, в своей духовной
жизни усвоили черты лютеранства» [23; с. 13].
На момент обретения независимости в 1917 г. на территории
Финляндии не оказалось ни правящего, ни викарного архиерея.
Архиепископ Сергий (Страгородский) вместе с настоятелем
Гельсингфорсского
прихода
сщмч.
прот.
Александром
Хотовицким,
чиновником
Финляндского
Сената
Х.И.
Варфоломеевым [ ], управляющим Петроградской таможней при
Финляндской
железной
дороге
Н.И.
Пантиным
и
гельсингфорсским купцом Н.Н. Шошковым были делегированы от
Финляндской и Выборгской епархии в Москву на Поместный
Собор. По должности на Собор также были направлены викарный
епископ Серафим (Лукьянов) и настоятель Валаамского
монастыря игумен Маврикий (Баранов). Стоит отметить, что
впоследствии Финляндское Церковное Управление заявляло о
нелегитимности данных лиц, представляющих Финляндскую
епархию на Соборе, по причине невозможности отправления в
Москву делегатов от карельских приходов [19; с. 100]. Здесь есть
доля справедливости, особенно учитывая те факты, что из
направленных делегатов купец Шошков выбыл из состава Собора,
а Сергий (Страгородский), отец Александр Хотовицкий и Х.И.
Варфоломеев в Финляндию больше не вернулись.
Чувство оставленности вниманием Финляндской епархии со
стороны священноначалия подкрепляло и опубликованное 12
апреля 1917 г. в газете «Helsingin Sanomat» сообщение товарища
обер-прокурора Синода А.В. Карташёва о том, что «Святейший
Синод пока не будет предпринимать каких-либо мер по
отношению к Финляндской епархии, так как ему приходится
заниматься более важными делами, касающимися всей Церкви»
[14; с. 346].
Современный финский историк Юха Рииконен считает, что уже
первые законы независимого государства были «скорее
38
направлены на ограничение вмешательства извне в жизнь
Финляндии, нежели являлись желанием проявить добрую волю по
отношению к Финляндской Православной Церкви» [24; с. 97]. Так,
Конституционный Совет во главе с К.Ю. Стольбергом считал, что
«Православная Церковь Финляндии является чисто русской
организацией» [24; с. 98]. Как следствие, необходимо было
разработать закон, гарантирующий подчинение православного
населения законодательству Финляндии в вопросах гражданской
администрации.
Решением Финляндского Сената от 13 апреля 1917 г. было
учреждено две комиссии:
1) по вопросам преобразования русских министерских школ и
дальнейшего распоряжения их имуществом (во главе с сенатором,
профессором Эмилем Нестором Сетяля),
2)
по устройству дел Православной Церкви (во главе с
протоиереем Михаилом Казанским).
В комиссию по устройству дел Православной Церкви кроме прот.
Казанского вошли протоиереи Сергий Окулов и Сергий Солнцев,
секретарем стал учитель народной школы Я. Хяркенен. Все они
были местными уроженцами, активными членами духовнопросветительского Братства прп. Сергия и Германа Валаамских
(основано в 1885 г.) и противниками политики русификации [22; с.
13]. Данной комиссии «в соответствии с новым политическим
положением в России и в стране» [1; с. 231] было поручено
создать новый нормативный акт, определяющий положение
Православной Церкви в Финляндии. В качестве же основы было
решено реализовать идею создания национальной Церкви.
«Принципы национальной Церкви и национального просвещения
являются единственно верными, чтобы поднять духовный уровень
православного населения» [21; с. 34], — писал прот. Солнцев.
В итоге осенью 1917 г. и было создано составленное «светлыми
умами сынов народа» (министром просвещения Э.Н. Сетяля,
протоиереями М. Казанским, С. Солнцевым и С. Окуловым)
«Положение о Православной Церкви Финляндии», состоящее из
шести разделов, заключающих в себе 262 параграфа с
примечаниями, призванное помочь в вопросах будущей жизни и
развития православных приходов в независимой Финляндии. Его
39
основные пункты были соборно утверждены на съезде
православного духовенства, проходившем в Валаамском
монастыре.
В данном «Положении» четко оговаривалась каноническая
зависимость Православной Церкви в Финляндии от Русской
Православной Церкви, управление и внутренняя жизнь
устраивались на принципах автономии как находящаяся «вне
всякой зависимости от какой-либо иной Церкви», а в гражданскоэкономическом отношении Церкви следовало подчиняться
финляндскому правительству [19; с. 101].
Высшее управление Церкви было разделено между государством и
епископом, действующим совместно с Церковным Управлением
(заменившим Духовную консисторию). Государство получало
политический, административный и финансовый контроль над
церковной деятельностью, а вероучительная и литургическая
жизнь оставались под контролем архиерея.
Церковную организацию возглавлял архиерей в сане
архиепископа, избиравшийся на Соборе Православной Церкви
Финляндии, на котором должен был быть председателем епископ,
специально для этого командируемый священноначалием из
России.
Священноначалие Русской Православной Церкви
утверждало избранного кандидата и брало на себя заботу об его
архиерейской хиротонии. Представитель Сената Финляндии при
выборе архиепископа мог высказать свое мнение о кандидатурах
«только с политической точки зрения» [14; с. 348].
Высшим церковно-административным органом стал Церковный
Собор, созываемый один раз в два года, текущими же делами
должно было ведать Церковное Управление, в которое входили
архиепископ, кафедральный протоиерей и избираемые на четыре
года Церковным Собором два священника, один диакон или
псаломщик и два мирянина. Церковное делопроизводство должно
было вестись на двух языках — на финском и русском.
Монастыри в своей церковной и монашеской жизни подчинялись
архиерею, а в гражданско-экономическом отношении —
Церковному Управлению и финляндскому законодательству,
«внутреннюю же монастырскую жизнь устанавливали сами» [14;
с. 348].
40
Вопросы канонической определенности и содержания духовенства
оставались неразрешенными. Особенно остро события 1917 г.
коснулись изменения финансовой составляющей жизни
финляндского православного духовенства.
Из «Докладной записки об экономическом положении
Финляндской Православной Церкви за 1930 г.», составленной
протоиереем Сергием Солнцевым, мы узнаем, что «в русское
время наше приходское духовенство содержалось на оброки,
взымаемые
в
размерах,
утвержденных
Императорским
Финляндским Сенатом, в городах — на жалованье, выдаваемое из
Финляндской казны» [4; с. 24].
В 1899 г. 29 клириков
Финляндской епархии из 96 получали жалование из Сената
Финляндии, 34 священнослужителям и членам консистории
жалование выплачивал Священный Синод. Им же в конце 1915 г.
как сельским, так и городским бедным приходам было назначено
пособие в размере 76 456 финских марок. Всего на Финляндскую
епархию (содержание архиерея, духовенства, консистории и школ)
к 1917 г. тратилось 250 тыс. финских марок, или 93 750 рублей в
год [18; с. 92].
Новой большевистской властью в октябре 1917 г.
было
реквизировано в Государственном банке более 2 млн рублей,
принадлежавших Финляндской епархии [18; с. 92]. Финляндский
сенат сразу же позаботился выделить епархии субсидию в размере
400 тыс. финских марок. Протоиерей Сергий Солнцев в своей
Докладной записке упоминает сумму в 107 100 марок, выдаваемой
правительством на содержание духовенства [4; с. 27].
До
1917 г. известно, что протоиерей Выборгского
Преображенского Собора получал в год 5400 финских марок, а
настоятель Кексгольмского Рождественского собора — 2400
марок или, на сегодняшний день, примерно 2 млн рублей (к 1914 г.
1 серебряная марка составляла 0,375 рубля) [10].
Некоторые приходы (Хельсинки, Питкяранта, Кителя, Салми)
смогли улучшить свою материальную базу и увеличить
содержание причтов. Большинство же приходов, особенно в
Выборгской губернии, в связи с выездом из страны большого
количества прихожан не могли даже содержать духовенство. Для
41
этих целей ежегодно отпускалось из Церковного фонда 107 100
марок.
Президентом Каарло Юхо Стольбергом и министром просвещения
Лаури Ингманом 26 марта 1920 г. было принято «Постановление
об общей кассе Православной Церкви в Финляндии». Касса
учреждалась под непосредственным руководством Церковного
Управления, ее задачами были:
— уплачивание расходов на общецерковные нужды, определяемые
Церковным Собором;
— выдача пособий бедным приходам;
— уплачивание пенсий членам духовенства.
Касса состояла из пожертвований, пособий от государства,
средств, полученных в качестве церковного налога от приходов и
монастырей, и доходов от церковной недвижимости.
Предполагалось ежегодное отчисление 10 % от всех доходов
кассы для создания особого фонда, который в дальнейшем должен
был бы покрывать ежегодные общие церковные расходы [2; c. 19].
Ежегодно в церковной прессе должен был публиковаться отчет о
состоянии кассы.
В конце 1920-х гг. правительство Финляндии в финансовом
отношении заняло к Православной Церкви такую же позицию, как
и к Евангелическо-лютеранской: из государственного бюджета
оплачивается лишь содержание управления Церкви и обучение
будущих священнослужителей, приходские затраты государством
не компенсировались. Это привело к серьезным материальным
затруднениям.
Вопрос о содержании духовенства рассматривался на Церковных
Соборах 1922, 1923, 1925 и 1927 гг., в дальнейшем было
выработано
«Положение
о
содержании
духовенства»,
утвержденное правительством 18 мая 1929 г. Необходимым
условием для одобрения «Положения» властью стало обязательное
его приведение в исполнение к 1 января 1931 г. Если же приходы
оказывались не в состоянии выплачивать своему духовенству
установленное жалование, то они теряли самостоятельность и
присоединялись к соседним. Оказалось, что из 29 приходов только
12 в состоянии содержать на свои средства причты. Для
сохранения остальных 17 решено было спешно собрать 200 тыс.
42
марок за счет увеличения в 4 раза налогового обложения всех
приходов. Протоиерей Сергий Солнцев считал эту меру
необходимой, в ином случае, по его мнению, треть православных,
лишившись своих приходов и постоянного священника, перешла
бы в лютеранство, а через 20 лет число приходов Финляндской
Православной Церкви не превышало бы и пяти [4; c. 8].
Жалование многих священников еще в 1930 г. продолжало
составлять от 2400 до 4800 марок в год, что было меньше
заработной платы наемного рабочего. Предполагалось, что в
дальнейшем заработная плата настоятеля при бесплатной квартире
будет составлять от 18 до 30 тыс. финских марок (в зависимости о
численности прихожан), второго священника (в приходах с
численностью более 3000 прихожан) — 22–26 тыс. финских марок,
диакона — 14–16 тыс. финских марок, псаломщика — 9–14 тыс.
финских марок. Также за каждые 5, 10 и 15 лет служения
полагалось увеличение заработной платы на 5 % [4; c. 22].
Священнослужители,
вышедшие
на
покой,
получали
незначительную пенсию от Церковного Управления. Об этом мы
можем узнать из письма владыки Германа (Аава) игумену
Валаамского монастыря Павлину от 19 апреля 1926 г., в котором
архиепископ просит монастырь помочь больному священнику
прихода Иломантси Василию Островскому. Из общецерковной
пенсионной кассы ему ежемесячно выплачивалось 150 марок,
чего для большой семьи из семи человек было недостаточно [3; c.
18].
В 1930 г. Церковный фонд Финляндской Православной Церкви
насчитывал 1 354 559 финских марок. Эта сумма позволяла
покрыть ежегодные церковные расходы (содержание причтов
бедных приходов, пенсии духовенству, пособии вдовам и сиротам
духовного звания, преподавание Закона Божьего в народных
школах, внутренняя миссия, церковный суд, сохранение
церковного имущества и собственности), но все предыдущие годы
ежегодный дефицит составлял 19 958 финских марок.
Повышение налогов с приходов очень настораживало Церковное
Управление. Каждый верующий должен был внести как минимум
одну марку в год, были приходы, где налог составлял более двух
марок, в то же время налог в лютеранских приходах не превышал
43
сумму в 25 пенни. Подобная ситуация могла обернуться
отпадением несостоятельных верующих от Церкви. Для
понижения в дальнейшем налогов было решено в 1930 г.
построить доходный дом в Сортавале и увеличить доходность
церковного дома в Выборге. Средства для этого (ок. 3 млн марок)
были взяты из Валаамского монастыря, 2 млн марок выделило
Церковное Управление. Предполагалось, что в итоге Церковь
будет иметь недвижимости на 12–13 млн марок, которые будут
давать чистого дохода 600–700 тыс. марок ежегодно. Уже в 1931 г.
по проекту архитектора Юхани Вийсте в Сортавале был построен
дом Церковного Управления, в котором размещалась резиденция
архиепископа, духовная семинария, канцелярия Церковного
Управления. В том же году была построена и семинарская церковь
Иоанна Богослова. Но Зимняя война 1939–1940 гг., окончившаяся
присоединением к СССР Карельского перешейка с Выборгом и
Сортавалой, не дала Финляндской Православной Церкви долго
пользоваться данными источниками материальных доходов.
О бедности Финляндской Церкви можно судить по таким фактам:
для хиротонии новоизбранного епископа Выборгского 5 октября
1935 г. в Валаамский монастырь было направлено письмо
архиепископа Германа (Аава) с просьбой одолжить два
архиерейских облачения, две архиерейские мантии, два
архиерейских посоха, две желтые митры, 12 орлецов, 18–24
хороших иерейских облачения и 10 стихарей [5; c. 13]. 3 июля
1935 г. архиепископ Герман просил у Правления Валаамского
монастыря пожертвовать из монастырской ризницы одно
иерейское и одно диаконское облачения, из которых можно было
бы изготовить архиерейское облачение [5; c. 13].
В сентябре 1936 г. протодиакон Лео Касанко, секретарь
Церковного Управления, просит игумена Харитона о 200 марках.
В подарок новоизбранному Выборгскому епископу духовенство
Карельской епархии преподнесло в день его хиротонии крест
(видимо, с украшениями), заказанный в Эстонии. Но на цепь из
свастик денег не хватило, и вдобавок за крест надо было доплатить
еще 100 марок. Решено было попросить средств у монастырей
Коневского и Валаамского. Игумен Харитон, конечно же, дал
недостающие 300 марок [6; c. 51].
44
В обстановке революционных событий 1917 г., принявших в
Финляндии также и характер национально-освободительной
борьбы, некоторые православные священнослужители были
вынуждены покинуть свои приходы, а гарнизонные храмы
передавались в ведомство Министерства просвещения [20; c. 58].
Имели место факты и закрытия православных храмов, их сноса
или реконструкции под иные нужды или же передачи
лютеранским общинам. Не стоит забывать, что Финляндской
епархии гарнизонные и военные храмы со всем внутренним
имуществом не принадлежали, а находились в ведении
Министерства внутренних дел. На основании этого они и были
переданы Советским руководством независимой Финляндии в
1918 г. [19; c. 104] Епархиальное Управление особой беды в этом
не видело, так как без материального обеспечения из России
содержание данных храмов, не имеющих своих приходов, было
очень обременительным. Так, в 1918 г. Александро-Невский
гарнизонный храм в Суоменлинне был передан лютеранской
общине, а с 1927 по 1929 г. состоялась значительная его
реконструкция с целью изменения русского стиля. Иконостас,
ризница и книги целиком были переданы Церковному
Управлению. В 1919 г. лютеранской общине был передан
гарнизонный Крестовоздвиженский храм в Коуволе, в 1978 г. он
возвращен православным. Петропавловский храм в Торнио, также
имея статус военного, был передан местному муниципалитету, в
1920-е гг. перестроен в маленький жилой дом, внутренне
убранство его было утрачено. В 1980-е гг. он также был передан
образованной православной общине. П.И. Сутулин говорит, что «в
1924 г. была снесена церковь в Хямеенлинне (Тавастгус)» [16], но
на самом деле Никольский гарнизонный храм был
реконструирован под библиотеку, а его колокола переданы
лютеранским приходам Халкиваха, Сунд и Урьяла. В то же время
Свято-Никольский храм в Куопио (ныне кафедральный собор) был
передан в пользование православному приходу г. Савонлинны.
Под влиянием антирусского «Сортавальского представительского
общества» в некоторых карельских приходах Финляндской
епархии в 1917 г. были проведены народные собрания с целью
удаления
православных
священнослужителей,
«имевших
45
репутацию наиболее ярых приспешников тирании» [14; c. 345].
Так, в приходе Суйстамо были отстранены от служения два
священника и диакон, лишились своих настоятелей и приходы
Кителя и Салми. Интересно, что на имя Э.Н. Сетяля в июне 1918 г.
было направлено письмо от бывшего православного священника, а
в то время инспектора народных школ А.М. Садовникова
(Сомерсаари) с предложением: «Всех русских священников и
членов их семей перевести в финляндское гражданство и выслать
из Финляндии наиболее злостных русификаторов. До тех пор, пока
мы это не осуществим, просвещение населения Приграничной
Карелии в финском православном духе будет невозможным» [21;
c. 115].
Часть духовенства покинула свои приходы в Финляндии
добровольно. Так, в первой половине 1917 г. в Россию уехали 9
священников и 3 диакона [19; c. 99]. Среди них: протоиереи П.
Забелин и М. Успенский из Выборга, протоиерей В. Соболев из
Сортавалы, настоятель прихода Питкяранта А. Михайлов,
настоятель прихода Салми К. Яковлев и священник того же
прихода И. Михайлов, священник Куопиосского прихода П.
Бортинский.
Возникший острый вопрос о замещении образовавшихся
вакансий привел к тому, что 26 сентября 1917 г. Сенат постановил
учредить в Сердоболе (Сортавале) богословские курсы [1; c. 231].
Прием абитуриентов было решено проводить один раз в три года.
Весь преподавательский и административный состав состоял из
трех человек — ректора и двух преподавателей [7; c. 75]. Позднее,
в 1918 г., данные курсы были преобразованы в духовную
семинарию с 6-летним курсом обучения, функционирующую на
начало рассматриваемого нами периода [23; c. 34].
Об негативном отношении к православному духовенству части
населения Финляндии свидетельствует и тот факт, что на
экстренном съезде духовенства Финляндской епархии в Выборге
13–14 (26–27) апреля 1917 г. было принято решение официально
разрешить священнослужителям вне службы носить светскую
одежду ввиду «местных условий, в целях ограждения священного
сана и достоинства православного священнослужителя от
оскорблений, насмешек, особенно в тех местностях Финляндии,
46
где этот костюм непривычен для глаз населения» [14; c. 348]. Это
же касалось и практики ношения православным духовенством
длинных волос и бород.
В 1920–1930-е гг. в связи с подъемом финского национального
самосознания происходит многомасштабная самоидентификация
как финского населения, так и проживающих в Финляндии шведов
и русских. Это выражалось в том числе и в перемене имен и
фамилий на финский («калевальский») лад, но неизвестно, часто
ли это вызывалось желанием скрыть свое русское происхождение
в целях избежать неприязненного отношения [18]. До 1921 г. в
Финляндии не было всеобщих действующих законов об именах и
фамилиях или об их изменении; только в указанном году
решением Правительства каждый финляндский гражданин обязан
был иметь фамилию или по желанию изменить ее.
В 1930 г. в официальном печатном органе Финляндской
Православной Церкви журнале «Aamun Koitto» были
опубликованы две статьи, в которых говорилось, что
«Православная Церковь начала важную работу с точки зрения
финской национальности» и что «связи с Россией окончательно
порваны. Но эти связи оставили в наследство Финляндии русские
имена и фамилии — видимые знаки политики угнетения во время
автономии» [12; с. 39], а сознательным и образованным гражданам
рекомендовалось
подавать
всем
хороший
пример
и
национализировать свои имена и фамилии. Этим воспользовались
многие финляндцы, имеющие шведские или русские фамилии, для
смены их на финские. Православные священнослужители в
стороне не остались: так, Варфоломеевы стали Валмо, Сидонские
— Раямо, Казанские — Касанко, Толстохновы — Талста и др. [ ] В
то же время наиболее активные сторонники «финнизации» свои
фамилии и имена не изменяли, например, протоиереи Сергий
Солнцев и Сергий Окулов.
Таким образом, события 1917 г., приведшие к усилению
позиций националистически настроенного духовенства и
материальной нестабильности приходской жизни, стали причиной
того, что православные приходы были вынуждены в дальнейшем
проявить полную лояльность к государственной власти в решении
большинства вопросов церковной жизни, в том числе и изменения
47
юрисдикционного статуса, и началу процесса «финнизации»
православной традиции.
Литература
1.
Ф. 6991. Оп. 6. Д. 4236 (Документы о состоянии
Патриарших приходов в Финляндии (отчеты, справки,
информации), 13 апреля 1954 — 22 августа 1989).
2.
Valamon luostarin arkisto. Aktit v.1920 Ea: 83.
3.
Valamon luostarin arkisto. Aktit v.1926 Ea: 89.
4.
Valamon luostarin arkisto. Aktit v.1930 Ea: 93. Срочные
донесения.
5.
Valamon luostarin arkisto. Aktit v.1935 Ea: 99.
6.
Valamon luostarin arkisto. Aktit v.1936 Ea: 100.
7.
Богословская конференция в Хельсинки // Журнал
Московской Патриархии. 1959. № 7. С. 75.
8.
Вениамин (Федченков), митрополит. На рубеже двух эпох.
М.: Правило веры, 2004. — 848 с.
9.
Духовенство Финляндской епархии на 1915 год // URL:
http://www.petergen.com/bovkalo/sp/finl1915.html (дата обращения:
10.03.2014).
10.
Каталог монет русской Финляндии (1863–1917) // URL:
http://www.russianmoney.ru/Articles.aspx?type=content&id=158&AspxAutoDetectCooki
eSupport=1 (дата обращения: 01.11.2017).
11.
Крипатова Ю.И. Православные приходы Выборгской
губернии в составе Великого княжества Финляндского.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://выборгеоро.рф/images/Archangel_cht/2014/hist_ortodox/Prih_viborg.pdf
(дата обращения: 07.11.2017).
12.
Каталог монет русской Финляндии (1863–1917) // URL:
http://www.russianmoney.ru/Articles.aspx?type=content&id=158&AspxAutoDetectCooki
eSupport=1 (дата обращения: 01.11.2017).
13.
Миролюбов-Нурмела А. Павлов, Пауланне или Пауломаа?
Русские фамилии и заявления на их изменение на финские среди
48
«старых русских» в Финляндии в 1920–1940 гг. Дис. … докт. соц.
наук. Тампере, 2008. — 275 с.
14.
Миролюбов А.П. Интервью // URL: https://www.ort.fi/ru/яфинн-но-я-хочу-сохранить-ту-культур/
(дата
обращения:
07.11.2017).
15.
Мусаев В.И. Между Западом и Востоком: Православие в
автономной и независимой Финляндии (1890–1930-е гг.). СПб.:
Изд-во Политехн. 0ун-та, 2014. — 538 с.
16.
Севериков В.В. Эволюция взглядов К.Г. Маннергейма как
политика и государственного деятеля Финляндии в 1918–1951 гг.
Дис. … канд. ист. наук. М., 2005. — 185 с.
17.
Сутулин П.И. Судьба русского населения Финляндии в
1918–1920-х гг. // URL: http://actualhistory.ru/finland_russophobia
(дата обращения: 07.11.2017).
18.
Харитон (Дунаев), иером. Введение нового стиля в
Финляндской Православной Церкви и причины нестроений в
монастырях. Аренсбург, 1927. — 351 с.
19.
Хямяляйнен Э. Несколько сюжетов из жизни русских в
Финляндии
//
URL:
http://ricolor.org/europe/finlandia/fr/cul/16_09_2010/
(дата
обращения: 06.11.2017).
20.
Шевченко Т.И. Валаамский монастырь и становление
Финляндской Православной Церкви. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. —
500 с.
21.
Юдина Н.Ю. Культурообразующая роль Православной
Церкви Финляндии. Дис. … канд. ист. наук. М., 2011. — 143 с.
22.
Яровой О.А. Валаамский монастырь и Православная
Церковь в Финляндии. 1880–1920-е гг. (Из истории финнизации
православной конфессии). Дис. … канд. ист. наук. Петрозаводск,
1999. — 164 с.
23.
Iloitkaa, Sergey ja Herman, autuaat isamme! Sisalahtysseuran
kirjpaino Raamattutalo, Pieksamaki, 1986. — 104 s.
24.
Orthodoxy in Finland: past and present / Edited by Veikko
Purmonen. Orthodox Clergy Association, Kuopio, Finland, 1984. —
110 s.
25.
Riikonen Juha. The Nationality Question in the Orthodox
Church of Finland // The Two Folk Churches in Finland: The 12th
49
Finnish Lutheran – Orthodox Theological Discussions 2014. Helsinki:
National Church Council, Department of International Realtions, 2015.
— 106 s.
Шкаровский М.В.
Церковная жизнь Петрограда в период работы Всероссийского
Поместного Собора 1917-1918 гг.
К лету 1917 г. столичная Петроградская епархия являлась одной из
наиболее значительных и крупных в стране. Петроградский
Владыка окормлял и западноевропейские приходы Российской
Православной Церкви. 24 мая 1917 г. выборные представители
клира и мирян губернии значительным большинством
проголосовали за избрание архиепископом Петроградским
Владыки Ве¬ниамина. Это был один из первых случаев выборов
главы епархии демократическим путем. 13-14 августа состоялось
возведение нового архиепископа в сан митрополита. Уже в первом
своем заявлении после выборов архиерей сказал: «Я стою за
свободу церкви. Она должна быть чужда политики, ибо в прошлом
много от нее пострадала».[1. С. 5-7] Через день после возведения
Владыки Вениамина в сан митрополита состоялось одно из
важнейших событий в церковной жизни.
15 августа в Успенском соборе Московского Кремля произошло
торжественное открытие Всероссийского Поместного Собора
Право-славной Церкви, первая сессия которого продолжалась до 9
декабря. 5 ноября в храме Христа Спасителя по жребию из трех
кандидатов, выбранных Собором, был избран Патриархом
Московским и всея России митрополит Московский Тихон
(Белавин).
С первых дней Октябрьского переворота на жизни Православной
Церкви
отразились
кровопролитные
столкновения
противоборствующих сторон. Так, само избрание Патриарха
проходило в период ожесточенных боев в центре Москвы, в ходе
которых серьезно пострадали кремлевские храмы. Поместный
Собор был вынужден образовать специальную комис-сию «для
50
описания повреждений святынь Кремля, причиненных в смутные
дни 27 октября - 2 ноября с.г.» под председательством
Петро¬градского митрополита. А через несколько дней в Царском
Селе был убит протоиерей Иоанн Кочуров, обличавший матросов
в «содеянных злодеяниях». Его избили и полуживого тащили по
шпалам железнодо-рожного полотна, пока священник не
скончался. В письме Патриарха Тихона вдове убитого говорилось:
«Храним в своем сердце твердое упование, что украшенный
венцом мученичества почивший пастырь предстоит ныне
Престолу Божию в лике избранников верного стада Христова».
».[8]
Уже первые постановления советской власти непосредственно
затронули большинство сфер жизнедеятельности Православной
Церкви и Петроградской епархии, но опубликование 31 декабря в
газетах проекта декрета об отделении Церкви от государства
явилось полной неожиданностью для верующих. Многое в нем
духовенство не устраивало. Одним из первых свое категорическое
несогласие выразил Петроградский митрополит Вениамин,
направивший 10 января открытое письмо в Совнарком. Мотивы
послания были далеки от политических и носили объективный
характер (беспокой¬ство по поводу потери правовой
защищенности, экономической базы Церкви и т.д.) В нем
отмечалось: «Осуществление этого проекта угрожает большим
горем и страданиями православному русскому народу. Вполне
естественно, как только православные жители Петрограда узнали
об этом, стали сильно волноваться. Волнения могут принять силу
стихийных движений... и привести к тяжелым последствиям...
считаю своим нрав¬ственным долгом сказать людям, стоящим у
власти, чтобы они не при¬водили в исполнение предполагаемого
декрета об отобрании церковного достояния. Православный
русский народ никогда не допускал подобных посягательств на его
святые храмы. И ко многим другим страданиям не нужно
прибавлять новых». [9. № 1. С. 24] Письмо не осталось без
внимания (хотя ответа не последовало), с ним ознакомился В.И.
Ленин, наложивший резолюцию: «Очень прошу коллегию при
комиссариате юстиции поспе¬шить с разработкой декрета об
отделении церкви от государства». [9. № 5. С. 204]
51
Пожелания митрополита не только не были учтены, но и активизировали антицерковные акции в Петрограде. В первой половине
января
начались
правительственные
действия,
явно
предвосхищавшие готовившийся закон. Власти стали закрывать
дворцовые и некоторые домовые церкви (в Зимнем и Гатчинском
дворцах,
зданиях
Министерства
внутренних
дел
и
градоначальства) с конфискацией их имущества, в наиболее
доходную часовню Христа Спасителя в домике Петра Великого
был направлен комиссар, объявивший, «что вся выручка ее должна
поступать в кассу Республики». [7. Ф. 143. Оп. 1. Д. 84. Л. 31] 3
января, несмотря на протест общего собрания рабочих
синодальной типографии, она была изъята из распоряжения
церковных властей. Этим прекращался выпуск периоди¬ческих
изданий: «Церковных ведомостей» и «Церковно-общественного
вестника», причем возобновить через несколько недель удалось
только первое из них.
Вскоре после занятия типографии в Петрограде начались общие
собрания духовенства, представителей приходов, сначала
городских, а затем и всей епархии. Первое такое собрание
состоялось 11 ян¬варя в здании Исидоровского епархиального
училища под председа¬тельством митрополита Вениамина. Оно
вынесло резолюцию протеста, переданную в Совнарком, в которой
указывалось, что тысячи верую¬щих «рассматривают захват
типографии как грабеж, протестуют против него... приходские
советы усматривают явное гонение на Православную Церковь со
стороны тех, кто именует себя народною властью». [9. № 1. С. 2324] На собрании обсуждались визиты разных комиссаров к
ректору семинарии, в Духовное училище и к митрополиту с
заявлениями, что все достояние Синода решено объявить
собственностью народа, а также публичное выступление товарища
наркома просвещения И.А. Шпицберга, объявив¬шего о скором
принятии мер к церковным властям за неповиновение Совету
Народных Комиссаров, в том числе о выселении митрополита
Вениамина из его покоев в Александро-Невской Лавре.
Действительно, 13 января 1918 г. Наркомат государственного
призрения издал распоряжение о реквизиции жилых помещений
Лавры, в том числе покоев митрополита, для своих нужд под
52
богадельни и приюты. В тот же день в монастыре появился
вооруженный отряд, который произвел детальный осмотр зданий,
а 14 января на имя настоятеля епи-скопа Прокопия (Титова)
поступило официальное отношение: «Вследствие поста¬новления
народного комиссара о реквизиции всех жилых и пустующих
помещений со всем инвентарем и ценностями, принадлежащих
Александро-Невской лавре, настоящим предписывается Вам сдать
все имеющиеся у Вас дела по управлению домами, имуществами и
капи¬талами лавры уполномоченному лицу от Министерства
государственного
призрения,
по
предъявлению
им
соответствующего документа». [9. № 1. С. 26]
После этих событий 14 января в зале Общества религиознонравственного просвещения на Стремянной улице состоялось
собрание духо¬венства и прихожан, решившее «твердо заявить
народным комиссарам, что православный русский народ не
допустит отобрания имущества у монастырей и храмов... не
допустит поругания его заветных святынь, встанет на их защиту от
поношения тех, кои будучи не русскими и не православными, этих
святынь не могут понимать и ценить». [9. № 1. С. 27] Переговоры
настоятеля Лавры в Совнаркоме не дали результатов. Руководству
епархии, получавшему противоречивую информацию, не было
даже официально разъяснено, что речь не идет о полной
ликвидации монастыря, что резко усилило конфронтацию.
16 и 18 января к настоятелю с соответствующим мандатом являлся
комиссар Иловайский и требовал сдачи ему Лавры со всеми
капиталами, движимым и недвижимым имуществом, но получил
категорический от¬каз. Трагическое столкновение произошло 19
января, когда Иловайский прибыл в сопровождении 17
красногвардейцев и матросов силой добиваться выполнения своих
требований. После ареста настоятеля в лаврских церквах ударили
в набат, сбежался народ, отряд частично разоружился и
ретировался. Но вскоре прибыли подкрепления с пулеметами. В
неравной борьбе смертельно ранен был настоятель церкви
Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости протоиерей Петр
Скипетров,
обратившийся
со
словами
увещания
к
красногвардейцам. Искали иеромонаха Гурия (Егорова),
участвовавшего в разоружении солдат. Чтобы напугать народ,
53
стреляли в воздух из пулеметов, но люди все прибывали, и
красногвардейцы были вынуждены снова отступить. [9. № 2. С.
82-83] Лавру отстояли, однако так начались первые «военные
действия» между Церковью и государством.
Много сделал для предотвращения дальнейших столкновений
митрополит Вениамин. Но, в связи с происшедшими событиями,
20 января он отдал распоряжение о совершении на следую¬щий
день общегородского крестного хода из всех храмов к Лавре в
защиту Церкви. Как отмечалось на заседании Поместного Собора,
«этим испол¬нялось лишь требование верующего народа. И
только в случае, если будут поставлены заставы, решили не брать
народ в крестный ход и помолиться в соборе. Когда в субботу об
этом сообщили народу, народ говорил: «Пойдем!» В некоторых
храмах исповедовались и приобщались Святых Тайн. Говорили:
«Пойдем, хотя бы и на расстрел». В «Вечернем голосе» было
напечатано, что крестный ход будет запрещен. Но, вероят¬но,
власть учла народное настроение, и Бонч-Бруевич не только не
запретил, но даже заявил, что они не противники веры, и сделал
распоря¬жение об аресте нарушающих порядок во время
крестного хода и отправлении в Смольный в комнату № 75. Эти
распоряжения были напечатаны и разбрасывались из автомобили
параллельно крестному ходу». [5. С. 58-59] Накануне, в субботу
вечером,
в
Казанском
соборе
его
настоя¬телем,
священномучеником протоиреем Философом Орнатским, было
впервые зачитано в Петрограде воззвание Патриарха от 19 января.
В грандиозном воскресном крестном ходе участвовало, по
церковным оценкам, до полумиллиона, а по данным властей - 50
тысяч человек. В целом все завершилось без столкновений, лишь
некоторые усердные богомольцы срывали шапки с неснимавших
их при виде крестного хода. В некоторых же других городах
подобные ходы кончались кровопролитием.
События в Петрограде сразу оказались в центре внимания
возобновившего с 20 января свою работу Поместного Собора. На
его первом собра¬нии было оглашено послание настоятеля
Александро-Невской Лавры, о занятии синодальной типографии
рассказал протоиерей Павел Лахостский, а 24 января, на другом
заседании сообщение о крестном ходе в Петрограде сделал о.
54
Философ Орнатский, призвавший выявить свою силу. Отец
Философ также поблагодарил Собор за присвоение мит¬рополиту
Вениамину древнего и почетного титула священноархимандрита
Александро-Невской Лавры.
Антицерковные акции не остались без ответа Патриарха. Они, а
также становящаяся все более кровавой гражданская война
явились причиной появления его воззвания от 19 января 1918 г. В
нем Патриарх заклеймил «открытых и скрытых врагов» истины
Христовой, которые ненавистью, братской междоусобицей и
кровопролитием по всей стране выполняли «дело сатаны», и
предал их анафеме. [4. Д. 792. Л. 9] Послание было воспринято
органами советской власти как выражение контрреволю-ционного
настроения.
23 января в газетах был опубликован декрет «Об отделении
Церкви от государства и школы от церкви», первоначально
называвшийся «О свободе совести, церковных и религиозных
обществах». Именно он заложил основы будущего, бесправного
положения Церкви. Духовенство и верующие, болезненно
воспринимав¬шие антирелигиозную ориентацию советской
власти, отрицательно встретили и указанный закон.
В первой половине 1918 г. церковная жизнь в Петроградской
епархии проходила под знаком сопротивления декрету от 20
января. Его неприятие усугублялось тем, что местными властями
он зачастую трактовался в худшую для духовенства сторону.
Священников нередко арестовывали не за контрреволюционную
агитацию, а за нежелание помогать комиссиям по описи
церковного имущества, которые действовали грубо, иногда
намеренно оскорбляя религиозные чувства верующих. Довольно
распро¬страненным явлением стали требования местных властей
венчания моло¬доженов, один из которых ранее был разведен в
гражданском порядке. За отказ арестовывали и судили и т.д.
В самом Петрограде подобных вопиющих злоупотреблений было
значительно меньше, однако и там обстановка оставалась
напряженной. Так, 27 января в публичном докладе А. Шпицберг
сообщил, что готовятся декреты о запрещении причащения как
«колдовского акта», об изъятии священных сосудов, закрытии
церквей и объявления духовенства «контрреволюционным». 28
55
января специ¬альный отряд занял помещения Святейшего Синода
и, как говорилось в докладе Петроградской синодальной конторы,
по «распоряжению захватчиков доступ в здание Синода для чинов,
служивших в нем, был закрыт». Власти конфисковали также все
синодальные капиталы. [4. Д. 246. Л. 17] Прав¬да, вскоре в
Москве, согласно определению Поместного Собора, начали
функционировать новые органы - Священный Синод и Высший
Церковный Совет при Патриархе.
В целях сплочения верующих и духовенства в период тяжелых
испы-таний в Петрограде, а затем и по всей стране стали
создаваться массовые религиозные организации - союзы,
«братства защиты святой православ¬ной веры» и т.д. Уже в начале
января в столице развернулась работа по налаживанию
приходской жизни (до этого времени не было точного
распределения верующих по приходам). Почти при всех
значительных храмах выбрали «домовых уполномоченных»,
которые вели учет право-славных по квартирам и записывали их в
«приходскую книгу» для распре-деления в дальнейшем по
«коллективам». Одновременно на них возла-галась обязанность
сообщать священникам обо всех «неверующих», чтобы
«заботиться об обращении заблудших». [2. 13 апреля]
В каждом приходе выбирался совет, для объединения
деятельности которых создавались «мирянские комитеты»,
братства по районам и уездам, а в епархиальном масштабе Братство приходских советов Петрограда и епархии. Оно возникло
в середине января и вскоре объединяло уже около 60 тыс. человек.
Пред¬седателем его правления стал протоиерей Николай
Рудинский. Он ездил за благословением к Патриарху, и тот послал
в столицу свою грамоту: «Братству приходских советов города
Петрограда и Петроградской епархии. С благодарением «Отцу
щедрот и всякия утехи» (1 Кор. 1,3) приемлет мерность наша ваше
приветствие и с душевной отрадой слышит в нем готовность
верных чад Церкви Православной встать на защиту попираемых
ныне прав ее!». [2. 12 мая]
К марту работа в епархии по организации приходских советов
была закончена. 11 марта представители их собрались на
Петроградский епархиальный съезд духовенства и мирян. По
56
предложению председателя протоиерея Ф. Орнатского, он без
прений присоединился к суждению По-местного Собора о декрете
от 20 января. На съезде был также избран и утвержден
митрополитом «комиссар по общеепархиальным делам» известный юрист будущий новомученик Иоанн Ковшаров, который
должен был ведать «защитой материальных интересов церкви».
Он стал ближайшим помощником митрополита Вениамина в
контактах с городскими властями. Постепенно все большее
руководящее значение в жизни епархии приобретало и Братство
приходских советов. Братство даже претендовало на шесть
национализированных зданий духовного ве-домства, в том числе
бывшего Синода, но Совет комиссаров Петроград-ской трудовой
коммуны после нескольких заседаний 24 апреля оконча-тельно
отклонил эти заявления. [7. Ф. 143. Оп. 3. Д. 5. Л. 48-49, 52-53, 7273]
В своей деятельности Братство приходских советов было не
одиноко. Как отмечал в выступлении 7 апреля на собрании
петроградского духо-венства священномученик протоиерей
Михаил Чельцов, «Церковь перестраивается на широко
¬общественных, соборных началах - участие интеллигенции,
которая в России всегда была верующей, хотя по-своему
(богоискательство), здесь особенно желательно. Патриарх,
иерархи могут теперь говорить с властью с авторитетом,
поскольку за ними общество, народ». [2. 13 апреля]
В первой половине 1918 г. в Петрограде возникло еще несколько
братств, в основном при различных приходских храмах и
монастырях. Наиболее сильным, многолюдным и долго
действовавшим из них стало Александро-Невское. Оно было
официально открыто после совершения молебствования в Лавре
21 января, во время грандиозного крестного хода, и создавалось
первоначально, прежде всего, для защиты монастыря от
конфискации властями. Братства существовали также при
Андреевском соборе, Захарьевско-Елизаветин¬ской церкви, в
Гавани при церкви Милующей Божией Матери, церкви Спаса на
Синопской набережной и др.
Функции их подразделялись на издательскую (выполнение ее
было очень затруднено, но и в 1920-е гг. в частных издательствах
57
еще выходили церковные календари), благотвори¬тельную помощь бедным, больным (в братствах состояло много
меди¬цинских работников), заботу об арестованных и
заключенных, непосред¬ственное участие членов братств в
богослужениях
с
полным
соблюдением
устава,
и
просветительскую (не только устройство лекций, диспутов, но и,
главным образом, церковная работа с детьми). Последнему
уделялось повышенное внимание, при братствах существовали
специальные филиалы - детские союзы. Так, монахи АлександроНевской Лавры руководили 69 детскими кружками, в которых
изучался Закон Божий. По распоряжению митрополита в
большинстве церквей для подростков были заведены специальные
кресты, хоругви, иконы, облачения, они участвовали в
богослужениях,
крестных
ходах.
Активно
действовал
Андре¬евский детский союз, он регулярно устраивал различные
вечера, утрен¬ники и даже детские пасхальные богослужения. При
храмах в рабочих районах существовали Христианские союзы
учащейся молодежи и т.д.
Преподавание Закона Божия в государственных школах в
основном прекратилось уже в январе 1918 г., хотя на многих
родительских собра-ниях выносились резолюции за его
сохранение, создавались родительские комитеты по наблюдению
за религиозным воспитанием детей. На епархиальных съездах
духовенства и мирян церковно-приходские школы по прежнему
считались находящимися в ведении Церкви, как и богослов-ские
учебные заведения. Всю первую половину 1918 г. декрет об их
передаче в ведение Наркомпроса в Петрограде практически не
реализовывался. Следует отметить, что и многие другие
соответствующие законодательные акты длительное время
оставались лишь на бумаге. Так, хотя декреты о гражданском
браке и разводе были приняты еще в декабре 1917 г., у
государственных органов власти долго не было своего аппарата, и
метрические книги продолжало вести духовенство. В начале 1918
г. в одном из районов города учредили соответствующий
граждан¬ский отдел, но это был скорее лишь показательный опыт.
Замедленные темпы преобразований и массовое сопротивление
духовенства стали причиной того, что и М. Горький в газете
58
«Новая жизнь», в статье «От¬бой» писал о бесплодности и
преждевременности декрета об отделении Церкви от государства,
авторам которого приходится отступать перед условиями русской
действительности. [9. № 9-10. С. 366] Такой прогноз даже левой
печати поддерживал уверенность церковного руководства, что
декрет не будет реализован.
Однако государственные органы постепенно усиливали
наступление. Крупнейший конфликт с ними в Петроградской
епархии в первой половине 1918 г. был связан с реализацией на
практике закона от 14 фе-враля об «упразднении» придворного
духовенства, передаче благотвори-тельных учреждений его
ведомства со всеми капиталами в ведение комиссариата призрения
и закрытии придворных соборов и церквей. Первоначально к
выполнению декрета власти подошли достаточно гибко. 9 марта
между наркомом по делам призрения и протопресвитером
бывшего ведомства была достигнута договоренность о передаче
«орга-низации бывшего придворного духовенства», «кружечного
капитала» и благотворительных учреждений, сохранении за ней
части домов, квартир и часовни Христа Спасителя. Но после
переезда ряда руководящих работ-ников в Москву городские
власти во главе с председателем Петроградского совета Г.Е.
Зиновьевым практически отказались от прежнего соглашения.
В заявлении комиссара по общеепархиальным делам И.
Ковшарова Зиновьеву от 27 мая указывалось, что верующий
народ, уже собравший 6 тысяч подписей, требует: «1. Сде¬лать
распоряжение о прекращении насилий над бывшими придворными
храмами и часовней Спасителя, убрав немедленно из часовни
комиссара. 2. Передать „кружечный капитал" и все
благотворительные
учреждения
бывшего
придворного
духовенства в заведование организации бывшего придворного
духовенства. 3. Отстранить комиссаров от заведования
имуществом бывших придворных церквей. 4. Открыть для
богослужений соборы Зимнего дворца и Петропавловской
крепости». Заявление было рассмотрено 29 мая на заседании
Президиума ЦИК Союза коммун Северной области - почти во всех
требованиях отказали, и лишь собор в Петропавловской крепости
59
разрешили открыть через 2-3 месяца. [7. Ф. 143. Оп. 1. Д. 84. Л. 3031]
В новом письме 10 июня И. Ковшаров убедительно доказывал:
«Служащие
Зимнего
дворца
неоднократно
выносили
постановления об открытии собора как приходского храма. Что же
касается собора крепости, то закрытие его, хотя бы на 2-3 месяца,
оскорбляет религиозные чувства большой массы народа,
привыкшего исстари беспрепятственно посещать собор крепости
для удовлетворения своих религиозных нужд. Во имя интересов
народа, народная власть, казалось бы, не должна ставить народу
препятствий в этом отношении. Ни в каком случае не может быть
допущена передача «кружечного капитала», составившегося из
на¬родных приношений, в ведение Комиссариата имуществ
Республики». Это заявление было также отклонено на заседании
Президиума ЦИК СКСО от 18 июня. [7. Ф. 143. Оп. 1. Д. 83. Л. 23]
Массовое сопротивление осуществлению декрета от 20 января
возглавлялось Поместным Собором. Он также установил
ежегодное молитвенное поминовение в ближай¬шее к 25 января
(17 февраля) воскресенье (день убийств митрополита Киевского
Владимира, занимавшего ранее Петроградскую кафедру) «всех
усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и
мучеников». [6. С. 55-57] В первой такой заупокойной литургии,
совершенной Патриархом 13 апреля, в числе 17 новомучеников
были помянуты и два петроградских протоиерея Иоанн Кочуров и
Петр Скипетров.
С мая - июня 1918 г., мероприятия по реализации законов,
касающихся религиозных организаций, резко активизировались. 8
мая при Наркомате юстиции был создан специальный VIII
(позднее V) отдел по проведению в жизнь декрета об отделении
Церкви от государства во главе с П.А. Красиковым. Такие органы
учреж¬дались и при губернских Советах, комиссариатах юстиции.
24 августа был принят документ, разъясняющий многие спорные
аспекты положения Церкви в советском обществе. Но, вопреки
ожиданиям, это оказался не новый декрет СНК, а инструкция
Наркомата юстиции «О порядке проведения в жизнь декрета Об
отделении церкви от государства и школы от церкви», еще более
60
ужесточавшая требования властей. На реализацию положений
инструкции отводился двухмесячный срок.
В Петрограде осуществление всех этих законов проводилось, по
сравнению с другими городами, более медленными темпами.
Несмотря на пребывание Патриарха в Москве, северная столица во
многом оставалась центром церковной жизни страны, и
епархиальное руководство распо-лагало значительной реальной
силой, с которой были вынуждены счи-таться городские власти.
Однако их конфронтация в мае - августе 1918 г. постепенно
нарастала. Один из конфликтов оказался связанным с
празднованием 1 Мая, которое в 1918 г. приходилось на Великую
среду, пред¬шествующую Пасхе, день скорби, в который
православным воспрещается участвовать в уличных гуляниях и
шествиях. В соответствии с постанов¬лением Поместного Собора
от 20 апреля, митрополит Вениамин в своем воззвании к
верующим призвал их не присутствовать на празднике. Совет
комиссаров Петроградской трудовой коммуны расценил ситуацию
как равнозначную военной опасности, решив назначить на время
праздников Пасхи специальную полномочную комиссию и
«обязать штаб округа и штаб оперативный иметь постоянное
дежурство из ответст-венных лиц». [7. Ф. 143. Оп. 3. Д. 5. Л. 42-43]
Значительную тревогу властей вызвало почти триумфальное
посещение Петрограда с 23 мая по 3 июня Патриархом Тихоном.
Первосвятитель совершил несколько богослужений - в
Исаакиевском и Казанском соборах, Лавре, участвовал в крестном
ходе, посетил Кронштадт. И везде он встречал радость и
поклонение верующих, а в братстве приходских советов
состоялось его чествование.
Вскоре после отъезда Патриарха, 8 июня на заседании Совета
комиссаров Петроградской трудовой коммуны был рассмотрен
вопрос «О способах применения декрета об отделении церкви от
государства к петроградскому духовенству». Значительно
участились случаи закрытия и ликвидации храмов при
государственных учреждениях, многие из которых уже
функционировали как приходские. В результате подобных
действий в различные инстанции стали поступать заявления,
протесты, жалобы комиссара по общеепархиальным делам
61
Ковшарова и братства приходских советов. Тон их постепенно
ужесточался, конфликты мно-жились. Так, еще 27 мая Ковшаров
писал Зиновьеву по поводу прекра-щения богослужений в церкви
св. Спиридона при бывшем Главном управлении уделов:
«Приходской народ постановил обратиться через меня к народной
власти с требованием прекратить нарушение губсовдепом
изданного Народными комиссарами декрета о свободе совести и
предоставить немедленно приходу право свободно осуществлять
религи-озные обряды в своем приходском храме». А 8 августа уже
братство требовало от губисполкома открыть эту церковь:
«Приходской совет обратился к Братству с просьбой потребовать
от высшей власти положить, наконец, предел надругательству над
совестью верующего православного народа и его храмами
агентами власти». [7. Ф. 143. Оп. 3. Д. 5. Л. 16, 19]
7 августа процесс закрытия домовых церквей в Петрограде был
оформлен законодательно, Совет комиссаров Союза коммун
Северной области при¬нял постановление: «1. Домовые церкви и
часовни всех исповеданий, существующие при учено-учебных и
воспитательных заведениях всех ступеней, а также при всех
правительственных учреждениях, подлежат ликвидации в срочном
порядке к 10-му августа с.г., а в исключительных случаях,
устанавливаемых отделами народного образования, не позже 20-го
августа с.г.». [7. Ф. 143. Оп. 3. Д. 67. Л. 237]
Причем, единственным существенным признаком, определявшим,
приходским или домовым является храм, указывалось не наличие
групп прихожан, не ведение метрических книг при церквах, а то,
что он занимает особое здание (помещение), специально
предназна¬ченное дли богослужебных целей и изолированное от
какого-либо жилья или учреждения. Правда, не только к 10 или 20
августа 1918 г., но и к концу гражданской войны значительная
часть домовых церквей Петро¬града не была ликвидирована.
Для сохранения их при таких храмах указом митрополита
открывались приходы, и власти отчасти считались с этим.
Например, в первой половине 1918 г. решением Владыки
Вениамина почти все церкви при восьми петроградских общинах
сестер милосердия преобразовы-вались в приходские, и в 1919 г.
юридический
отдел
Петросовета
санк-ционировал
их
62
существование. [7. Ф. 5325. Оп. 7. Д. 102. Л. 34-125] Уступка была
сделана в отношении храмов при больницах и тюрьмах, в них
разрешалось в определенные дни и часы совершать религиозные
обряды. До многих домовых церквей в тревожные годы
гражданской войны у властей просто не дошли руки. В некоторых
случаях Церкви временно удавалось отстоять свои здания,
предприятия, несмотря на попытки их конфискации.
Так, когда летом 1918 г. Колпинский Совет попытался занять
церковный дом Троицкого собора, все его действия, ввиду
волнений верующих, окончились неудачей. Приняв в августе трех
представителей приходского совета, Зиновьев заявил им: «Что они
пристали к вашим домам? Точно нет других в городе Колпино. Не
в интересах наших возбуждать народ. Я распоряжусь, чтобы дома
не трогали». [7. Ф. 142. Оп. 2. Д. 103. Л. 7] В Колпино был
командирован член губкома ВКП(б) Г.Е. Евдокимов, решивший
спорное дело на месте в пользу прихода. Наконец, даже в случае
закрытия домовых церквей их святыни порой удавалось
переносить в другие храмы или помещения, открывая там вновь
богослужения. Когда осенью 1918 г. была закрыта
университетская церковь, ее, по инициативе настоятеля
протоиерея Николая Чукова и академика Б.А. Тураева,
возобновили в одной из квартир на Биржевой линии, и церковь
функционировала до марта 1924 г.
Несмотря на соответствующие статьи в законе, частично
сохранилась религиозная благотворительная деятельность. Из
запроса благочинных епархиального совета к настоятелям храмов
от 22 августа 1918 г. видно, что в ведении Церкви, в основном под
видом «частных», «нецерковных», оставались многочисленные
богадельни, приюты, столовые, учреждения по трудовой помощи и
т.д., а также детские площадки, сады, различные курсы,
библиотеки, читальни.
Вскоре часть из них была утрачена, но остальные продолжали
функционировать на прежнем основании до конца гражданской
войны. Еще в декабре 1919 г. отдел управления Пет¬роградского
Совета внес, например, в реестр обществ и союзов Мефодиевское
трудовое братство при церкви св. Мефодия, целью которого
явля¬лось «оказание взаимной помощи путем выдачи денежных
63
пособий, нравственной поддержки и приисканием работ
нуждающимся членам братства», особенно больным и
заключенным в тюрьмах. В официаль¬но зарегистрированном
уставе его говорилось, что братство имеет право содержать
трудовые артели, дом для помещения нуждающихся, торговый
кооператив, иметь свои храмы. [7. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 250. Л. 4344]
После
прекращения
преподавания
Закона
Божия
в
государственных школах его удалось отчасти заменить частноцерковным обучением при храмах. В Петроградской епархии было
выработано особое положение «Об организации религиознонравственного воспитания детей и под-ростков». Первоначально
городские власти, согласно инструкции Наркомюста, не
запрещали подобной практики. На соответствующий запрос
приходского совета Никольского Богоявленского собора 13
августа отдел юстиции Петросовета ответил, что обучать и
обучаться религии частным образом не возбраняется.
Возобновилось осенью 1918 г. в епархии и специаль¬ное
богословское образование, хотя к лету Духовная академия и
семина¬рия как государственные учебные заведения были
закрыты и их здания переданы другим организациям (под детский
приют и т.п.). Еще до принятия инструкции от 24 августа нарком
просвещения А.В. Луначарский (в 1918 г. работавший, в основном,
в Петрограде) официально высказался за то, чтобы духовные
учебные заведения, при желании местных церковных общин взять
их на содержание, передавались им со всем инвентарем; и 16
августа И. Ковшаров подал соответствующее заявление в Совет
комиссаров СКСО: «Ввиду того, что петроградская церковная
община на епархиальном собрании, состоявшемся в июле с.г.,
постановила принять содержание духов¬ных учебных заведений
Петроградской епархии исключительно на средства общины,
Братство приходских советов выражает уверен¬ность, что Совет
комиссаров в непродолжительное время (ввиду ско¬рого
наступления учебного года) освободит духовные учебные
заве¬дения: академию, семинарию и духовное училище и передаст
эти учебные заведения со всем инвентарем в ведение
64
петроградской об¬щины через Братство приходских советов». [7.
Ф. 144. Оп. 1. Д. 83. Л. 7]
6 сентября в «Петроград¬ском Церковном вестнике» (редактор
протоиерей Михаил Чельцов - председатель комиссии по духовноучебным заведениям) были опуб¬ликованы проекты положений о
богословских курсах и богословском институте, одобренные
митрополитом. 24 сентября Малый Совет СКСО передал здание
бывшей семинарии под Богословско-пастырские курсы, которые и
начали там свою деятельность с 30 сентября. Это было
двухгодичное учебное заведение, куда принимались лица старше
18
лет
со
средним
образованием.
Преподавание
общеобразова¬тельных предметов в нем запрещалось, но
первоначально курсы ча¬стично субсидировались комиссариатом
просвещения. Из 14 препо¬давателей почти все ранее работали в
семинарии, заведующим был И.П. Щербов, немало сделавший для
развития богословского образо¬вания в епархии в первые годы
советской власти.
Многие из этих уступок властей явились следствием активной
пози-ции епархиального руководства, опиравшегося на массовый
религиозный подъем. В 1918 г. к Православной Церкви, гонимой, а
не господствующей, государственной, как ранее, несмотря на
начавшуюся атеистическую пропаганду, пришли тысячи
новообращенных, в том числе и видные представители
интеллигенции. Распространению религиозности способ-ствовали
и бедствия гражданской войны. В «церковной ограде» вспыхи-вает
подлинная духовность, усиливается забота о нравственности. 10
июля
для
расширения
проповеднической
деятельности
епархиальным собра-нием избирается Миссионерский совет,
главным руководителем которого является митрополит.
Владыка Вениамин стремился привлечь в ряды духовенства как
можно больше светских молодых людей. Миссионерская
деятельность развертывалась и в крестьянских массах. 29 августа
епархиальный совет принял постановление о направлении в уезды
и округа губернии из Петрограда священников для проведения
лекций
по
богословию,
совершения
богослужений,
законоучительства.
65
Чувствуя за собой поддержку верующих, петроградское
духовенство все громче поднимало голос протеста против
усиливавшихся анти-церковных акций. 29 июля состоялось
чрезвычайное епархиальное собрание приходских советов по
вопросу «О мерах защиты Веры и Церкви ввиду циркуляра
Комиссариата просвещения Северной области об изъя¬тии из
школ предметов религиозного почитания». Оно было необыч-ным
- с участием представителей всех других основных конфессий,
кроме старообрядчества. Мнение собравшихся оказалось
единодушным. Так, о. Н. Чепурин заявил: «Нас ожидает борьба. Я
не знаю, чего страшиться. Стихия церковной жизни - есть стихия
борьбы. Было мучительно видеть, как прежде настроение
ведомства православного исповедания зависело от улыбки цезаря.
Благословен тот час, когда наша Церковь, захваченная борьбой,
станет на свои ноги и в правовых подпорках не будет нуждать-ся».
Протоиерей Ф. Орнатский, ссылаясь на крестный ход в защиту
Александро-Невской Лавры, рекомендовал повторить подобную
акцию сопротивления (через несколько дней отец Философ был
арестован). В результате, собрание единодушно выразило «свой
горячий протест» и постановило «обратиться к надлежащим
советским властям с требова¬нием о немедленной отмене
незаконно изданного товарищем областного комиссара по
просвещению Гринберга циркулярного распоряжения от 12 июля
1918 года». [3. 3 августа] Оно также избрало епархиальный совет.
Совместное противостояние насилию представителей различных
конфессий особенно встревожило власти. Решено было
использовать карательные меры. Митрополит Вениамин
попытался смягчить напряженность в отношениях сторон. Так, на
заявлении отдела юстиции Петросовета от 1 августа на его имя –
«сделать распоряжение о снабжении в срочном порядке всех
приходских церквей приходскими книгами для записей
прихожан», Владыка в тот же день наложил резолюцию: поставить
на вид благочинным за «их недостаточно внимательное отношение к прохождению своих обязанностей». [3. 6 сентября]
Однако
уже
в
начале
августа
начались
аресты
священнослужителей. Развернувшийся в конце лета - осенью 1918
г. (после убийства В. Володарского, М. Урицкого, покушений на
66
В. Ленина, Г. Зиновьева) красный террор в Петрограде был очень
жесток. Самым непосредственным образом затронул красный
террор и духовенство. Были арестованы священники А. Николаев,
В. Силин, А. Ливан¬ский, П. Успенский, Н. Платонов, А.
Дубровский и другие, несколько монахов.
Даже в этих условиях братство приходских советов пыталось
отстаивать интересы Церкви, спасать арестованных. В его
заявлении в Совет комиссаров СКСО от 14 августа говорилось о
единогласном решении братства «признать, что циркуляр 8
августа с.г. о ликвидации церквей и часовен при
правительственных учреждениях и учебных заведениях находится
в явном противоречии с декретом о свободе совести (ст.2 и 12), и
предъявить по этому поводу протест, с требованием об отмене
означенного циркуляра». [7. Ф. 143. Оп. 1. Д. 83. Л. 7]
В письме Зиновьеву от 31 августа указывалось, что братство
«разновременно подало ряд заявлений о взятии им на поруки
арестованных по распоряжениям местных совдепов православных
священнослужителей, а именно: 1) протоиерея Философа
Николаевича Орнатского (арестованного 9 августа), 2) священника
Вячеслава Силина (арестованного 1 августа), 3) священника
Алексея Ливанского (арестованного 3 августа), 4) священника
Петра Успенского (арестованного 3 августа), 5) священника
Александра Дубровского (арест.). Долговременное пребывание
под арестом всех этих лиц угрожает по современным
обстоятельствам не только здоровью, но и самой их жизни, тем
более, что некоторые из них, как-то: Ф.Н. Орнатский преклонного возраста, а другие, как-то: В. Силин - тяжко больны.
Между тем, представители приходов, а равно Братство приходских
советов до сего времени не получили никаких сведений о судьбе
заключенных, и, несмотря на все принятые меры, добиться путем
личных переговоров от кого-либо из осведомленных в деле лиц
сообщения справочных данных не представилось возможным.
Ввиду этого, Братство приходских советов вынуждено ныне в
письменной форме настаивать самым решительным образом на
скорейшем выяснении вопросов: а) в чем именно обвиняются
арестованные священнослужители, б) где они содержатся, и в
каком положении находится их дело, в) скоро ли они будут вовсе
67
освобожде¬ны из-под стражи или отданы на поруки Братству». [7.
Ф. 143. Оп. 1. Д. 82. Л. 61] Но вскоре было ликвидировано само
братство, закрыты некоторые церковные органы печати и т.д.
Трагически сложилась судьба известного церковного дея¬теля о.
Философа Орнатского. Нарком просвещения А.В. Луначарский
пытался спасти его, послав 15 августа письмо Зиновьеву:
«Уезжаю, так и не выяснив хорошенько, по чьему распоряжению и
по какому обвинению содержится в Кронштадте под арестом
священник Орнатский. Так как арест его вызывает много толков, а
я считал бы необходимым избегнуть всего похожего на гонения
против Церкви - то, быть может, Вы сможете сделать что-нибудь
для его освобождения, если каких-либо серьезных обвинений
против него не имеется». [7. Ф. 143. Оп. 1. Д. 82. Л. 60] Но о.
Философ был расстрелян вместе с двумя сыновьями.
Основной причиной подобных бессмыслен¬ных акций являлось
засилье левацких, военно-коммунистических на¬строений в
партийной и советской среде - в надежде на скорую мировую
революцию ее рьяные приверженцы пытались как можно быстрее
разрушить бас¬тионы реакции в России, одним из которых
считали и религию. Руководству РКП(б) была присуща склонность
к тоталитаризму, стремление к монополии на безграничную
власть, на право господства во всех областях жизни общества,
включая духовную сферу. Церковь виделась им не¬примиримым
соперником, которого следовало безжалостно убрать со своего
пути. С этим было связано не только резкое ухудшение осенью
1918 г. положения церковных организаций в регионах, в частности
в Петроградской епархии, но и прекращение работы
Всероссийского Поместного Собора.
Литература
1.
Митрополит Вениамин (Казанский). Краткая биография //
Христианские чтения. 1991. № 6.
2.
Петроградский церковно-епархиальный вестник. 1918.
3.
Петроградский церковный вестник. 1918.
4.
Российский государственный исторический архив. Ф. 796.
Оп. 445.
68
5.
Священный Собор Православной Российской Церкви.
Деяния. Книга 6. Вып. 1. М., 1918.
6.
Священный Собор Православной Российской Церкви:
Собрание определений и постановлений. Вып. 3. М., 1918.
7.
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга.
8.
Церковно-общественный вестник. 1917. 9 декабря.
9.
Церковные ведомости (Прибавления). 1918.
Судариков А.М., Гусева А.Ю.
Судариков А.М., доктор исторических наук, зав. кафедрой,
РГГМУ
Гусева А.Ю., кандидат философских наук, доцент, РГГМУ
БАЛТИЙСКИЕ
МОРЯКИ
И
БОЛЬШЕВИСТСКОЕ
РУКОВОДСТВО
В ОКТЯБРЕ 1917- МАРТЕ 1918 гг.
Существует устойчивое мнение, что военные моряки были
авангардом революционных сил, совершивших преобразования в
России 1917 г. Между тем, это мнение верно лишь отчасти, и
отношения большевиков и революционных моряков не были
безоблачными,
какими
их
изображала
отечественная
историография советского периода. Данная статья посвящена
анализу этих взаимоотношений.
По мнению современных исследователей, представители военноморского флота стали «передовым отрядом» революционной
борьбы в силу ряда причин. К таким причинам можно отнести как
рост значения военно-морской силы в начале XX в., когда
обострились противоречия империализма, так и особый
социальный состав матросской массы, который отражал
необходимость обслуживания сложной техники, в сочетании с
высоким процентом рабочих, призванных на флотскую службу [7].
Кроме того, основные базы Балтийского флота были расположены
близко к столице и крупным городам, и на флот легко проникали
политические идеи. Политические партии «левее» большевиков
(левые эсеры, максималисты и анархисты), а также левые течения
внутри РСДРП («левые коммунисты», троцкисты и др.) вели среди
матросов интенсивную пропаганду. Хотя до апреля 1917 г.
69
матросским массам были не слишком понятны партийные
различия, они склонялись к левому экстремизму – в первую
очередь под влиянием общественных настроений [24, с. 70-71].
Участие балтийских моряков в событиях октября 1917 г. изучено
обстоятельно, но несколько односторонне. Отметим, что В.И.
Ленин в октябрьских статьях подчеркивал значение флота в
восстании: «Флот, Кронштадт, Выборг, Ревель могут и должны
пойти на Питер, разгромить корниловские полки, поднять обе
столицы, двинуть массовую агитацию за власть, немедленно
передающую землю крестьянам и немедленно предлагающую мир,
свергнуть правительство Керенского, создать эту власть.
Промедление смерти подобно» [10]. Одновременно ЦК
Балтийского флота (Центробалт) объявил Финляндию на военном
положении, чтобы избежать высадки десанта германским флотом.
Центробалт предупреждал: «Всякая попытка вооруженного
сопротивления, вмешательства в действия русских вооруженных
войск … будет беспощадно подавляться» [17. Д.144. Л. 26]. От
имени всего флота Центробалт направил приветствие
Всероссийскому съезду Советов, пообещав поддержку «всеми
своими вооруженными силами» [17. Д. 29. Л. 13].
Находившийся на ремонте в Петрограде крейсер «Аврора» был
специально задержан на ходовых испытаниях по указанию
Центробалта, 24 октября с открытием II-го Съезда Советов
Центробалт формирует отряды (около 4500 матросов), которые в
ночь на 25 октября прибыли в Петроград. Утром 25 октября в
Петроград отправили 15 боевых кораблей. К семи вечера
вооруженные матросы присоединились к восставшим; в первом
часу ночи 26 октября первые группы восставших пробрались в
Зимний дворец, по которому с 11 часов велся обстрел из
Петропавловской крепости [22, с. 134-135]. К часу ночи большая
часть дворца была в руках восставших. В 0 ч. 50 мин. В.А.
Антонов-Овсеенко и Г.И. Чудновский повели свои отряды через
левый подъезд. Впереди шли матросы. Часть юнкеров и ударницы
женского батальона покинули Зимний, но со стороны Дворцовой
площади началась беспорядочная стрельба, и моряки с
красногвардейцами кинулись в глубину дворцового комплекса.
Временное правительство было арестовано отрядом матросов во
70
главе с В.А. Антоновым-Овсеенко [1, с.100-107; 22, с.135]. 26
октября власть была в руках Петроградского военнореволюционного комитета. II-й Съезд Советов провозгласил
переход власти к Советам, на следующий день был сформирован
Совет Народных Комиссаров, который составили исключительно
большевики.
Балтийские моряки взяли на себя охрану самых важных объектов
Петрограда, а также обеспечение революционного порядка. В это
время часть «революционных» матросов в Зимнем дворце
отмечали победу, захватив подвалы, в которых хранилось вино.
Пьяный загул был узаконен, когда ВРК стало ясно, что обуздать
матросов невозможно. Матросская стихия вылилась в погромы,
которые продолжались несколько месяцев и имели одной из целей
найти новые винные склады [11, с. 98-103]. По воспоминаниям
анархиста В.П. Другова, один из членов Петроградского ВРК
предложил объявить, что вино из царских подвалов отдается
солдатам и матросам по две бутылки в день на человека [4].
Пока в столице гуляла матросская вольница, Керенский
договорился о поддержке с генералом П.Н. Красновым. Части 3-го
Конного корпуса заняли Гатчину и Царское Село. Одной из
основных сил, выступивших на защиту советской власти, явился
Балтийский флот. 7 ноября Центробалт выступил с призывом к
морякам вступить в борьбу с контрреволюцией. 8-9 ноября ВРК
заблокировал железнодорожное движение и отправил к Красному
Селу и Пулкову революционные отряды матросов и
красногвардейцев для обороны [18]. В.И. Ленин по прямому
проводу распорядился выслать корабли из Гельсингфорса. В
Петроград были направлены крейсер «Олег» и эсминец.
Матросами усилены гарнизон Петропавловской крепости и охрана
Смольного [22, с.136].
12 ноября началось наступление 3-го Конного корпуса, но с
Пулковских высот по казакам стреляла артиллерийская батарея,
которую Ф.Ф. Раскольников снял с кронштадтского форта, у
Красного Села оборонялись матросы под командованием П.Е.
Дыбенко. Обещанного Керенским подкрепления не было, части
Краснова отступили в Гатчину. Вскоре туда прибыл на переговоры
Дыбенко. Переговоры проводились в доверительной обстановке с
71
употреблением
горячительных
напитков.
Расслабившись,
матросский вожак Дыбенко предложил решить вопрос «по
понятиям». Казаки выдают матросам Керенского, а матросы
выдают им в обмен Ленина («ухо на ухо»). И пусть каждый делает
со своим пленником все, что захочет [26, с. 165].
К утру следующего дня было заключено соглашение, по которому
казаки могли вернуться на Дон, а большевики должны были
получить Керенского и сохранить правительство, но без Ленина и
Троцкого (их казаки подозревали в государственной измене). 14
ноября Гатчина была под контролем матросов и красногвардейцев.
Общая
численность
формирований
Балтийского
флота,
действовавших во время вооруженного восстания и в обороне
Петрограда, достигала 20 тыс. моряков. Потери в боях убитыми и
ранеными были незначительными [22, с.137].
Когда до Ленина дошла информация о требовании казаков
исключить его из состава СНК и даже обменять на Керенского, он
настаивал на трибунале для Дыбенко. Но его арест в тот момент
мог привести к мятежу матросов и потере большевиками всех
политических достижений. Центробалт и Дыбенко стали
восприниматься как опасная, хоть и полезная, сила. Необходимо
было ослабить Центробалт, и был предпринят серьезный
пропагандистский ход: Дыбенко включили в СНК наркомом по
морским делам. Это номинально ставило его под контроль
председателя СНК, но противопоставляло Центробалту. Хотя
первоначально такое высокое назначение воспринималось
матросскими массами с воодушевлением, поскольку совсем
недавно нынешний нарком сам был «простым матросом», в
перспективе оно грозило Центробалту расколом [26, с. 166-167].
Председатель Совнаркома В.И. Ленин после Октябрьской
революции фактически оказался под присмотром матросов,
которые иногда вели себя не как телохранители, а как конвоиры.
Умный и проницательный Владимир Ильич понимал, что взяв в
стране власть, он сам неожиданно оказался заложником у
матросских вожаков. Вряд ли Ленину это нравилось, но сразу
изменить ситуацию он не мог [26, с. 170-171]. Например, Н.К.
Крупская вспоминала, как во время открытия Учредительного
собрания в Таврическом дворце кто-то из матросских охранников
72
стащил пистолет из кармана ленинского пальто. Владимир Ильич
отчитал
Дыбенко, который с извинениями быстро вернул
Браунинг Ленину, но выводы были очевидны [9, с. 352].
Большевистское
руководство
относилось
к
церковной
собственности без малейшего почтения. Например, народный
комиссар государственного призрения А.М. Коллонтай посчитала
необходимым создать дом для инвалидов войны в АлександроНевской лавре. В ответ монахи затворились в монастыре и
зазвонили в колокола. К стенам монастыря собрались толпы
верующих. Красногвардейцы разгонять народ не решились. Тогда
вызвали отряд матросов, которые штыками и прикладами
разогнали верующих и монахов, при этом был убит священник
отец Петр Скипетров [12 с. 71; 26, с.172].
Поскольку СНК по Декрету II-го съезда Советов являлся органом
временным, 12-14 ноября 1917 г. прошли всероссийские выборы в
Учредительное собрание. По спискам Балтфлота были избраны и
В.И. Ленин, и П.Е. Дыбенко, причем Дыбенко шел под №1, а
Ленин под №2. Для большевиков в момент выборов не было
другой настолько влиятельной и сильной вооруженной
организации, как Балтийский флот. Но на 715 депутатов
Учредительного собрания избрали всего 175 большевиков, а
правые эсеры и центристы получили 370 мандатов. Это стало
серьезным провалом правящей партии. Несмотря на то, что на
выборы пришли менее 50% избирателей, результат показывал, что
избиратели не слишком доверяют большевистской партии.
Назревала необходимость силового удержания власти в руках
СНК. Для этого Дыбенко поручается сосредоточить в Петрограде
10-12 тысяч вооруженных матросов [6, с. 153; 26, с. 176].
Еще в ноябре 1917 г. СНК начал аресты делегатов Учредительного
собрания от партий кадетов и эсеров. Открытие Учредительного
собрания 28 ноября, как было намечено, не состоялось. В начале
декабря Таврический дворец был опечатан по приказу СНК, затем
вокруг него, на подступах к дворцу и к Смольному, в некоторых
других стратегических точках Петрограда была выставлена охрана
из балтийских моряков, которыми командовал непосредственно
П.Е. Дыбенко. В Таврическом расположились 100 матросов,
возглавляемых анархистом А.Г. Железняковым. Дополнительно
73
несколько сотен матросов рассредоточились на Литейном
проспекте.
5 января 1918 г. Учредительное собрание все же открылось. Но
присутствие в зале вооруженных матросов мешало нормальному
ходу заседания, - избранный председателем эсер В.М. Чернов
вынужден был вести его под прицелом матросских винтовок.
После того как большая часть депутатов голосовала против
«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»,
большевистская фракция демонстративно покинула зал. Затем
ушли и левые эсеры. П.Е. Дыбенко и Ф.Ф. Раскольников в
воспоминаниях утверждают, что Ленин дал четкое указание не
допускать никакого насилия в отношении депутатов и
Учредительное собрание не разгонять [5 с.176; 16, с.345].
Демонстративный разгон Учредительного собрания матросами
явно не входил в планы большевиков. Но глава государства и
вождь правящей партии ничего не мог поделать с матросским
вожаком. Дыбенко был твердо уверен, что реальная власть в
Петрограде не у большевиков, а у балтийских моряков. Поэтому
нет ничего важнее его уставших приятелей-матросов. Дыбенко
безразлично, что рядом происходит эпохальное событие, к
которому Россия шла сотни лет [26, с.182-183]. Тогда и прозвучала
вошедшая в учебники фраза А.Г. Железнякова «Караул устал».
Вряд ли можно обвинять В.М. Чернова в трусости – скорее, он
ясно понимал угрозу со стороны распоясавшейся матросской
компании, возглавляемой анархистом, и решил ее не
провоцировать [24]. Заседание оказалось первым и последним. 6-7
января ВЦИК СНК утвердил декрет о роспуске Учредительного
собрания, и 7 января он был опубликован и вступил в силу.
В день заседания Учредительного собрания в Петрограде
матросами была расстреляна мирная демонстрация в его
поддержку. Газета «Новая жизнь» так описывала события: «…
Когда манифестанты появились у Пантелеймоновской церкви,
матросы и красногвардейцы, стоявшие на углу Литейного
проспекта и Пантелеймоновской улицы, сразу открыли ружейный
огонь. Шедшие впереди манифестации знаменосцы и оркестр
музыки Обуховского завода первые попали под обстрел» [14]. По
74
официальным данным погибло 12 человек и ранено не менее 20
[19, с. 992].
В это же время произошла еще одна кровавая история с участием
моряков. 11 декабря на открытие Учредительного собрания
прибыли в Петроград депутаты от кадетской партии, бывшие
министры Временного правительства – А.И. Шингарев и Ф.Ф.
Кокошкин. Они были сначала арестованы, а затем переведены
больницу, где в ночь с 6 на 7 января зверски убиты
«революционными матросами». Реакция на этот самосуд
последовала незамедлительно. 7 января 1918 г. по приказу Ленина
сформирована следственная комиссия. В течение нескольких дней
установлены личности убийц и арестованы почти все участники.
Затем историю замяли, арестованных участников убийства
освободили, а некоторых отправили на фронт, подальше от
столицы [26, с.185-187].
В начале января 1918 г. отношения между руководством
большевиков и матросами резко обострились. Не исключался и
вариант захвата матросами Смольного, поэтому на его охрану
были призваны латышские стрелки с пулеметами. Произошел
раскол и внутри частично расквартированного в Петрограде 2-го
Балтийского экипажа, в который входили как А.Г. Железняков,
«разогнавший Учредилку», так и его старший брат Г.Г.
Железняков, также влиятельный анархист. Младший Железняков
отправился защищать Смольный, а старший – «делать
революцию» на Украине и биться там с германскими войсками.
Моряки 2-го Балтийского экипажа, которые базировались в
Гельсингфорсе и Кронштадте, а также Морской наркомат,
возглавляемый Дыбенко, сохраняли нейтральную позицию по
отношению к Смольному. Вскоре оставшиеся в Петрограде
моряки 2-го экипажа стали личной охраной Дыбенко.
29 января 1918 г. СНК обсуждал реформирование ВМФ, на
заседание приехали члены Центробалта. Дыбенко выступил с
предложением о переформировании военно-морского флота на
добровольческих началах, его поддержали, - вместо старого
морского министерства учреждался народный комиссариат по
морским делам, наркомом был назначен П.Е. Дыбенко, но в
качестве комиссара Балтийского флота назначался Н.Ф. Измайлов,
75
соперник и недруг нового наркома. Присутствовавшие на
заседании члены Центробалта возмутились – они считали, что на
такие должности должны быть выборы, а не назначения.
Центробалт был готов арестовать новое начальство, и этот арест
не состоялся, вероятно, лишь потому, что стало известно о
продвижении германских войск в Прибалтике и предстоящей
высадке в Финляндии. Перевести корабли из Гельсингфорса в
Кронштадт было невозможно из-за льда, но флот надо было
спасать [6, с. 149-154; 26, с. 192-194].
Тем временем от нового морского наркома СНК требует отправить
по стране отряды революционных матросов – для установления
советской власти и противодействия контрреволюции. Подобный
опыт уже был, например, когда в декабре 1917 г. «Северный
летучий отряд» мичмана С.Д. Павлова был отправлен на
Оренбургский фронт и выгнал с Южного Урала казачье войско А.
Дутова. Матросы вели себя так, что местное население восприняло
их как разбойников. Теперь же Военно-морской ревком и Морская
коллегия отправили 10 отрядов по 50 матросов в хлебные районы
страны с тем, чтобы экспроприировать и направлять в столицу
хлеб; общее руководство первыми продотрядами было на матросебольшевике Т.И. Ульянцеве. Состоявшиеся в Гельсингфорсе в
начале января 1918 г. новые выборы в Центробалт (пятый созыв)
привели к господству в нем эсеров и анархистов. Дыбенко и
Раскольникова новый состав Центробалта признавать не желал,
хотя и не настаивал на немедленном снятии с должностей [6,
с.168-170].
В середине февраля 1918 г. на заседании ЦК РСДРП(б)
обсуждался вопрос о Брест-Литовском мире. П.Е. Дыбенко
совместно с А.М. Коллонтай неожиданно выступил против
заключения мирного договора, но Ленин не дал ему высказаться
до проведения голосования. С большим трудом ЦИК удалось
принять решение о заключении мира, но противодействие
Дыбенко снова показало большевистскому руководству, что он
доверия не заслуживает и представляет угрозу. Нужно было искать
вооруженную силу, которая могла заменить революционных
матросов. На место «гвардии революции» выдвинулись латышские
76
стрелки, которые были значительно менее политизированы,
хорошо вооружены и дисциплинированы.
Балтийский флот к февралю 1918 г. контролировали анархисты и
эсеры, а Дыбенко, будучи военно-морским наркомом, должен был
проводить большевистскую линию. Если бы он попытался сделать
это принципиально, то окончательно потерял бы инструменты
воздействия на массы матросов-анархистов. Положение его было
непростым. Дыбенко начинает заигрывать с матросскими массами,
устраивает кутежи и веселье, что льстило матросам, но вызывало
недовольство большевиков.
Продвижение германских войск на восток и их приближение к
Петрограду в феврале 1918 г. пугает СНК, и 20 февраля созвано
срочное заседание в военном министерстве. На нем Дыбенко
высказался о необходимости партизанской войны, и не встретил
поддержки генералитета, предпочитавшего войну позиционную.
Дыбенко критически высказался в адрес В.И. Ленина и Л.Д.
Троцкого. В ответ 22 февраля все контролируемые большевиками
газеты напечатали статьи о развале в военно-морском флоте. Затем
Ленин направил Дыбенко лично возглавить оборону Нарвы. С
матросами Гельсингфорса, остатками «Северного летучего
морского отряда» мичмана Павлова, матросский командующий
пытается дать отпор германскому наступлению [6, с. 175-178].
Балтийские моряки собрались воевать самостоятельно, без
взаимодействия с другими частями, не подчиняясь никакому
местному командованию и не организовав снабжение
боеприпасами [25, с. 137-138]. Вялые атаки матросов, которые
развлекались выпивкой (в пути реквизировали бочку спирта)
перешли в отступление, а затем и в бегство в направлении
Ямбурга. В исторической литературе нет единства мнений по
поводу того, когда и как случился перелом в настроении
матросского отряда, который привел к его бегству [13, с.295]. Дело
дошло до того, что М.Д. Бонч-Бруевич отдал приказ разоружить
матросов, «что едва не вызвало кровопролитие на вокзале» [3, с.
261]
После сдачи Нарвы Дыбенко смещают с должности
командующего и передают ее генерал-лейтенанту Д.П. Парскому.
Обстоятельства сдачи города должны были расследоваться
77
специальной следственной комиссией [21]. Происшедшие под
Нарвой события показали большевистскому руководству, что в
столкновениях с серьезным противником на матросов полагаться
нельзя, а их вожаки ненадежны в политическом отношении. В
мемуарах Дыбенко пишет, что, опасаясь ареста, он вместе с
Коллонтай едет на III-й съезд Советов, но в сопровождении отряда
во главе с мичманом Павловым, чтобы можно было принять меры
к освобождению в случае ареста [5].
16 марта 1918 г. Чрезвычайный IV съезд Советов принял решение
о переезде советского правительства в Москву и «временном»
переносе столицы. Эвакуация СНК готовилась втайне. 2 марта
1918 г. СНК и ЦИК выпустили заявление, что «слухи об эвакуации
из Петрограда СНК и ЦИК совершен¬но ложны. Вопрос об
эвакуации мог бы быть поставлен лишь в последнюю минуту, в
том случае, если бы Петрограду угрожала непосредственная
опасность» [15]. Но советское прави¬тельство заранее готовилось:
21 февраля была создана Чрезвычай¬ная комиссия по эвакуации,
ею издан приказ об установлении кордона вокруг Петрограда,
чтобы помешать входу беженцев и дезертиров в город и выезду
населения из него, поскольку горожане тысячами штурмовали
вокзалы и отдел по эвакуации.
Декретом от 22 февраля 1918 г. Чрезвычайную ко¬миссию для
решения вопроса об эвакуации из Петрограда важ¬нейших
учреждений возглавил В.А. Алгасов, член ЦК партии левых эсеров
(1917–1918), член коллегии Наркомюста, с 1918 г. член РКП(б). 26
февраля 1918 г. на заседании СНК он сообщает о начале работы
комиссии
по
«разгрузке»
Петрограда.
Она
получила
исключительное право на транспортные средства для эвакуации,
был запрещен выезд гражданского населения, а подвижной состав
железной дороги отведен под вывоз запасов меди, латуни, других
металлов. Местные Советы получили распоряжение о
прекращении выдачи удостоверений на выезд, что привело к
злоупотреблениям – пропуск на эвакуацию можно было купить за
700-800 рублей [8].
Советское правительство выехало из Петрограда в обстановке
строгой секретности: литер¬ный поезд 4001 формировался за
Московской заставой у станции «Цветочная площадка». В целях
78
конспирации на Николаевский вокзал были поданы два состава
для правительства, но уезжали члены СНК и ЦК РСДРП(б) именно
с Цветочной. 10 марта в семь вечера на станцию прибыли
латышские стрелки с пулеметами, заняли посты на тендере
паровоза С-245 и во всех тамбурах. Бригада железнодорожных
рабочих проверила поезд и колею от Цветочной площадки до
магистрали на Москву – опасались подрыва.
В Смольном в это время внешне ничего не говорило об отъезде. В
девять с минутами автомобиль забрал от Смольного Ленина с
женой, М.И. Ульянову и В.Д. Бонч-Бруевича. По Шпалерной,
Литейному и Загородному, затем по Забалканскому доехали до
Московских ворот и свернули на Заставскую улицу. Здесь машина
была взята под охрану специальным патрулем. Затем на станции к
литерному поезду подтянулись остальные члены ЦК и СНК,
причем информацию о том, куда и во сколько необходимо явиться,
они получили в это же день секретными пакетами. В 22 часа поезд
отошел от Цветочной площадки – без сигналов и без освещения.
Свет в вагонах включили только когда выехали на магистраль. В
21.30 11 марта состав прибыл в Москву на Николаевский вокзал
[2; 11, с. 131-136].
После сдачи Нарвы немцы объявили большевистскому
правительству ультиматум – если в течение 48 часов не будет
подписан мирный договор, наступление продолжится как на юге
России, так и в направлении Петрограда. 23-24 февраля ЦК
РСДРП(б) экстренно обсудил ситуацию, и, несмотря на
сопротивление, Ленин продавил решение о заключении мира. 3
марта 1918 г. мирный договор будет подписан, 6-8 марта
ратифицирован на экстренном VII съезде РСДРП(б). Когда 10
марта СНК переезжал из Петрограда в Москву, официальной
причиной перемещения столицы называлась угроза со стороны
германских войск – они действительно стояли около Петрограда.
Поскольку мирный договор уже заключен, вряд ли немцы
отправились бы на захват города. Не исключено, что главную
опасность для СНК представляла реакция матросских масс на
мирный договор с немцами. Этот договор предполагал
демобилизацию российской армии и флота, передачу
79
Черноморского флота Германии, вывод экипажей Балтийского
флота с баз в Ревеле и Гельсингфорсе.
По приказу Ленина, Дыбенко все же явился после позора в Нарве в
Петроград, и нашел единомышленников, не желавших подписания
мирного договора, среди влиятельных лиц. Против Брестского
мира выступали Бухарин, Урицкий, Коллонтай. Чувствуя
поддержку со стороны матросских масс, Дыбенко решил открыто
противостоять Ленину. О секретном переезде правительства в
Москву он случайно узнал у коменданта Смольного матроса П.Д.
Малькова. Возмущенный тем, что в охрану правительственного
поезда взяли латышей, а не революционных матросов, Дыбенко
направил секретный отряд под руководством
И. Кожина,
состоявший из «остатков» «Северного летучего морского отряда»
и 2-го Балтийского экипажа. Эта компания «охранников» устроила
даже перестрелку с латышами на Московском вокзале, погибли
несколько матросов. Затем моряки захватили эшелон и нагнали
секретный литерный поезд с правительством в Малой Вишере.
Там они потребовали, чтобы председатель СНК лично объяснил,
что происходит, но вместо Ленина в диалог вступил В.Д. БончБруевич,
сопровождаемый
матросом-большевиком
В.
Цыганковым. Бонч-Бруевич объяснил, что товарищ Ленин занят,
но дарит матросам цистерну спирта. Матросы отцепили цистерну
и отправились отмечать свои достижения. Когда они сообразили,
что обмануты, СНК и ЦК уже были в Москве. «Секретный
матросский отряд» кинулся в Москву и потребовал признания их
революционных заслуг. Дыбенко из Петрограда переименовал
отряд в «Береговой морской отряд при Народном комиссариате по
морским делам». Ленин же провел специальное заседание СНК, на
котором Дыбенко был обвинен в анархизме, пьянстве и
дезертирстве. Было решено сместить Дыбенко с должности,
задержать (секретно) и переправить в Москву. В сопровождении
47 личных телохранителей и отряда Павлова в 1000 матросов
разжалованный нарком прибывает в Москву [26, с. 210-213; 27].
14-16 марта 1918 г., когда на IV-м Чрезвычайном съезде Советов
обсуждалась ратификация мирного договора, Дыбенко и
Коллонтай выступили против, но итогом их демарша стало снятие
Коллонтай со всех постов. Л.Д. Троцкий и Ф.Ф. Раскольников
80
высказались за арест Дыбенко. Силового задержания бывшего
наркома не произошло потому, что у Дыбенко была своя личная
гвардия. 17 марта Дыбенко выступил перед матросами своего
отряда и всех матросских отрядов в Москве, и те заявили о своей
поддержке. Но тут Крыленко ухитрился заманить Дыбенко в
Кремль и закрыл последнего на несколько дней в подвале.
Матросам сообщают, что вожак скрылся. Матросы угрожают
открыть огонь по Кремлю и большевикам, если их вожак не будет
освобожден в 48 часов. На подмогу в Москву самовольно
движутся несколько отрядов с Северного фронта (их удалось
развернуть только в Бологом). Против назначения новым морским
наркомом Троцкого выступают Балтийский и Черноморский флот;
с Украины Железняков обещает прислать анархистов, если
Дыбенко не освободят [20, с.213].
Назревал матросский мятеж, и большевикам пришлось выпустить
П.Е. Дыбенко. На суд он не явился, скрылся из Москвы и
объявился сначала в Орле, у брата, а затем в Самаре, и Коллонтай
вместе с ним. Они довольно агрессивно агитируют против
мирного договора и большевиков, Коллонтай даже съездила в
Петроград
распропагандировать
матросов
в
поддержку
«Самарской республики», неофициальным лидером которой
становится Дыбенко. Дыбенко по телеграфу пытается
шантажировать
лидеров
большевистской
партии,
грозя
разоблачить историю с «немецкими деньгами» и требуя отказаться
от суда. В итоге он все же был доставлен в Москву, где суд
признал его невиновным [6, с. 175-176, 21].
Очевидно, что политический статус матросских масс и их
руководителя был далеко не так однозначен, как представляла
официальная
советская
историография.
Сложность
взаимоотношений большевистского руководства и балтийских
моряков связана с новой для российской реальности позицией
флота. Как правило, политические выступления флота, имеющего
монополию на мощнейшее оружие, организуются командным
составом, и лишь в исключительных случаях активную роль
начинают играть матросы. Их политической активности
препятствует ряд факторов: строгая дисциплина на кораблях;
короткие сроки службы, из-за чего призванные матросы не
81
успевают осознать и сформулировать свои политические цели и
интересы;
национальные,
культурные,
конфессиональные
различия;
молодость
и
небольшой
жизненный
опыт
военнослужащих срочной службы также не позволяют понять
политические интересы своей социальной группы.
Исключительной ситуацией, в которой матросские массы
становятся активным политическим фактором, становится общая
политизация общества в результате длительных войн, когда по
призыву на флот мобилизованы мужчины зрелого возраста,
имеющие жизненный опыт и способные осознавать социальнополитические интересы своего класса или социальной группы.
Моряки оказались проникнуты стихийно-демократическими
настроениями,
стали
символами
идеи
революционной
добровольческой армии. «Рост и упадок политического влияния
матросов представлял собой характерный пример развития
революционного процесса» [13, с. 345].
Внимательный анализ событий, произошедших в отношениях
балтийских моряков и большевистского руководства в течение
1917-1918 гг., позволяет сделать вывод: Балтийский флот
представлял вооруженную силу революционного типа, но
стремился стать силой политической. Этого большевики
допустить никак не могли, и попытались сохранить образ
революционной силы, реально направляя развитие флота в
сторону силовой структуры традиционного типа.
Литература
1. Антонов-Овсеенко В. Октябрьская буря// Октябрьское
вооруженное восстание в Петрограде. Воспоминания активных
участников революции. Л., Лениздат, 1956.
2. Бонч-Бруевич В.Д. Переезд Советского правительства из
Петрограда в Москву: (По личным воспоминаниям). - М., 1926.
3. Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть Советам. – М.: Воениздат, 1958
4. Другов Ф.П. Анархисты в русской революции: Октябрьские дни
в Смольном. - Пробуждение, 1932, № 23–27
5. Дыбенко П.Е. Из недр царского флота к Великому Октябрю. –
М.: Воениздат, 1958
6. Жигалов И.М. Дыбенко. - М.: Молодая гвардия, 1983.
82
7. Елизаров М.А. Левый экстремизм на флоте в период Революции
1917 года и гражданской войны (февраль 1917 – март 1921 гг.):
дис. ... доктора ист. наук: 07.00.02. - СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т,
2007. - 577 с.).
8. Ковалева Т.В. Из «разжалованной столицы…» (по материалам
оппозиционной прессы 1918 г.) Новейшая история России /
Modern history of Russia. 2011. №2. С. 35-39.
9. Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. – М.: Политическая
литература, 1989.
10. Ленин В.И. ПСС. Изд. 5. Том 34. С. 390
11. Мальков П.Д. Записки коменданта Кремля. М.: Воениздат,
1987.
12. Млечин Л.М. Коллонтай. – М.: Молодая гвардия, 2013
13. Назаренко К.Б. Балтийский флот в революции 1917-1918 гг. –
М.: Яуза, Эксмо; СПб.: Якорь, 2017
14. Новая жизнь 1918. 6 января
15. Правда. - 1918. - 1 марта.
16. Раскольников Ф.Ф. Потерянный день// Федор Раскольников о
времени и о себе: Воспоминания, письма, документы. – Л.:
Лениздат, 1989
17. РГА ВМФ. Ф.р-95. Оп. 1. Д.144. Л.26
18. РГИА. Ф. 1236. Д.12. Л.26
19. Россия в 1917 году: энциклопедия. – М.: Политическая
энциклопедия, 2017.
20. Садуль Ж. Записки о большевистской революции. - М.: Книга,
1990.
21. Стариков С.В. Дыбенко в Самаре. Весна 1918 года // Вопросы
истории. – 1998. - №4. – С. 146-151
22. Три века Российского флота. В 3-х т. Т.2. – СПб.: Издательство
«LOGOS», 1996.
23. Фельштинский Ю.Г. Большевики и левые эсеры. Октябрь 1917
– июль 1918. Париж, 1985.
24. Ховрин Н.А. Балтийцы идут на штурм. - М.: Воениздат, 1987.
25. Черепанов А.И. Под Псковом и Нарвой (23 февраля 1918). –
М.: Воениздат, 1956
26. Шигин В.В. Расстрельное дело наркома Дыбенко. – М.: Вече,
2017.
83
27. Яковлев В. Маловишерский эпизод (Переезд Совнаркома в
Москву в 1918 г.) // Красная летопись. – 1934. - №1(58). – С.94-103
СЕКЦИЯ 1
ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ РОССИИИ И
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 1917 года.
Абезгауз С.А., Алымов Ю.В.
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНТАГОНИЗМ МЕЖДУ КАЗАКАМИ И
КРЕСТЬЯНАМИ НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО
ВОЙСКА В 1917 г.
Особенностью развития Российской империи как
государства было существование таких административнотерриториальных образований как казачьи области. Включаемые в
состав России земли заселялись казаками, для защиты рубежей. По
мере освоения этих земель и расширения границ казачество
утрачивало свое значение защитников, переходя в разряд
регулярных частей армии. Но при этом, казачьи области сохраняли
свое
военно-административное
управление,
становясь
определенным
анахронизмом
в
повседневной
жизни.
Экономические выгоды проживания на слабозаселенных землях
приводили к тому, что в казачьи области переезжали крестьяне,
ремесленники, торговцы, формируя категорию «иногородних»
жителей, ограниченных в правах землепользования и
самоуправления, и зависимых от казачьих административных
структур.
Русская революция, как предполагалось, должна была
решить все те проблемы, с решением которых запоздало
монархическое правительство, в том числе и вопросы равенства
гражданских прав между казаками и «иногородними». В
реальности же все происходило с точностью до наоборот.
84
Казачество приветствовало падение монархии, видя в этом
возможность избавиться от тягот многолетней и разорительной
для казачьего хозяйства военной службы. При этом казаки хотели
расширения функций самоуправления, вплоть до автономии, и
сохранения привилегий землепользования. «Иногороднее»
население казачьих областей ожидало от революционных событий
установления экономического и административного равноправия.
Разрушение устоявшегося государственного строя и слабость
Временного правительства привели к усилению противоречий
внутреннего конфликта между казаками и крестьянами, став одной
из причин Гражданской войны.
Основной целью данной статьи является исследование
указанного антагонизма на примере событий Уральского казачьего
войска в 1917 г. и рассмотрение роли земельно-административного
фактора как основу его генезиса.
В 1917 г. земля Уральского казачьего войска входила в
состав Уральской области, образованной в 1868 г. в ходе
присоединения и освоения Средней Азии. До конца XIX в. на
территории Уральской области, кроме кочевых казахских племен,
жили преимущественно уральские казаки. В 1891 г. Уральская
область была включена в район переселений по закону от 1889 г.
«Правила о переселении сельских обывателей и мещан на
казенные земли». Из 287004 кв. верст общей площади Уральской
области земли уральских казаков занимали пространство в 62067
кв. верст на правах нераздельного общинного владения,
оставшиеся 224937 кв. верст, являясь государственной
собственностью,
были
предоставлены
в
общественное
пользование кочевых и полукочевых казахов (до 1925 г.
называемых киргизами) и крестьян-переселенцев [4. С.1].
Население области на 1 января 1916 г. составляло 166365 человек
казачьего сословия и 123747 человек иных сословий,
проживавших на казачьей территории, на государственных землях
проживало 481911 казахов (до 1925 г. называемых киргизами) и
80650 крестьян-переселенцев[3. С.3].
Февральская революция стала катализатором широкого
общественного движения в Уральской области. Уральское
казачество первым проявило активность как наиболее
85
организованная группа. В марте 1917 г. прошел Экстренный съезд
выборных от станиц, по вопросу казачьего самоуправления. Такой
же важной проблемой, был вопрос о самоуправлении
иногороднего населения. В статье местной газеты, адресованной
предстоящим задачам съезда, утверждалось: «Невозможно
допустить, чтобы живущие в войске 128 тысяч граждан были
лишены своих прав, только потому, что они живут не на своей, а
на казачьей земле. Съезд с честью вышел бы из затруднения, если
бы определенно заявил, что прежние его взгляды на «мужика», как
на существо низшее, теперь уже не могут иметь места»[6. 1917. 19
марта]. Съезд принял предварительный «Проект положения об
общественном управлении в Яицком казачьем войске». Участие
иногороднего населения в казачьих органах самоуправления в
данном проекте не рассматривалось.
В мае 1917 г. прошел Съезд выборных по вопросам
самоуправления. В статье, освещавшей работу Съезда, депутат
Уральской станицы рассматривал наиболее острые вопросы
казачьей жизни. «Встает перед Съездом и еще один крайне острый
вопрос, о праве казаков на дальнейшее свободное пользование
своими угодьями». С еще большей осторожностью автор
предлагал подходить к вопросу взаимоотношений с иногородним
населением. «Было бы нелепо доказывать, что мы можем лишить
кого-либо прав на самоуправление, только потому, что люди
живут на нашей территории». Характеризуя определенные
настроения некоторых депутатов Съезда, автор писал: «Они попрежнему делят весь свет на «казаков» и «мужиков», и
воображают, что чем лучше «прижать» мужиков, чем больше
запросить с них теперь, тем лучше будет жить казакам»[7. 1917. 18
мая].
На первом заседании Съезда делегат от фронта сообщил о
постановлении, принятом дивизионным кругом Уральской
казачьей дивизии, под влиянием слухов, характеризующих
определенные настроения казаков: «Говорили, что твердой власти
в войске нет, (…) во всех станицах и поселках возникли комитеты
с преобладающим числом иногородних и киргиз; эти комитеты
решают войсковые дела, (…) крестьяне захватывают казачьи
земли». Постановлением дивизионного круга было решено: «В
86
случае если Исполнительный комитет откажется передать полноту
своей власти Съезду Выборных – использовать все мирные
средства для достижения поставленной цели … В случае же
безуспешности всех мирных средств с оружием в руках отстаивать
право быть хозяином в своей земле»[7. 1917. 7 мая].
Съезд выборных принял в новой редакции «Общие положения о
самоуправлении». Главные пункты проекта утверждали, что
казаки являются собственниками общинного имущества, земель,
вод, недр и всех угодий; высшим органом самоуправления
является Войсковой Съезд; в решении вопросов по распоряжению
войсковым достоянием участвуют только депутаты-казаки от
станиц; в решении общих вопросов самоуправления участвуют
представители остальных групп населения пропорционально их
численности по отношению к казачьему населению [5. 1917. 30
мая].
Иногороднее население г. Уральска, в основном
политически активные рабочие и часть интеллигенции, летом 1917
г. образовали Совет крестьянских и иногородних депутатов[7.
1917. 9 июля]. В данной организации различные группы населения
преследовали свои интересы. Крестьяне-переселенцы были
собственниками земли и хотели получить доступ к пользованию
речными угодьями, принадлежавшими казачьей общине.
Иногороднее население войсковой территории, проживавшее в
основном в городах на казачьей территории области, хотело
реализации прав самоуправления, независимости от казачьего
Войскового правления.
Отношения между казаками и иногородними осложняло
то, что, административный центр области г. Уральск
одновременно был столицей Уральского казачьего войска и
находился на войсковой территории, но казаки составляли
меньшинство городского населения, в 1913 г. из 46789 человек
общего населения г. Уральска казаков было 13321 человек[1. С.
19]. Финансирование нужд города происходило из войскового
капитала. Войсковой съезд поручил Войсковому правлению
разработать проект городового положения, «чтобы прекратить
трату войсковых денег на городские нужды». Опасения казаков по
поводу введения городового положения были вызваны возможной
87
необходимостью передачи городу войсковых земель, и страхом,
что «городом завладеют иногородние»[7. 1917. 2 июля].
Несмотря
на
революционные
преобразования
«иногороднее» население войсковой территории не получило
реальной возможности участвовать в работе казачьих органов
самоуправления, хотя и выплачивало налоги, «всецело идущие на
нужды казачьего войска». Совет крестьянских и иногородних
депутатов считал необходимым положения о земском и городском
самоуправлении,
принятые
Временным
правительством
реализовать на казачьей земле.
Происходившие в стране революционные процессы были
непонятны для рядовой казачьей массы: «Для большинства
совершенно безразлично, каков будет строй нашего государства –
демократический или монархический». Среди простых казаков
сложилось устойчивое убеждение, что понятие «свободный
гражданин» уравнивает казака с мужиком, «причем высказывают
серьезные опасения, что вслед за этим последует уравнение их и с
киргизами»[7. 1917. 23 июля]. Главным и небезосновательным
страхом казачества было мнение что, «земельку то отнимут» »[7.
1917. 2 ноября].
Ситуацию в стране и области изменил Октябрьский
переворот. К концу 1917 г. власть большевиков была установлена
на большей части территории России. Войсковое правительство
Уральского казачьего войска приняло решение о соблюдении
нейтралитета. Собравшийся в январе 1918 г. Войсковой Съезд
пытался найти способ установить контакты с центральной властью
Совнаркома и решить конфликтные вопросы управления
Уральским войском и Уральской областью. На заседании 5
февраля 1918 г. Войсковой Съезд постановил образовать
комиссию из представителей всех групп населения для разработки
условий организации общеобластного органа власти, а также
направить делегацию в Петроград «для выяснения задач и
направления Советской власти»[5. 1918. 7 (20) февраля.].
Параллельно действиям Войскового съезда, по инициативе
Совета крестьянских и иногородних депутатов в феврале 1918 г. в
г. Уральске собрался съезд, официально объявленный как «1-й
съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Участники
88
съезда объявили о признании власти СНК и образовали областной
Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Чтобы
сохранить мирную жизнь в области Войсковой съезд предложил
новообразованному Совету «совместную работу по устройству
жизни в крае, соблюдая позицию нейтралитета»[7. 21 (08)
февраля.]. Совет передал ответное заявление о том, что совместная
работа возможна только в случае признания Войсковым
правительством власти СНК.
Не пользуясь поддержкой населения и не имея реальной
силы для установления власти, Уральский Совет обратился за
помощью к Советам соседних областей. Для переговоров с
Войсковым правительством прибыл член Саратовского Совета.
Совместно с членами Уральского Совета он предъявил
ультиматум, основными пунктами которого были: признание
Уральского Совета органом власти и подчинение назначенным
комиссарам; полное невмешательство Войскового правительства в
распоряжения Совета, передача Совету контроля над банком,
почтой и телеграфом; сдача оружия Совету[7. 1918. 3 марта (18
февраля)].
В ответ на эти требования Войсковое правительство
ответило, что «необходимо создать демократический орган власти
с участием всех слоев населения, а не отдавать власть
самопровозглашенному Совету»[7. 1918. 7 марта (22 февраля)].
Эти предложения не могли удовлетворить членов Совета. Лидеры
Уральского Совета выехали в г. Саратов, где обратились за
помощью в установлении Советской власти к Саратовскому
Совету, потому что, «Уральский Совет не пользуется авторитетом
в городе»[7. 1918. 10 марта (25 февраля)].
Деятели Уральского Совета, по мнению современника
казака, «много содействовали началу военных действий. Их
злостная агитация, полная инсинуаций по адресу казачьей власти,
была одной из причин вскоре разгоревшейся войны»[2. С.3]. После
захвата оренбургским красногвардейским отрядом уездного
центра г. Илецка Уральской области Уральский Совет
воспринимался как группа людей, стремящихся к захвату власти,
не имея на то законных оснований. В марте 1918 г. члены
Уральского Совета были арестованы.
89
Таким образом, революционная ситуация только усилила
социально-сословный конфликт между казаками и другой частью
населения, что в свою очередь привело к трагедии Гражданской
войны и уничтожению практически целого края.
Литература
1. Данилевский К.В., Рудницкий Е.В. Урало-Каспийский край.
Уральск, 1927.
2. Коновалов Е.Д. Уральцы. За полтора года борьбы. Омск, 1919.
3. Обзор Уральской области за 1915 г. Уральск, 1916.
4. Памятная книжка Уральской области на 1915 г. Уральск. 1915.
5. Уралец. Уральск, 1917 – 1918.
6. Уральские войсковые ведомости. Уральск, 1917 – 1918.
7. Яицкая воля. Уральск, 1917 – 1918.
Бубнова Я.В., Вокуев А.М.
Основные причины свершения октябрьской революции в
Крыму
Данная статья основана на документальных данных Михаила
Бунегина, который дал своё определение революции, как борьбу
новых форм, которые готовились всей историей развития
общества, со старым режимом [1,5].
Крымский полуостров всегда был богат рекреационными,
природными, сельскохозяйственными ресурсами, это морской
оплот нашего государства. В статье авторы, рассматривают
основные причины октябрьского переворота в Крыму. Михаил
Бунегин, так описывал физико-географические особенности
Крымского полуострова. Крым в географическом отношении
полуостров, соединённый на северо-западе узкой полосой суши с
материком, в остальном же на протяжении около 800 вёрст
окружённый морем, которое давно служило дорогой,
соединяющей восточную и часть средней Европы с Малой Азией,
Африкой и другими странами [1,7].
90
Со второй четверти ХIХ века Крым входил в состав Таврической
губернии. Весь полуостров был разделён на 3 градоначальства и 5
уездов. Средний процент городского населения в России равнялся
16,7%, то в Крыму на долю городского населения приходилось
49,2%.
Население
Крыма
многонационально.
Многонациональность Крыма создавалась на протяжении всей
истории жизни полуострова за последние несколько сотен лет.
Сначала населяли Крым греки, татары, пришедшие после
присоединения Крыма к России в ХVIIIи ХIХ веках немцы,
эстонцы, чехи [1,8]. Всего в Крыму к началу ХХ века
насчитывалось 22 национальности, в основном русские (в том
числе украинцы и белорусы) и татары, после по численности шли
евреи, немцы, армяне, греки, болгары и др.
В начале ХХ века, татар стали вытеснять с плодородных земель
помещики, в итоге татары сокращали численность скота и были
вынуждены уходить в горные и предгорные районы. В это время
земли не только покупал банк, крупный землевладелец, но и
перекупщики, спекулирующие на повышении цен. Например, в
1899 году десятина земли стоила 121,3 рубля, а в 1914 году она
уже стоила 233 рубля. Земли в основном продавали крестьяне с
1905 года. Крестьяне продавали землю надельную по цене 100
рублей за десятину, крупные владельцы продавали уже по 200
рублей [1,9-10]. Безземельное крестьянство вынуждено было брать
землю у помещика на правах аренды. Арендная плата за десятину
в год была весьма высока и создавала такое положение, когда
крестьянин не мог пользоваться плодами своего труда, оставаясь
полуголодным, он отдавал всё за аренду и в налог. Сельское
хозяйство, при наличии большого внутреннего городского,
курортного рынка и внешнего рынка Центральной России,
являлись потребителями продуктов сельских хозяйств (продукты
садоводства, табаководства, виноградарства), поэтому земли в
Крыму всегда стоили дорого и ценились плодородием почв [1,12].
Крестьянин-бедняк был вдвойне обездолен, с одной стороны,
помещик, владелец арендуемой ими земли, с другой стороны,
купец, скупщик, пользующийся затруднительным положением
крестьян и скупающий продукты его труда за бесценок [1,13].
Поэтому против землевладельцев, купцов, шла борьба крестьян, в
91
деревне начиная с октября 1917 года, в это время существенно
стал сокращаться посев сельскохозяйственных культур по
сравнению с 1914 годом (снижение было до 1921 года). Сбор
хлебов за 1917 год снизился ещё больше [1,13].
Следующей причиной революционных волнений можно считать
постоянное повышение цен на продукты с 1914 по 1917 гг.
Начиная с 1905 года в Керчи, Севастополе, Феодосии,
Симферополе образовались социал-демократические группы,
которые плохо были организованы, но они выступали, как и
крестьяне против повышения цен на продукты, ухудшение
экономической жизни Крыма. Они выступали с рядом
экономических требований, иногда подкрепляя их забастовками.
Забастовки были в Симферополе, где наиболее активной и
революционной группой были рабочие завода Анатра, а также в
Феодосии и Севастополе, рост цен приведён ниже в таблице
1[1,23].
Таблица1. Рост цен на продукты питания, обувь и материал
Название товаров
Цена
в
начале Цена в 1917 году
войны
Хлеб
3-4 коп., фунт
11 коп., фунт
Мясо
18-22 коп., фунт
65-75 коп., фунт
Баранина
20 коп., фунт
90 коп., фунт
Масло подсолнечное
15 коп., фунт
50-54 коп., фунт
Масло коровье
40-50 коп., фунт 2-2,4 руб., фунт
Картофель
Пшено
Молоко
Яйца
Ботинки
Материал (ситец)
30-40 коп., пуд
5 коп., фунт
12 коп., кварта
23-30 коп., десяток
4-8 руб., пара
16-18 коп.
3,2-4 руб., пуд
16 коп., фунт
50-60 коп., кварта
1,20 руб., десяток
30-50 руб., пара
48-50 коп.
Нужно отметить, что на предприятиях в Крыму, как и в других
районах, было очень много военнопленных и укрывавшихся от
мобилизации на фронт русских. На Керченском заводе
92
военнопленных было больше 200 человек, все они не
поддерживали революционеров до октября 1917 года, иначе их
могли уволить с завода, работали они по 10-11 часов в день [1,24].
Наиболее активной военной группой, в которой были
революционно настроены, считались запасные различных полков.
Их настроения беспокоили местную власть, они были готовы к
забастовкам и иным протестам.
В Крыму к осени 1917 года было очень много беженцев из
местностей, занятых австро-германскими военными частями.
Беженцы не редко голодали, работу они не могли найти, пособие,
выдаваемое им, было настолько мизерным, что не позволяло
только умереть (пособие в 20 копеек в день). Пособие часто не
выплачивали вовремя (один месяц и более). Только в
Симферопольском уезде беженцев было 2706 человек, в Феодосии
1770 человек. Своим присутствием, голодовками, рассказами об
ужасах войны, заставляли некоторых задуматься над вопросом о
цели войны и её жертвах [1,25]. Остальное население выражало
своё недовольство войной в формах, при которых власти
надеялись на мирный исход.
Согласно Манифесту Коммунистической партии: «История всего
предшествующего общества есть история борьбы классов.
Угнетатели и угнетаемые находились в постоянной вражде друг с
другом, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, которая
каждый раз кончалась революционным переустройством всего
общества или совместной гибелью борющихся классов» [2].
В начале октября 1917 года в Крыму начались массовые
беспорядки, в основном совершённые солдатами. Так, 12 октября
1917 года в Феодосии, группа солдат 10 роты местного пехотного
полка, разгромила погреба виноградных вин, к обеду к ним
присоединились солдаты других рот, разграбив 5 частных квартир
смежных дач, разгул солдат приостановили к обеду следующего
дня [1,74]. Комитетом по охране порядка в целях предупреждения
было уничтожено вино во всех крупных городских складах. Кроме
этого события, в отдельных уездах участились убийства с целью
грабежа. Группы лиц, одетых в солдатскую форму, являлись в
имения землевладельцев, помещиков и под видом обыска
отбирали ценности [1,75]. Власти были бессильны, продумывали
93
программы по сдерживанию солдат и наведения порядка во всех
городах.
В городской Думе города Севастополя 27 октября заявили, что
Севастополь исключительно важен для страны и Крымского
побережья, поэтому необходимо: 1) устраниться от гражданской
войны и сохранить флот и безопасность побережья, 2) высказаться
против захвата власти меньшинством, проголосовать за власть
съезда советов, который передаст её учредительному собранию
[1,79-80]. В отдельных местах советы приступили к отобранию
помещичьей земли. Старо-крымский комитет обложил земли
нескольких землепользователей налогом.
В
первые
дни
революционного
переворота,
матросы
Черноморского флота, сняли с кораблей старые флаги, сразу
повесили красные. Севастопольский комитет большевиков
организовал на судах митинги, на которых единогласно
выносилось решение о передачи власти советам. Руководство
флотом в итоге перешло к большевикам. В некоторых городах
Крыма после октябрьского переворота, солдат стали массово
высылать на фронт, чтобы не допускать погромы.
Известия об октябрьском перевороте достигли Крыма на
следующий день. Утром 26 октября в Севастополе было созвано
расширенное заседание исполкома совета при участии
представителей профсоюзов, завкомов, корабельных и солдатских
комитетов и городской думы. Тем временем Центральный комитет
Черноморского флота организовал демонстрацию в поддержку
свершившейся
революции.
Прервав
заседание,
эсероменьшевистский исполком принял весьма неожиданное решение о
взятии власти в свои руки. Командующий Черноморским флотом
контр-адмирал А.В. Немитц, опасаясь осложнений, приказал
поддержать власть советов. (Он же отдал 30 октября приказ о
сдаче всего огнестрельного оружия, которому матросы, не
подчинились.) ЦК ЧФ обратился с приветствием к
Петроградскому
военно-революционному
комитету.
В
революционный центр была послана телеграмма: «Петроград.
Петроградскому Совету, Всероссийскому съезду Советов
(проходившему в столице 25-26 октября). Приветствуем победную
революцию. Власть советом взята. Ждём дальнейших
94
распоряжений. Севастополь» [3]. Физическое уничтожение
неугодных режиму началось сразу же после октябрьского
переворота, постепенно приобретая все больший размах. Так, 6
ноября 1917 г. в Морском собрании Севастополя открылся 1-й
Общечерноморский съезд, итогом которого стало упрочение
позиций большевиков и принятие резолюции о формировании и
последующей отправке на Дон для борьбы с атаманом А.М.
Калединым отряда вооруженных матросов численностью 2500
человек [3].В 1917 году Крыму суждено было первым открыть
мрачную страницу террора. Именно здесь, задолго до придания
массовым убийствам «врагов революции» официального статуса,
были замучены сотни ни в чем не повинных людей. На этом
событии наше исследование заканчивается, слишком затянулись
военный действия в первую Мировую войну, нехватка продуктов
питания, снабжения, спекуляции с землёй и другими природными
ресурсами повлекли недовольство царской властью и
спровоцировали революционный переворот в России.
Литература
1.
Бунегин М.Ф. Революция и гражданская война в Крыму
(1917-1920 гг.). - Крымгосиздат, 1927.
2.
Маркс К., Энгельс Ф. Коммунистический манифест. ГИЗ,
1923.
3.
Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Октябрьский переворот 1917
года – отзвуки в Крыму. Начало террора и первые вооружённые
столкновения // Историческое наследие Крыма. 2006; №15.
Будашевский Г.В.
История отношений России и Финляндии в первой половине
ХХ века
Первая мировая война оказала огромное воздействие на
мировую историю. Одним из ее последствий стал распад
многонациональных империй и возникновение новых государств.
Одним из таких государств является Финляндия, которая
провозгласила свою независимость в последний период войны.
95
Многие историки считали, что выходу Финляндии из состава
великой империи, поспособствовали внешние силы.Политика
отделения части территории
с целью создания нового
самостоятельного государства, использование малых народов в
политике великих держав и проблема внешнеполитических
факторов в обретении независимости каким-либо государством
всегда является актуальной. На примере обретения Финляндией
независимости можно проследить, как складывались отношения
между российской властью и ее регионом в переломный момент
истории, а так же увидеть какое влияние оказывали на эти
отношения другие мировые державы [1,л.3].
В 1809 году по Фридрихсгамскому мирному договору,
завершившему последнюю русско-шведскую войну, Россия
присоединила к себе всю территорию Финляндии. За 100
снебольшим лет пребывания в составе Российской империи из
бывшей шведской провинции Финляндия стараниями российских
монархов фактически превратилась в автономное государство со
всеми присущими ему атрибутами. Великое княжество
Финляндское получило собственные органы власти, денежную
единицу, свою армию, почту, таможню. Государственным языком
оставался шведский, а с 1863 года такой же статус приобрёл и
финский язык. Все посты в администрации, за исключением
должности генерал-губернатора, занимали местные уроженцы.
Собранные
в
Великом
Княжестве
налоги
тратились
исключительно на нужды края. Власти империи старались не
вмешиваться в финляндские дела. Как образно заметил в 1880-е
годы один из депутатов народной партии Швеции: «Маленький
финский лев, попав на широкую грудь русского орла, так окреп и
вырос, что мы, оставившие его вам в виде хилого львёнка, не
узнаём нашего бывшего вассала».
Никакой политики русификации вплоть до начала XX века не
наблюдалось. Миграция в Великое Княжество русского населения
была фактически запрещена. Более того, проживавшие в
Финляндии русские находились в неравноправном положении по
сравнению с коренными жителями. Таким образом, жаловаться на
национальное угнетение в «тюрьме народов» финнам никак не
следует. В довершение всего, 11 (23) декабря 1811 года в состав
96
Великого Княжества была передана Выборгская губерния,
включавшая в себя земли, отошедшие к России по мирным
договорам 1721 и 1743 годов. В результате административная
граница Финляндии вплотную придвинулась к Петербургу[2].
В августе 1914 г. началась война, которую во всей Европе
сразу же назвали Великой или мировой. Ни финскому, ни
русскому народу война была не нужна. У России не было
территориальных претензий к Германии и Австро-Венгрии. Да и в
случае победы в войне присоединение любых территорий из этих
двух монархий к России принесло бы ей только вред, усилив
сепаратистские тенденции. Любопытно, что и враги, и союзники
России в случае своей победы планировали расчленить
Российскую империю, лишив ее Привисленского края,
Финляндии, Прибалтики, а если повезет, то Украины и Кавказа.
Другой вопрос, что правительства стран Антанты не афишировали
свои намерения, и финские националисты обратили свои взоры на
Германию[3,с.21-22].
Война
продиктовала
необходимость
ужесточения
государственного
контроля
над
экспортно-импортными
операциями торговых кампаний и деятельностью банков. За годы
Первой мировой войны возросло количество ведомств, от решения
и действий которых зависело функционирование системы
торговли Петрограда и северо-западной территории Российской
империи. Свою точку зрения на некоторые экспортные операции
высказывал, например, штаб Северного фронта, даже
принимавший определенные шаги, целью которых было
воспрепятствование проведению тех или иных торговых операций.
Предпринимаемые штабом фронта меры были тогда во многом
обусловлены появлением слухов, что часть транспортируемых
грузов идет транзитом через Финляндию в Германию. Так, в
начале января 1916г. начальник штаба Северного фронта М.Д.
Бонч-Бруевич направил генерал-губернатору Финляндии Ф.-А.А.
Зейну письмо, в котором утверждалось, что в некоторых частях
Великого Княжества специально устраиваются запасы зерна в
целях подготовки поддерживаемого Германией восстания против
России. Подозрительность штаба Северного фронта вызывали в
начале 1917 г. даже безобидные на глаз обывателя поставки семя
97
клевера в Данию, так как считалось, что из Датского королевства
они якобы попадали в Германию, где из них вырабатывались
«удушливые газы». Это дело породило оживленную переписку
нескольких министерств; в итоге через несколько месяцев
военным пришлось пойти на попятный[4,с.201].
Определенную роль в радикализации национальных
стремлений финляндцев сыграл фактор усиления германского
военного присутствия в Балтийском регионе. 23 апреля 1917 г. на
совещании в Крейцнахе германское Верховное командование
обещало финским «активистам» поставки оружия. В мае 1917г.
германская подводная лодка «UC 78» доставила в княжество
первую партию оружия. С лета 1917 г. увеличилось количество
финских егерей, отправляемых в Финляндию с целью создания
там местных военизированных формирований шюцкоров,
официально призванных поддерживать внутренний порядок в
крае[5, с.488-489].
Внутренняя
обстановка
в
Финляндии
отличалась
нестабильностью. В стране находились гарнизоны старой русской
армии. Местные левые социал-демократы организовали
красногвардейские отряды. В Гельсингфорсе (ныне Хельсинки)
стояли корабли революционизированного Балтийского флота.
Финское правительство после провозглашения независимости 6
декабря
1917 г. своих вооруженных сил не имело, и
поручило их создать барону Карлу Густаву Эмилю Маннергейму,
шведу по национальности, генерал-лейтенанту царской армии,
командовавшему на Румынском фронте кавалерийским корпусом.
Он, являясь открытым противником революции в России
и
«красных» в Финляндии, стал формировать «белую» армию. В ее
основу вошли военнослужащие созданного немецким генералом
Людендорфом в 1916 году 27-го прусского егерского батальона, в
котором служили финские эмигранты, пожелавшие сражаться в
Первой мировой войне на стороне Германии.Они образовали
костяк национальной гвардии, которая пополнялась и за счет
местных «белых» [6,138-139].
Бои разгорелись повсеместно. Но гражданская война не давала
преимущества ни той, ни другой стороне. Все резко изменилось
после того, как в Финляндии началась немецкая интервенция.
98
Экспедиционный корпус под командованием генерала фон дер
Гольца, до этого действовавший против советских войск в Латвии,
произвел неожиданную и беспрепятственную высадку с моря в
порту Ханко(по-русски Гангут) на одноименном полуострове в
тылу у «красных». Финская Красная гвардия попыталась
остановить германские войска численностью в 10 тысяч человек
на полпути к столице, но безуспешно, поскольку силы оказались
неравными. 18 апреля немцы захватили Гельсингфорс. В
результате этой операции территория Финляндии, удерживаемая
красногвардейскими войсками, оказалась как бы разрезанной
надвое. В этой ситуации генерал Маннергейм показал качества
хорошего тактика. Его быстро растущие численно отряды
устремились на восток и 19 апреля отрезали от Советской России
Карельский перешеек. Тогда сражающаяся финская Красная
гвардия и русские части попытались прорваться близко от
Выборга к Петрограду, но неудачно. К середине мая 1918 года
гражданская война в Финляндии фактически закончилась на всей
территории страны [6, 139].
Уже с марта 1918 года, в ходе Гражданской войны в Финляндии,
белофинские войска, преследуя противника (финских «красных»),
пересекали российско-финляндскую границу и вторгались в
Восточную Карелию. Официально война Советской России была
объявлена буржуазным правительством Финляндии 15 мая 1918
года после разгрома Финляндской Социалистической Рабочей
Республики. Первая советско-финская война рассматривается как
часть Гражданской войны в России и Иностранной военной
интервенции на севере России.Завершилась 14 октября 1920 года
подписанием Тартуского мирного договора между РСФСР и
Финляндией, зафиксировавшего ряд территориальных уступок со
стороны
Советской
России[7].
Договор
установил
государственную границу между странами, причём на севере
Финляндии был передан Печенгский край и часть полуострова
Рыбачий (так называемый Печенгский коридор), при этом за
Россией сохранилось право транзита через эту территорию, а за
финскими судами — право прохода по Неве. Часть приграничных
территорий, примыкавших к Баренцеву морю, Ладожскому озеру и
Финскому заливу, были объявлены демилитаризованной
99
зоной.Однако 6 ноября 1921 года финские войска снова вторглись
в восточную Карелию и захватывают часть её территории до
линии Кестеньга — Суомусалами — Ругозеро — Паданы —
Поросозеро. Только к середине февраля 1922 года восточная
Карелия были полностью освобождена от финских войск[2].
Ввиду того, что Германия в военном и политическом отношении
серьезно повлияла на становление государственной независимости
Финляндии, именно ее в руководстве страны начали
рассматривать
как
главного
партнера
Финляндии
и
сотрудничество с ней выходило на первый уровень по всем
направлениям, включая и развитие контактов в области культуры.
Несмотря на возникавшие в конце 1930-х гг. проблемы в финсконемецких отношениях, германская культура продолжала прочно
удерживать одну из наиболее влиятельных позиций в финском
обществе. В тоже время отношения между Финляндией и СССР в
период между двумя мировыми войнами оставались холодными и
напряжёнными[8, с.21,39]. Однако пока в Европе царил мир, СССР
предпочитал строить отношения с Финляндией на основе договора
о ненападении 1932 года, срок действия которого истекал в 1945м. Но когда стало ясно, что новая мировая война не за горами,
Советский Союз начал проявлять к Финляндии повышенный
интерес. В апреле 1938 года, через месяц после аншлюса Австрии,
советское правительство захотело обсудить с финнами проблемы
безопасности. СССР предлагал Финляндии допустить на свою
территорию Красную Армию
«для отражения германской
агрессии». В противном случае, пугали сталинские дипломаты,
Советский Союз не станет ждать высадки вермахта на финской
территории, а двинет свои войска навстречу агрессору, превратив
Финляндию в поле боя. Финское правительство, еще в 1935 году
провозгласившее политику нейтралитета, ответило отказом.
Финское руководство опасалось отдать в советские руки контроль
над подступами к столице страны и, главное, не хотело ссориться с
Германией: ведь военные соглашения с СССР могли
спровоцировать Гитлера на агрессию против Финляндии {9, с.910].
23 августа 1939 года СССР и Германия заключили пакт о
ненападении. В секретном протоколе к пакту в сферу советского
100
влияния отошли часть территории Польши, прибалтийские
республики (Литва, Латвия и Эстония) и румынские Бессарабия с
Северной Буковиной, а также Финляндия. Предыстория Зимней
войны 1939-1940 годов началась с дипломатических требований
СССР к правительству соседней страны. Причин для предъявления
таких сталинских требований к Хельсинки оказалось две. Вопервых, советско-финская граница проходила всего в 35 км от
Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга), второго по значению города
и промышленного центра Советского Союза. Чтобы обеспечить
безопасность Ленинграда, советское правительство предложило
Финляндии отодвинуть линию государственной границы на 70 км
вглубь ее территории в обмен на территории в два раза больше по
площади в Карелии. Одновременно Москва потребовала от
Хельсинки ликвидировать свои военно-морские базы на
полуострове Ханко(который с севера запирал вход в Финский
залив) и на Аландских островах. Во-вторых, глава Советского
государства И.В. Сталин предвидел неизбежность войны с
гитлеровской Германией и потому хотел или захватить
Финляндию, или сделать ее просоветской. Советские ультиматумы
были отвергнуты в Хельсинки. Поводом для начала войны стала
провокация на Майнильском перешейке. Из советского орудия по
своей же приграничной территории было произведено несколько
выстрелов. В «провокационном обстреле» обвинили финскую
сторону. 29 ноября 1939 года СССР объявил войну Финляндии. На
следующий день советская авиация произвела бомбардировку
городов Хельсинки и Випури (Выборга), при которой была
потеряна пятая часть бомбардировщиков. Главной надеждой
Финляндии в начавшейся войне была фортификационная линия
обороны на Карельском перешейке, в 32 км от Ленинграда. Ее
протяженность составляла 135 км, глубина обороны – 90 км.
Фланги укрепленной линии упирались в воды Финского залива и
Ладожского озера. Руководил постройкой линии в течение восьми
лет лично Карл Маннергейм, ставший в начале войны во главе
вооруженных
сил
Финляндии.
Поэтому
огромное
фортификационное сооружение было названо его именем. Финны
оказали самое стойкое сопротивление. Все десантные атаки на
юге страны были ими отражены. Только на севере колонна
101
советских войск из состава 14-й армии единственный порт
Финляндии в Баренцевом море Петсамо (древнюю русскую
Печенгу), но дальнейшее ее продвижение на юг было остановлено.
К тому же красноармейцы оказались крайне плохо снабжены
теплым обмундированием и зимней обувью, чего нельзя было
сказать о финских солдатах, одетых «по сезону»[6, 198-202].
Но главные события, как и ожидалось, разворачивались на
«линии Маннергейма». Ее штурм войсками Ленинградского
военного округа (командующий будущий Маршал Советского
Союза К.А. Мерецков) успеха не имел и в конце декабря 1939 г.
был прекращен из-за огромных потерь. Тогда в январе 1940 г. на
границу прибыл С.К. Тимошенко, которому Сталиным была в
самой категорической форме поставлена задача нанести
Финляндии военное поражение. Будущий маршал становится во
главе Северо-Западного фронта. Прибыли новые дивизии,
артиллерийские
резервы,
войска
получили
теплое
обмундирование, лыжи, маскировочные халаты. После длительной
артиллерийской подготовки 13 февраля 1940 г. «линия
Маннергейма» была прорвана возле Суммы. После падения
«линии Маннергейма» и взятия Випури (Выборга) Финляндия
была вынуждена начать мирные переговоры. 12 марта 1940 года в
Москве был подписан мирный договор, по которому Финляндия
уступала СССР Карельский перешеек с городами Выборг и
Сортавала, район города Куолоярви (западнее Кандалакши), часть
полуостровов Рыбачий и Средний в Баренцевом море [6, 203].
В первые дни Великой Отечественной войны Финляндия заявила о
нейтралитете, однако в то же время нарушила свои же
собственные, данные ранее, обязательства и повела враждебные
СССР действия уже с 22 июня 1941 года. Именно 22 июня - в
первый же день Великой Отечественной войны, - Финляндия
провела ремилитаризацию Аландских островов, высадив на них
свои войска, а также блокировала советскую базу на полуострове
Ханко.Финляндия вела согласованные с Германией (например,
наступление на реку Свирь было частью совместного с немцами
плана, и имело конечной целью встречу с немецкими войсками и
замыкание полной блокады Ленинграда) боевые действия в 1941
году. Финские войска пытались перейти линию старой границы
102
1922—1940 годов, и продвинуться далее (непосредственно к
Ленинграду и восточнее - на реку Свирь), однако в напряженных
боях были остановлены на рубеже Карельского укрепрайона и
отброшены от района Свири к линии старой границы. Финны
захватили также некоторые исконно советские территории,
никогда не бывшие финскими (например, - город Петрозаводск, в
котором финны устроили 11 концлагерей). На севере финские
войска (2 дивизии) совместно с немцами проводили наступление
на Мурманск и Кандалакшу. Оба наступления были остановлены
советскими войсками. После этого война перешла в позиционное
противостояние до 1944 года. Финские войска принимали участие
в блокаде Ленинграда, их авиация бомбила "Дорогу жизни" (кроме
того, на Ладожском озере действовала совместная финно-италогерманская флотилия катеров). К июню 1944 года советские
войска подготовили контрнаступление на советско-финском
фронте с целью отбросить финнов от Ленинграда и принудить
Финляндию к выходу из войны. 10 июня 1944 года началась
Выборгско-Петрозаводская операция, 20 июня советские войска
взяли Выборг. 28 июня освободили от финнов Петрозаводск.Еще
до советского контрнаступления, в самом начале (феврале) 1944
года финское правительство пробовало начать переговоры о мире
с СССР через советского посла в Швеции Коллонтай. Однако
тогда финнов не устроили предложенные советские условия. В
августе, после советского наступления, в Финляндии сменилось
правительство, а страна оказалась на грани экономического краха.
Опять были начаты переговоры о мире, и в этот раз финны
приняли советские условия. Боевые действия были прекращены 4
сентября, а 19 сентября в Москве было подписано соглашение о
перемирии. 10 февраля 1947 года Финляндия подписала
Парижский мирный договор. Как страна-союзник нацистской
Германии, участвовавшая в войне против СССР, Великобритании
и других стран антигитлеровской коалиции[14], Финляндия
выплачивала крупную контрибуцию, отказывалась от претензий
на уступленные после Зимней войны территории, а также уступала
СССР территорию Петсамо (ныне Печенга) и острова в Финском
заливе. Дополнительные условия мира подразумевали, что
Финляндия после войны обязуется запретить все профашистские и
103
пронацистские партии, а также снять запрет с деятельности
коммунистических партий. По итогам переговоров СССР
отказался от претензий на полуостров Ханко, где располагалась
военная база и арендовал военную базу в районе Порккала. К 1952
году Финляндия выплатила контрибуцию, а через четыре года
СССР возвратил финнам Порккалу[2].
В связи с изложенным, необходимо отметить особенности
религиозной жизни в Финляндии и на территории Западной
Карелии, северных и северо-восточных районов Ленинградской
области, где в 1941-1944 гг. находились финские оккупационные
войска. Православная Церковь на территории Финляндии, после
отделения этой страны от России, 11 февраля 1921 г. получила
автономию от Московской патриархии. Но 6 июня 1923 г. она
была
принята
с
правами
широкой
автономии
в
Константинопольский
патриархат.Вмежвоенный
период
Финляндская Православная Церковь значительно окрепла и
выросла численно – с 55 000 верующих в 1920 г. до 81 000, в том
числе 65 000 финнов, в 1940 г. Она состояла из 2 епархий –
Карельской (16 приходов) и Выборгской (13 приходов),
окормляемых 50 священниками, и имела 4 монастыря –
Валаамский (200 монахов), Коневецкий (20 монахов), Печенгский
(17 монахов) и женский в Линтуле (34 насельницы). Резиденция
главы Церкви – архиепископа Германа (Аава) находилась в
Сортавале, там же размещалась духовная семинария. После
Советско-финской войны 1939-1940 гг., когда юго-восточные
районы Финляндии отошли к СССР и 55 000 православных
финнов были вынуждены эвакуироваться в глубь страны, 3
монастыря из 4-х оказались утрачены, их насельники также
эвакуировались. Духовная семинария переехала в Хельсинки, а
архиепископ в Куопио[10, с.129-130].
В первые месяцы Великой Отечественной войны, когда
финские войска заняли часть Карелии и Ленинградской области,
архиепископ Герман вернулся в Сортавалу и приступил к
осуществлению своих миссионерских и националистических
планов. В сентябре 1941 г. миссионерская работа в Карелии уже
велась 6 представителями православного военного духовенства и,
кроме того, 30 священниками, монахами, дъяками и 6 обученными
104
мирянами; также планировалось направить на занятые территории
250 православных учителей. Большое внимание Православная
Церковь уделяла лагерям советских военнопленных. К тому
времени стал выходить и церковный листок на русском языке
«Друг военнопленных» тиражом 7 000 экземпляров. Здесь
существовала большая разница по сравнению с Германией, где
миссионерская деятельность среди советских военнопленных в
основном запрещалась. На Карельском перешейке и в
Подпорожском,
Вознесенском,
Лодейнопольских
районах
Ленинградской области было возобновлено богослужение
примерно в 20 храмах. Служили в них, как ив карельских, в
основном финские православные священники, в том числе
военные и монахи Валаамского монастыря. На богослужениях они
поминали архиепископа Германа и президента Финляндии Рюти.
Все финские священники и монахи осенью 1944 г. ушли с
отступавшими войсками с оккупированных территорий, и 85%
храмов к 1946 г. вновь оказались закрытыми [10,c. 130-132].
Противостояние СССР и Финляндии завершилось 6 апреля
1948 г., когда Финляндия заключила с СССР договор на 10 лет о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи сторон. 19 сентября
1955 г. договор был продлен до 1975 г. [3, с.358]. Подводя итог
рассмотрению истории отношений России и Финляндии в первой
половине ХХ века, необходимо отметить, что они прошли
сложный путь в своем развитии -от враждебных до миролюбивых
и добрососедских. Тем самым они могут служить примером и для
других стран, у которых с нашей страной очень сложные
отношения.
Литература
1.
Тимофеева Д.Р. Роль Германии в проблеме становления в
Финляндии в 1918 г. независимого государства. Дипломная работа
на кафедре Финского языка и культуры Факультета Мировых
языков и культур Русской Христианской гуманитарной академии.
СПб., 2012.
2.
Веб – ресурс: https:// ru.wikipedia.org / wiki / Российскофинляндские отношения 9дата обращения 15.10.2017г.).
105
3.
Широкорад А.Б. Три войны «Великой Финляндии». М.:
Вече, 2007.
4.
Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы
революции и Гражданской войны / Яров С.В. и др.- М.: ЗАО
Издательство Центрполиграф, 2013.
5.
Европа и Россия в огне Первой мировой войны. К 100летию начала войны / В.Р. Мединский, вступ. слово – (Военная
история Российского государства / Под ред. В.А. Золотарева). М.:
ИНЭС, РУБИН, 2014.
6.
Шишов А.В. Военные конфликты ХХ века. От Южной
Африки до Чечни. М.: Вече, 2006.
7.
Веб-ресурс: https: // ru.wikipedia.org /wiki/ Первая советскофинская война (дата обращения 20.10. 2017г.).
8.
Барышников В.Н. Роль культурного и идеологического
аспекта в германо-финляндском сотрудничестве в 20-30 гг. ХХ в. //
История России: экономика, политика, человек: К 80-летию
доктора исторических наук, профессора, академика РАН Бориса
Васильевича Ананьича. – СПб., 2011.
9.
Соколов Б.В. Тайны финской войны. – М.: Вече, 2000.
10.
Шкаровский М.В. Русская церковь и Третий рейх. М.:
Вече, 2010.
Граматиков Петр
Болгарский след в центре так называемого «дела Локкарта»,
направленного против большевистского режима
Думаю что, независимо от того, что история об антисоветской
карьере
А.Н.Грамматикова
уже
разработана
западными
исследователями и украинскими краеведами, стоит припомнить ее
в связи с юбилейной годовщиной - 100 лет со дня Октябрьской
революции. Тем более, что я верифицировал в архивных фондах
Российского государственного исторического архива (СанктПетербург), политического исследовательского центра Институт
Гувера, основанного при Стэнфордском университете (округ
Санта Клара в Калифорнии, США), в том числе и Ленинские
106
документы с архива Андрея Жука (поч. 1968 г. в австрийской
столице) в Государственной Библиотеки и Архива Канады
(Оттава).
«По просьбе товарищей из Украинской социал-демократии, я могу
удостоверить, что по сведениям, доставленным мне вполне
заслуживающими доверия местными товарищами, товарищ
Грамматиков (Черный) принадлежит к Российской социалдемократической рабочей партии и работал в ряде партийных
организаций. Женева, 7 июля 1908 г. В.И.Ленин» [1]. Кто же такой
Грамматиков, чью политическую благонадежность Ленин
аттестует в своем письме? Александр Николаевич Грамматиков, из
дворян Таврической губернии, родился в Севастополе в 1871 году.
Является родным братом Екатерины Николаевны Грамматиковой,
которая в первом браке состояла замужем за внуком Ивана
Константиновича Айвазовского — Михаилом Латри. Его мама —
Олимпиада Павловна, урожденная Лампси, является сестрой
Михаилу Харлампиевичу Лампси — зятю Айвазовского. Они
потомки
Эммануила
Эммануиловича
Грамматикова
родоначальника этой фамилии в Феодосии, «который прибыл в
1975 г., вызвавшись в числе прочих обитателей Греции для
колонизации южного побережья. Грамматиков, прибыв в Ахтиар
(Севастополь), где у него начались робкие приготовления к
подрядным занятиям во флоте. Из Севастополя он переехал в
Феодосию, где служил до 1809 года переводчиком в таможне, а
затем чиновником в канцелярии центральной карантинной
конторы»[2]. Писатель настоящего принадлежит к той же семье из
области Салоники (когда-то в Османской империи) и поэтому
подчеркивает болгарский след этого участника в событиях,
которые происходили 99 лет назад.
По данным полиции, Александр Грамматиков к 1905 году был
связан с большевистским крылом Росийской социалдемократической рабочей партии. С февраля 1902 года по март
1906 года его четыре раза арестовывали, но каждый раз вскоре
освобождали. По-видимому его товарищи подозревали, что он
раборает в царской охране. После поражения революции 1905 года
Грамматиков, А.Жук и многие другие русские интеллигенты
уехали в эмиграцию. В это время Грамматиков, по-видимому, жил
107
в Брюсселе. Второго марта 1908 года С.Е.Виссарионов, директор
департамента полиции, обратился в пражское отделение охранки с
запросом подтвердить донесение своего агента о том, что
Грамматиков (он же Черный Иван Петрович) проживал в Бельгии,
изучал производство и применение взрывчатых веществ [3].
Последний раз имя Грамматикова появляется в архивах полиции в
декабре 1911 года, когда пражское отделение информировало
Виссарионова о том, что социал-революционер Гущин, который
проживал в то время в Париже вместе с Грамматиковым,
докладывал, что товарищи по партии были озабочены тем, что
Грамматиков забросил революционную деятельность для того,
чтобы изучать философию [4]. Гущин, которого на самом деле
звали Н.И.Метальников, давно был уже агентом русской полиции
[5]. Возможно, в результате этого соседства собственные связи
Грамматикова с эсерами и полицией укрепились. В 1912 или 1913
годах он вернулся в С.-Петербург, где выступал в роли делающего
карьеру юриста с хорошими связями. Он помогал создавать клуб
авиаторов, который организовал первые авиагонки из С.Петербурга в Москву. Среди его близких друзей были Борис
Суворин, сын Алексея Сергеевича Суворина, издателя газеты
«Новое Время и Сидней Рейли», выкравший из морской
судоверфи в С.-Петербурге, где он работал, чертежи немецких
военных кораблей для британской разведки. Рейли считал
Александра Грамматикова «не только ученным и мыслителем, но
и человеком с характером, чья лояльность была вне подозрений».
Пути Рейли и Грамматикова вновь пересеклись весной 1918 года,
когда Рейли вернулся в Россию, пытаясь там разжечь
сопротивление новому режиму. Грамматиков считал, что
«правительство находится в руках душевнобольных и
преступников, выпущенных из сумасшедшего дома». Используя
свои прежние связи, он организовал для Рейли встречу с
генералом М.Д.Бонч-Бруевичем (родным братом управляющего
делами Совета Народных Комиссаров В.Д.Бонч-Бруевича), а
племянница
генерала
Дагмара
(супруга
Грамматикова),
танцовщица Московского Художественного театра, позволила
Рейли использовать ее квартиру, как «надежное место». С
помощью Вячеслава Орловского (он же Владимир Орлов),
108
бывшего раньше в связи с полицией и ставшего сотрудником
Чрезвычайной комиссии (ЧК), достал для себя и Рейли документы
для поездок под видом чекистов. Рейли, в свою очередь, прочил
Грамматикова на пост министра внутренних дел в предполагаемом
новом Временном Правительстве, в котором премьер-министром
должен был стать Борис Савинков, а военным министром —
генерал Юденич. В августе 1918 года Грамматиков и Рейли были в
центре так называемого «дела Локкарта», направленного против
большевистского режима. С помощью денег, полученных от
неофициального представителя британской миссии Брюсса
Локкарта, Рейли подкупил некоторые красные латвийские части
для того, чтобы они помогли ему осуществить план захвата
Ленина и Троцкого во время намечавшегося в Москве заседания
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
(ВЦИК) и установления военной диктатуры Савинкова. Заседание
это было отложено, и 28 августа Рейли приехал в Петроград для
консультации с Грамматиковым о реализации своих планов
восстания в бывшей столице. Но 30 августа террористы, не
связанные с сетью Рейли, убили М.У.Урицкого в Петрограде и
серьезно ранили Ленина в Москве. Эти события использовали, как
предлог для начала красного террора.
1. Letter dated 1908 V. I. Lenin addressed to the comreds of the
Ukraininian Social Democratic Workers Party, Library and Archives
Canada, Mg 30C167, vol. 20, p.24, dossier 7-12516; ELWOOD, R. C.
Lenin and Grammatikov: An Unpublished and Undeserved
Testimonial.- In: Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des
Slavistes, Vol. 28, No. 3 (September 1986), pp. 304-313, Published by:
Taylor
&
Francis,
Ltd.,
Stable
URL:
http://www.jstor.org/stable/40868622; Lockhart, Robin Bruce. Ace of
Spies, London, 1969, p.49; см. Владимир Шляхов (Феодосия),
www.bospor.com.ua.
2. См. Фрагмент статьи В. Геймана из книги "Феодосия в
прошлом", касающаяся Грамматиковского благотворительного
капитала, издание 1918 года. См. ФИО Грамматиков Е. Источники,
Адрес-календарь г.1815 ч.2 стр. 247. Постоянная ссылка:
http://fgurgia.ru/object/47115057; Грамматиков Е.Е. Источники
109
Адрес-календарь г.1810 ч.2 стр. 221; Адрес-календарь г.1811 ч.2
стр. 231; Адрес-календарь г.1812 ч.2 стр. 240; Адрес-календарь
г.1813 ч.2 стр. 243; Адрес-календарь г.1818 ч.2 стр. 255.
Постоянная ссылка: http://fgurgia.ru/object/47115060.
3. Hoover Institution, Okhrana Archives, входящий доклад 219
(126181), 2 марта 1908, файл XIIlc (I), folder 1B.
4. Hoover Institution, Okhrana Archives, исходящий доклад 1457,
9/22 ноября 1911, файл XlIlb (I), folder IJ.
5. Его досье находим в: ibid., file IlIf, folder 25, содержающий
несколько
докладов
о
революционной
деятелности
Метальникового.
Морально-психологическое состояние войск Русской
Императорской Армии накануне Февральских событий 1917 г.
В статье рассмотрены основные обстоятельства, которые
оказывали влияние на морально-психологическое состояние
Русской императорской армии накануне Февральских событий
1917 г.; выделены основополагающие причины разложения и
дезорганизации нижних чинов; исследованы события в Петрограде
23-28 февраля 1917 г. и роль морально-психологического фактора
в них.
The article describes the main circumstances which influenced the
morale of the Imperial Russian army on the eve of the events of
February 1917; highlighted the fundamental causes of decay and
disruption of the lower ranks; researched events in Petrograd 23-28
February 1917 and the role of the moral-psychological factor in them.
Ключевые слова: Русская императорская армия, Петроградский
гарнизон, морально-психологическое состояние, революция,
нижние чины, офицерский корпус.
Key words: the Russian Imperial army, the Petrograd garrison, morale,
revolution, lower ranks, the officer corps.
Морально-психологическое
состояние
войск
Русской
императорской армии являлось важным фактором боеготовности и
боеспособности армии в целом, а также фактором ее
110
революционизации накануне событий 1917 г. Армия, как
утверждал ещё В.И. Ленин, является главной опорой
самодержавия. Пока армия защищает режим, он в состоянии
существовать [13, c. 336]. Если армия принимает сторону
оппозиции, то у существующей власти попросту отсутствуют
какие-либо возможности удержать брозды правления.
На формирование морально-психологического состояния влияли
следующие
обстоятельства:
1)
отношения
между
военнослужащими внутри коллектива; 2) отношения между
высшими и нижними чинами; 3) низкая степень осведомленности
нижних чинов о событиях на фронтах и в тылу; 4) посылки и
письма от родных и близких, как элемент связи с тыловым миром.
Отношения военнослужащих внутри коллектива, если говорить о
нижних чинах, в общем, можно охарактеризовать, как дружеские,
основанные на взаимоподдержке и взаимопомощи. Большинство
хотели выговориться, обсудить наболевшее, и их сослуживцы
прекрасно могли их понять, т.к. они испытывали практически
идентичные чувства и переживания [15, c. 14].
Как известно, армия и её основа – офицерский корпус – всегда
есть отражение того общества и той страны, частью которых
являются вооруженные силы [14, c. 153]. Какими могли видеть
офицеров солдаты? Зачастую, была очевидна несогласованность
действий среди высшего командования, которая была вызвана тем,
что начало войны планировалось на осень 1914 г., поэтому
полностью план подготовки к войне не был реализован, и
действовать приходилось импровизационно [6, с. 321]. Наряду с
этим, многие принятые решения молодого офицерского состава не
получали одобрения среди нижних чинов, которые имели опыт
Русско-японской войны [12, c. 261]. Новое, молодое, офицерство
уже не было тем, каким его видели раньше, и видеть хотели сейчас
[18, с. 213]. После сражение то и дело какой-то офицер нес
награбленное имущество, чтобы, впоследствии, его продать [12, c.
263]. Широко распространенным явлением в армии в среде
высшего и нижнего офицерства были карточные игры, поэтому
большинство военнослужащих, получая жалование, тут же
оставляли его за карточным столом более успешным игрокам [15,
c. 10]. Помимо всего прочего, представители военной элиты, не
111
стесняясь, активно критиковали действия власти, обсуждали
слухи, компрометирующие царскую фамилию, министров и
военачальников [12, c. 262].
Ещё в начале войны, военный врач Василий Павлович Кравков
отмечал, что в армии среди офицерства и генералитета
распространено излишнее секретничество, что тревожило нижних
чинов, которые в большинстве случаев не получали информацию
даже о событиях, произошедших в 10-15 км.от них [11, c. 29].
Будущий основатель Первой конной армии Семен Михайлович
Буденный обращал внимание и на злоупотребления со стороны
старшего военного состава по отношению к нижним чинам.
Буденный описывал частые случаи пьянства среди офицерства, и
избиения нижних чинов за пререкания и нежелания выполнять
странные поручения, которые офицеры давали ради того, чтобы
поиздеваться над подчиненными [3, c. 12].
Солдаты также нарушали дисциплину. Это выражалось в спорах и
пререканиях с офицерами, которые, по их мнению, вели себя
неправильно или некорректно по отношению к своим
подопечным, т.е. по отношению к нижним чинам [3, c. 9].
Один из подобных инцидентов описывал сам Буденный. Семен
Михайлович в Первую мировую войну был командиром взвода.
Однажды у него произошел конфликт со старшим по званию, из-за
которого он чуть не попал на военный суд. Спор возник из-за того,
что подчиненных Буденного давно не кормили, и они выражали
своё недовольство, жалуясь и пытаясь выяснить, когда все же их
начнут кормить. Семен Михайлович обратился с этим вопросом к
старшему по званию, вахмистру Херсанову, который счел данный
вопрос нелепым, обвинив Буденного в том, что он учит солдат
бунтовать. Далее вахмистр начал кричать и ткнул Семену
Михайловичу в лицо кулаком. Буденный не стерпел, и ударил
Херсанова, который даже упал после этого. За такое нарушение,
Семену Михайловичу должен был грозить полевой суд. Но ему
повезло. Он отделался лишением ордена [3, c. 14].
Очень светлым и приятным для каждого солдата днем, был тот
день, когда они получали посылки и весточки с тыла от родных и
близких. Асатур Сергеевич Артюнов в своем дневнике описывает
112
один из таких дней весьма подробно [2, c. 28]. Помимо писем, из
которых военнослужащие узнавали вести от родных и близких,
они также получали новости из тыла, в т.ч. и слухи, которые также
играли не маловажную роль в формировании отношения к войне, к
будущей революции, к монархии и её институтам [17, c. 66].
Получение писем и подарков из тыла играло двоякую роль. С
одной стороны, оно поднимало моральный дух солдат, которые,
зная, что их любят и ждут, старались всячески биться за жизнь, с
другой стороны – солдаты, получая весточки от родных, из
которых, зачастую, они узнавали о тяжелой жизни своих
любимых, грезили скорейшим возвращением домой.Тоска по дому
и по близким людям сильно действовала на солдат, склоняя их к
тому, чтобы искать любую возможность для того, чтобы вернуться
домой [1, c. 281, 698]. С одной стороны именно этим фактором
было вызвана огромная волна дезертирства, начиная с 1915 г., с
другой – непониманием солдатами смысла войны: «для чего она»,
«кому она нужна», «когда придет её окончание» [19, с. 20, 23].
В условиях Первой мировой войны противоборствующие стороны
были вынуждены задействовать широкие массы населения, не
имевшие боевого опыта, для которых условия военной
повседневности стали сильным психологическим испытанием.
Олег Козельский в своем дневнике о первом, увиденным им трупе,
пишет следующие строки: «Из всех впечатлений, которые я
пережил за эти дни, особенно поразил меня первый увиденный
мною убитый солдат. Убило его в первый день боя, на открытом
месте, между наблюдательным пунктом, где я стоял, и окопами
пехоты, куда он полз по какой-то надобности. Около него
разорвался снаряд. Потом, когда я к нему подошел, мне
показалось, что он лежал, уткнувшись лицом в землю. Но
передняя часть головы его лежала оторванная, в трех шагах от
него, лицом повернутая кверху. Страшное, неизгладимое
зрелище...» [9, c. 14].
Геннадий Николаевич Чемоданов дает характеристику боя, в
котором он побывал. Он не пытается в дневнике скрыть эмоций,
написать о героизме и мужестве, о котором обычно писали в
литературных произведениях и газетах накануне и в период
Первой мировой войны. Можно увидеть в его словах страх, боязнь
113
за жизнь, воспоминания о родных и близких, которые остались
где-то там, далеко от него [17, c. 58]. Война не оправдала его
ожиданий. Он имел иные представления о войне, он ожидал
совсем другого – он был не готов к ней, ровно, как и многие плохо
обученные новобранцы [18, с. 213].
Очень примечателен факт из дневника Владимира Корсака,
который впоследствии попал в немецкий плен. Бой, который он
описывает в своих воспоминаниях, был первым боем в его жизни.
«Нас окружили. Мне пришла в голову мысль покончить с собой.
Вдруг появилась внутри радость и свет. Как это я раньше не
додумался? Достал револьвер, приставил к виску, начал считать до
10. На восьмой секунде всё будто замерло, дальше тишина, долгая.
Потом я услышал крики ура, немцев отбили» [10, c. 18].
Таким образом, впервые попавшие в бой новобранцы испытывали
глубокие психологические переживания. Им было сложно в
условиях военной повседневности, к которым они не были готовы,
как психологически, так и физически.
Как же мог встретить весть о революции тот солдат, о котором
было написано выше? Он встречал её с радостью. В большинстве
случаев нижние чины не осознавали, что произошло на самом
деле, и какие последствия может за собой нести революция [12, c.
263]. Солдаты видели в февральских событиях окончание войны,
от которой они так сильно устали. Военнослужащие хотели
поскорее вернуться домой, к своим близким. Офицерский состав
не представлял собой единой массы. Он делился на две категории:
1) те, кто примкнули к солдатам и революции; 2) те, кто были
настроены реакционно, т.е. контрреволюционно [16, с. 43].
Каким бы упадническим не было морально-психологическое
состояние Русской Императорской Армии на фронтах в канун
Великой Российской Революции, основные события происходили,
в тылу, в столичных городах: Петрограде и Москве, - где
солдатские массы встали на сторону восставших [7, c. 266]. Это
обусловлено тем, что именно в данных городах происходило
развитие общественного сознания в среде интеллигенции и рост
стачечного движения рабочих, что способствовало вовлечению в
революционные процессы широкие слои населения. Именно,
114
поэтому следует говорить о том, что революция протекала из тыла
(столиц) на фронт [8, c. 124].
Что представляли из себя военные подразделения, которые
находились на территории Петрограда накануне событий февраля
1917 г.? Основную массу представляли военнослужащие запасных
полков, либо недавно мобилизованные новобранцы, политическая
сознательность которых оставляла желать лучшего [18, c. 217]. На
территории города, во время войны, было открыто множество
госпиталей и больниц, в которых на лечении находились
значительные массы военнослужащих. Их политическая
сознательность также оставляла желать лучшего, т.к. после плохих
условий жизни на фронте, они попадали под пристальное
внимание и заботу сестер милосердия. После такого «лечения»
солдаты уже не хотели вновь идти на фронт, разленившись и
отдохнув в спокойных и тихих лечебных заведениях [18, c. 214].
Несколько полков казаков, пара тройка формирований с
преимущественно старым, обученным ещё до войны военным
контингентом, и учащихся военных заведений до начала
революционных событий, можно отнести к той категории, которая
являлась относительно стабильной. Хотя от тягот войны они также
устали, и они задавались такими же вопросами, как солдаты на
фронтах – «когда война кончится», «какой в ней смысл» и пр. [18,
c. 217].
Первые беспорядки, которые впоследствии вылились в Великую
Российскую революцию, в Петрограде начались 23 февраля 1917 г.
Изначально на улицы на Выборгской стороне вышли недовольные
войной и нехваткой хлеба женщины. После к ним начали
присоединяться рабочих местных фабрик и заводов. На самом
деле, казалось, что данная демонстрация кончится, как и многие
предыдущие демонстрации 1912-1916 гг. просто и без видных
результатов. Но события стали приобретать иной характер [4, c.
65]. Вместо того, чтобы пойти на затухание, с каждым новым днём
ситуация приобретала всё более неконтролируемый официальной
властью характер.
25 февраля полностью было остановлено движение трамвая. У
здания Городской Думы была первая стрельба – стреляли драгуны
[4, c. 66]. 26 февраля не вышли никакие газеты, все предприятия
115
закрыты. Среди войск началось активное брожение. Очевидным
было разделение на тех, кто выступал против демонстрантов, и на
тех, кто был готов к ней присоединятся. Местные полки один за
одним отказывались выступать против, восставших масс
населения г. Петрограда [4, c. 68]. К полудню 27 февраля
сомневались вступить или не вступить на сторону революции
только артиллеристы и часть военнослужащих Семеновского
полка, все остальные – встали на сторону восставших [4, c. 70]. В
Москве параллельно происходили подобные стихийные события,
которые власть также не могла контролировать. Как итог, столицы
оказались в руках восставших, т.е. новой власти. Прежняя
государственная машина прекратила работу, а здания некоторых
министерств и правительственных учреждений были заняты
силами революции [8, c. 139].
Таким образом, в условиях, сложившихся в армии накануне
событий февраля 1917 г., принятие солдатскими массами
революции являлось неизбежным. Но именно столичные
гарнизоны сыграли решающую роль в революции, став на её
сторону, противопоставляя себя существующему режиму, выразив
открытую солидарность революционным элементам. Эта роль
обусловлена двумя факторами: 1) Петроград и Москва, как центры
развития общественного мнения; 2) Петроград и Москва, как
основные центры развития стачечного движения.
Список источников и литературы:
1. XX век: Письма войны / С. Ушакин, А. Голубев. – М.: Новое
литературное обозрение, 2016. – 840 с.
2. Артунов, А.С. Дневник солдата 1914-1915 гг / Под ред. А.
Артунов. – Ростов-на-Дону, 1913. – 52 с.
3. Буденный, С.М. Первая конная армия / С.М. Буденный. – М.:
Вече, 2012. – 448 с.
4. Гипиус, З.Н. Дневники / Н. Берберова. – М.: Саксесс, 1990. – 230
с.
5. Головин Н.Н. Наука о войне. О социологическом изучении
войны. – Париж: Изд-во газеты «Сигнал», 1938. – 247 с.
6. Зайончковский А. Подготовка России к мировой войне. – М.,
1926. – 452 с.
116
7. Зезегова, О.И. Повседневная жизнь интеллигента в годы Первой
мировой войны (по дневникам В.В. Бирюковича) // Война и
повседневная жизнь населения России XVII-XX вв. (к столетию
начала Первой мировой войны): материалы междунар. науч. конф.,
14-16 марта 2014 г. / под общ.ред. проф. В.Н. Скворцова; отв. ред.
В.А. Веременко. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. С. 265-270.
8. Керенский, А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары /
Г.А. Шахов. – М.: Республика, 1993. – 384 с.
9. Козельский, О. Записки батарейного командира / В.А. Суворин.
– Пг.: Новое время, 1915. – 98 с.
10. Корсак, В. Плен / В. Корсак. – Париж, 1927. – 240 с.
11. Кравков, В.П. Великая война без ретуши. Записки корпусного
врача / К.К. Семенов. – М.: Вече, 2014. – 416 с.
12. Кравцова, Е.С. События на фронте в воспоминаниях
современников (1915 год) // Война и повседневная жизнь
населения России XVII-XX вв. (к столетию начала Первой
мировой войны): материалы междунар. науч. конф., 14-16 марта
2014 г. / под общ.ред. проф. В.Н. Скворцова; отв. ред. В.А.
Веременко. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. С. 261-265.
13. Ленин, В.И. Полное собрание сочинений. Издание 5-е. Т. 10 /
Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М.: Издательство
политической литературы, 1967. – 603 с.
14. Никифоров, А.Л. Особенности повседневной жизни
российского офицерства накануне Первой мировой войны // Война
и повседневная жизнь населения России XVII-XX вв. (к столетию
начала Первой мировой войны): материалы междунар. науч. конф.,
14-16 марта 2014 г. / под общ.ред. проф. В.Н. Скворцова; отв. ред.
В.А. Веременко. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. С. 153-157.
15. Падучев В.Л. Записки нижнего чина. 1916 г. – М.: Московское
товарищество писателей, 1931. – 175 с.
16. Пирейко, А. В тылу и на фронте империалистической войны /
В. Залежский. – Л.: Рабочее издательство «Прибой», 1926. – 66 с.
17. Чемоданов, Г.Н. Последние дни царской армии / Г.Н.
Чемоданов. – М.: Государственное издательство, 1926. – 136 с.
18. Черкасов-Георгиевский, В.Г. Бароны Врангели. Воспоминания
/ В.Г. Черкасов-Георгиевский. – М.: ЗАО Центр-полиграф, 2006. –
527 с.
117
Судариков А.М., Шугалей И.В.,
Илюшин М.А., Смирнов А.В.
Технологический Институт в октябрьские дни 1917 г.
и годы гражданской войны
Несмотря на то, что в число студентов технологического
института принималась молодежь из непривилегированных
сословий, выраженных революционных настроений в стенах
института не отмечалось. После Февральской революции среди
студентов Технологического института преобладало
ярко
оборонческое настроение. „Родина, армия и порядок", таковы
были, в основном, его главнейшие лозунги: „Защи¬щать свободу,
воевать до победы, не отдавать ни пяди своей террито¬рии", —
звучало на всех собраниях и митингах в институте, как осно¬вной
бесспорный лейтмотив. Всякое слово против войны встречало у
подавляющего числа студентов института резко враждебное
отноше-ние, и все противники войны считались „врагами свободы
и родины" [1]. К этому времени основная масса студентов была
призвана в армию, в первую очередь это касалось всех
«неблагонадежных». Октябрьскую революцию Технологический
институт принял дружно в штыки. В этом отношении никакой
разницы между студен¬ческими общественными организациями,
руководимыми социал-оборон¬ческим большинством института, и
открыто монархическими студенче¬скими группами не было. Тех
и других связывала вера в то, что „захватчиков не сегодня—завтра
прогонят". Одни делали ставку на Керенского, другие — на
офицерство, третьи — на „национальные силы страны".
Студен¬чество, в массе своей — мелкобуржуазное, искренно
считало большевиков кучкой захватчиков, а Октябрьский шквал
— ударом по „завоеванной свободе". Таким настроениям во
многом
способ¬ствовала
абсолютная
политическая
безграмотность студенчества и все сведения о большевиках не
шли дальше буржуазной пропаганды о «гер¬манских шпионах»,
118
«запломбированном вагоне», «агентах Вильгельма», «врагах
свободы» [2].
В самом начале становления советской власти, в труднейший
тысяча девятьсот восемнадцатый год Технологический институт
не участвует в закреплении Октябрь¬ских завоеваний. Враждебно
встретившее Октябрьскую революцию студенчество института,
вместе с большей частью профессуры, открыто сочувствовало
другой стороне.
Вскоре после октябрьских событий студенты-технологи, как и
студенты других высших учебных заведений Петрограда, разбились на два отдельных антибольшевистских лагеря: одни открыто
боролись против рабочей революции в рядах белых армий, с
оружием в руках выступая на защиту своих сословных прав и привилегий; другие — отсиживались в стенах высших учебных
заведений, ожидая «лучших дней» и всячески оберегая высшую
школу от проникно-вения в нее октябрьского духа. Штабом такой
пассивной студенческой анти октябрьской обороны были Советы
представителей в каждом высшем учебном заведении,
объеди¬нявшие старых студентов вокруг лозунга «автономии
высшей школы». Совет представителей в институте в годы
гражданской войны практически не действовал, поскольку в
опу¬стевшем институте к 1919 г. едва ли было несколько десятков
студентов, изредка посещавших чертежные и лаборатории. К тому
же, значительная часть этих студентов была совершенно
аполитичной и представляла собой то, что в просторечии зовется
«болотом».
До 1920 г. институт, как и вся высшая школа, находился еще как
бы «в стороне от схватки»: пролетарская революция, казалось,
прошла мимо его стен, за которыми организационно все осталось,
как и до Октября. Только с осени 1920 г. в институтских зданиях
повеяло новой жизнью,— Октябрьская революция вступила в
высшую школу. Был объявлен срочный выпуск, и в инсти¬туте
впервые появилось пролетарское студенчество, пришедшее,
главным образом, с фронтов гражданской войны [3]..
Большим событием, повлиявшим на весь ход жизни института,
было кронштадтское белогвардейское восстание [4]. В эти
весенние месяцы 1921 г. организации института впервые
119
почувствовали на себе жесткую руку пролетарской диктатуры. В
Технологическом институте была создана революционная тройка,
под председательством т. Поспелова. Для осуществления контроля
над деятельностью сотрудников инсти¬тута, Ревтройка отобрала
печати института и распорядилась предоста¬влять всю
институтскую переписку на просмотр комиссару. Теперь Ректор
каждое утро приходил в кабинет комиссара с докладом о
состоянии института.
В кронштадтские дни группа правых студентов расклеила в
Инсти-туте призыв „вспомнить былые традиции и помочь
рабочему классу свергнуть большевистское иго". У многих
лидеров правого студенчества развязались языки; они открыто
заговорили о близком конце Советской власти, не исключена была
возможность уличного антисоветского выступления студенчества
с контр¬революционными лозунгами. Однако, напряженная
атмосфера быстро разря¬дилась после того, как Чрезвычайная
комиссия
арестовала
активных
ру¬ководителей
белого
студенчества [5].
1921 год положил начало рабочему факультету при
Технологиче¬ском институте. Осенью 1921 г на первый курс было
принято около 500 студентов-пролетариев. Рабочий факультет
привел к изменению социального состава студентов института, дал
возможность получить
высшее образование
преданным
сторонникам советской власти, в том числе участникам
гражданской войны, среди кото¬рых было много энергичных и
опытных организаторов. Однако старое студенчество не хотело
признавать рабфаковцев за полноценных студентов. Борьба за
признание рабфаковцев студентами была очень острой и
напряженной, которая завершилась только в 1923 году победой
рабфаковцев, когда они добились обеспечения студенческими
стипендиями наравне со студентами химического и механического
факультетов.
Присоединение университетского рабочего факультета к рабфаку
института еще более усилило и укрепило последний. Рабочий
факультет стал плацдармом пролетаризации Технологического
инсти¬тута, влил много партийцев в состав институтского
коллектива и положил начало комсомольской организации.
120
Постепенно
старое
студенчество
окончило
институт,
идеологические баталии в его стенах прекратились, и Техноложка
к своему 100-летнему юбилею в 1928 г. стала ведущей кузницей
преданных советской власти кадров для возрождающейся
химической промышленности Советского Союза.
Литература
[1] Судариков А.М., Илюшин М.А. Шугалей И.В., Смирнов А.В.
Технологический институт накануне и во время Февральской
революции// Материалы международной научной конференции 28
февраля 2017 г. «Февраль 1917: взгляд через столетие» 2017. с.9499. ISBN 978-5-86813-440-1
[2] Сто лет 1828 – 1928. Технологический институт им.
Ленинградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов. Том 1. Ленинград 1928. 760 с.
[3] Карпенко С.В. Гражданская война в России. 1917-1922 гг. М.:
Издательство Ипполитова. 2011. 358 с. ISBN 978-5-93856-206-6
[4] Семанов С.Н. Кронштадский мятеж. М.: Зксмо. 2003. 127 с.
ISBN: 5-699-02084-5
[5] Симбирцев И. ВЧК в ленинской России 1917 –1922 В зареве
революции. М.: Издательство: Центрполиграф. 2008. 490 с. ISBN:
978-5-9524-3830-9
Кокоулин В.Г.
СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1917 ГОДУ:
СПОЛЗАНИЕ В КАТАСТРОФУ
В статье рассматривается особенность протекания революционных
событий 1917 г. через призму духовной жизни сибиряков. Автор
статьи показывает, как в массовом сознании рождались ожидания
светлого будущего, которое связывалось с грядущей революцией,
как несбывшиеся ожидания и надежды породили глубочайший
духовный сдвиг сибирского общества, в чём истоки и причины
негативного отношения к православной церкви не только в
повседневной деятельности, но и в психологическом настрое
горожан. Автор статьи приходит к выводу, что духовный кризис
121
российского общества, начавшись в конце XIX в. не был
преодолён после революционных испытаний и масштабной
гражданской войны, сменившись новой верой – в строительство
светлого будущего при коммунизме.
Ключевые слова: Революция, Сибирь, массовое сознание,
православная церковь, суеверия.
The article discusses the features of the revolutionary events of 1917
through the prism of the spiritual life of the Siberians. The author
shows how in the mass consciousness born the expectations on the
brilliant future that was associated with the impending revolution; how
unfulfilled expectations and hopes have given way to a profound
spiritual shift of Siberian society, what are the sources and reasons of
negative attitude to the Orthodox Church not only in daily activities but
also in the psychological attitude of citizens. The author comes to the
conclusion that the spiritual crisis of Russian society, beginning in the
late nineteenth century, had not been overcome after the revolutionary
trials and large-scale civil war, replaced by a new faith in building a
bright future under communism.
Keywords: Revolution, Siberia, mass consciousness, Orthodox Church,
superstition.
Нараставший духовный кризис российского общества в первые
два десятилетия ХХ в. привёл к небывалым революционным
потрясениям, которые сменились сползанием в катастрофу
гражданской войны. Как неоднократно отмечали социологи,
уровень религиозности населения сильно колеблется: в эпоху
перемен оживает религиозность народа, когда только бог видится
единственным, кто может спасти и сохранить. Но в России
произошло уникальное явление: вера осталась, но авторитет
православной церкви, связанной с государством, самодержавием,
Николаем II и Распутиным, настолько упал, что народ стал верить
не в бога и божественную справедливость, а в революцию и
социальную справедливость. Первая мировая война хотя и
затронула экономические основы жизни сибиряков, но армия
сражалась, а обыватель жил своей жизнью. В эпоху революций и
особенно Гражданской войны тотальность происходившего,
122
затронувшая все стороны жизни всех слоёв населения Сибири,
привела к полному отрицанию бога (по принципу: если бы был
бог, то он бы всего этого не допустил). Здесь во многом коренятся
глубинные корни успехов антирелигиозной пропаганды
большевиков и их успехи в борьбе с церковью в 1920-е гг.
О нарастании кризисных явлений в сибирском обществе пока
известно немного, однако даже имеющийся в распоряжении
историков материал позволяет наметить основные вехи кризиса
общества в 1917 г. С начала ХХ в. резко ускорилось общественное
развитие общества, втягивание всех его слоёв в общественнополитическую жизнь: относительно размеренная жизнь в XIX в.
сменилась калейдоскопической сменой событий, каждое из
которых оставляло глубочайший след в массовом сознании. Речь
идёт о проигранной русско-японской войне, Первой российской
революции, столыпинской аграрной реформе, образовании и
деятельности политических партий, созыве и роспуске
Государственных дум, и особенно Первой мировой войне.
Революцию в определённом смысле ждали, с ней связывали
надежды на радикальное изменение, естественно в лучшую
сторону, всех сторон экономической, политической и
повседневной жизни. Уже в годы Первой мировой войны
вчерашние крестьяне, одетые в шинели, престали понимать, для
чего они сидят в холодных окопах. Они слышали разговоры о
Распутине и его влиянии на царскую семью, о безудержной
спекуляции в тылу и очередях за продовольствием (как их тогда
называли «хвосты») у хлебных лавок. В представлении крестьян
это было ужасным, беспросветным, бессмысленным и какого-то
изменения ситуации ясно не предвиделось. Неудивительно
поэтому, что события в Петрограде, приведшие к отречению
Николая II и падению самодержавия были воспринято
подавляющим большинством населения с радостью и
энтузиазмом. Казалось, что вот-вот наступит счастливый век, всё
чудесным образом перемениться к лучшему; что придёт быстрая и
окончательная победа в затянувшейся бессмысленной войне,
хлебные лавки наполнятся дешёвыми продуктами, общество
«оздоровится». Россиян охватила эйфория, восторженное безумие,
революционный энтузиазм, они яростно отрицали всё старое и
123
воспевали идеалы «свободы» и «демократии». Хотя вряд ли кто-то
мог внятно объяснить, в чём именно эти идеалы состоят. Но люди
верили в них, не пытаясь рационально объяснить свою радость.
Характерно, что в Сибири происшедшая в феврале революция
воспринималась в религиозных красках – как «светлое воскресенье
Христово». Вот что вспоминала крестьянка села Брюханово
Томской губернии М. Камболова: «Одни радовались, ликовали,
другие – недоумевали. Ходили с флагами, с красными повязками
на руках, митинговали. Поп служил на площади молебен,
присягали Временному правительству и в то же время во время
молебна велись разговоры об окончании войны, о конце света, о
втором пришествии Христа» [1, оп. 2, д. 1200, л. 1.]. Ей вторит
иркутская газета «Сибирь» в начале марта: «Настало время
народовластия, и Учредительное собрание скажет, что нет больше
самодержавия, кроме самодержавия народного, что нет выше
власти, нежели власть народа! Исполнились заветные мечты!
Воплотились в жизнь прекрасные лозунги. Жизнь стала прекрасна.
Смерти нет. Наступило светлое воскресение народа!» [7, 5 марта.].
Яркая представительница томской интеллигенции М.ВасильеваПотанина в начале апреля 1917 г., радостно приветствуя
произошедшую революцию, пишет стихотворение «Христос
Воскрес!»:
Святая боль! В полночный час
Распятый бог воскрес для нас…
Воскрес он, радостный впервые
В день возрождения России,
Когда страдалица-страна
Была над бездной спасена.
Сегодня, в предрассветный час,
Воскрес вторично Он для нас…
Христос воистину воскрес
В наш век страданий и чудес! [3, 2 апр.].
Но эти настроения перекрывали местные театры и электротеатры
(как тогда называли кинотеатры). Достаточно посмотреть
постановки весной 1917 г. в сибирских городах, чтобы понять,
124
какая мощная «промывка» мозгов происходила. Вот яркие
образцы: «Позор дома Романовых: Гришка Распутин» (драма в 4
частях), «Маруся отравилась» (пьеса), «Шумный жизни пир»
(драма в 4 частях), «Апостол» (пьеса в 3 действиях), «Ах, что за
ночь то была» (весёлый фарс), «Гейша», «Ночь любви», «Чёрт» и
т.д. [5, с. 66–67].
Разочарования в ожиданиях, неуверенность в сегодняшнем и страх
перед завтрашним днём привели к росту легковерия и суеверия. В
июле 1917 г. в Новониколаевске появились китаянки, которые
предлагали лечить зубы, «удаляя из зубов червей», из-за чего
якобы и болели зубы. Китаянки «сперва запускали грязные пальцы
в рот» и ощупывали больной зуб, затем доставали маленький
молоточек и постукивали по больному зубу. Китаянки заявляли,
что после такой процедуры червяки выползают из зубов, и удаляли
их особыми заострёнными палочками из дупла зуба. Так же
«лечили» зубы и в Омске. Пожары, периодически случавшиеся в
сибирских городах, стали рассматриваться не как стихийное
бедствие, а через призму сверхъестественного. Газета «Свободная
Сибирь» сообщала о лжепророках в Кузнецком уезде,
прорицавших о втором пришествии. В Томске широко
распространились
воззвания
«опытной
хироманткифизиономистки, известной предсказательницы Николиной»,
которая в рекламе широковещательно обещала: «Даю
всевозможные верные, полезные, практические советы в семейных
невзгодах, как поступать и что предпринимать, а также “сперити”
и “генна” лично и заочно. Не щадя посетителя, говорю откровенно
и верно всё, что каждого интересует и ожидает. Всё, что
определяю, есть искусство моей науки, постигнутое в Индии». К
ней нескончаемым потоком тянулись и простые женщины, и
барыни, и учащаяся молодёжь. В Новониколаевске пьяная толпа в
усадьбе бывшего городского головы разрыла клумбу, отыскивая
труп жены Николая I и какого-то министра, чтобы положить конец
мировой войне [4, с. 68, 69.].
Репертуар сибирских театров и электротеатров летом – осенью
1917 г. только «подливал масла в огонь». Наряду с «Ревнивым
мужем и храбрым любовником», «Андре Диде Глупышкиным» и
«Поединком любви» по всем сибирским городам демонстрировали
125
сказку-феерию «Одушевлённые предметы», «Безлошадного
призрака», «Сатану против Бога», «Непогребённых» (с маскарадом
после них, как сообщалось в театральной афише). В томском
театре «Фурор» демонстрировался «Живой труп»: артисту
закладывали нос и рот ватой, бинтовались дыхательные органы,
затем он ложился в гроб, который засыпали землёй; через 20
минут гроб открывался и артист появлялся на сцене «совершенно
неуязвимый» [5, с. 84–85]. На эти постановки народ валил валом,
тратя последние деньги, несмотря на стремительно растущие цены
на хлеб, дефицит продовольствия и топлива на зиму, день ото дня
возраставшую преступность и другие проблемы повседневного
существования. Томская газета «Сибирская жизнь» даже
подсчитала, что общее число посетителей всех мест увеселений и
зрелищ за 1917 г. исчисляется в 641 828 человек [6, 30 нояб.]
Дефицит продуктов питания и рост цен, характерный для лета –
осени 1917 г., породил новую волну ожиданий и надежд,
связанных с тем, что достаточно расправиться с «врагом» – образ
врага был нечётким, расплывчатым, вмещая в себя как черты
конкретного местного спекулянта, еврея-торговца, так и
собирательного виновника бедствий вообще, например, буржуя,
нерадивого
чиновника,
«реакционера
из
местных
домовладельцев», – то все проблемы будут раз и навсегда решены
и наступит эпоха всеобщего благоденствия. Самое интересное, что
теперь и царские времена, которые совсем недавно все
проклинали, стали вырисовываться
в
розовой
дымке
ускользнувшего «золотого века». Вот что говорили в «хвостах» у
продовольственных лавок: «Обещали нам много – и земли, и воли,
на деле мы не получили ничего», «Как только избрали в комитеты
социалистов, так сразу же изменили народу: вместо того, чтобы
улучшить положение бедноты, они назначили себе большое
жалование и живут припеваючи», «При царе было лучше – он
плохой человек, но всё же не забывал бедняков – в голодные годы
царь даром выдавал хлеб» .
Характерно, что с Октябрьской революцией сибирский обыватель
не связывал никаких надежд или ожиданий. Объяснить это можно
тем, что, по-видимому, в сознании обывателя Октябрьская
революция практически не отразилась – пришедшие к власти
126
большевики
рассматривались
как
один
из
вариантов
революционных властей 1917 г. Учредительное собрание также
оказалось за пределами событийного горизонта сибирских
горожан и крестьян. На них свалились совсем другие проблемы –
поиски продовольствия, товаров и топлива по стремительно
растущим ценам, квартирные трудности для беженцев,
безработица, растущая преступность.
Результаты не замедлили сказаться уже при новой власти в начале
1918 г. В воскресенье, 4 февраля, в Новониколаевске в
Александро-Невском соборе во время обсуждения прихожанами
декрета Совета народных комиссаров об отделении церкви от
государства в храм, не снимая фуражки, зашёл какой-то
горожанин и начал кричать: «Долой священников, кроповийцев!
Не нужно церквей! Снимайте колокола!». Однако прихожане,
среди которых большинство составляли женщины, не дали
агитатору договорить, схватили его и выволокли из церкви. На
лестнице его избили, но ему удалось вырваться и убежать. Через
некоторое время появился большой отряд красногвардейцев,
который окружил собор. В храм вошёл комиссар местного Совета,
держа в правой руке револьвер и, не снимая фуражки, объявил, что
будет произведён всеобщий обыск. Прихожане, однако, стали
возмущаться, ещё мгновение, и они бы растерзали комиссара, но
тот проявил «благоразумие» и счёл за благо ретироваться [2, 21 (8)
февр.]. Данный эпизод весьма показателен: организованное
насилие власти порождало стихийное насилие снизу, а последнее
подпитывало первое. Так происходило сползание в катастрофу:
получался замкнутый круг, из которого удалось вырваться лишь
через несколько лет, уверовав в новый миф о строительстве
счастливой жизни при грядущем коммунизме.
Литература
1. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. П5.
2. Жизнь Алтая (Барнаул). – 1918.
3. Известия Совета солдатских депутатов томского гарнизона. –
1917.
127
4. Кокоулин В. Г. Новониколаевск в годы революции,
Гражданской войны и «воен¬ного коммунизма» (февраль 1917 –
март 1921 г.). – Новосибирск, 2010. – 324 с.
5. Кокоулин В.Г. Повседневная жизнь горожан Сибири в военноре¬во-лю¬цион¬ные годы (июль 1914 – март 1921 г.). –
Новосибирск, 2013. – 385 с.
6. Сибирская жизнь (Томск). – 1917.
7. Сибирь (Иркутск). – 1917.
Кшиштоф Лоек
Польский город Остроленка
во время польско-советской войны
В 1772 году состоялся первый раздел Польши. В нем приняли
участие Россия, Пруссия и Австрия. В 1793 году был еще один
раздел, сделанный Россией и Пруссией. Третий раздел Польши
состоялся в 1795 году; Польские земли были разделены между
Россией, Пруссией и Австрией. Польское государство перестало
существовать. Оно возродилось в 1918 году, после окончания
Первой мировой войны.
В Первой мировой войне Российская армия понесла огромные
потери. Нарастал экономический кризис. 23, 24 и 26 февраля (8, 9
и 11 марта) 1918 года в Петрограде состоялись демонстрации.
Полиция не смогла контролировать ситуацию. Армия отправилась
к демонстрантам. Представители Думы потребовали немедленного
отречения от правителя. Это случилось 15 августа 1918 года. Была
сформирована временная Дума, которая впоследствии была
преобразована в Временное правительство [12, с. 15-16].
Эти события известны как февральская революция. Новое
правительство стремилось продолжить участие армии в военных
действиях и провести широкие реформы [12, с. 16].
Правительство не было эффективным. Это было вызвано
внутренними конфликтами. Все более популярными стали
антивоенные лозунги, провозглашенные большевиками. Реформы
128
не удовлетворяли общество. Швейцарский лидер большевиков
Владимир Ленин считал, что ситуация благоприятна для
большевиков. Немецкие власти, которые видели возможное
изменение шансов России на выход из войны, помогли Ленину
взять власть в России [12, с. 17].
По прибытии в Петроград он взял на себя руководство
большевистской партией и начал активную деятельность.
Действия и социальные настроения правительства способствовали
большевикам и Ленину. В Петроградском Совете делегатов
трудящихся и солдат был создан Военно-революционный комитет.
Начаты приготовления к восстанию против Временного
правительства. 24 октября / 1917 года большевики начали
восстание в Петрограде. На следующий день с помощью военных
войск и моряков с крейсера «Аврора» был взят Зимний дворец,
который был резиденцией Временного правительства. Члены
правительства были арестованы. Заявление было сделано
гражданам
России,
в
которых
общественность
была
проинформирована о захвате власти Реввоенсоветомт [12, с. 18].
Хотя они были меньшинством, они взяли на себя власть. Они
издавали указы о мире и земле. Они также создали Совет
Народных Комиссаров [12, с. 19].
Поражение России в Первой мировой войне и революционные
события
нарушили
независимость
и
возможность
государственного формирования среди народов России.
Большевики и белые бойцы не признавали права западных
народов на независимость. Он был признан Временным
начальником штаба Юзефом Пилсудским. Он стремился
отказаться от западных большевистских войск и предотвратить их
от республиканских советов [12, с. 55].
В феврале 1919 года польские войска достигли Неман. Там они
встретились с войсками Красной Армии. Это было началом
польско-большевистской войны [12, с. 56].
Первый запуск не планировался. Он состоялся 14 февраля 1919
года под Березой Картуской в Беларуси [2, c. 496].
В апреле 1919 года красная армия Вильнюса была истреблена.
Затем были заняты значительные области Беларуси. На юге
большая часть Волыни была захвачена [1, с. 230].
129
В апреле 1920 года началась киевская экспедиция. В мае польские
солдаты вошли в Киев [6, с. 94].
Польские успехи вызвали озабоченность Совета Народных
Комиссаров. 14 мая 1920 года началось наступление Красной
Армии. Затем началось отступление польских войск [6, с. 94-99].
13 августа 1920 года Красная Армия вторглась в Варшаву.
Столица Польши не была выиграна. 16 августа началось польское
контрнаступление с большим успехом. На юге поляки разгромили
армии Семена Буденного [2, с. 500-501].
В сентябре 1920 года битва велась на реке Неман. Поляки
одержали еще одну победу в этой войне [6, с. 102].
Польско-большевистская война закончилась подписанием мирного
договора в Риге 18 марта 1921 года.
В 1918 году город Остроленко возродился в Белостоке. Медленно
возвратились старые жители. Они находились в трудных условиях.
Отсутствовало все. Насколько это возможно, разрушенные здания
были
перестроены.
Даже
военные
укрепления
были
демонтированы [11, с. 185].
Ситуация улучшалась очень медленно. Был недостаток предметов
первой необходимости. Были проведены самые необходимые
ремонтные работы. Городские власти обращались за помощью
извне. Это были карты. Среди населения была огромная
безработица [8, с. 210-212].
Были созданы самые важные организации, такие как Окружной
административный совет, Агентство по трудоустройству,
Жилищное управление [4, с. 19].
Увеличилось число обучающихся. В 1919 году была открыта
Государственная гимназия короля Станислава Лещинского,
состоящая из восьми человек, которая приняла оборудование и
вспомогательные средства довоенной про-гимназии 1918 года [8,
с. 212].
Казалось, можно было бы мирно работать над восстановлением
разрушения и организации жизни, но летом 1920 года Красная
Армия вошла в зону молодого государства по борьбе с
терроризмом. Она двигалась в сторону Варшавы.
В начале июля 1920 года в ответ на призыв Государственного
совета обороны, созданный 1 июля 1920 года, Остроленка, как
130
первый город в Белостоке, был окружён районным комитетом
гражданской обороны остроленковского района [5, с. 247] .
Из города осталось только небольшое количество жителей. В
целях поддержания порядка и безопасности населения в городе
Остроленка была организована охрана. Его члены были набраны
из числа жителей города [8, с. 213].
Город должен был защищать генерала Операционной группы Яна
Врожинского, затем генерала Болеслава Роя. Он состоял из: 8
кавалерийских бригад, 115 уланских полков Познани, 2 полка
добровольцев от Владимира Владимира, 205 волонтерского
пехотного полка, часть казачьего дивизиона. Армия была
поддержана волонтерским отделением государственной полиции
из Белостока и разведчиками из штурмового взвода 4-го пехотного
полка [5, с. 248].
3 августа 1920 года под городом появились 8 и 53 дивизии
советских стрелков, и появилась кавалерия Бискиана Гая [5].
Было решено, что город будет защищать 205 пехотных полков, 4-й
пехотный полк, 1 морской полковой батальон, кавалерийские
эскадрильи кавалерии, 17-й тяжелый артиллерийский полк,
подразделения государственной полиции и бронетанковый поезд
мстителя [5, с. 248-249].
Действия на Остроленсковском фронте начались с польских
моряков, которые вытеснили противника из Новы Вие и Сушки
Старе. 4 августа генерал Болеслав Роя, глава группы Остроленка,
получил задачу самой долгой обороны города. Группа была
усилена 101 волонтерским пехотным полком и 76 пехотным
полком пехоты. В Остроленко произошли ожесточенные бои.
Основная битва за город была 5 и 6 августа. 5 августа войска
Красной Армии пересекли Нарев с намерением окружить город.
Многие жители покинули свое место жительства. Подполковник
Ежи Блешинский, командующий защитой левобережной части
города, издал приказ об укреплении. Тяжелые бои за
железнодорожную станцию. На следующий день местные деревни
сражались. Вечером 6 августа была заселена соседняя река [5, с.
249].
Также была железнодорожная станция. Польская контратака
привела к временному восстановлению железнодорожного
131
вокзала. В этот день генерал Болеслав Роя, командующий группой
Остроленка, решил покинуть город из-за истощения солдат и
отсутствия боеприпасов и продовольствия. В ночь с 6 на 7 августа
польские войска покинули город Остроленка. 7 августа в город
вошли первые войска Красной Армии [10, с. 142-144].
Местные евреи приветствовали оккупантов. Ралли было
организовано. Новая делегация также приветствовала небольшая
группа железнодорожников из Остроленки. Комиссар был
назначен в Остроленку. Был организован Временный
революционный комитет. Создана народная милиция [5, c. 250].
Город был разрушен. В результате артиллерийского огня возникло
множество пожаров. 15 августа директора школы и учителя
гимназии были брошены, чтобы очистить улицы. Группа
уважаемых хасидов также была вынуждена убирать улицы;
Дополнительной неприятностью было то, что работа проходила в
субботу [5, с. 250].
Среди них были отец Станислав Пёдзич, ректор церкви Св.
Бернарда и отец Людвик Затриба, викарий Посещения Пресвятой
Девы Марии и Св. Николая. Отец Затриба, имитирующий смерть,
спас ему жизнь [5, с. 250].
Отец Станислав Пёдзич вместе с другими заключенными был
доставлен в Ломзу. 22 августа 1920 года под Шченучыном он был
избит штыками. Тело было доставлено в город Остроленка и
захоронено в склепах монастырской церкви, опустошенной
красноармейцами [11, с. ].
На левой стороне церкви, в пресвитерии, была установлена
эпитафия портрета Отца Пёдзича. С фронтальной точки зрения.
Лицевые особенности имеют психологическое измерение с
признаками страданий и гордости в одно и то же время. Барельеф
был сделан в Варшаве. Медальон помещается в верхнюю часть
белого мраморного эпитафического стола. Знак гласит:
«S. P. ks. Станислав Пёдзич, настоятель монастыря, бывший
приходский священник прихода Винницы, родился 23. IV. 1857. В
Длугосиодле убит д. 22. VIII. 1920 большевиками в военном лесу
под Щучиным. Привет, ваша память, семья мучеников» [7, с. 20].
Во время контрнаступления из Вьепры войска 1-й польской армии
были поставлены в страхе сосредоточения Красной Армии вблизи
132
Млавы, Ломзы и Остроленки. Оккупация города облегчила прорыв
жителей. 23 августа жители, в том числе пожарные, не позволили
сжечь мост в Нареве. Мост был взорван отступающими
советскими солдатами, но он просто вытащил и опирался на лучи.
Вечером город был захвачен солдатами и железнодорожниками. С
солдатами Красной Армии бежали те, кто их поддерживал.
Польские солдаты начали искать людей, которые поддерживали
жителей. Один из задержанных был приговорен к смертной казни.
Многие были приговорены к тюремному заключению [5, c. 168].
Жители начали организовывать и восстанавливать город. Был
удален щебень. Ликвидация Красной Армии и предметов,
найденных в городе, была решена ликвидационной комиссией.
Комиссия также стремилась помочь людям наиболее
пострадавших в военное время. Город стал почти нормальным.
Жители возвращаются к своей повседневной деятельности [8].
По следам этих событий в соседнем Рачуне находятся две
гробницы солдат и могила полицейских, погибших в этой войне,
которая находится на приходском кладбище в Остроленке.
В группе генерала Яна Врожинского находилась волонтерская
группа, состоящая из офицеров государственной полиции из
Белостокской области. Это были полицейские из Белостока,
Ломсы и Остроленки. Офицеры участвовали в столкновении реки
Руз недалеко от Мястково. Большинство убитых поляков были
полицейскими. Органы полиции Остроленки собрали своих коллег
и отправили их в Остроленку. Они были похоронены в одной
могиле. Позже на могиле был установлен надгробный камень. Это
отдельно стоящий надгробный камень, выполненный из гранита, в
виде пьедестала с металлическим крестом. Крест был сделан из
плоского бруса, окруженного двойной короной тычинок, которые
образуют тонкую трибуну. На пьедестал была прикреплена плита
из серого песчаника. Он был увенчан орлом в короне. Орел
размахивает крыльями, ломается в полете. Есть надпись:
«Тихие герои убиты в бою
полицейскими большевиков. 1920 – 1930» [8, с. 214].
На приходском кладбище находится также надгробный памятник,
в котором находится Лучан Маевский. Это прямоугольная
133
пластина. Он сделан из цемента. В рельефе барельефного угла есть
надпись:
«S. P. Lucjan Majewski.
Он умер, убив трагическую смерть
большевиками dn. 24.VIII.1920 р. В возрасте до 36 лет.
Мир его душе».
В верхней части пластины находится латинский крест. Люкьян
Маевски управлял книжным магазином в Остроленке. Он
принадлежал Польской ассоциации средних школ, юридически
существующей с 1908 года. Он оставил свою жену.
Список литературы
1. Buszko J., Historia Polski 1864 – 1948, Warszawa 1988.
2. Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski. Tom II. Od roku 1795,
Kraków 1992.
3. Drezner Z., Gołota J., Wołosz A. K. F. / red. /, Księga Żydów
Ostrołęckich, Ostrołęka – Tel Awiw 2001.
4. Gołota J., Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym,
Ostrołęka 2000.
5. Gołota J., Społeczność Ostrołęki w dwudziestoleciu
międzywojennym. W : Z. Niedziałkowska, Ostrołęka. Dzieje miasta,
Ostrołęka 2002.
6. Eckert M., Historia Polski 1914 – 1939, Warszawa 1990.
7. Kowalik M., Zabytki sepulkralne na terenie województwa
ostrołęckiego, Ostrołęka 1988.
8. Niedziałkowska Z., Ostrołęka. Dzieje miasta, Ostrołęka 2002.
9. Parzych C., Cmentarz parafialny w Ostrołęce, Ostrołęka 1997.
10. Parzych C., Mogiły obrońców Ostrołęki 1920. // Mazowsze. –
2000. - № 13.
11. Parzych C., 300 lat kościoła świętego Antoniego Padewskiego w
Ostrołęce, Ostrołęka 1996.
12. Pronobis W., Polska i świat w XX wieku, Warszawa 1991.
11. Syska H., A w Zielonej, w Myszynieckiej, Warszawa 1956.
134
Лысенко И.В.
Личность императора и восприятие его семьи в сознании
русского общества 1896—1918 годов
2017 год является юбилейным по отношению к событиям,
происходившим в нашей стране 100 лет назад, но сохраняющим
актуальность глубиной и величием изменений общества, страны и
мира. Начавшееся в 1917 году названо Смутой не только из-за
масштаба потрясений, но, главное, тем сломом нравственных
начал и мировоззренческих ценностей массово поразившем
сознание русских людей в веке XVII и в веке XX.
Если не выявить причин трагедии и не исцелить общественное
сознание, всё может повториться. Для исцеления необходим
эталон здоровья, к которому стремится врач при лечении. Таким
нравственным и мировоззренческим эталоном для христианского
сознания является состояние святости. Апостол об этом говорит:
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не
увидит Господа .» Один из основоположников исихазма, как
школы молитвы и жизни, преподобный Симеон Новый Богослов
утверждает: все старания и весь подвиг христианина должен быть
обращен на то, чтобы стяжать Духа Святого, «ибо в этом и состоит
духовный закон и благобытие» . Святой Серафим Саровский
определял цель христианской жизни как стяжание благодати Духа
Святого , т.е. достижения святости.
Святость достояние святых. Их канонизация не всегда
проходит единодушно, но это обстоятельство не умаляет
достоинства Граждан Царства Небесного. В 2000 году к лику
святых были причислены император Николай Александрович
Романов, его супруга Александра Федоровна и дети Ольга,
Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей. Вся семья явила
свидетельство святости соборным решением. Пример жизни и
служения этой Семьи – рецепт исцеления всего российского
общества. Потому никакие исследования жизненного пути,
приведшие их в Царство Небесное, не будут лишними.
В своей богословской диссертации, некоторые выводы
которой опубликованы , автор доказывает факт достижения
135
императором подлинно блаженного состояния еще до его ареста,
поэтому в данной работе проявления святости императора
приводятся в значительно сокращенном варианте. Ниже
приводятся свидетельства очевидцев, или самих членов семьи,
раскрывающих блаженство её членов и созидающих Семью, как
образ Божий.
Самой оклеветанной в русском обществе была императрица. О
ней и начнем. Юлия Ден : «Любовь к Богу и вера в Его
милосердие были для Ее Величества важнее любви к детям и
мужу» . Баронесса Буксгевден: «Она была идеальной женой и
матерью» . Пьер Жильяр : « Государыня была одарена самыми
прекрасными
нравственными
качествами
и
всегда
руководствовалась самыми благородными побуждениями».
Императрица писала о себе в письме мужу: «Я не создана
для того, чтобы блистать в обществе. У меня нет таланта вести
пустые разговоры или острить. В человеке мне нравится его
внутренняя сущность. Именно это привлекает меня в людях. Ты
же знаешь, я из тех, кто любит проповедовать. Я хочу помогать
ближним, бороться и нести свой крест» . Александра Федоровна
писала в письме к дочери: Мы всегда должны думать о том, чтобы
наша помощь другим приносила им какую-то пользу, учила их
чему-то, изменяла к лучшему характер, делала их мужественнее,
сильнее, искреннее, счастливее. В мире много людей, впавших в
отчаяние, и мы должны уметь сказать им слово надежды или
сделать доброе дело, которое выведет их из безысходности и даст
силы вернуться к радостной, полной жизни.
В одном из писем Александры Федоровны к старшей дочери
Ольге можно увидеть как она воспитывала своих детей: «Учись
делать других счастливыми, думай о себе в последнюю очередь.
Будь мягкой, доброй, никогда не веди себя грубо или резко...Будь
терпелива и вежлива, всячески помогай сестрам. Когда увидишь
кого-нибудь в печали постарайся подбодрить солнечной
улыбкой(...) Покажи свое любящее сердце. Прежде всего научись
любить Бога - всеми силами души, и Он всегда будет с тобой.
Молись Ему от всего сердца. Помни, что Он все видит и слышит.
Он нежно любит своих детей, но они должны научиться исполнять
Его волю(...)» .
136
Анна Вырубова
свидетельствовала: «Государыня любила
посещать больных — она была сестрой милосердия от рождения:
вносила с собой в палату к больным бодрость и нравственную
поддержку. Раненые солдаты и офицеры часто просили ее
оставаться рядом во время тяжелых перевязок и операций, говоря,
что «не так страшно», когда государыня рядом. Царица
Александра часто помогала личными средствами больным
туберкулезом в санатории в Ливадии - в Крыму . Во время
мировой войны она стала со старшими дочерьми – Ольгой и
Татьяной, сестрой милосердия. Они готовились к этому труду на
специальных курсах, чтобы работать так же, как работали другие
сестры. Ходили на лекции и сдавали специальные экзамены .
Дети императора. А. Елчанинов писал в своей книге о царских
детях:
«Они
выросли
удивительно
деликатными,
добросердечными, лишенными малейших признаков порока,
который так был распространен в высшем свете - чванства.
Отличались
доброжелательностью,
отзывчивостью,
наблюдательностью. Много помогали бедным, особенно детям, но
не деньгами, а вещами, которые часто сами сделали. Ценят
человеческое достоинство, умеют находить все самое лучшее в
человеке . «Спали на простых деревянных кроватях, на твердых
матрацах и подушках» . Великая Княжна Ольга свои первые
деньги предназначила на помощь в лечении больного мальчика,
который был инвалидом. Увидев его в первый раз и узнав, что
родители не в состоянии обеспечить лечение сыну, княжна решила
каждый месяц откладывать для него личные деньги . Княжна
Татьяна в письме от 21 февраля, 1916 писала матери: «Я только
хотела просить прощения у тебя и дорогого Папы за все, что
сделала вам, мои дорогие, за все беспокойство, которое я
причинила. Я молюсь, чтобы Бог сделал меня лучше...» .
Анна Вырубова свидетельствует: Великие княжны «никогда не
жаловались(...)проявляли огромный интерес ко всем придворным,
занимавшим как самые высокие, так и самые низкие посты; были
внимательны в мелочах часто делая какие-то вещи
самостоятельно,
чтобы
позволить
служанкам
остаться
свободными» .
137
Баронесса С. Буксгевден сообщает: цесаревич Алексей пережил
огромное количество страданий, но «это его не озлобило. Это
только, казалось, порождало в нем сострадание, необычное для
маленьких детей, к страданиям других людей . Цесаревич был
прост в общении с другими тaк же, как и император. Баронесса
Буксгевден
утверждала, что Алексей «был самым
добросовестным ребенком, какого она когда-либо знала» .
Глава Семьи. По словам архиепископа Феофана Полтавского,
духовника Царской Семьи, «каждый будний день Государь всегда
начинал с молитвы» «Государь всегда молился очень усердно.
Каждое прошение ектеньи, каждая молитва находили живой
отклик в его душе» . Николаю исполнился 21 год, он просил
благословения родителей на брак с Аликс, которую он давно
любил, и получил отказ, так как был еще слишком молод. 20
декабря 1891 он записал в своем дневнике: «Все в воле Божей.
Уповая на Его милосердие, я спокойно и покорно смотрю в
будущее» .
Следующие свидетельства соответствия жизни императора
заповедям блаженств взяты автором из опубликованного жития
страстотерпца. В неурожайный 1891 год Александр III поставил
сына во главе Комитета по оказанию помощи голодающим. Это
было школой милосердия на стезе благочестия. В решающий
момент Кронштадтского мятежа в 1906 году Николай
Александрович после доклада министра иностранных дел сказал:
«Если вы видите меня столь спокойным, то это потому, что я имею
непоколебимую веру в то, что судьба России, моя собственная
судьба и судьба моей семьи — в руках Господа. Что бы ни
случилось, я склоняюсь перед Его Волей».
27 ноября 1914 года Николай Александрович записал в
своем дневнике: «Не верится, что сегодня двадцатилетие нашей
свадьбы! Редким семейным счастьем Господь благословил нас;
лишь бы суметь в течение оставшейся жизни оказаться достойным
столь великой Его милости» . Глава семьи часто напоминал: «Чем
выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в
обращении не напоминать своего положения, такими должны быть
и мои дети» . Баронесса София Карловна Буксгевден вспоминала,
138
что царь Николай «был щедр и много помогал, жертвовал на
пенсии из своих личных доходов» .
С первых дней войны государь, помимо неусыпных трудов
государственных, объезжал фронт, города и села России,
благословляя войска и ободряя народ в посланном ему испытании.
Царь горячо любил армию и близко принимал к сердцу ее нужды.
Известен случай, когда государь прошел несколько верст в новом
солдатском обмундировании, чтобы ближе понять тяготы
солдатской службы. Государь обладал ценнейшими для
военачальника качествами: высоким самообладанием и редкой
способностью быстро и трезво принимать решения в любых
обстоятельствах. Летом 1915 года, в тяжелейшее для русской
армии время, царь принял на себя верховное командование
войсками. Подъему боевого духа солдат во многом способствовал
и приезд на фронт юного царевича Алексея.
Четыре миллиона рублей царских денег, которые со времени
правления императора Александра II находились в Лондонском
банке, Николай Александрович истратил на содержание
госпиталей и других благотворительных учреждений. «Он скоро
все раздаст, что имеет», — говорил управляющий кабинетом его
величества, основывая на этом свое желание покинуть
занимаемую должность. «Его платья были часто чинены, —
вспоминает слуга царя. — Не любил он мотовства и роскоши.
Штатские костюмы велись у него с жениховских времен, и он
пользовался ими». После убийства царской семьи в Екатеринбурге
были найдены военные шаровары императора. На них оказались
заплаты и пометки: «Изготовлены 4 августа 1900 года»,
«Возобновлены 8 октября 1916 года».
««Уверены ли Вы, что это послужит ко благу России?» — спросил
Он тех, кто …предъявил Ему требование об отречении от Своих
наследственных прав, и, получив утвердительный ответ, тотчас же
сложил с Себя бремя царского правления, боясь, что на Него
может пасть хоть одна капля русской крови в случае
возникновения междоусобной войны» .
Изгнание и поношение императора, злословие на него известны
всем. Можно сказать, что на этой информации воспитывались
послереволюционные поколения. Но первыми познакомились с
139
ней современники, когда «печать наполнилась самыми лживыми и
гнусными пасквилями по адресу отрекшегося Самодержца» .
Назначенная Временным правительством следственная комиссия
изводила царя и царицу обысками и допросами, но не нашла ни
единого факта, обличающего их в государственной измене.
Татьяна Мельник-Боткина рассказывала о своей встрече с некоей
дамой, которой пришлось быть однажды в следственной
комиссии, помещавшейся в Петрограде в Таврическом дворце.
«Во время долгого ожидания она (дама) слышала разговор,
происходивший в соседней комнате. Дело шло о корреспонденции
Царской Семьи. Один из членов следственной комиссии спросил,
почему еще не опубликованы письма Императрицы и Великих
Княжон. - Что Вы говорите, - сказал другой голос, - вся переписка
находится здесь - в моем столе, но если мы ее опубликуем, то
народ будет поклоняться им, как святым . Во время первой
мировой войны Царская Семья не заказывала никаких новых
платьев. По воспоминаниям Татьяны Боткиной , они шили только
формы сестер милосердия и сами ходили в «штопаных платьях и
стоптанных башмаках» . А все собственные деньги старались
предназначать на благотворительность. Владимир Воейков
вспоминал: «Их настоящая нравственная и христианская жизнь
была большой редкостью не только в образованном обществе, но и
среди народа» .
Современники свидетельствовали: «Во время богослужения Царь
и вся Семья служат образцом внимания и благочиния» . Как
вспоминал архиепископ Феофан Полтавский: «С каким
возвышенным, святым благоговением они пели и как читали во
время службы! Во всем был подлинный, высокий, чисто
монастырский дух. А с каким трепетом, с какими слезами
приступали они ко Святой Чаше!...» Протоиерей Александр
Шаргунов утверждает: Семья императора - «образец семьи, икона
семьи» .
В работе приведены лишь некоторые свидетельства святости
Семьи последнего российского императора. Он был самым
богатым человеком своего времени. Мог позволить себе
удовлетворение любой прихоти. Вместо этого он свято выполнил
библейскую заповедь «роститесь и множитесь» Быт. 1, 22, 28, не
140
только став святым отцом для своих пятерых детей, но и для всей
160ти миллионной Российской империи. Он стал образцом
служения Богу и людям, а его Семья – идеалом, иконой для
нашего общества, наконец признавшего демографическую
проблему - проблемой государственной безопасности.
Список литературы
1
Преп. Симеон Новый Богослов, Слова, М. 1892, Слово
второе
2. Н. Пестов, Основы Православной веры, Изд. "Елеон", М. 1999
3. И.Лысенко, свящ. Личность императора-страстотерпца в
общественном сознании России начала ХХ века //Христианское
чтение. 2013. № 1
4 Марина Крабцова, Воспитание детей на примере святых
Царственных Мучеников, Краматорск 2000.
5. Баронесса Софья Буксгевден, Жизнь и трагедия Александры
Федоровны, Императрицы России, М. 2013.
6. Александр Боханов, Александра Фёдоровна, М. 2008.
7. Государыня Императрица Александра Феодоровна Романова,
Дивный свет. Дневниковые записи, переписка, жизнеописание, М.
2012.
8. Елена Неволина, Золотой святыни свет, М. 2012.
9 Анна Вырубова, Страницы моей жизни. Воспоминания, М. 2013.
10. Царские дети, сост. Н. Бонецкая, Москва 1999, с. 298.
11. А. Елчанинов, Царствование Государя Императора Николая
Александровича, СПб-М. 1913.
12 Николай II в воспоминаниях и свидетельствах, Гл. ред. С.
Дмитриев, М. 2008.
13 Ричард (Фома) Бэттс, Вячеслав Марченко, Духовник Царской
Семьи. Архиепископ Феофан Полтавский, М. 2010.
14. Е. Алферьев, Император Николай II как человек сильной воли,
Свято-Троицкий Монастырь Джорданвилль 1983.
15 Николай II Александрович, Дневники, электронный ресурс:
http://militera.lib.ru/db/nikolay-2/1914.html, дост. [18.09.2014]
16. В. Хрусталев, Романовы. Последние дни Великой династии,
электронный ресурс: http://8b.kz/c5us , дост. [24.11. 2014]
141
17 Митрополит Анастасий Грибановский Слово произнесено 4го/17-го июля 1925 г., после заупокойной литургии на Голгофе в
храме Воскресения Христова в святом граде Иерусалиме.
http://www.pravmir.ru/slovo-v-den-ubieniya-tsarskoy-semi/ 23.06.2016
18 Воейков В.Н. С царем и без царя. Воспоминания последнего
дворцового коменданта государя императора Николая II. М., 1994.
19. Т. Мельник-Боткина, Воспоминания о царской семье, Белград
1921, электронный ресурс: http://emalkrest.narod.ru/txt/botkina.htm,
доступ [20.09.2015]
20. Протоиерей Александр Шаргунов, Царь, ООО Златоуст 2013.
Михеев В.Л., Палкин И.И.
МОРЯКИ КРОНШТАДТА И ГЕЛЬСИНГФОРСА
МЕЖДУ ФЕВРАЛЕМ И ОКТЯБРЕМ 1917 г.
Моряки-балтийцы
сыграли
большую
роль
в
революционных событиях 1917 года. Но активное политическое
участие военного флота в государственных переворотах является
скорее уникальной случайностью, чем закономерностью. В статье
изучены настроения моряков Балтийского флота, т.к. это помогает
понять, почему они включились в политическую деятельность.
Этому
способствовало
одновременное
воздействие
нескольких причин. К 1917 году в матросских массах были
распространены настроения леворадикального и экстремистского
характера,
которые
сильно
повлияли
на
общий
ход
революционных событий. «Левые» настроения поддерживались во
флоте и тем, что не были четко названы виновники поражения в
русско-японской
войне.
Матросы
обвиняли
в
поражении
офицеров и командование, а офицеры революционно настроенных
142
матросов [7]. Разница в образе жизни и происхождении офицеров
и
матросов
осознавалась
как
непреодолимый
разрыв;
дисциплинарная система флота казалась слишком суровой вновь
призванным матросам [9].
Основные флотские базы были расположены близко к
столице и крупным городам, и на флот легко проникали
политические идеи. Политические партии «левее» большевиков
(особенно эсеры, левые эсеры, максималисты и анархисты), а
также
левые
течения
большевиков
(«левые
коммунисты»,
троцкисты и др.) вели пропаганду среди матросов. Но и правые
партии,
желающие
революционных
укрепить
свою
преобразований,
власть
не
с
помощью
препятствовали
распространению левого экстремизма. И, хотя до апреля 1917 г.
матросским массам были не слишком понятны партийные
различия, они склонялись к левому экстремизму – в первую
очередь под влиянием общественных настроений. Примеры этого
легко найти в мемуарах – об этом пишет, в частности, Н.А.
Ховрин,
лидер
ячейки
большевиков
на
начавшем
Гельсингфорсское восстание линейном корабле «Император Павел
I» [13, с. 60-64].
Левоэкстремистский настрой матросов привел в феврале
1917 г. к самосудам над офицерами в Гельсингфорсе и
Кронштадте. «В Февральскую революцию на флоте погибли около
ста офицеров: в Гельсингфорсе около 45, немногим меньше в
Кронштадте, в Ревеле 5, в Петрограде 2, а также свыше 20
143
боцманов, кондукторов и сверхсрочников. Кроме того, 4 офицера
покончили жизнь самоубийством, 11 пропали без вести (вероятно,
убиты или сбежали). В Гельсингфорсе были арестованы около 50
офицеров, в Кронштадте – около 300» [8, с. 47]. Самосуды
описаны в матросских мемуарах 1920-х годов. Матрос В. Пошехов
фиксирует расправу над командиром Кронштадтского порта
адмиралом
Р.Н.
Виреном,
жестким
сторонником
уставной
дисциплины, порой даже с самодурством (о чем вспоминали и
офицеры-эмигранты): «Толпа с ревом дикого зверя набросилась на
беззащитную жертву…» [10, с. 33]. Но современники событий и их
участники воспринимали происходящее несколько иначе, чем мы
сегодня. Н.А. Ховрин откровенно повествует о применении для
убийств кувалды, прикладов, добивании раненых, случайном
выборе жертв среди офицеров. Парадокс: он понимает, что
офицеры лишь исполняли свой служебный долг, стремясь
сохранить дисциплину, но и не осуждает убийц, потому что
считает, что проявленная матросами жестокость – «детская
забава» по сравнению с расправами над матросами в 1905 г. и тем,
что приходилось переносить матросам от офицеров во время
службы [12].
Историки по-разному объясняют причины матросских
расправ
с
офицерами.
Утверждается,
что
матросы
были
изолированы большими группами в тесном пространстве на судах,
и им требовался сброс социально-психологического напряжения;
упоминаются антимонархическая и шпионско-провокаторская
144
версии, но в любом случае неверно считать действия матросских
масс
показателем
только
их
преступно-уголовной
сути,
психопатологии, или низкой политической и общей культуры.
Скорее, офицеры, стремившиеся сохранить дисциплинарный
порядок,
казались
противниками
любых
общественных
изменений. Самосуды прекратились, когда сознательная часть
кронштадцев поняла, что они больше вредят, чем помогают
революции. Постепенно виновниками самосудов стали считать
новые власти и Советы меньшевистско-эсеровского толка; стали
известны и конкретные убийцы и провокаторы [7; 14].
С весны по октябрь 1917 произошло еще несколько
инцидентов, показавших левые и экстремистские настроения
матросов Балтфлота. 28-30 апреля (11-13 мая) 1917 по инициативе
матросов-большевиков Гельсингфорсского совета, поддержанной
флотскими комитетами, был организован Центробалт. В его 1-й
состав вошло 33 человека, председателем был избран большевик
П.Е. Дыбенко. 1-й съезд Балтийского флота 25 мая – 15 июня (7-28
июня) принял устав, согласно которому Центробалт являлся
высшим органом, без санкции которого ни один приказ,
касающийся Балтийского флота, не мог иметь силы. В Кронштадте
с марта 2017 активно работает Кронштадтский Совет, который
объединил Совет военных депутатов армии и флота и Совет
рабочих депутатов. Благодаря их деятельности в Кронштадте был
остановлен захват казначейства, установлен 8-часовой рабочий
день на Морском заводе и в мастерских, приняты меры по борьбе с
145
пьянством и азартными карточными играми; организованы клубы
для судовых команд; отменена служба денщиков. Совет занимался
и продовольственным вопросом – именно он ввел хлебные
карточки в городе и отпустил на сельскохозяйственные работы
призванных в 1900-1904 гг. ратников Морского ополчения.
Председателем Совета был переизбран беспартийный А.Н.
Ламанов, одним из трех товарищей председателя стал большевик
Ф. Раскольников. Решением Совета было закреплено создание
единого флотского демократического органа – Центрального
комитета
морских
сил
Кронштадта.
В
начале
мая
в
Кронштадтском Совете было около 300 человек, примерно
поровну большевиков и эсеров (93 и 91 человек), а также
меньшевики и беспартийные [10].
Первоначально кронштадтцы поддерживали Временное
правительство, но уже 7 марта Исполнительный комитет КС
признал текст присяги Временному правительству неприемлемым
и решил вести переговоры для выработки новой присяги. 12 марта
Исполком Кронштадтского Совета объявил комиссару Временного
правительства в Кронштадте В.Н. Пепеляеву решение считать
Совет «руководящим учреждением». Резолюции заседаний КС от
13 и 16 мая вообще упраздняли должность правительственного
комиссара. Кронштадтцы сообщили Временному правительству,
что власть в крепости принадлежит Совету, и по всем вопросам он
будет работать только с Петроградским Советом. 21 мая (3 июня)
в Кронштадт прибыла делегация Петросовета во главе с его
146
председателем Н.С. Чхеидзе, затем делегация от Временного
правительства (М.И. Скобелев и И.Г. Церетели), которая
одновременно
представляла
Петросовета.
Казалось,
и
удалось
Исполнительный
достичь
Комитет
компромисса
с
Кронштадтским Советом, но вскоре кронштадтцы вернулись к
прежней
Временное
позиции
непризнания
правительство
и
Временного
часть
правительства.
Петроградского
Совета
восприняли это как намерение образовать «Кронштадтскую
республику». Кронштадтский Совет протестовал против попыток
приписать ему сепаратизм и предложил назначить беспартийного
кронштадтца Ф.Я. Парчевского представителем Временного
правительства. 30 мая «кронштадтский инцидент» обсуждался на
заседании Петербургского комитета РСДРП(б). Решение гласило,
что инициатива Кронштадта преждевременна. Когда в июне 1917
приказом Керенского была объявлена «Декларация прав солдата»,
ее обсуждали на заседании Кронштадтского Совета и не
согласились со всеми пунктами, решено было по-прежнему
руководствоваться Приказом №1 Петросовета от 1 (14) марта.
Кронштадтцы выступали за прекращение войны, осуждали
разгром дачи Дурново в Петрограде, и требовали наказания
виновных. 23 июня по вопросу наступления на фронте Совет
принял две резолюции: большевистскую и эсеровскую, - но в
обеих была идея, что наступление на фронте есть наступление на
завоевания революции, необходимо передать власть Советам и
заключить справедливый мир. Еще весной 1917 г. на флоте
147
появились слухи о подготовке наступления на фронте. Судовые
комитеты и Центробалт были против наступления, поскольку в
случае потерь компенсировать недостаток боевой силы пришлось
бы матросами с невоюющих кораблей. В конце июня на Якорной
площади прошли митинги, которые требовали отправить в
Петроград делегацию для выяснения обстановки. Вмешательство
кронштадтских моряков в события июля 1917 в Петрограде было
очень существенным [14, с. 105-135].
Новость о провале летнего наступления в конце июня 1917
г. вызвала волнения в 1-м пулеметном полку (11-12 тыс. чел.),
квартировавшем на Выборгской стороне. Часть «пулеметчиков»
симпатизировала анархистам, но рабочие Выборгской стороны большевикам и левым эсерам. Политические партии стремились
«раскачать» ситуацию. В Кронштадте наибольшее влияние имели
анархисты, следом – большевики, а левые эсеры «дышали им в
затылок». Центробалт еще не мог оказать решающего влияния на
события,
но
также
выпустил
призыв
против
июньского
наступления. По воспоминаниям П.Е. Дыбенко, он посетил В.И.
Ленина в особняке Кшесинской и получил указания, что не стоит
пока вооруженной силой свергать правительство, предполагается
мирная демонстрация, а не вооруженный мятеж. В начале июля
1917 1-й пулеметный полк и анархисты прислали в Кронштадт
делегацию, призывавшую вооружиться и идти на Петроград для
объединенных революционных действий. Кронштадтский Совет
не поддержал эту идею, но матросы собрали митинг на Якорной
148
площади и решили двинуть в столицу. Большевиков в Петросовете
успели предупредить о плане матросов (Зиновьеву позвонил Ф.
Раскольников). Совет же решил послать в Петроград делегацию
[14]. (В Гельсингфорсе же в это время матросы чувствуют себя
весьма
вольно
и
не
особенно
стремятся
участвовать
в
исторических событиях [3]).
Вечером повстанцы 1-го пулеметного полка собрались
около особняка Кшесинской и двинулись на Таврический дворец.
Около 11 часов, когда демонстрация проходила по Невскому
проспекту, впереди взорвалась граната и началась стрельба.
Пулеметчики открыли огонь в ответ, затем толпа во главе с
анархистами взяла в осаду Петросовет. ЦК большевиков к этому
моменту снял лозунг о сдерживании масс и все же принял решение
об участии в демонстрации. В Финляндию за Лениным был
отправлен посланец. К полуночи у Таврического было около 30000
человек, и еще около 10000 вооруженных матросов двигались в
Петроград из Кронштадта и к ночи высадились на Васильевском
острове и Английской набережной.
Матросы пошли к Таврическому дворцу через особняк
Кшесинской. С балкона ними выступили Свердлов, Луначарский,
но матросы желали услышать Ленина и, как считает М.А.
Елизаров,
фактически
силой
заставили
его,
только
что
вернувшегося, высказаться [7]. Но речь Ленина не была призывом
к действию, авторитет большевистских лидеров упал, левые эсеры
149
не поддержали матросскую демонстрацию, и все большее влияние
получали анархисты.
Колонну матросов на углу Литейного проспекта и
Пантелеймоновской (Пестеля) улицы обстреляли из пулемета. Кто
это сделал, до сих пор непонятно. Озлобленные матросы
присоединились к толпе у Таврического, и тут массами уже не мог
управлять никто – ни большевики, ни анархисты. На волне
вседозволенности
кое-кто
из
матросов
кинулся
проводить
«реквизиции» в ближайших частях города. К толпе вышел
министр земледелия Временного правительства эсер В.М. Чернов,
и его тут же «арестовали», требуя освободить заключенного за
защиту дачи Дурново анархиста А.Г. Железнякова. Троцкий и
Раскольников уговорили все же отпустить министра, начались
переговоры демонстрантов с ЦИКом Петросовета о созыве нового
Всероссийского съезда Советов и передаче власти ему. Развитие
переговоров
прервали
орудийные
выстрелы
(историки
утверждают, что холостые), которые разогнали уже уставшую
толпу - командующий военным округом генерал П.А. Половцов
отправил к Таврическому лейб-гвардии Волынский полк. В итоге
большая часть матросов вернулась в Кронштадт, 2000 человек
осталось
на
охране
особняка
Кшесинской
по
указанию
Раскольникова, которого назначили комендантом революционного
штаба большевиков. Они, в сущности, были в ловушке, т.к.
плавсредства ушли на базу, а угроза со стороны войск, верных
Временному правительству, сохранялась. Вместе с частью 1-го
150
пулеметного
полка
эти
революционные
матросы
ушли
в
Петропавловскую крепость, вероятно, реквизировав по дороге еще
оружие из находящегося рядом Арсенала, и готовились к
вооруженному сопротивлению, но ситуацию удалось решить через
переговоры
благодаря
представителям
РСДРП(б).
Ни
большевикам и Петросовету, ни Временному правительству не
хотелось иметь в центре столицы непредсказуемых вооруженных
людей [14, с. 121-123].
В это время в Петроград из Гельсингфорса прибыла
делегация Центробалта во главе с Н. Ховриным и Н. Измайловым,
чтобы возглавить действия кронштадтских матросов. Опоздавшие
посланцы Центробалта были арестованы и отправлены в тюрьму
по решению правительства [13]. Тем временем штаб большевиков
в особняке Кшесинской перестал существовать, Ленин успел
скрыться в Разливе. Центробалт же еще в начале июля потребовал
немедленной передачи власти Советам, отставки и ареста
морского министра Дудорова, отставки комиссара Временного
правительства в Гельсингфорсе, и отправил новые делегации в
Петроград.
6 июля из Гельсингфорса в Петроград пришли два
миноносца,
но
правительственный
ситуация
кризис
в
столице
был
уже
отчасти
изменилась,
преодолен,
и
революционные матросы, возглавляемые Дыбенко, были тут же
отправлены в Кресты. Их обвиняли в государственной измене и
шпионаже в пользу Германии, что грозило смертной казнью. 7
151
июля Керенский потребовал роспуска Центробалта, Центробалт
ответил протестом, но митинги на судах в Гельсингфорсе не
привели к действиям. Под угрозой блокады и бомбардировки
Кронштадтский Совет выдал Временному правительству Ф.
Раскольникова и Антонова-Овсеенко. Были закрыты многие
флотские газеты. Пропаганда утихла. Попытка большевиков
получить власть на волне правительственного кризиса не удалась.
Временное правительство сформировало новый коалиционный
состав,
а
РСДРП(б)
чуть
не
была
уничтожена.
Особая
следственная комиссия правительства должна была арестовать
Ленина, Зиновьева, Коллонтай, Семашко, Луначарского и других.
В целом общественные настроения после июльских событий
сдвинулись вправо, Советы и вообще социалисты (от анархистов и
большевиков до меньшевиков и левых эсеров) перестали вызывать
симпатию [7; 14].
В начале июля 1917 в Гельсингфорсе прошли перевыборы
Центробалта, но второй состав проработал всего около двух
недель, затем новый командующий Балтийским флотом адмирал
А.В. Развозов распустил его. Третий созыв Центробалта еще
меньше симпатизировал большевикам и сперва подчинился
командованию,
хотя
включенные
в
его
состав
«старые
центробалтовцы» поставили вопрос об освобождении «своих» из
тюрьмы. В Петроград снова отправили делегацию. Но в августе
Центробалт снова выразил недоверие Временному правительству.
Перед VI съездом РСДРП(б) Центробалт пережил новую
152
большевизацию, хотя большевики и не стали преобладающей
силой. Пришедшая из подполья статья Ленина «К лозунгам»
пришлась матросам очень по душе – она призывала к силовому
захвату власти. Эта большевистская установка оказалась очень
своевременной, хотя влияние партии на Балтийский флот и не
было абсолютным [14].
Когда в августе 1917 попытку захвата власти предприняла
армия во главе с генералом Корниловым, Кронштадтский Совет
отправил отряды моряков в форт Красная горка и в Ораниенбаум
для противодействия пехотной бригаде с артиллерией Корнилова.
Центробалт не хотел возрождения жесткой армейской и флотской
иерархии и дисциплины, и потому был против Корнилова.
Центробалт
и
Гельсингфорсский
Совет
создали
для
противодействия корниловщине первый в России Революционный
комитет, направили на все корабли и в береговые части
комиссаров, и решили не выполнять ни одного приказа
командования без подтверждения ими. 26-28 августа, когда
противостояние Керенского и Корнилова переросло в войну,
Центробалт заседал ежедневно, отправил из Гельсингфорса в
Петроград шесть эсминцев, а из Кронштадта около 4000
вооруженных матросов [5]. Одновременно матросы гвардейского и
2-го флотского экипажей, расквартированных в Петрограде,
провели обыски и аресты подозрительных офицеров. Матросы
взяли под контроль почтамт, телефонную станцию, Смольный и
Таврический дворец. 29 августа наступление корниловских войск
153
на столицу было остановлено, Корнилов арестован, Верховным
главнокомандующим
объявлен
Керенский.
Но
он
потерял
симпатии большой части населения и стал более зависим от
большевизирующихся Советов. В итоге пришлось освободить
арестованных большевиков; они получили возможность легально
формировать боевые структуры, - так появились отряды Красной
гвардии. В начале сентября из Крестов были отпущены участники
гельсингфорсских делегаций, в том числе Дыбенко.
31 августа в Центробалте эсеры, меньшевики и анархисты
объединились
против
большевиков.
На
судах
тоже
была
напряженная атмосфера, напоминающая март 2017 – несколько
офицеров
Корнилова,
отказались
и
были
подписать
резолюцию
матросами
с
расстреляны.
осуждением
Офицеры
Гельсингфорса требовали расследования, и Центробалт его провел
– руками Н. Ховрина и Н. Измайлова, которые решили, что
виновны в бессудном расстреле не непосредственно совершавшие
его матросы, а Корнилов и Керенский, т.к. их действия обострили
классовые противоречия. Но Центрофлот из Петрограда требовал
найти и наказать настоящих виновников, что снова вызвало
конфликт в Центробалте: большевики и анархисты утверждали,
что виновато правительство, а меньшевики и эсеры призывали
найти и наказать участников расстрела. Председатель Центробалта
меньшевик С. Магницкий снял с себя полномочия, чем
воспользовались большевики – при переизбрании на должности
оказался большевик Ф. Аверичкин. Но неофициально вся фракция
154
большевиков
в
Центробалте
подчинялась
вернувшемуся
в
Гельсингфорс Дыбенко [5; 6; 7].
В начале сентября правительство опубликовало декрет о
создании Российской республики, и матросские массы тут же
потребовали через Центробалт включить в новое название
государства слова «федеративная» и «демократическая», название
«Российская
республика»
рассматривалось
ими
как
контрреволюционное. В Центробалте меньшевики и эсеры
конфликтовали
с
большевиками
и
анархистами.
Судкомы
кораблей в Гельсингфорсе подняли красные флаги в защиту
принципов
федеративности
и
Временное
правительство
отправило
(бронедивизион
и
резерв
демократичности.
В
ответ
карательный
отряд
Преображенского
полка
под
командованием генерала Полковникова), который вряд ли вообще
мог что-то сделать с военными судами, и даже не дошел до
Гельсингфорса. Матросы убедились в своей безнаказанности.
Временное
правительство
все
же
собиралось
провести
демократическое совещание по вопросу будущего устройства
государства для всех партий, земств, общественных организаций,
профсоюзов,
представителей
воинских
частей.
Большевики
отказались в нем участвовать, - Ленин заявил, что это ловушка
эсеров и меньшевиков. Центробалт требует передать власть
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а
обсуждение федеративности и демократичности забывается [14].
155
В сентябре 1917 Ленин опубликовал статью «Большевики
должны взять власть», и в Кронштадте тут же состоялся митинг в
15000 человек, которые требовали немедленно созвать 2-й съезд
Советов и выпустить всех большевиков из тюрем. В телеграмме
Правительству по резолюции митинга выражено недоверие
Центробалту и требование перевыборов – с целью усилить
позиции
большевистской
фракции.
19
сентября
прошло
объединенное заседание судовых комитетов, Центробалта и
матросской
секции
Гельсингфорсского
Совета,
председательствовал Дыбенко. Резолюция заседания: Центробалт
не признает Временное правительство. Понятно, почему именно к
революционным матросам большевики обратились в октябре 1917
года.
Матросы
стали
революционной
силой
в
остро
политизированном и уставшем от войны обществе, - в то время как
военно-морские экипажи в вооруженных действиях участвовали
мало. Для усиления политического контроля в революционном
флоте сформировался политический аппарат – в виде Центробалта,
выборные руководители которого могли влиять на настроения
матросов в зависимости от того, представители какой из партий
оказывались во главе этой структуры. Матросский состав флота
был неоднороден, т.к. вследствие длительной войны призывалась
не только молодежь, но и люди среднего возраста, лучше
осознававшие свои подлинные интересы [9]. Также неоднороден
был и офицерский корпус, т.к. офицеры также проявляли
156
политические пристрастия, что было невозможно в прежнем,
традиционном
имперском
флоте.
Главной
проблемой
революционного флота была «условная» дисциплина. Новая
государственная власть была вынуждена рассматривать каждого
командира «прежних» вооруженных сил как потенциального
изменника, отсюда – особое отношение к командирскому приказу,
который исполнителю следует оценивать по «соответствию целям
и задачам революции», и при малейшем сомнении – его можно не
выполнять. Гражданская власть зачастую была не в силах
контролировать ситуацию и принимать решительные меры. Это
привело к деградации вооруженных сил, причем флота заметнее,
чем сухопутных войск, т.к. он малочисленнее, меньше нуждался в
массовом пополнении личного состава и требовал высокого
уровня профессиональной подготовки офицеров и матросов.
1.
Литература:
Антонов-Овсеенко В. Октябрьская буря // Октябрьское
вооруженное восстание в Петрограде. Воспоминания активных
участников революции. Л.: Лениздат, 1956.
2.
Бажанов Д.А. Русские моряки на берегу: досуг как фактор
маргинализации Гельсингфорса летом 1917 г. // Теория и практика
общественного развития. 2012, №11. С. 220-224.
3.
Бажанов Д.А. Модели поведения матросов-балтийцев на
берегу весной-летом 1917 г.// Революция 1917 года в России:
157
новые подходы и взгляды. СПб., РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. С.
97-113.
4.
Другов
Ф.П.
Анархисты
в
русской
революции:
Октябрьские дни в Смольном. Пробуждение, 1932, № 23–27.
5.
Дыбенко П.Е. Из недр царского флота к Великому
Октябрю. М.: Воениздат, 1958.
6.
Жигалов И.М. Дыбенко. М.: Молодая гвардия, 1983.
7.
Елизаров М.А. Левый экстремизм на флоте в период
Революции 1917 года и гражданской войны (февраль 1917 – март
1921 гг.): дис. ... доктора ист. наук: 07.00.02. СПб.: С.-Петерб. гос.
ун-т, 2007.
8.
Елизаров М.А. «Здесь было много стихийного, слепого и
страшного
мщения». Самосуды на
флоте
в
первые
дни Февральской революции 1917 года // Военно-исторический
журнал. 2006, № 12. С. 46-50
9.
Назаренко К.Б. К вопросу о политических настроениях
матросов отечественного военно-морского флота в 1917–1921 гг.//
Вестник Санкт-Петербургского Университета. 2010, Сер. 2, вып. 1.
С. 3-13.
10.
Спиридонова И.Л. Кронштадтский совет в 1917 году.
Протоколы и постановления. Т. 1. Март-июнь. Опыт подготовки
документальной
публикации.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
https://fond.istoriya.today/images/documents/konfrggu2017/spiridonov
a.pdf (Дата обращения: 12.10.2017).
158
11.
Пошехов В. Ночь на 1-е марта 1917 г. в Кронштадте //
Красный балтиец. 1920. № 1.
12.
Ховрин Н.В. 1917 г. во флоте // Красная летопись. 1926. №
5(20). C. 55-75.
13.
Ховрин Н.А. Балтийцы идут на штурм. М.: Воениздат,
1987.
14.
Шигин В.В. Расстрельное дело наркома Дыбенко. М.: Вече,
2017.
Когут В. Г., Нурышев Г.Н.
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ В
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
В
современных
интерпретаций
Великого
условиях
существует
несколько
Октября.
Либеральная
трактовка
свидетельствует, что Россия в своем развитии существенно
отставала от Запада. Февральская революция, с этой точки зрения,
наконец-то уничтожила институт самодержавия, тормозящий
дальнейшее
развитие
страны,
сформировала
институты
гражданского общества и приступила к буржуазным реформам.
Однако тоталитарный русский народ оказался не готовым к
либеральным
преобразованиям
и
отверг
демократические
реформы, создав новую форму тоталитаризма. Марксистская точка
зрения
оценивает Великий Октябрь сквозь призму классовой
159
борьбы
как
закономерный
процесс
смены
общественно-
экономической формации. Консервативная версия рассматривает
эти события как переворот по указке мировой закулисы,
совершенный
инородцами,
прибывшими
из-за
рубежа
в
пломбированных вагонах. Эти «товарищи» незаконно захватили
здесь власть, устроили геноцид и стали с помощью террора
править страной.
Геополитическое
измерение
политических
процессов,
включая и Великий Октябрь, опирается, прежде всего, на основной
закон геополитики, утверждавший планетарный дуализм между
теллурократией,
цивилизацией,
Евразией,
с
одной
Хартлендом,
идеократической
стороны,
талассократией,
и
англосаксонским миром, торговой цивилизацией, с другой. В
зависимости
от
«сухопутной»
или
«морской»
ориентации
государств экономические и политические процессы идут по
совершенно разным векторам[3].
Английский геополитик Х. Маккиндер в своей работе
«Демократические идеалы и реальность» сформулировал максиму:
«Кто
контролирует
Хартлендом;
Кто
Восточную
Европу,
тот
командует
контролирует
Хартленд,
тот
командует
Мировым островом (то есть Евразией и Африкой);
Кто
контролирует Мировой остров, тот командует миром»[5]. Но он не
ограничивается лишь формулировкой своей максимы, но и
пытается в 1919—1920 гг. реализовать ее на практике на посту
верховного комиссара Антанты в Украине и британского
160
советника-проконсула
в
штабе
генерала
А. Деникина.
Х.
Маккиндер активно участвует в организации международной
поддержки
белому
движению
как
талассократически
ориентированной силе. Он лично консультировал вождей белого
дела,
стараясь
добиться
максимальной
поддержки
от
правительства Англии. Наибольшую опасность для Запада, по
мнению
Х. Макиндера, представляют большевики, которые
контролируют внутренние территории Хартленда и становятся
евразийской
сухопутной
силой,
самостоятельным
геополитическим субъектом. Чтобы не допустить появления такой
силы, полагает он, необходимо срочно создать под контролем
западноевропейских держав такие марионеточные государства,
как Белоруссия, Украина, Южно-Россия, Дагестан (включающий
весь Северный Кавказ), Грузия, Армения, Азербайджан. Для
исключения новых соперников в борьбе за превосходство над
«Мировым островом»,
Х. Маккиндер предлагает разделить
Германию и Россию на несколько самостоятельных государств. Он
добился того, чтобы в Версальском договоре было закреплено
появление таких лимитрофов, буферных государств, как Польша,
Румыния, Чехословакия, Эстония, Латвия, Литва. Х. Маккиндер
был убежден в том, что «Москва должна быть выиграна
славянской кровью»[1]. Так Х. Маккиндер выразил характерные
черты британской геополитики. «Держать чужие государства под
угрозой революции стало уже довольно давно ремеслом Англии»,
- писал Отто фон Бисмарк, подмечая стиль геополитики
161
Великобритании на протяжении длительного исторического
периода времени[7].
Не случайно, ныне малоизвестный русский военный
аналитик, серьезный специалист в области геополитики и
геостратегии
А.Е.
Едрихин
неоднократно
заявлял,
что
(Вандам)
главным
в
начале
ХХ
века
геополитическим
и
геостратегическим противником России всегда будут выступать
Англия, англосаксы (англичане и американцы). А.Е. Вандам
тщательно анализирует стратегию Великобритании в мировом
геополитическом противоборстве и по-своему обосновывает
первый закон геополитики. «Одним из основных и неизменных
принципов
государственной
политики
(Высшей
Стратегии)
англичан является следующий: уничтожив морские силы своих
соперников и заперев последних на материке, — удерживать их на
нем подвижными стенами своего могущественного флота….
Ввиду этого, вторым основным принципом государственной
стратегии англичан является наложение на континентальные
народы особого рода оков balance of power, под которым, по
словам лорда Керзона, подразумевается освященное веками
решение Англии не допускать на континенте Европы скольконибудь опасного преобладания какой бы то ни было державы», отмечает он [2,С.159-160].
Так как единственною сильной державой на всем
континенте остается Россия, то, по мнению А.Е. Вандама,
английские стратеги с такою же спокойной совестью начнут
162
устанавливать balance of power и против России, с какой
устанавливали они его против Испании, Франции и Германии.
Таким образом, Англия обязательно приступит к образованию
коалиции против России для постепенного оттеснения не только
от Балтийского и Черного морей, но Кавказа и Китая. В связи с
этим, по его мнению, и начнется титаническая борьба между
Россией и англосаксонским миром, которая будет продолжаться
все двадцатое столетие [2,С.182-183].
Отсюда геополитическая максима А.Е. Вандама заложена в
мысли о том, что хуже вражды с англосаксом может быть только
одно – дружба с ним. Умелая стратегия англосаксонского мира,
считает А.Е. Вандам, дает
шахматиста
над
все преимущества гениального
посредственным
игроком:
«Испещренная
океанами, материками и островами земная поверхность является
для них своего рода шахматной доской, а тщательно изученные в
своих основных свойствах и в духовных качествах своих
правителей народы — живыми фигурами и пешками, которыми
они двигают с таким расчетом, что их противник, видящий в
каждой стоящей перед ним пешке самостоятельного врага, в конце
концов, теряется в недоумении, каким же образом и когда им был
сделан роковой ход, приведший к проигрышу партии? Такого
именно
рода
искусство
увидим
мы
сейчас
в
действиях
американцев и англичан против нас самих»[2,С.182-183]. Генерал
был обеспокоен безответственным отношением правящих кругов
163
царской
России
к
выработке
и
проведении
собственной
геополитики и геостратегии.
Из первого закона геополитики вытекает четко выраженная
закономерность: теллурократическое государство, играющее по
правилам
талассократии
всегда
проигрывает.
свидетельствует и российский исторический опыт.
Об
этом
Россия как
теллурократическое государство, заключившее в начале ХХ века
союз с Антантой, было обречено на поражение[10]. Октябрьская
революции и иностранная военная интервенция в России
напрямую связаны с ее участием в Первой мировой войне в
интересах талассократии. Индустриализация в России накануне
Первой мировой войны, была однобокой, ее промышленность
была
преимущественно
добывающей,
а
оборонная
промышленность, необходимая для успешного ведения войны,
находилась в зачаточном состоянии. Ее экономика сильно
зависела от импорта. Поэтому страна к войне оказалась
экономически не подготовленной. В то время как у союзников
склады ломились от боеприпасов, в царской армии самого начала
военных действий катастрофически не хватало снарядов, пушек и
даже винтовок. Это было, конечно, и следствием серьезного
отставания
промышленного
развития
России
от
ведущих
капиталистических стран. Так, производство стали в России в 1913
г. на душу населения приходилось в 11 раз меньше, чем в США, в
8 раз меньше, чем в Германии, в 6 раз меньше, чем в Англии, в 4
раза
меньше,
чем
во
Франции.
164
Не
случайно,
военная
промышленность Германии превосходила русскую и французскую
вместе взятые, и не уступала по своему потенциалу военной
промышленности всей Антанты, включая Англию. Кроме того,
российские
предприятия,
которые
работали
на
фронт,
принадлежали частному капиталу, в том числе и иностранному.
Они заламывали государству двойные и тройные цены за военную
продукцию, но ее явно не хватало. Поэтому царское правительство
было вынуждено покупать вооружение и снаряжение у своих
союзников на самых невыгодных
условиях по очень высоким
ценам и в крайне растянутые сроки поставок, срывая этим
наступательные операции русской армии. При этом союзники
потребовали обеспечить военные заказы золотом, что создавало
риск потери финансового суверенитета. Но, тем не менее, в ходе
войны Россия вынуждена была переправить, например, в Банк
Англии 498 т золота. К тому же золотой запас России был
необходим и для поддержания внутреннего денежного обращения,
так как действовал золотой стандарт в стране. Российские
государственные и политические деятели ставили вопрос о полной
отмене золотого стандарта на время войны по примеру западных
стран. Но царское правительство продолжало воевать с «золотой
удавкой» на шее под давлением Ротшильдов и других хозяев
золота. Всего с начала войны до октября 1917 года из России было
вывезено за границу золота на сумму 643 млн. золотых рублей.
Страна стремительно теряла свой золотой запас, внешний долг
быстро увеличивался и к концу 1917 года составил более 8 млрд.
165
рублей. Так Россия накануне революции 1917 года стала
абсолютным чемпионом мира по внешнему долгу. В 1916-17 гг.
уже пришлось неоднократно прибегнуть к печатному станку,
началось быстрое обесценение рубля[4].
Кроме того царское правительство приняло на себя
обязательство выделять союзникам из своих скудных запасов хлеб
и другие продовольственные товары. Население и солдаты на
фронте голодали, не хватало одежды, обуви. Уже с осени 1916 г.
поставка продовольствия в Петроград составляла лишь половину
его потребностей. Война поглощала все ресурсы страны. Около 14
миллионов работников было взято в армию, оторвано от
хозяйства. В тылу
останавливались
не хватало работников, в результате
фабрики
и
заводы,
сокращалось
сельскохозяйственное производство. 1917-й начался в Петрограде
новыми стачками, забастовками, демонстрациями. Кризисная
ситуация в стране увеличивала свои масштабы. В войне Россия
потеряла значительные территории в Прибалтике, Украине,
Белоруссии, Польше. Но в течение
всей войны
правительство
верным
оставалось
наиболее
царское
сторонниками
прочного союза с Антантой в войне «до победного конца». В этом
оно было едино с союзниками. Так, на приеме у царя английский
дипломат
Мильнер
заявил,
что
союзники
не
допустят
«преждевременного» выхода России из войны[11]. Как и царская
администрация, так и Временное правительство, отражавшее
166
интересы российской либеральной буржуазии, встало на путь
поддержки союзников в войне «до победного конца».
Антанта же, прогнозируя весной 1917 г. крушение
русского фронта, предполагала перебросить в Европу миллион
японских солдат в обмен на земли подконтрольных тогда России
Маньчжурии и Уссурийского края. Поэтому Япония, восприняв
революцию в октябре 1917 года как факт выхода страны из боевых
действий, объявила России войну. Японское правительство
собиралось захватить русский Дальний Восток под предлогом
неисполнения Россией своих союзнических обязательств[10].
В 1917 году Запад полностью перестал признавать
геополитическую субъектность России. Она стала объектом
геополитической экспансии. Но для оправдания вмешательства во
внутренние дела России Антанта ссылалась на Брестский мир и
необходимость борьбы с Германией. Но на деле Брестский мир
был заключён в марте 1918 года, а на два с половиной месяца
раньше было подписана англо-французская конвенция о разделе
России на сферы влияния и началось вторжение в Бессарабию
Румынии, «верного союзника» по Антанте. В 1938 году по этой же
схеме будет подписано Мюнхенское соглашение о разделе
Чехословакии.
Лондон и Париж пришли к мнению о том, что отныне
будут рассматривать Россию не в качестве союзника по Антанте, а
как территорию для реализации своих геополитических интересов.
Так, в английскую «сферу действий» вошли Кавказ, казачьи
167
области Дона и Кубани, Средняя Азия, а во французскую –
Украина, Бессарабия и Крым.
Союзники
по
Антанте
решили
вообще
никак
не
реагировать на мирные инициативы Советского правительства.
Они были уверены в том, что дни Советской власти сочтены.
Антанта была категорически против выхода России из войны и
потребовала от нее выполнения обязательств, взятых царским и
Временным правительствами. Французский маршал Ф. Фош
предложил объединить антибольшевистские силы юга России
(донское казачество, украинских и кавказских националистов),
способные продолжить борьбу с Германией, вокруг румынской
армии. А для их снабжения боеприпасами предлагалось овладеть
Транссибирской
железнодорожной
магистралью,
что
впоследствии и было сделано с помощью чехословацкого корпуса,
но
уже
для
борьбы
против
Советской
власти.
Развязав
интервенцию, они ставили геополитическую задачу - расчленить
территорию исторической России, создав на её окраинах сеть
подконтрольных Западу «независимых» буферных государств[8].
А для этого Антанта начинает в России раскручивать
геополитические игры. Поэтому с августа 1917 года, англичане и
французы,
осознав,
что
режим
Керенского
не
способен
продолжать войну «до победного конца», начинают тайно делать
ставку на генерала Корнилова. Далее планируется на Съезде
Советов «мирная» передача власти от Керенского Троцкому,
ставленнику некоторых американских финансовых кругов. Не
168
случайно, еще до октября 1917 года влиятельная «Нью-Йорк
Таймс» опубликовала портретом Троцкого в передовице и с
надписью «новый глава революционного правительства в России».
Следующий этап этих игр связан с кандидатурой Колчака,
который был утвержден в 1918 году на должности «верховного
правительства» лично президентом США Вильсоном и премьерминистром Великобритании Ллойд-Джорджем в Версале[6].
Об этом убедительно свидетельствуют воспоминания У.
Черчилля. Ценность его мемуаров заключается в том, что они
вскрывают планы интервенции и методы ее проведения, и это
придает воспоминаниям Черчилля актуально - политический
характер. Он четко обозначает геополитическую ориентацию
Англии: подчинение России – это вопрос мировой политики. У.
Черчилль называет ту роль, которая отводилась Англией нашей
стране: «Россия оставалась верным и могущественным союзником.
В течение почти трех лет она задерживала на своих фронтах
больше половины всех неприятельских дивизий и в этой борьбе
потеряла убитыми больше, чем все прочие союзники, взятые
вместе»[12,С.39]. Но он признает причины успеха Октябрьской
революции: «В России ничто не могло устоять перед двумя
лозунгами:
«всю
землю
крестьянам»
и
«всю
власть
советам»[12,С.48].
Поэтому после
возникновения Советской власти, по
мнению У. Черчилля, назрела необходимость более решительных
мер в отношении России, которые были сформулированы в англо-
169
французской конвенции о разделе России на сферы влияния:
«Именно 23 декабря 1917 г. между Англией и Францией была
заключена конвенция, которую выработали Клемансо, Пишон и
Фош, с одной стороны, и лорд Мильнер, лорд Роберт Сесиль и
представители английских военных кругов, с другой; эта
конвенция имела целью установить дальнейшую политику обеих
держав на юге России. Конвенция предусматривала оказание
помощи
генералу
Алексееву,
находящемуся
тогда
в
Новочеркасске, и географическое разделение сферы действий этих
двух держав на всем том протяжении, какое они были в состоянии
охватить. Французам предоставлялось развить свои действия на
территории, лежащей к северу от Черного моря, направив их
«против врагов», т.е. германцев и враждебных русских войск;
англичанам – на востоке от Черного моря, против Турции. Таким
образом, как это указано в 3-й статье договора, французская зона
Бессарабии, Украины и Крыма, а английская – должна была
состоять из территорий казаков, Кавказа, Армении, Грузии и
Курдистана. На заседании военного кабинета 13 ноября 1918 г.
намеченное в конвенции и указанное выше разграничение сфер
действия было подтверждено вновь»[12,С.105].
У.
Черчилль
подчеркивает,
что
Англию
не
будет
устраивать в будущем никакая сильная централизованная власть в
России, которая, по его мнению, должна представлять несколько
автономных государств, и это «будет представлять собою
170
меньшую угрозу для будущего мира всех стран, чем обширная
централизованная царская монархия»[12,С.168].
Он отмечает, что именно этой цели были подчинены все
усилия Англии по поддержке белого движения. В частности, о
такой поддержке в 1919 году он пишет: «Большие суммы денег и
значительные военные силы были использованы союзниками
против большевиков. Англия заплатила по номиналу около 100
млн., Франция от 30 до 40 млн. фунтов стерлингов. Соединенные
Штаты содержали и продолжают содержать в Сибири около 8 тыс.
солдат;
Япония
содержит
в
Восточной
Сибири
армию
численностью от 30 до 40 тыс., и в настоящее время эта армия
получает
еще
подкрепления.
Армия
адмирала
Колчака,
снабженная главным образом британским оружием, достигла в мае
численности в 300 тыс. чел. Армия ген. Деникина составляют
около 250 тыс. солдат. Кроме них следует принять во внимание
финнов, которые могли бы дать около 100 тыс. чел. Были также
эстонцы, латыши и литовцы, и их общий фронт тянулся от
Балтийского побережья вплоть до самой Польши. И наконец, были
могущественные польские армии, помощь могла бы быть
получена от Румынии и – в меньшей степени – от Сербии и
Чехословакии»[12,С.171].
У. Черчилль вынужден признать, что такая большая
помощь белому движению, к сожалению, не увенчалась успехом:
«Храбрость и преданность делу горели в отдельных личностях; в
жестокости никогда не было недостатка, но тех качеств, какие
171
дают возможность десяткам тысяч людей, соединившись воедино,
действовать для достижения одной общей цели, совершенно не
было среди этих обломков царской империи»[12,С.185].
Чрезвычайно важным является в условиях современной
информационно-психологической войны его заявление: «Было бы
ошибочно думать, что в течение всего этого года (Г.Н.-1919г.) мы
сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских.
Напротив этого, русские белогвардейцы сражались за наше дело.
Эта истина станет неприятно чувствительной с того момента, как
белые армии будут уничтожены и большевики установят свое
господство
на
всем
империи»[12,C.174].
протяжении
Безусловно,
необъятной
Российской
эта
неприятно
истина
чувствительна и для современных либералов. Нельзя России
играть по правилам талассократии – таков геополитический урок,
который должна вынести современная российская политическая
элита из Великого Октября и Гражданской войны
1917-1922
годов.
Литература
Блуэ Д. Сэр Халфорд Макиндер как британский
1.
Верховный
Комиссар на
[Электронный
юге
ресурс].
России
в
1919-1920
–
Режим
доступа:
http://bichgan.livejournal.com/140922.html#/140922.html(дата
обращения: 27.09.2017).
172
годах
2.
Вандам (Едрихин) А. Е. Величайшее из искусств
(Обзор современного положения в свете высшей стратегии) //
Геополитика и геостратегия / Сост. И. Образцов. - М.: Кучково
поле, 2002. – С.155-186.
3.
Дугин
[Электронный
А.
Великая
война
континентов
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://evrazia.org/article/2456(дата обращения: 27.09.2017).
4.
Катасонов В. Как Антанта толкала Россию к
экономической катастрофе и революции [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://politikus.ru/articles/89022-kak-antanta-tolkala-rossiyu-kekonomicheskoy-katastrofe-i-revolyucii.html(дата
обращения:12.09.2017).
5.
Маккиндер Х. Д. Демократические идеалы и
реальность. – Полис. Политические исследования.- М., 2011.- №
2.- С. 134-144.
6.
[Электронный
Мультатули
П.
ресурс].
Почему
проиграли
–
Режим
белые?
доступа:
http://www.pravoslavie.ru/37122.html (дата обращения: 14.09.2017).
7.
Мусиенко Т.В., Лукин В.Н. Изменение культурных
ориентаций как тренд глобального развития [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://credonew.ru/content/view/704/60/
(дата обращения: 08.09.2017).
8.
союзников
Назаров
О.
[Электронный
Тайное
и
ресурс].
173
явное.
–
Предательство
Режим
доступа:
http://rusmir.in.ua/ist/3540-taynoe-i-yavnoe-predatelstvosoyuznikov.html(дата обращения: 09.09.2017).
Hypышев Г.Н. Классики российской геополитики:
9.
А.Е. Вандам //Национальная безопасность и стратегическое
планирование. –СПб.,2013. - №4.- С.24-28.
Попов Г.Г. Почему Россия не могла не проиграть
10.
Первую мировую войну (социально-экономические аспекты)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.dal.by/news/174/22-10-13-5/( дата обращения:02.10.17).
11.
войны
Россия и Антанта. К истории Первой мировой
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.dal.by/news/174/06-08-14-24/( дата обращения:11.10.17).
12.
Черчилль
В.
Мировой
кризис.
–
М.-
Л.:Госвоениздат,1932. - 328 с.
Портнягина Н. А.
ОТ 1905 К 1917: ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
РЕВОЛЮЦИИ У ПРАВЫХ ЛИБЕРАЛОВ (НА ПРИМЕРЕ
ТЕКСТОВ С. Н. БУЛГАКОВА)
Исследования
по
истории
русских
революций
многочисленны и разнообразны, однако изучение этой темы
далеко не завершено. В отечественной историографии
недостаточно хорошо изучено отношение к революции либералов,
составляющих правое крыло партии кадетов или примыкающих к
нему. К последним принадлежал и С. Н. Булгаков. После
революции 1905-1907 гг. он стал одним из авторов сборника
«Вехи», который в отечественной историографии воспринимается
как контрреволюционный [12, 13]. Представляется, что отношение
174
«веховцев» к революции было не столь однозначным, по крайней
мере, в более ранний период. На примере текстов С. Н. Булгакова,
относящихся к периоду 1905-1917 гг., попытаемся выявить
особенности отношения к революции правых либералов-кадетов.
Перед революцией 1905-1907 гг. С. Н. Булгаков преподавал
в политехникуме и университете Киева. В это время он переживал,
по словам Л. А. Зандера, поворот в мысли [11, с. 30]. Он
критиковал марксизм, заинтересовался проблемами, звучавшими в
творчестве В. С. Соловьёва и Ф. М. Достоевского. Новая
проблематика отразилась в его статьях в сборниках «Проблемы
идеализма» и «От марксизма к идеализму», в которых
доказывалась несостоятельность догматического позитивизма в
отличие от философского идеализма. В 1904 г. С. Н. Булгаков
редактировал журнал «Новый путь», а после его закрытия –
«Вопросы жизни». Оба журнала отстаивали философию идеализма
и её общественное значение.
В Киеве С. Н. Булгаков сблизился с либеральной
интеллигенцией, будущими кадетами. Он сотрудничал с
нелегальным журналом «Освобождение», был членом «Союза
Освобождения» с момента его учреждения летом 1903 г., членом
его Центрального Совета от киевской группы, присутствовал на
всех съездах и совещаниях [4, л. 3 об]. Однако членом кадетской
партии С. Н. Булгаков не стал при всём сочувствии её
практической программе. С началом революции он «вынашивал
мысль создания христианско-социальной партии («Союза
христианской политики»)», которая бы соединила политическую
работу среди масс с христианским мировоззрением [6, л. 19].
Такой партии он не создал, однако полагал своей обязанностью
участвовать в политической жизни страны, поэтому примкнул к
кадетам. С. Н. Булгаков принял участие в выборах в I
Государственную думу, но был избран только во вторую, от
Орловской губернии как христианский социалист, примыкающий
к конституционным демократам. В Думе он принимал участие в
заседаниях кадетской фракции и голосовал вместе с ней [14].
В письме к А. С. Глинке-Волжскому от 27 мая 1907 г. он
писал, что воспринял революцию как время «антихристова
разгула», как поучительные дни, которые «выжигают… «солому»
175
в душе, обесценивают телесные ценности и заставляют искать
только нетленных» [6, л. 19]. В воспоминаниях 1923 г. С. Н.
Булгаков повторил эти слова [1, с. 76]. Однако в тех же
воспоминаниях 1923 г. у С. Н. Булгакова есть и другая оценка
своего тогдашнего восприятия революции: «В подготовке
революции 1905 г. участвовал и я, как деятель «Союза
Освобождения», и я хотел так, как хотела и хочет вся
интеллигенция, с которой я чувствовал себя в разрыве в вопросах
веры, но не политики»» [1, с. 75-76]. Тексты С. Н. Булгакова за
1905-1907 гг. показывают, что его второе высказывание ближе к
истине.
В первом номере журнала «Вопросы жизни», вышедшем
уже после начала революции, С. Н. Булгаков недвусмысленно
писал о необходимости реформ в русском обществе, которые
должны быть вырваны любой ценой, даже если для этого нужно
«разрубить гордиев узел нашей истории». Он призывал общество к
непримиримости до конца [2, с. 311-313]. Весь тон журнала,
который был призван бороться с позитивизмом и левым
радикализмом, освободительный и антисамодержавный.Во втором
номере журнала С. Н. Булгаков отмечал, что в «области
политической
мы
отстаиваем
программу
радикальнодемократическую, в области же социальной политики –
социалистическую, хотя и не в доктринальном, а более широком
смысле этого слова» [3, с. 351]. Октябрьско-ноябрьская книжка
завершается заметкой политического обозревателя журнала Г. Н.
Штильмана, который, выражая мнение редакции, заключал:
«Наследие татарского ига – царское самодержавие – безвозвратно
пало»[15, с. 391]. В статье 1906 г. С. Н. Булгаков признавал за
народом право на революцию во имя установления истинной
власти, в отличие от власти, опирающейся на насилие [9, с. 66]. Он
констатировал, что нежелание власти идти на реформы приводит к
революции [9, с. 92].
ВоIIДуме С. Н. Булгаков поддерживал кадетов по многим
вопросам, в частности, он отказался вместе с ними осудить
революционный террор. Основную ответственность за разгул
террора в стране он возложил на правительство, которое первым
должно стать на путь права и отменить военно-полевые суды.
176
Лишь этот шаг, по его мнению, способен был прекратить террор.
С. Н. Булгаков призвал депутатов осудить «всенародно и
торжественно» не террор, а военно-полевые суды[7, с. 398].
Однако после революции 1905-1907 гг. восприятие С. Н.
Булгаковым революции меняется. Он осознал, что революция по
своей идеологии – интеллигентская, несмотря на то, что в ней
принимали участие все классы [7]. Его беспокоило, что
созидательные
силы
революции
оказались
слабее
разрушительных. Революция, с его точки зрения, оставила после
себя лишь одно положительное дело – Государственную думу [5,
с. 139]. Однако, несмотря на существование Госдумы, С. Н.
Булгаков не видел существенного улучшения социальнополитического положения страны после революции. Он оценивал
время Столыпинских реформ как реакцию и находил, что у
революции
и
реакции
одни
корни:
«насильственно
осуществляемый максимализм», отрицание либерального идеала
неприкосновенности личности, чувство беспочвенности.Оно
выражалось, по его мнению, с одной стороны, в отсутствии
чувства любви и почтительности к истории своей страны, а с
другой – в отсутствии любви государства к своим гражданам. Он
осуждал и революцию, и реакцию, противопоставляя им
«органический рост и мирное развитие», «постепеновщину»,
«малые дела». Новая революция, с его точки зрения, станет
губительной для страны, приведёт к «окончательному развалу
России». С. Н. Булгаков противопоставлял революции
освободительное движение, а реакции – здоровый консерватизм.
Освободительное движение – это «либеральное движение, которое
имеет право на существование». При этом он не видел в России
силу, способную осуществить парламентаризм. Кадетское
министерство, «поставленное лицом к лицу с разгорающейся
революцией, военными бунтами, аграрным движением,
экспроприациями…неизбежно было бы быстро сметено
соединенными усилиями революции и провокации, без
надлежащей опоры в стране» [8].
Такая оценка революция у С. Н. Булгакова не изменилась к
началу революции 1917 г. Однако, несмотря на это, на миг и его
захватило всеобщее ликование. Он захотел слиться с народом в его
177
«свободе» и пошёл в народном шествии, «однако этого хватило на
полчаса, и ничего не вышло, кроме омерзения [1, с. 91].
Таким образом, восприятие С. Н. Булгаковым революции в 19051907 гг. не отличалось от её восприятия большинством партии
кадетов. Тогда он связывал с революцией надежду на реформы
страны. Он рассматривал её как объективную закономерность в
стране, государственная власть которой мешает экономическому,
политическому и духовному развитию народа. Отношение к
революции у С. Н. Булгакова стало существенным образом
меняться лишь спустя какое-то время после её окончания, когда он
смог в полной мере осознать её итоги и особенности. С 1908 г. он
решительно отвергал для России путь революции. Как и для
кадетов, идеалом общественного развития страны для него
оставался парламентаризм. Однако после политического опыта
первой русской революции он сомневался в возможностях кадетов
или какой-либо иной политической силы в России его
осуществить. Из этой трагической дилеммы С. Н. Булгаков видел
лишь один выход для России – постепенное эволюционное
развитие.
Литература
1.
Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. 2-е изд.
Париж, 1991. 165 с.
2.
Булгаков С. Н. Без плана // Вопросы жизни.1905.№ 1. С.
309-317.
3.
Булгаков С. Н. «Вопросы жизни» и вопросы жизни //
Вопросы жизни. 1905.№ 2. С. 347-369.
4.
Булгаков С. Н. – Венгерову С. А. с приложением кратких
автобиографических сведений. 15 августа 1913 г. // ИРЛИ. Ф. 377
(Архив С. А. Венгерова). Ед. Хр. 643.
5.
Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // Христианский
социализм (С. Н. Булгаков): споры о судьбах России / Под ред В.
Н. Акулинина. Новосибирск, 1991. С. 138-178.
6.
Булгаков С. Н. – Глинке-Волжскому А. С. 27 мая 1907 г. //
РГАЛИ. Ф. 142. Оп. 1. Ед. Хр. 198.
7.
Булгаков С. Н. Интеллигенция и религия // Русская
мысль.1908.№ 3.С. 72-103.
178
8.
Булгаков С. Н. Революция и реакция: Неполитические
размышления о политике // Московский еженедельник. 1910.20
февраля.№ 8. С. 23-25.
9.
Булгаков С. Н. Церковь и государство // Вопросы религии.
М., 1906. Вып. 1. С. 53-101.
10.
Государственная Дума. Созыв второй. Стенографические
отчеты.СПб.: Гостипография, 1907. Т.1. 2244 стб.
11.
Зандер Л. А. Бог и мир (мировоззрение отца Сергия
Булгакова).Париж: YMCA-PRESS, 1948. Т. 1. 479 с.
12.
Портнягина Н. А. Проблема «власти» в работах С. Н.
Булгакова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия
2. История. 1994. № 4. С. 19-23.
13.
Портнягина Н. А. Русский либерализм после революции
1905-1907 гг. (общественно-политические позиции С. Н.
Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева). Автореф… дис.
канд. ист. наук. СПб.,1994 15 с.
14.
Протоколы кадетской парламентской фракции. 17.02-14.12
1907 г. // ГА РФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 1.
15.
Штильман Г. Н. 17-е Октября // Вопросы жизни. 1905. №
10-11. С. 391-393.
Рогожкина С.П.
Отношения России и Финляндии в первой половине 20 века.
Советско-Финляндские отношения в обозначенный период, а так
же ранее него, были весьма напряженными и непростыми для
обеих стран. Чтобы понять причины такого напряжения между
странами углубимся в историю. До начала XVIII века большая
часть современной Финляндии находилась под властью
Королевства Швеция. Между царством Русским и Швецией в те
времена велись многочисленные войны, пока в 1595 году не был
подписан Тявзинский мирный договор, позже замененный
Выборгским трактатом 1609 года, по которому крепость Корела с
уездами отдавалась шведам за их помощь в виде военных сил.
Значительно позже, а именно с 1700 по 1721 года, проходила
Северная война, по итогам которой возникла новая империя -
179
Российская, имеющая выход к Балтийскому морю. Весь
Карельский перешеек отошел к России. В Финляндии эту войну
назвали «Большая злоба», чем подчёркивали факт оккупации
своих территорий русскими войсками, и особенно отмечали захват
Выборга в 1710 году [1].
Затем, после русско-шведской войны 1808-1809 годов, Финляндия
была полностью включена в состав Российской империи под
названием княжества Финляндского, однако со значительными
привилегиями. Такими были: отсутствие крепостного права,
сохранение финляндской конституции, языка, религии и местных
законов, сформирование финских частей войск. К сожалению, с
конца XIX века правительство России начало менять политику
отношений с Финляндским княжеством, и в 1899 году был издан
царский манифест о ликвидации конституционного права финнов
на самоуправление. В 1901 году была распущена финская
национальная гвардия и началась политика русификации. Это дало
начало национально-освободительному движению финнов,
которое воспользовалось русской революцией 1905-1907 годов и
вынудило
императора
Николая
II
отменить
указы,
ограничивающие финляндскую автономию.
И, наконец, после событий Февральской революции 1917 года
Финляндии были возвращены привилегии, утраченные в 1905
году, а 31 декабря 1917 года Финляндия получила статус
независимого государства.
В финской истории политику русификации, предпринятую
имперским руководством в конце ХIХ - начале ХХ в., финны
принимали как "угнетение", выделяя при этом два этапа : 18991905 года - "первый период угнетения", 1907-1917 года "второй
период угнетения".
Временем начала "первого периода угнетения" считается издание
манифеста от 3 февраля 1899 года, который позволил российскому
правительству издавать законы для княжества без одобрения
сейма. Закрывались некоторые финские газеты, вводилось
обязательное изучение русского языка в финских школах,
постепенно русский вводился в центральные учреждения
княжества. Так же, в 1901 году Николай II издал новый закон о
180
воинской повинности, который ликвидировал финскую армию и
предписывал жителям княжества служить в русских войсках [1].
После ликвидации финской армии начали появляться движения
пассивного и активного сопротивления. А так как большинство
финских новобранцев игнорировало службу в русской армии,
Финляндию обязали платить налог в размере 2 миллионов
финских марок. Позже эта сумма выросла до 15 миллионов, что
соответственно вызвало огромное недовольство финнов [2].
Смягчить давление на Финляндию пришлось во время революции
1905-1907 годов, Николай II отменил указы, ограничивающие её
автономию.
Однако попытки включения княжества в
общеимперскую систему продолжались. В 1910 году был одобрен
закон, который передавал в ведение российских властей все
важные вопросы финского законодательства. Этот закон должен
был послужить правовой основой для последующего уничтожения
финляндской конституции [3]. После него в обход сейма
последовал ряд других законодательных мер: о равноправии
русских подданных с финляндцами, о подчинении финской
лоцманской службы русскому военно-морскому ведомству и
другие [4].
Все эти ущемляющие действия со стороны России вызвали
усиление националистических и антисоветских движений в
финляндском народе. Основанные финнами партии активного и
пассивного сопротивления внесли в программу своего движения
требование
достижения
государственной
независимости
Финляндии.
В связи с началом первой Мировой войны отношения между
Финляндским княжеством и Россией стали еще более
напряженными. Финляндия имела важное стратегическое значение
из-за своих подходов со стороны морей. Также, в условиях
военного времени имелась возможность предпринимать
практически любые шаги, в том числе и репрессивного характера,
которые можно было оправдать военным временем [5]. В то же
время, была необходимость решать более неотложные проблемы,
связанные с началом войны, а это в свою очередь уменьшало
вмешательство во внутренние дела княжества.
181
Во время войны финские националистические движения, да и весь
народ в целом, размышляли над вопросом: "Как следует
использовать военную обстановку, чтобы добиться улучшения
государственно-правового положения княжества?"
Большинство населения выбрало политику лояльности по
отношению к центральным властям. Командование русских войск,
расположенных в Финляндии, благодарило местных жителей и
Финляндскую администрацию за содействие в проведении
мероприятий военного времени и выражения дружественных
чувств [6]. В ответ на проявление лояльности финны ожидали
возвращения былых привилегий, но этого не последовало.
Вместо этого в ноябре 1914 г. Была выпущена публикация
"Программы законодательных предложений и мер по Великому
княжеству Финляндскому", в которой говорилось о проведении
ряда мероприятий, направленных на укрепление центральной
власти в Финляндии, обеспечение интересов государственной
обороны, достижение политического и экономического сближения
княжества с империей. В программе говорилось о таможенном
объединении, обеспечении за русскими товарами преобладающего
положения на финляндском рынке, об объединении денежных
систем и подготовке в России чиновников для замещения
должностей по управлению краем [7].
Практически
сразу
после
публикации
возникло
"новоактивистское" движение, целью которого было отделение
Финляндии от России при помощи Германии [8]. В княжестве
возросли антисоветские настроения. Между тем, Россия не
пыталась реализовать программу упомянутого выше документа.
Чтобы недоверие финнов к российскому правительству ослабло, в
условиях военного времени было разрешено проведение выборов в
финляндский сейм. Это произошло в июле 1916 г.
Казалось, что военное время учило российское правительство
гибкости управления национальным регионом. Однако искоренить
недоверие финнов оказалось практически непосильной задачей.
Февральская революция 1917 года разожгла в Великом княжестве
Финляндском надежду на независимость, ввиду того, что после
отречения от престола в марте 1917 императора Николая II,
носившего также титул Великий князь Финляндский,
182
претендентов, как на российский, так и на финляндский престол не
было. Таким образом, сложилась ситуация, позволившая
парламенту Финляндии юридически выбрать новую верховную
власть в стране, и наконец, 6 декабря 1917 года была
провозглашена независимость Финляндии. Решение не было
оспорено новой российской властью, более того, правительство
Ленина первым признаёт независимое государство 18 (31) декабря
1917.
В заключении можно отметить, что первая половина XX века была
для России и Финляндии весьма сложным периодом с взаимной
враждой, недоверием, противоборством. В Финляндии считали,
что главная угроза безопасности и независимости страны исходит
от России. Советская же сторона была в большом напряжении изза антисоветских и антирусских настроений, которые
захлестывали Финляндию на протяжении долгого времени. К тому
же, усиление Германского влияния на Финляндию дало повод
считать финнов одним из потенциальных противников. Конечно в
свете таких событий были очень плохи и торгово-экономические
отношения стран.
Список литературы
1.
Попов В.Д. Финляндия. Политико-экономический очерк.
М., 1957. С. 32; Бобович. И.М. С. 24.
2.
Имперский строй России в региональном измерении (XIX начало XX века) / Отв. ред. П.И. Савельев. М.: МОНФ, 1997.
3.
О законодательных мерах правительства с целью
ликвидации автономии Финляндии см. подробнее: Соломещ И.М.
Финляндская политика царизма в годы первой мировой войны.
(1914-февр.1917 гг.). Петрозаводск, 1992. С.7-9; Тейстре У.В.
Вопрос об общегосударственном законодательстве и наступление
царизма на финляндскую автономию в 1907-1910 гг.//
Скандинавский сборник. Таллинн, 1972. № 17. С. 94-96; Кан А.С.
Великое княжество Финляндское под властью царской России.
Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1980.
С.122-124.
183
4.
Кан А.С. «История Скандинавских стран» Часть 2. Новое
время. Глава 11. Скандинавские страны в период империализма
(до1917)
5.
Соломещ И.М. Финляндская политика царизма в годы
первой мировой войны, 1914-февраль 1917 гг: учебное пособие
6.
Российский государственный военно-исторический архив
(РГВИА). Ф. 2126. Оп.1. Д.560. Л.64- Рапорт командующего 42-м
армейским корпусом в штаб 6-й армии, ноябрь 1915. Архив
Внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф.134. Оп.473.
Д.41. Л. 4-8 - "Программа законодательных предложений и мер по
Великому княжеству Финляндскому", 14.11.1914.
7.
Имперский строй России в региональном измерении (XIX начало XX века) / Отв. ред. П.И. Савельев. М.: МОНФ, 1997.
8.
АВПРИ. Ф.134. Оп.473. Д.220. Л.60, 60об - Доклад Ф.
Трепова Б.В. Штюрмеру от 3.03.1916.
Славнитский Н.Р.
Государственный музей истории Санкт-Петербурга, к.и.н.
Борьба крестьян за хлеб на северо-западе России осенью 1917 г.
Временное правительство, пришедшее к власти после свержения
монархии, очень быстро столкнулось с теми же проблемами, что и
императорское. Хозяйственный кризис, нараставший с 1915 г., еще
более усугублялся, как и разрыв связей между регионами. И
продовольственный вопрос в северо-западных губерниях попрежнему был одним из наиболее острых. Прежняя структура
власти на местах оказалась разрушена, и в этой ситуации
крестьяне оказались вынуждены самостоятельно думать о
выживании.
В донесениях губернских комиссаров осенью 1917 г. достаточно
подробно раскрывается картина того, как крестьяне пытались
подготовиться к надвигающейся зиме. Интересно, что большая
часть этих документов была составлена в 20-х числах октября, а
некоторые и позже, но все были адресованы «господину министру
внутренних дел Временного правительства». То есть в дни
184
установления советской власти провинция продолжала жить
прежней жизнью, и там продолжали действовать органы власти,
подчинявшиеся Временному правительству.
В первую очередь, подготовка к зиме выразилась в рубке леса. Это
происходило во всех регионах, [1, с. 151], на северо-западе такое
отмечал псковский губернский комиссар [4, л. 36].
Не менее активно происходил и захват муки и хлеба в различных
областях. Наиболее массово это происходило в Олонецкой
губернии, на берегах реки Свирь, вытекающей из Онежского озера
и впадающей в Ладожское. Данная река являлась важной частью
Мариинской водной системы, и по ней в летний период проходили
все грузы с продовольствием, предназначавшиеся для северозападных областей. Население сел на берегах этой реки
занималось, главным образом, заготовкой леса и сплавом, поэтому
жило практически полностью на привозном хлебе. В предыдущие
годы, по сведениям, приводившимся Олонецким губернским
комиссаром, никаких проблем с доставкой продовольствия в эту
область не возникало [3, л. 46], а осенью 1917 г. по каким-то
причинам хлеб им не доставили. Крестьяне, надо сказать,
терпеливо ждали практически до самого окончания навигации, и
лишь тогда, когда она подходила к концу, и у них при этом хлеба
оставалось совсем мало, решились на самовольные захваты
(понимая, что в противном случае останутся без еды на всю зиму).
Первый захват баржи произошел 4 октября 1917 г. в селе
Девятины Вытегорского уезда. Местные крестьяне задержали
баржу, в которой находилось 43 527 пудов, предназначавшегося
для Петрозаводска и всех семи уездов Олонецкой губернии. [3, л.
45] Вытегорский уездный исправник среагировал оперативно и
послал в село представителей, которые смогли убедить крестьян
согласовать разгрузку хлеба с губернским продовольственным
комитетом, куда была послана телеграмма. Ответа, однако в
течение двух дней не поступило, и жители выгрузили из баржи 11
000 пудов хлеба, которые поместили в местную общественную
лавку, после чего судно отправилось дальше. [3, л. 45] Как видим,
все было проведено довольно организованно. Однако это
запустило цепную реакцию.
185
Несколько дней спустя аналогичный захват баржи с
продовольствием произошел в селе Анненский мост, при этом
выяснилось, что данное судно уже подвергалось разгрузке в
Белозерске, Череповце и других местах Новгородской губернии. В
этом селении баржа была разгружена уже окончательно. [3, л. 45]
Затем то же самое произошло в селе Охта (входившее в состав
Лодейнопольского уезда).
Хлеб, захваченный в этих селах, предназначался для жителей села
Вознесенье — крупного населенного пункта. Те, в свою очередь,
узнав об этом, захватили первое попавшееся судно, проходившее
мимо них, и взяли себе оттуда 22 075 пудов, из которых 3000
пудов предполагалось отпустить в село Остречины. Интересно, то
сделано это было не стихийно, а по решению местных собраний,
состоявшихся 11 октября. В резолюции отмечалось, что граждане
делают это «с сознанием и ясным пониманием ответственности за
нарушение быть может общих постановлений губернской
продовольственной управы».[3, л. 44]. Два дня спустя новое
собрание граждан с участием представителей волостей
Петрозаводского уезда, которым предназначался груз с
захваченной
баржи,
председателя
Лодейнопольского
продовольственного
комитета,
члена
губернской
продовольственной управы и члена Петрозаводской городской
управы. Председательствовал на нем местный священник.
Прибывшие в село представители уговаривали крестьян отпустить
захваченный хлеб в Петрозаодск, однако те наотрез отказались
делать это «на том основании, что последний, как расположенный
на линии железной дороги, обеспечен, по мнению собрания,
подвозом хлеба». При этом они выразили готовность идти на
уступки в том случае, если кто-либо поручится, что
продовольствие, захваченное в селениях Охта и Анненский мост,
прибудет в Вознесенье нетронутым. [3, л. 44 и об.] поручиться за
это, конечно, никто не мог, поэтому хлеб остался в Вознесеньи.
Часть хлеба, как отмечалось, предполагалось передать в село
Остречины. Но жители той деревни не стали дожидаться этого, и
сами захватили проходившее мимо них судно с продовольствием,
адресованным Петроградскому Распорядительному комитету по
водным перевозкам. Из баржи, в которой имелось 35 593 пудов,
186
было выгружено 15 643 пуд (их распределили между жителями
села Остречины и крестьянами ближайших к нему деревень),
после чего она была пущена дальше.
Прибывшему 17 октября представителю губернского комиссара
один из крестьян заявил: «захват судна вызван голодом. Для забот
о продовольственном деле организованы губернский, уездные и
волостные комитеты; мы ждали долго от них хлеба, но ничего не
дождались. Назначенная нам мука 3000 пудов задержана в
Вознесенье. Что же нам делать оставалось, как не захватить муку с
судна, идущего мимо Остречин, дабы не умереть с голода?». [3, л.
43 об.] Здесь мы видим уже прямое обвинение властям в том, что
они оказались не в состоянии справиться с распределением хлеба,
поэтому крестьянам приходится самим делать это.
Аналогичный захват в ночь с 11 на 12 октября произошел в селе
Гак-Ручей, где были оставлены у берега два судна. Здесь тоже
собрался сход, на котором и было решено реквизировать для себя
необходимое количество муки. Интересно, что, по сообщениям
губернского представителя, решение это жители приняли «под
влиянием находившегося среди них в отпуску солдата». С одного
из судов выгрузили 5000 пудов муки, после чего оно (как и второе,
оставшееся нетронутым), было отправлено дальше. Однако до
места назначения (в Петроград) довести его не довелось — через
несколько дней оно было остановлено в селе Подпорожье и
разгружено окончательно. [3, л. 42, 43]
Еще одна баржа, следующая в Петроград, была остановлена в селе
Пидьма, где с нее выгрузили 14 000 пудов. Причем крестьяне, едва
приступив к разгрузке, сообщили об этом в местную
продовольственную управу и попросили уведомить об этом
Петроград. Губернскому комиссару был представлен приговор
схода с характерной для того времени резолюцией: «собравшись
для обсуждения вопроса о продовольствии, так как навигация уже
кончается, а мы находимся в критическом положении, потому что
хлеб идущий для нас, как нам известно, задержан в пути,
единогласно постановили: первое идущее судно, следуемое в
Петроград с грузом, остановить для разгрузки… Участвовавших в
остановке судна не считать виновными, а считать как
исполнителей воли общества». [3, л. 41 об.]
187
16 октября крестьяне деревни Юксово, расположенного недалеко
от Пидьмы, так же составили приговор, в котором указывалось: «в
настоящее время у нас является крайняя нужда в хлебе для своего
продовольствия; купить нам хлеба совершенно негде, в виду чего
население день ото дня считаясь с угрожающей возможность
разгрома друг у друга последних запасов, которых в малом
количестве может быть и найдется на месяц, на два для себя; имея
же в виду, что по имеющимся у нас сведениям в селении Пидьма
задержано грузовое хлебное судно, с которого предполагается
хлеб выгрузить для продовольствия населения, кое прилегает к
Пидьме, а потому с общего нас всех согласия единогласно
постановили: присоединиться к гражданам Пидемского общества
и просить его не отказать в удовлетворении и нас частью хлебом
из задержанного судна, а также и с других судов, если таковые
будут удержаны, так как мы очень нуждаемся в хлебе…». [3, л. 41
об. - 42]
Таким образом, во всех крестьянских приговорах проходит
красной нитью основная мысль — хлеба у нас недостаточно,
купить его негде, поэтому необходимо забирать его с тех судов,
которые проходят мимо, иначе нам грозит голод. И везде это
воспринималось в виде крайней меры, связанной с окончанием
навигации.
Отметим еще один важный момент.
В каждом случае
«захватчики» действовали не стихийно, а организованно, с
согласия и по поручению местных сходов. И при том, что они
осознавали, что нарушают юридические нормы, но считали, что
действуют «по закону». Против этого присланные солдаты —
большинство из которых были вчерашними крестьянами, не могли
возражать. Все действия крестьян были открытыми, перед
захватом они старались согласовать это с государственными
органами (которые в ответ отмалчивались). При этом все
захваченное складывалось в общественные амбары, при
необходимости распределялось между нуждающимися.
Губернский комиссар тоже в общем стал на сторону крестьян,
отметив в своем донесении и то, что основной причиной захватов
стала угроза голода, а также отметив, что в ходе этих акций не
было зафиксировано никаких случаев хулиганства или насилия. [3,
188
л. 46]
В данном случае проявились все характерные черты крестьянского
«мира». С одной стороны, коллективное решение своих проблем и
в то же время пренебрежение к сложностям тех, кто находился за
пределами «мира» (в том числе – и крестьян из других деревень).
И если смотреть в масштабах экономики страны, то получается,
что крестьяне такими действиями содействовали распространению
анархии. Однако там, где речь шла о собственном выживании,
думать приходилось только о себе, и здесь жители деревень
проявили высочайший уровень организованности.
Ярким примером стала ситуация, возникшая в Кирилловском
уезде Новгородской губернии. Этому уезду было выделено 50 000
пудов хлеба, однако большая часть этого груза была задержана в
соседнем Белозерском уезде. В этой ситуации кирилловский
уездный
продовольственный
комитет
принял
решение
«подвергнуть реквизиции» грузы, идущие в Белозерск. [5, л. 18]
Сделать это было поручено уездному комиссару В.Ф. Дегтяреву,
однако когда он выполнил это решение, новгородский уездный
комиссар распорядился отстранить его от должности и отдать под
суд. В этой ситуации за В.Ф. Дегтярева вступилось
демократическое совещание города Кирилловска, отправившее 23
октября министру внутренних дел доклад, в котором отмечалось,
что население уезда в противном случае обрекалось на голод. [2, л.
17] Разобраться в этом вопросе министр, по понятным причинам
уже не успел.
Захваты происходили и в других регионах. Псковский комиссар, к
примеру, отмечал, что «11 вагонов хлеба, предназначавшегося для
Псковской губернии и прибывшего на баржах в Нижний
Новгород, реквизированы Нижегородским революционным
комитетом». [4, л. 36] И очевидно, что основной причиной таких
самовольных захватов и реквизиций стал развал хозяйства станы и
неспособность Временного правительства и его структур на
местах наладить снабжение продовольствием.
189
Литература:
1. Гатилов Э. В. Экспроприация частновладельческой
собственности в Елецком уезде Орловской губернии в 1917-1918
гг. // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия история и политология. 2016. № 22. Вып. 40.
С. 150-160.
2. Донесение Кирилловского уездного распорядительного комитет
министру внутренних дел 23 октября 1917 г. // Российский
государственный исторический архив. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 743. Л.
17.
3. Донесение Олонецкого губернского комиссара министру
внутренних дел, 30 ноября 1917 г. // Российский государственный
исторический архив. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 743. Л. 38-46.
4. Донесение Псковского губернского комиссара министру
внутренних дел, 17 ноября 1917 г. // Российский государственный
исторический архив. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 743. Л. 36.
5. Журнал заседания Кирилловского уездного продовольственного
комитета 12 октября 1917 г. // Российский государственный
исторический архив. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 743. Л. 18.
Холяев С.В.
РУКОВОДСТВО АРМИИ
В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИОННОГО КРИЗИСА 1917 ГОДА
В союзных странах отношение к революции в России быстро
стало критическим. Руководители англо-французского альянса
рассчитывали, что февралисты, придя к власти, объединят страну.
Они думали, что к власти в России рвутся представители народа, а
в
действительности
Лондону
и
Парижу
симпатизировал
небольшой, узкий слой населения [1, с. 373]. Со стороны казалось:
190
отстранение монарха никак не отразится на дальнейшем ходе
войны. Ведь генералы останутся на прежнем месте, планы
кампании давно разработаны, и, следовательно, оставшиеся
военачальники спокойно доведут войну до победного конца.
Планам союзников и либералов осуществиться было не дано.
Они не учли важного для России момента: с отречением от
престола Россия потеряла не только монарха, но и Верховного
главнокомандующего. Бывший управделами Совета министров
А.Н. Яхонтов в 1924 году, уже находясь в эмиграции, писал по
этому
поводу:
«в
час
величайшей
разрухи
на
фронте
(подразумевается 1915 год – С.Х.) одна весть – «царь с нами»
быстро подбодрила русское воинство, тогда как в момент
всесторонней технической, материальной и моральной готовности
армии к близкой победе два жутких слова – «царя нет» превратили
стройные полки в вооруженные банды озверелых людей…» [2, с.
472].
Первоначально генералы также были настроены достаточно
оптимистично.
М.В.
Алексеев,
фактически
выполнявший
обязанности Верховного, в письме от 12 марта к новому военному
министру А.И. Гучкову, был проникнут оптимизмом. «… Бог даст,
армия
переживет
острый
кризис
более
или
менее
благополучно…». Алексеев допускал возможность понижения
боеспособности армии, но надеялся на ее временность [3, с. 458].
Генералы и офицеры в основной массе поверили обещаниям
Временного правительства в союзе со странами Антанты довести
191
войну с Германией до победного конца [4, с. 13]. В первые дни они
увидели в революции лишь некоторые беспорядки, которые могут
помешать успешному продолжению войны. У руководства армии
превалировал мотив сохранить армию для продолжения войны.
Настроения высшего генералитета в тот решающий момент,
нет – не революции, а войны, лучше всех сформулировал А.И.
Солженицын. «Cпасти Армию” - спасти 13 армий, 40 корпусов –
от десятка необученных запасных батальонов! В северо-западном
уголке страны вздыбилось сумрачное творение Петра – и чтобы
“спасти” 7 миллионную боевую армию от искушения изменить
присяге,- им, Главнокомандующим, теперь следовало первым
поспешно изменить собственной присяге!» [5, с.9].
Солженицын обвиняет Алексеева в том, что тот позволил
втянуть себя в переговоры с мятежной столицей. Трудно
удержаться от соблазна и не поместить в качестве примера одно из
тех сообщений, которые поступали в Ставку к Алексееву, чтобы
увидеть, на основании чего он выстраивал свою политику.
«Частные сведения говорят, что 28 февраля в Петрограде
наступило полное спокойствие, войска примкнули к Временному
правительству,
Временное
в
полном
правительство
составе,
под
приводятся
в
порядок.
председательством
Родзянко
заседает в Государственной думе и пригласило командиров
воинских частей для получения приказаний по поддержанию
порядка» [6, с. 627].
192
Алексеев, получив сообщения о «благополучном» течении
событий в столице, начал самостоятельно информировать верхи
армии о положении в Петрограде. Телеграмма об «успокоении»
была отправлена командующим фронтами между 1 и 2 часами 1
марта, причем в телеграмме командующему Северным фронтом
Н.В. Рузскому, в штабе которого, располагавшемся в Пскове,
находился тогда Николай II, была сделана дополнительная
приписка. «Доложить его Величеству все это и убеждение, что
дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит
Россию» [6, с. 627]. Таким образом, командующие фронтами
давали рекомендации Николаю II отречься от престола, находясь в
положении, когда они не знали реальных событий и оттого их
советы были глубоко неверны.
Вскоре генералы поняли, что с началом революции ситуация
безнадежно изменилась в сторону ухудшения. А.А. Брусилов, чей
Юго-Западный фронт должен был стать главным в ходе
наступления, первым признал негативное воздействие переворота
на действующую армию. «Малоразвитый солдат понял это как
освобождение от “офицерского гнета» [3, с. 468]. Революция
нанесла колоссальный удар по боеспособности армии. Войска
стремительно теряли дисциплину. В прифронтовой полосе
процветали насилие и мародерство. В полках вопрос выполнять
или нет приказы командования решался на уровне солдатских
митингов. Большинством голосов солдаты могли отменять приказ
командования [7, с. 170].
193
На состояние русской армии влияла и вражеская пропаганда.
С германской стороны в русские окопы подбрасывались листовки
антианглийской направленности. И надо заметить, что эти
листовки в немалой мере отражали реальную действительность.
Вот образец листовки, распространявшейся в марте 1917 года, то
есть в самом начале революции.
«Солдаты в Петрограде революция, а вы еще не заметили,
что вас обманывают? А вы… не замечаете, что Англичане
погоняют Россию… вгоняют ваше отечество в бедствие?
Англичане обманули вашего Царя, они принудили его к войне,
чтобы с его помощью овладеть миром. Сперва Англичане шли
рука об руку с Царем, а теперь они против него. Всегда они
добивались
только
своих
собственных
корыстных
целей.
Англичане заставили Вашего Богом вам данного Царя отказаться
от престола. Почему? Потому что он понял всю лживость
английской игры. Военные поставки дали англичанам огромный
заработок… и от продолжения войны может быть польза только
для англичан… Кого обогатит война? Англию и спекулянтов.
Русский народ проснись.
Отверзи очи. Вся беда от Англии,
Англия ворочает делами в России. Ваш враг (Англия)» [8, л. 80].
Революция не отменяла необходимости наступления. И
политической силой, наиболее заинтересованной в организации
наступления, неожиданно оказались недавние противники войны –
эсеры и меньшевики, практически вытеснившие либералов из
власти. Меньшевик В.Б. Станкевич считал наступление полезным,
194
поскольку только ценою войны на фронте можно «купить порядок
в тылу и армии» [9, с. 63].
Новым обладателям власти хотелось доказать критикам и
справа (либералам), и слева (большевикам), что они умело
распорядятся властными полномочиями. К тому же они были
романтиками
и
хорошо
помнили
историю
французской
революции. Им хотелось повторения «чуда Вальми», где молодая
революционная армия в 1792 году разгромила хорошо обученные
войска
интервентов
[10,
с.
398-399].
Они
не
учитывали
принципиального различия ситуации во Франции и в России.
Французская армия в основном состояла из крестьян, уже
получивших дворянскую землю: им было что терять и за что
сражаться. А русские крестьяне, одетые в серые шинели,
помещичью землю еще не получили, и воевать за непонятные для
них интересы не хотели.
Поэтому
для
эсеров
и
меньшевиков,
если
бы
они
действительно были такими интернационалистами, было бы
намного лучше, не выходя сразу, в одностороннем порядке, из
войны, свести к минимуму участие в ней России, заявив о всяком
отказе
от
наступательных
операций,
ограничившись
исключительно поддержанием обороны, и приступить к поиску
путей мирного выхода из войны.
Профессиональные
военные
оценивали
сложившуюся
обстановку реалистичнее. Новый Верховный главнокомандующий
М.В. Алексеев приходил к выводу, что армии должны сидеть
195
спокойно, не предпринимая «решительной, широкого масштаба
операции» [3, с. 461]. Тем более, в отличие от весеннего
наступления 1917 года, готовившегося в предреволюционный
период, летнее наступление, замышлявшееся при Временном
правительстве, не несло большой пользы общесоюзному делу, так
как представляло собою лишь изолированный удар, легко
отбивающийся немцами при помощи подкреплений, присланных
с Западного фронта.
В ходе наступления Брусилов окончательно разочаровался в
возможности армии продолжать войну. Офицерско-генеральская
среда
оказалась
радикализму.
неспособной
противостоять
солдатскому
Февраль стал непреодолимым препятствием для
дальнейшего продолжения войны Россией. И основную долю вины
за военные неудачи 1917 года несут не большевики. Реальная
ответственность за начавшийся развал армии лежала на силах,
пришедших к власти в февральско-мартовские дни - либералах и
умеренных социалистах, добившихся отречения Верховного
главнокомандующего Николая II в ходе войны, и не ожидавших
последующего неповиновения солдат. Весь ход военной кампании
в
условиях
революции
предопределялся
солдатскими
настроениями. Лишившись царя, армия теряла главную опору, и
данный
фактор
вносил
смятение
в
солдатские
умы.
«Самодержавие солдата» оказалось страшнее «самодержавия
царя». Развращенная свободой армия была страшнее не для врага,
а для собственного населения. У нее очень хорошо получалось
196
насиловать и грабить мирное население, но воевать она была не
приспособлена. Без императора армия превратилась в массу
анархистов, желавших лишь скорее вернуться домой. Столь
разительно изменился характер армии, проведшей прежде почти
три года в жесточайшей войне.
Литература
1. Боханов А.Н. Николай II. М., 1997.
2. Совет министров Российской империи в годы первой
мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова (записи заседаний
и переписка). СПб., 1999.
3. Головин Н.Н. Россия в Первой мировой войне. М., 2006.
4. Чапкевич
Е.И.
Русская
гвардия
в
Февральской
революции //Вопросы истории. 2002. № 9.
5. Солженицын
А.И.
Размышления
над
Февральской
революцией //Брошюра в газете. Российская газета. 2007.
27 февраля
6. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II.
М., 1992.
7. Федюк В.П. Керенский. М., 2009.
8. РГВИА
(Российский
государственный
военно-
исторический архив). Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1921.
9. Иоффе Г.З. «Белое дело». Генерал Корнилов. М., 1989.
10. Карлейль Т. История Французской революции. М., 1991.
197
Черных Н. С.
ЩЕГЛОВИТОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ПОСЛЕДНИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Ключевые слова: Государственный совет Российской империи,
кадровая политика, государственный деятель, государственная
система, государственный советник, закон, коллегиальный орган,
монарх.
Статья посвящена личности Ивана Григорьевича Щегловитова,
последнего председателя Государственного совета Российской
империи. Основное содержание исследования составляет анализ
биографии,
оценок
современников,
государственной
и
общественной деятельности И. Г. Щегловитова. Его судьба
показывает трагедию сановничества России, отстаивавшего
консервативную политику в эпоху, требовавших реформ.
Приверженность идеалам самодержавия не позволила И. Г.
Щегловитову провести необходимые изменения в государстве, что
и повлекло в итоге Русскую революцию 1917 года.
Key words: State Council of the Russian Empire, human resource
policies, statesman, state system, counsellor of state, law, collegiate
body, monarch.
The article is dedicated to the personality of Ivan Grigoryevich
Shcheglovitov, the last chairman of the State Council of the Russian
Empire. The main content of the study is analysis of biography,
assessments of contemporaries, public and state activities of I.G.
Shcheglovitov. His fate shows the tragedy of Russian bureaucracy, who
defended conservative politics in the era, which demanded reforms.
Adherence to the ideals of autocracy did not allow I.G. Shcheglovitov
to make the necessary changes in the state, which, as a result, led to the
Russian Revolution in 1917.
Конец XIX – начало XX в. – время больших перемен и потрясений
в истории России. Они пришлись на годы правления последнего
198
российского императора Николая II (1894-1917 гг.). Молодой
император поддержал реформы министра финансов С.Ю. Витте,
но отверг предложения земств, направленные на расширение прав
местных органов самоуправления и усиление их влияния на
принятие государственных решений.
Являвшись верхней палатой законодательного учреждения,
важную роль в управлении империей в начале XX в. исполнял
Государственный совет [5, с. 57].
Император Николай II уделял кадровой политике в отношении
Государственного совета заметно большее внимания, чем
депутатам нижней палаты. Назначаемые члены имели огромный
опыт административной работы, необходимый для решения
важных государственных задач. Отличительной особенностью
кадровой политики монархии относительно Государственного
совета были ограничения выбираемой части в правах и в
материальном обеспечении [10, с. 46].
Основную массу членов Государственного совета составляли
люди, которые занимали ведущие позиции в государственном
управлении и юриспруденции, промышленности и сельском
хозяйстве, военном деле и науке Российской империи на рубеже
XIX – XX вв., когда многие сферы общественной жизни сделали в
ней невиданный до тех пор скачок вперёд [8, с. 4]: среди которых
можно выделить графа С.Ю. Витте, И.П. Шипова, С.Ф. Вебера,
М.Д. Дмитриева, С.С. Манухина, А.Ф. Кони, Ф.В. Стахеева, Ф.А.
Иванова, О.С. Ермолова, С.Д. Сазонова, Р.Р. Розена, О.О. Фрезе,
И.К. Григоровича, Н.Н. Сухотина [12, с. 132],.
Остановимся более подробно на деятельности последнего
председателя Государственного совета Российской империи Иване
Григорьевиче Щегловитовым (1861–1918) – действительном
тайном советнике (с 1914 г.) [3, с. 14].
Щегловитов Иван Григорьевич родом из села Валуец Юдиновской
волости Стародубского уезда Черниговской губернии 13 февраля
1861 г.
Иван Григорьевич – третий сын штабс-ротмистра Григория
Семеновича Щегловитова, который дважды был избран
Стародубским уездным предводителем дворянства. Семейству
принадлежала часть Валуйца, полученная дедом И.Г. Щегловитова
199
в качестве приданного за своей женой, которая происходила из
рода Песоцких [9, с. 41].
В 1900 г. И.Г. Щегловитов, владевший 2911 десятинами земли,
являлся третьим дворянином-землевладельцем в Стародубском
уезде.
И.Г. Щегловитов окончил в 1881 г. с золотой медалью
элитарнейшее Императорское Училище Правоведения [9, с. 60].
Специализацией И.Г. Щегловитова стала прокурорская служба. В
1881 г. он поступает на службу к прокурору Петербургского
окружного суда [6, с. 10]. В дальнейшем он регулярно продвигался
по карьерной лестнице, заняв 24 апреля 1906 г. пост Министра
юстиции [6, с. 12]. В 1907 г. стал членом Государственного совета,
в 1911 г. – сенатором [7, с. 98].
Также параллельно до 6 июля 1915 г. Иван Григорьевич занимал
пост генерал-прокурора. Его по праву можно рассматривать как
одного из усмирителей смуты 1905–1907 гг. [2, с. 167].
Оценки, данные в обществе этому назначению, как и самой
персоне нового министра, варьируются от сдержанных до резко
негативных. В частности, С.Ю. Витте оценивал данное назначение
среди произведённых на министерскую должность после его ухода
с поста председателя Совета министров как одно из наиболее
ужасных. По его мнению, И.Г. Щегловитов на протяжении многих
лет занимался уничтожением суда [4, с. 52].
Согласно воспоминаниям А.Ф. Кони, П.А. Столыпин в разговоре с
ним отметил, что государь «хвалил Щегловитова, бывшего у него
в тот день с докладом, и ссылался на то, что Щегловитов ему
нравится лёгкостью, вразумительностью и точностью своего
доклада, так что ему очень не хотелось бы расставаться с этим
министром» [3, с. 141].
На протяжении 1915–1916 гг. Иван Григорьевич принимал
активное участие в работе монархических организаций, в
частности, проходившего 21-23 ноября 1915 г. Совещания
монархистов в Петрограде, на котором его единогласно избрали
председателем. Приветственная речь И.Г. Щегловитова к
участникам Совещания включала довольно меткое определение
интеллигенции того времени, которую составляли «мыслители без
мысли, ученые без науки, политики инородческого, не
200
национального пошиба». Его речь представляла кредо
монархистов: «Для нас Монарх Самодержец не пустой звук, а
живая благодетельная сила, не только озаряющая нас с высоты
престола, но и дающая, подобно солнцу в природе, жизнь и
счастье стране». [11, с. 41].
Николай II благожелательно относился к И.Г. Щегловитову, что
долгие годы позволяло ему сохранять свой министерский пост.
Министром внутренних дел А.Д. Протопоповым отмечено, что
царь говорил о нем, как человеке опытном, обладающем огромной
государственной мудростью [3, с. 38].
В конце 1916 г. Николай II планировал провести контрреформы,
направленные против ограничения самодержавия. Для этого было
необходимо внести изменения в Основные государственные
законы Российской империи, что было невозможно без полной
лояльности Государственного совета. На начальном этапе
необходимо было поставить во главе Госсовета человека, который
был всесторонне предан императору. Этим человеком стал И. Г.
Щегловитова. 1 января 1917 г. он был удостоен ордена Св.
Александра Невского и назначен на должность председателя
Государственного совета, успев провести в тот кризисный период
российской истории лишь два заседания [1, с. 242].
С началом войны в правящем классе Российской империи
преобладали союзнические отношения со странами Антанты –
Францией и Великобританией. При дворе сторонником мира с
Германией считали кузину кайзера Вильгельма II императрицу
Александру Фёдоровну. В Думе и Госсовете за хорошие
отношения с Германской империей выступали крайне правые
деятели. Среди них, помимо И. Г. Щегловитова, были князь
Мещерский, барон Розен, депутаты Пуришкевич и Марков. Надо
подчеркнуть,
что
крайне
правые
оказались
наиболее
дальновидными политиками, предостерегая правительство от
начала войны с ней [8, с. 63].
И.Г. Щегловитов являлся активным противником революции и
революционных
организаций,
которыми
неоднократно
приговаривался к смертной казни. Являясь по убеждениям
монархистом, Иван Григорьевич оказывал широкую поддержку и
покровительство черносотенцам [7, с. 162].
201
Слова И.Г. Щегловитова – блестящее изложение основ
монархического миросозерцания: «Только бы русский народ не
был смущен в своих монархических убеждениях – и он вытерпит
все, он совершит чудеса героизма и самоотвержения. Не
забывайте, что в глазах русских, – я хочу сказать, истиннорусских
– Его Императорское Величество олицетворяет не только
верховную власть, но еще религию и родину. Поверьте мне: вне
царизма нет спасения, потому что нет России… Царь есть
помазанник Божий, посланный Богом для того, чтобы быть
верховным покровителем Церкви и всемогущим главой Империи.
В народной вере он есть даже изображение Христа на земле,
Русский Христос. И так как его власть исходит от Бога, он должен
отдавать отчёт только Богу – божественная сущность Его власти
влечёт ещё то последствие, что Самодержавие и национализм
неразлучны… Проклятие безумцам, которые осмеливаются
поднять руку на эти догматы» [11, с. 143].
И.Г. Щегловитов был сторонником сильной власти, а также
ограничительного толкования «свобод» и противодействия
оппозиционным стремлениям ряда членов Государственной думы.
Выступая против компромиссов, он постоянно высказывался
против политики непротивления и уступок... Своё министерство
он держал крепкою рукою, энергично боролся с проникновением в
судебное ведомство тенденций противоправительственного
характера. Эти действия получали негативную оценку в
антигосударственных кругах, небезосновательно считавших его
одним из главных представителей правых сил. Против него велась
кампания по дискредитации, включавшая в себя распространение
неверной информации [7, с. 146].
Хоть и являясь сильным государственным деятелем, И. Г.
Щегловитов вызывает противоречивые мнения о своей работе, так
как его убеждения оказались неактуальны на период истории
России, когда вера в царя неумолимо угасала, а постоянное
стремление к ограничениям лишь вызывало большее количество
протестных настроений, ставших одной из причин Февральской
революции. Идеи, приверженцем которых был последний
председатель Государственного совета Российской империи,
оказались никому не нужны, страна изменилась под влиянием
202
протестов и оппозиции. И имя самого Щегловитова оказалось для
многих пережитком прошлого, которое во времена Красного
террора было предано забвению.
Литература
1.
Воинство святого Георгия. Жизнеописания русских
монархистов начала ХХ века». Составители и редакторы А.Д.
Степанов, А.А. Иванов. СПб.: «Издательство «Царское Дело»,
2006 — 808 с.
2.
Бородин А.П. Государственный Совет России (1906–1917) /
А.П. Бородин. – Киров: Вятка, 1999. – 368 с.
3.
Гессен И.В. В двух веках. Жизненный путь / И.В. Гессен //
Архив русской революции. – Т. 22. – М., 1993.
4.
Громова Т. Свершившееся не застанет меня врасплох…:
Щегловитов Иван Григорьевич – министр юстиции Российской
империи (24 апреля 1906 г. – 6 июля 1915 г.) / Т. Громова //
Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 2000.
– № 3.
5.
Демин В.А. Верхняя палата Российской империи (1906–
1917) / В.А. Демин. – М.: РОССПЭН, 2006. – 376 с.
6.
Ефремова Н.Н. Министерство юстиции Российской
империи. 1802 – 1917 / Н.Н. Ефремова. – М., 1983.
7.
Звягинцев А.Г. Роковая Фемида. Драматические судьбы
знаменитых российских юристов: Астрель, АСТ; Москва. – 2010
8.
Каминка А.И. Подлежит ли призвание членов
Государственного Совета к присутствованию в нем ежегодному
возобновлению / А.И.Каминка // Право. – 1908. – № 1. – С. 1- 6.
9.
Крыжицкий Г.К. И.Г. Щегловитов / Г.К. Крыжицкий //
Былое. – 1925. – № 2.
10.
Обнинский В.П. Последний самодержец: очерк жизни и
царствования императора России Николая ІІ / В.П. Обнинский. –
М.: Республика, 1992. – 219 с.
11.
Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. 2-е
изд. — М., 1991.
12.
Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской
империи 1802 – 1917 гг. – СПб.: Дм. Булавин, 2002. - 936 с.
203
Секция 2
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ
РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
ГЛОТОВ М.Б.
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ
НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
До
октябрьской
революции
1917
года
в
России
непрофессиональная художественная деятельность определялась
как любительство. Идеологи Октябрьской революции отменили
этот
термин,
рассматривая
характеризующий
его
развлечения
как
классово
чуждый,
эксплуататорских
классов.
Непрофессиональное художественное творчество народа стало
называться пролетарским, рабоче-крестьянским, красноармейским
искусством. Главными задачами институциализации народного
художественного творчества были:
- соединение любительского художественного творчества с
политической борьбой,
- формирование жесткой организационной структуры,
- служение идеологическим интересам определенного класса,
- подконтрольность вышестоящим организациям,
-
превращение
художественного
организованного досуга,
204
творчества
в
средство
-
ориентация
на
эстетические
и
творческие
каноны
профессионального искусства.
В
процессе
творчества
институциализации
появились
новые
народного
художественного
художественные
направления,
методы и стили, которые развивалась под влиянием социальноисторической
и
социально-экономической
ситуаций,
были
отражением процессов, которые происходили в обществе. Особое
значение имели процессы, происходившие в деревне, где веками
складывался уклад жизни, народные традиции, обычаи, ритуалы
которые были разрушены в результате коллективизации и
раскулачивания
крестьянства.
Поэтому
институциализация
народного художественного творчества в первые годы Советской
власти происходила в центральных и крупных промышленных
городах. Следует отметить, что в первые годы советская власть
проявляла заботу в распределении материальных и финансовых
средств
на
культуру,
в
передаче
помещений,
которые
приспосабливались под нужды художественного творчества.
В первые два-три года после революции народное художественное
творчество во многом продолжало традиции дореволюционного
любительтва. Использовались формы кружковой и студийной
работы,
в
которых
было
организовано
художественное
образование, осваивались классический репертуар и образцы
профессионального искусства. Но в то же время появилось новое в
жанрово-видовой структуре, в формах организации, в содержании
репертуара. Возникали и первые симптомы противопоставления
205
народного
художественного
творчества
профессиональному
искусству – отказ от традиций элитарного искусства.
Все
происходящие
сопровождались
энтузиазмом
события
мощным
трудящихся
культурной
эмоциональным
масс.
Основными
революции
подъемом
и
направлениями
народного художественного творчества в первые годы после
революции были: литературное, театральное, музыкальное и
изобразительное. Наибольшее распространение в эти годы
получили
самодеятельные
театральные
объединения.
Самодеятельные театры создавались в Народных домах, учебных
заведениях, в цехах, в красных уголках. С успехом ставили пьесы
классиков, особенно
Шиллера и Лопе де Вега, в которых
поднимались проблемы классовых противоречий, что давало
возможность выразить революционный пафос, внося в их текст
актуальные
и
злободневные
изменения,
отражающие
революционное и эмоциональное состояние народа. Новым видом
театральных представлений стали пьесы-агитки, сочиненные сами
актерами на основе событий повседневной жизни или материалов
прессы. Эти пьесы призывали к строительству нового общества и к
борьбе против иностранной интервенции в годы гражданской
войны. Главным в них были не столько художественный уровень
исполнения, сколько политическая агитация.
Другой новой театральной формой был театр массового действия,
в которых принимало участие огромное количество людей.
Например, в ин-сценировках «Взятие Зимнего дворца» и «К
206
мировой коммуне» участвовали около 4 тысяч красноармейцев и
членов театральных самодеятельных студий, не считая десятков
тысяч зрителей.
Музыкальное
народное
художественное
творчество
было
представлено двумя направлениями: хоровым и оркестровым.
Особо уделялось внимание музыкальному образованию. Вечерние
и воскресные музыкальные кружки были бесплатными для
учащихся, рабочих и солдат. Наиболее талантливые ученики
получали возможность работать профессионально. Массовое
музыкальное исполнительство использовалось для придания
торжественности революционным празднествам.
С первых послереволюционных лет в народном художественном
творчестве получило распространение изобразительное искусство.
В клубных учреждениях занятия носили студийный характер, а
значительное
место
занимало
художественное
оформление
массовых праздников и театральных представлений.
Организация
функционирования
народного
художественного
творчества в первые годы советской власти осуществлялась
созданным еще после Февральской революции Пролеткультом,
который формально подчинялся Наркомпросу. Особенность
деятельности Пролеткульта состояла в том, что его вожди
отрицали культурное
негодного
для
наследие
строительства
буржуазного
нового
прошлого как
общества,
а
также
профессиональное и народное творчество. Теоретические идеи
вождей Пролеткульта были раскритикованы В.И. Лениным и А.В.
207
Луначарским
в
специальном
письме
ЦК
ВКП
(б)
«О
отделять
от
Пролеткультах».
Однако
идеи
вождей
практических дел.
журналы,
были
Пролеткульта
следует
Пролеткульт издавал
созданы
театральные,
альманахи, книги,
художественные
и
литературные студии,
оформлялись митинги, демонстрации,
проводились
на
конкурсы
лучшие
пьесы,
инсценировки,
организовывались представления театра массового действия,
Отвергая
традиции
профессионального
искусства,
пролеткультовцы активно содействовали созданию новых форм и
репертуара.
Таким
образом,
Пролеткульт,
идейно
отрицая
традиции прошлых лет и профессиональное искусство, сыграл
важную роль в развитии народного художественного творчества.
В
первые
годы
после
революции
1917
года
народное
художественное творчество было мощным инструментом в руках
советской власти, которая: через творчество народных масс вела
идеологическую работу по пропаганде идеологии правящей
партии. Также в эти годы был создан культурно активный и
достаточно образованный слой населения, который обладал
потенциалом для дальнейшего развития художественной культуры
в обществе.
208
А. П. Желобов
О ХАРАКТЕРЕ РЕЛИИОЗНОСТИ И. В. ВЕРНАДСКОГО И
«КОЛЕБАНИЯХ» ЕГО ЦЕННОСТНОГО СОЗНАНИЯ
Отношение академика В. И. Вернадского, активного участника
февральского этапа Великой русской революции, к «октябрьскому
перевороту», идеологии большевизма и к деятельности советского
правительства
-
весьма
важный
мировоззрения
выдающегося
аспект
учёного,
исследований
государственного
и
общественного деятеля.
И здесь остаётся много нерешенных вопросов. До сих пор не
вполне ясно, как повлияли события революции, гражданской
войны
и
практика
строительства
социализма
на
его
мировоззрения, на «Этос» учёного и человека.
Здесь существует определенный разброс в исследовательских
суждениях
и
оценках.
Превалирует
представление
об
эволюционном характере аксиологии Вернадского, меняющейся
под воздействием глубоких и трагичных социокультурных
изменений [4; 5; 6; 9]. Эти представления опираются на работы И.
И. Мочалова - давнего знатока и тонкого интерпретатора наследия
В. И. Вернадского. Высказываются суждения и о периоде
радикальной переоценки ценностей Вернадским.
Так, В. В. Ведерников, анализируя дневник В.И. Вернадского о
событиях революции и Гражданской войны [11], обнаруживает
209
«коренные изменения» в воззрениях автора в начальный период
революции и гражданской войны (причём утверждает, что взгляды
Вернадского менялись в зависимости от успехов белых или
красных). События в стране якобы «заставляют его коренным
образом
переосмыслить
положения,
которые
казались
бесспорными - народоправство, демократия, освободительное
движение,
социализм»,
социализма
у
признать
Достоевского,
справедливой
оценить
религию
критику
и
даже
положительно отнестись к взглядам проповедника неравенства и
раннего представителя расовой теории Ж. Гобино. И, наконец, по
важнейшему
вопросу
делается
ответственный,
но
весьма
сомнительный, с нашей точки зрения, вывод: «Основной
ценностью Вернадский провозглашает не личность, а сильное,
крепкое, сплоченное государство [11]». На чём же основывается
вывод, что «личность» для Вернадского уже не «основная
ценность»?! Быть может дневниковые высказывания Вернадского
-
ситуативные эмоциональные «колебания», а не «переоценка
ценностей»?
Основная претензия к выводам, подобным суждениям В.В.
Ведерникова - это ограниченность материала для обобщений, его
суженность во времени. Ведь дневниковые записи, прежде всего выражение момента, эмоциональная реакция на обыденное и
повседневное, его констатация - «мимолётное» (В.В. Розанов). И в
этом смысле
дневниковые
записи Вернадского скорее
констатация «коренных изменений»
210
мировоззрениия,
не
не
«радикальная
переоценка
ценностей»,
а
констатация
эмоциональных состояний, и материал для размышлений.
Здесь мы не можем развернуть идею о неизменности «ценностного
стержня» мировоззрения Вернадского Нам уже приходилось
писать о «категорическом императиве» Вернадского, как о
«ставшем и неизменном». Именно личность и свобода творчества,
как мы пытались показать, оставались с юных лет и до конца
жизни, центральной ценностью его аксиологии. «Когда-то ему
открылось, что этические вопросы - важнейшие вопросы жизни и
главный вопрос - это вопрос о её смысле. Этот смысл […] ярко
воплотился в многообразной деятельности выдающегося учёного,
несмотря на все трагические перипетии жизни» [8, с. 226-227].
Таким образом, мы видим и выделяем нечто абсолютное и
неизменное
в
мировоззрении
учёного,
отклоняясь
от
традиционной, привычной его оценки.
Нам представляется не случайным и ярким подтверждением
неизменности ценностного сознания В.И. Вернадского и его
весьма критического отношения к правящему режиму запись в
дневнике от 30 июля 1941 г.: «Страна при мильонах рабов (лагеря
и высылки НКВД) выдержит, так как моральное окружение
противника еще хуже» [2]. Уверенность в победе! Победим не по
причине
социально-экономического
и
технического
и
т.п.
превосходства, а по причинам моральным: «Они ещё хуже» И это
через 20 лет (!) после Гражданской войны и якобы «переоценки
ценностей»
211
В рамках вопроса о ценностях в российской печати остается
широко востребованной проблема отношения
академика В. И.
Вернадского
его
загадочной
превалируют
положения,
именно
выражение
к
«религиозности».
религии,
о
характере
Здесь
также
выдвинутые ещё в советское время.
Существенно
обратить
внимание
национальной
особенности
в
познавательной
на
деятельности.
«Антропологизм» и «морализм» присущий русской философии,
отмечаемый историками философии (Зеньковский В.В.), отражает
существенные
особенности
«русского
души».
Познание
человеком Мира, самого себя и Бога освещено поисками смысла
жизни. Что русская философия это философия, прежде всего,
религиозная
утверждением.
не
представляется
Действительно,
слишком
значительная
уж
сильным
часть
русских
философов ХIХ - начала ХХ века свои искания определяют как
религиозные. И определение «русская религиозная философия»
вероятно можно понимать, - как предполагает Е.И. Евлампиев, не только в смысле противопоставления разных традиций внутри
русской мысли, а и в смысле фиксации «всеобщей характеристики
этой мысли» [7, с.122].
Констатируя вероятную «духовную
религиозность»
философствования,
русского
обратимся
к
«религиозности Вернадского», пытаясь взглянуть на нее под этим
гипотическим углом зрения.
Определяя отношение Вернадского к религии, отмечают
«парадоксальность», «загадочность» его религиозности. Так
212
многие авторы солидарны с заключением И. И. Мочалова:
«религиозность – без церкви, молитвы, образов, слов и понятий, в
конечном счёте – без бога и… без самой религии. Таковы
очевидные
парадоксы
Соглашающиеся
религиозности
с
в
религиозности
Вернадского»
«парадоксальностью»,
научном
мировоззрении
[9].
«загадочностью»
«атеиста»
В.И.
Вернадского приводят следующие суждения из его дневников и
писем. Чаще всего: «Я считаю себя глубоко религиозным
человеком. А между тем для меня не нужна церковь и не нужна
молитва. Мне не нужны слова и образы… Бог – понятие и образ,
слишком полный несовершенства человеческого… Не есть ли вся
религия – недоразумение?.. Бог есть один из символов нашего
разума… Мне его не надо… Принять «откровение“ не могу.
Религиозные откровения – в частности христианские – кажутся
мне ничтожными по сравнению с тем, что переживается во время
научной
работы…
Моё
отрицательное
отношение
распространяется на все формы живых религий… Слишком много
в них мишуры… По отношению к Христу нет никаких реальных
данных о его существовании. Его реальность многими сейчас
отрицается – фольклор“ [9]. А так же ссылаются на яркую запись
от 22 июня 1923 г. (Париж): «Великая ценность религии для меня
ясна, не только в том утешении в тяжестях жизни, в каком она
часто оценивается. Я чувствую её как глубочайшее проявление
человеческой личности… А между тем для меня не нужна церковь
и не нужна молитва» [3, c.87]
213
Эти
высказывания
Вернадского
предстают
не
парадоксальными и загадочными, если взглянуть на них
углом зрения отмеченной нами «религиозной
столь
под
духовности»
русской мысли как таковой. В этом случае мировоззрение
Вернадского наполняется светом высших ценностей. Мы видим,
что зрелый Вернадский избавляется
от стремления соединить
этику (моральные ценности) и науку и он говорит о своей
«глубокой религиозности». При этом, он остается верен идее, что
этические вопросы – главные вопросы жизни. Так осуществляется
«соблазн» отождествления морали и религии, точнее «морализма»
и «религиозности». И тогда - никакой парадоксальности, никакой
загадки.
В определённом аспекте нам близки суждения о «подлинной
религиозности» у критиков
понимания атеизме и религии,
представленного в традиционных текстах И.И.Мочалова и Т.И.
Грековой: «Ошибка таких атеистов как Мочалов и Грекова состоит
в том, что они ставят знак равенства между церковностью,
традицией и догмой, с одной стороны, и религиозностью, с другой.
Но знака равенства быть не может. Религиозность – понятие
неизмеримо более широкое и глубокое, чем понятия церковности,
традиции и догмы». И ещё пояснение к называющим Вернадского
«атеистом»: «На наш взгляд, – пишет Мочалов, – главная
особенность религиозности Вернадского заключается в том, что
она находилась не в сфере его идеологии, различного рода
концепций, понятий, идей и т. д., а, так сказать, этажом ниже – в
214
области его психики, различных, часто весьма туманных
переживаний и настроений, смутных образов, эмоций и т. п.». Но
ведь именно переживания и составляют основу религиозного
опыта. Мочалов исходит из того, что религиозность должна быть
связана с какой-либо теологией. Но теология для верующего – это
некоторое умопостроение, которое объясняет многочисленные
формы религиозных переживаний. Теология рождается вследствие
религиозного опыта, а не опыт рождается из теологии. […] Атеист
не станет называть себя «верующим вне христианских церквей» и
«глубоко религиозным человеком» [10]. Ясно, что «вера в Бога и
религиозность у Вернадского не одно и то же. Можно быть
религиозным человеком, но в бога не верить. Здесь религиозность
приравнивается к разновидности духовности» [5, с. 218]. В
приведенных суждениях констатируется, по крайней мере, некое,
присущее человеку, религиозное чувство, имеющее вселенское
значение, являющееся основанием самой возможности, скажем,
экуменистического движения.
Коснувшись некоторых сторон вопроса о «колебаниях» идеологии
В.И.
Вернадского
переворота»,
мы
в
условиях
склоняемся
к
последствий
«октябрьского
выводу,
основы
что
его
мировоззрения остаются низменными, а эпистолярные мысли,
якобы идущие вразрез его глубинным убеждениям,
являются
эмоциональным отражением момента – «вспышки мысли по
поводу». Это надо иметь в виду, осмысливая и комментируя
записи
В.И.
Вернадского.
И
215
флёр
«загадочности»
его
религиозности окажется, возможно, не столь туманным, если при
анализе
проблемы
учитывать
и
наличие
«религиозной
духовности», и особенности «русской души». В целом, для
дальнейших исследования наследия академика В. И. Вернадского
актуальна мысль, что его свидетельства об эпохе и о самом себе
нуждаются в критическом осмыслении.
Литература
1.
Вернадский В.И. Дневники 1917-1921. – Киев, 1994
2.
Вернадский В.И. Дневники. Июль 1941 – август 1943. - М.,
2010.
3.
Вернадский В.И. Пережитое и передуманное. - М., 2007.
4.
Грекова Т.И. О вере и неверии людей науки //
Электронный
ресурс
(2002)
:
http://razumru.ru/atheism/science/grekova.htm
5.
Дробжев М.И. В.И. Вернадский о религии и религиозности
// Вестник ТГУ, вып.3 (83), 2010. С.217-225.
6.
Даниленко В.П. Путь к сциентистскому мировоззрению:
В.И.Вернадский
//
Электронный
ресурс:
http://
www.ecolife.ru/zhurnal/articles/13112
7.
Евлампиев И. И. Религиозность русской философии как
проблема // Вопросы философии. - №1. - 2012. - С.117-128.
8.
Желобов А.П. Ставшее и неизменное: «категорический
императив» В.И. Вернадского // Взгляд через столетие. -
216
Международная научная конференция 28 февр. 2017 г. - СПб.:
РГГМУ, 2017. - С.222-228.
9.
Мочалов И. И. В. И. Вернадский и религия // Электронный
ресурс: http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/Mochalov02.html
10.
Преображенская
Е.
Религиозность
и
религия
Электронный
//
ресурс:
https://preobrazhenskaya.wordpress.com/2008/04/18
11.
Ульянова С.Б., Кашеваров А.Н.
В.И. Вернадский – на
стыке наук и эпох («Круглый стол» в Доме учёных) //
Электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/v-i-vernadskiyna-styke-nauk-i-epoh-kruglyy-stol-v-dome-uchenyh
Канышева О.А.
ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РОССИИ В
ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД
Трудно представить самостоятельность России при отсутствии
интеллектуальной культуры. Европейская философия является
основой
российского
философия,
даже
философского
если
она
образования.
существует,
не
Русская
является
самостоятельной философией по признанию самих русских
мыслителей. А.Ф.Лосев пишет о самобытной русской философии:
не в философии, а в русской литературе. Самобытность русской
философии развивается у славянофил, в концепции философии
217
сердца. Сердце – духовный центр человека. Не разум, как в
европейской мысли, а любовь является высшим принципом бытия.
В целом, русская философия носит религиозный характер.
Но ее после 1917 г. Советская власть не признала: вся система
Советского образования пронизана атеистической подборкой
литературы: научной, художественной и философской. Человек
Советского
периода
пронизан
марксистско-ленинской
философией.
Постсоветское поколение свободно от идеологии СССР и его
поведение
определяется
материальными
ценностями.
Настроенность на карьерный рост, личный имидж, успех,
сексуальную свободу, комфортность существования и жизнь по
принципу: «Живи сегодняшним днем!», это то же самое, что:
«После меня, хоть потоп!». Насыщенность жизни зачастую делает
ее короткой.
Проблема единства нации при смене поколений и традиций
связана
с
отсутствием
фундаментальной
веры,
которая
надличностна и подчиняет индивидуальные принципы всеобщим,
или национальным. «Игнорирование общего в индивидуальном,
сведение индивидуальности к абсолютно единичному ведет к
искаженному
пониманию
ее
сущности,
к
отрицанию
ее
общественной природы. При таком понимании она фактически
отождествляется с биологическим в человеке» [3, с.15].
В
СССР
философия
определялась
марксистско-ленинской
идеологией и понятие «индивидуальности» носило сложный
218
характер. Ведь нужно было человека вовлечь в коллективную
трудовую практику. И.И. Резвицкий пишет об индивидуальности с
точки зрения материалистической диалектики и определяет
«индивидуальность»
как
совокупность
биологических,
социальных и духовных свойств, которые можно рассматривать
лишь в единстве всех вместе взятых.
При
этом
он
замечает,
что
в
советской
литературе
«индивидуальность» ««выключается» из системы общественных
отношений или остается на заднем плане» [3, с.5]. Такие качества
«индивидуальности» как неповторимость, творческая активность,
принцип «Я», и т.д. являются важными в ее характеристике. Но
существует,
при
этом,
опасность
впадать
в
крайности:
индивидуализм и альтруизм, дифференциацию и интеграцию,
спецификацию и типизацию. Для «индивидуальности» важно быть
включенной в бытие социума и рода, стремление реализовать свою
индивидуальность в жизни общества.
Резвицкий И.И. дает критику западной философии, обвиняя ее в
превращении «индивидуальности» в «индивида», что происходит
по причине ухода индивидуальности во внутреннюю жизнь:
спиритуализация, с одной стороны, отождествление ее с
сознанием,
а с другой – материализация, поглощение собственностью,
потребительским характером общества ущемляет ее в духовном
развитии. «Буржуазный образ жизни имеет ярко выраженный
потребительский характер, он замыкает личность в узких рамках
219
потребительских интересов, отвлекая ее от назревших проблем
общественного развития» [4, c.136]. Сегодня мы сталкиваемся с
этой проблемой тоже.
«Понятие «индивид» в психологии во многом совпадает с
понятием «индивидуальность» в социологии, где последнее
понимается
как
неповторимое
(психофизиологических)
и
сочетание
социальных
природных
свойств
индивида.
Абстракция «индивидуальность» в психологии в значительной
мере
совпадает
с
абстракцией
«индивид»,
задевая
его
дисциплинарное своеобразие. В психологии индивид трактуется
как
представитель
своеобразными
человеческого
рода,
психофизиологическими
обладающий
особенностями,
устойчивостью психических процессов и свойств, собственной
мерой активности и гибкости в реализации этих свойств в
повседневной жизни» [2, c.264].
Личность, не смотря на индивидуальные особенности, признается
тогда,
когда
поведение
одобряется
обществом,
причем
индивидуальные особенности подавляются, если они вступают в
противоречие с социальными ролями. В психологии «личность»
подменяется
«индивидуальностью»,
индивидуальное
начало
или,
точнее
подчиняется
сказать,
личностному.
Индивидуальное здесь есть социально значимое. Насколько
хорошо
личность
выполняет
свою
роль
зависит
от
индивидуальных способностей. Личность предполагает типизацию
220
ролей,
удобство
их
выполнения,
«прочитываемость»
и
контролируемость.
В философии существенной характеристикой индивидуальности
является принцип Я. Генезис «Я» в истории философии
раскрывается через отождествления: «Я» и Космоса, «Я» и Бога,
«Я» и Природы, «Я» и Общества, «Я» и Другого.
«Основное в индивидуализации человека – это его созидательная
деятельность, в процессе которой и проявляются его сущностные
силы. Не в потреблении, а в преобразовании объективного мира, в
созидании новой жизни лежит подлинный источник развития
человеческой индивидуальности» [3, c.136].
Отношение к России в современном мире пренебрежительное у
Европы. Европа пошла по пути индивидуализма, опираясь на
ценности протестантизма. М. Вебер пишет о невозможности
догнать
русскими
свойственен
дух
европейский
индивидуализм
приобретательства.
«Теперь
,
которому
уже
не
приобретательство служит человеку средством удовлетворения его
материальных потребностей, а все существование человека
направлено на приобретательство, которое становится целью его
жизни» [1, с.79]. В христианстве воспитывается любовь к труду,
аскетизму, упорности, сдержанности, скромности, что важно для
дела. Но, в отличие от христианства в целом, протестантизм делает
религию мирской. «…(В)ыполнение мирских обязанностей служит
при любых обстоятельствах единственным средством быть
угодным Богу, что это – и только это - диктуется божественной
221
волей и что поэтому все дозволенные профессии равны перед
Богом» [1, с.98].
Россия – огромная страна, но при этом она «выглядит» как
дремучая, как лесная глушь. В русско - советском кинематографе
создается образ русского с универсальным характером, когда
русская душа может обрести дом, и на чужбине. Вселенскость
русской души, ее открытость к другим народам и к собственным
переменам позволяет ей обрести дом в любой точке мире.
Возможно, это еще только миф о русском.
Завоевывать уважение и расположение мира при сохраняющемся
холоде крайне непросто. Для этого необходимо превратить
недостатки русского в его достоинства. Европейский мир с
удовольствием печатает материалы о русских, написанные самими
же русскими, если они содержат экспрессивно-негативные
характеристики русского, что выглядит уже как предательство.
Практически постоянно русского изображают в облике тотемного
животного Медведя, который жуток в его жестоком облике. Хотя
этимология слова «медведь» говорит прямо об обратном. «Мед ведь», т.е. то, кто ведает, где мед; или - любитель меда.
Европейский мир видит нецивилизованность русского, которая
связана с отсутствием интеллектуальной культуры. Ментальность
России и Европы столь разная, что выражается в неприязни и
постоянном заведомом конфликте. Очевидно, что чтобы быть
услышанным и понятым необходимо, либо найти общий язык,
222
либо принять язык Европы, либо Европе проявить толерантное
отношение к иной по духу культуре, чем она.
Миф с точки зрения психоанализа есть сон, или бессознательное:
коллективное,
или
индивидуальное.
Демифологизация
есть
процесс структурного анализа сознания. Сознание отелеснивается
в мире, обретая образ. Образ Медведя – русского представляет
иррационально метание души – зверя, желание отомстить
обидчику, когда в состоянии аффекта можно разрушить все, что
окружает обидчика.
Хотя существует не менее интересный миф о русском Иване, где
имя – образ Ивана означает душу всех русских. Поведение Ивана
парадоксально: как правило, он младший сын в семье, да еще к
тому же и дурак, но в конце сказки Иван становится богатым,
счастливым, одним словом, Иван - везучий. Его логика поведения
непредсказуема. Почему этот миф не популярен в политической
прессе?
В любом случае, формирование индивидуальности русского
этноса, насущная задача современного российского общества.
«Образование
индивидуальности
обеспечивает
поддержание
идентичности и известного тождества человека самому себе,
делает его способным сохранить свою целостность и устойчивость
в условиях непрерывно изменяющегося внешнего мира. Оно
делает человека не только самостоятельным, но и подлинно
неповторимым субъектом» [3, с.13].
223
И. Кант пишет о России, как стране с еще не сложившимся
характером; Ф. Энгельс говорит о русских, как о копировщиках
всего европейского с пренебрежением; В.С.Соловьев говорит о
необходимости
спасения
индивидуальности,
как
условия
сизигического объединения мира; в творчестве Н.А.Бердяева есть
образ России как бабы на распутье, что говорит об отсутствии ее
индивидуальности.
На вопросы: Кто виноват? Что делать? – есть ответ: необходимо
формировать индивидуальность русского мира.
Литература
1.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. //
Избранные произведения. – М., Прогресс, 1990. -808с.
2.
Новейший философский словарь. – Мн.: Изд. В.М.Скакун,
1998. -896с.]. –
3.
Резвицкий
И.И.
Философские
основы
теории
индивидуальности. - Изд – во ЛГУ, 1973. – 175 с.
4.
Резвицкий И.И. Личность. Индивидуальность. Общество:
Проблемы индивидуализации и ее социально-философский смысл.
–М., Изд-во полит. Лит.,1984. -141с.
224
М.Г.Лазар
\
Отношения церкви и государства в России: исторические
и социальные аспекты
Современная социология религии имеет несколько форм, в
зависимости
от
понимания
своего
предмета:
а)
светская
социология религии (основатели – Э.Дюркгейм, М.Вебер), для
которой религия – важнейший элемент культуры человечества, б)
атеистическая социология религии (марксистская), для которой
религия - это форма идеологии, придуманная эксплуататорскими
классами для порабощения народа и усиления его послушания и в)
религиозная
социология религии, изучающая существующие в
мире ветви христианской религии, особенно в ее протестантских
формах.
В
возникающей
структуре
для
религии
как
удовлетворения
социального
явления,
определенных
духовных
потребностей людей имеются несколько компонентов: вера в
наличие
бога-творца,
религиозная
доктрина,
содержащая
жизнеописание и учение создателя данной религии, нравственное
ядро, нормы нравоучения и жизнедеятельности, обряды и таинства
и наконец – организация, церковь, возникающая на базе общины
верующих [4,с.62-71].
Соответственно, если религию понимать не как «опиум для
народа» (Ленин), а как
важнейший социальный институт
общества, как компонент культуры, способствующий сохранению
225
этнических групп, их государственности и передачи из поколения
в поколении национальных традиций и морально-этических норм,
то роль Русской Православной Церкви (РПЦ) в истории
российского
государства
представляется
значимой
и
плодотворной. Поэтому вопрос о взаимоотношениях власти,
государства и церкви как важнейшего элемента православной
религии в исторической перспективе, вопрос о месте и роли
церкви в дореволюционном, советском и постсоветском периодах
истории России представляют не только теоретический, но и
очевидный практический интерес, способные влиять на будущее
страны.
РПЦ имеет богатую, более чем тысячелетнею историю, рубеж,
который отмечался даже в поздний советский период: в 1988 г.
власть
не
прошла
мимо
1000-летия
Крещения
Руси.
Распространению христианства на Руси способствовало соседство
с могучей христианской державой - Византийской империей, с
которой
существовали
тесные
торгово-экономические,
политические и культурные отношения, которые привели в 988
году к Крещению Руси. Особую роль на Руси играли как церкви,
так и монастыри. «… главная их заслуга перед русским народом не говоря об их чисто духовной роли - в том, что они были
крупнейшими
центрами
образованности.
В
монастырях,
в
частности, велись летописи, донесшие до наших дней сведения о
всех знаменательных событиях в истории русского народа. В
монастырях процветали иконопись и искусство книжного писания,
226
выполнялись
переводы
на
русский
язык
богословских,
исторических и литературных произведений» [2].
В период
феодальной раздробленности, церковь оставалась единственной
носительницей
идеи
объединения
русского
противодействовавшей
центробежным
устремлениям
междоусобицам
Татаро-монгольское
князей.
народа,
нашествие
и
не
сломило Русскую Церковь. Она сохранилась как цементирующая
сила, которая реально способствовала материально и морально
(духовно) воссозданию политического единства Руси - залога
будущей победы над разными поработителями.
Незадолго до падения Византийской империи, в 1448 году,
Собор русских епископов избрал своего митрополита Иону,
который получил титул Митрополита Московского и всея Руси, а
Русская Церковь стала независимой от Константинопольского
Патриархата. В 1589 году Московский Митрополит Иов стал
первым русским Патриархом.
В начале XVII в. с запада на
Русскую Землю вторглись польско-шведские интервенты. Во
время смуты Русская Церковь, как и прежде, с честью выполнила
свой патриотический долг перед народом. В частности, Патриарх
Ермоген (1606-1612), замученный интервентами, был духовным
вождем ополчения Минина и Пожарского. В летопись истории
Русского государства и Русской Церкви навсегда вписана
героическая оборона Троице-Сергиевой Лавры от шведов и
поляков в 1608-1610 годах. Начало ХVIII века ознаменовалось для
России радикальными реформами Петра I, которые коснулись и
227
Русской Церкви: после кончины в 1700 году патриарха Адриана
Петр I задержал выборы нового патриарха, принял юлианский
календарь, а в 1721 году учредил коллегиальное высшее церковное
управление в лице Святейшего Правительствующего Синода,
который оставался высшим церковным органом вплоть до 1917 г.,
тем самым подчинил церковь царской власти. В Синодальный
период своей истории (1721-1917 годы) «Русская Церковь особое
внимание
уделяла
развитию
духовного
просвещения
и
миссионерству на окраинах страны, вела восстановление старых и
строительство новых храмов. Немало сделали русские церковные
ученые и для развития таких наук, как история, языкознание,
востоковедение» [там же].
Осенью 1917 г., во время выборов в Учредительное собрание
новой России началась подготовка к созыву Всероссийского
Церковного Собора, состоявшегося в ноябре
1917 года и
восстановившего Патриаршее управление Русской Церковью.
Митрополит Московский Тихон был избран
Патриархом
Московским и всея Руси (1917-1925). Он прилагал все усилия,
чтобы успокоить разрушительные страсти, раздутые революцией.
В Послании Священного Собора от 11 ноября 1917 года
говорилось:
«Вместо
обещанного
лжеучителями
нового
общественного строения - кровавая распря строителей, вместо
мира и братства народов - смешение языков и ожесточенная
ненависть братьев. Люди, забывшие Бога, как голодные волки
бросаются друг на друга... Оставьте безумную и нечестивую мечту
228
лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство
путем всемирного междоусобия! Вернитесь на путь Христов!' [2].
Осуждение им разгона Учредительского Собрания большевиками
в январе 1918 года, другие его выступления привели потом к
аресту нового патриарха. Для пришедших к власти в 1917 году
большевиков, РПЦ была идеологическим противником, которого
надо
уничтожать,
поэтому
тысячи
священников,
монахов,
монахинь и мирян по приказу вождей советской власти были
подвергнуты репрессиям вплоть до расстрела. В силу этого
отношения к ней, РПЦ не приняла григорианский календарь,
введенный декретом Совнаркома с 31 января 1918 года на
территории, находившейся под контролем Советской власти. В
результате, РПЦ отмечает религиозные праздники по юлианскому
календарю. А в
1948 году на Московском совещании
Православных церквей (Русской, Иерусалимской, Грузинской,
Сербской, Афона) постановлено, что «Пасха, так же, как и все
переходящие
александрийской
праздники,
пасхалии
должна
рассчитываться
(юлианскому
календарю),
по
а
непереходящие — по тому календарю, по которому живёт
Поместная церковь. Финляндская православная церковь празднует
Пасху по григорианскому календарю» [5].
Для преодоления начавшегося в России голода, новая власть в
1921-22 годах, принудительно конфисковала золотые, серебряные
и другие предметы инвентаря церквей, а позже, по приказу властей
сотни церквей были разрушены или превращены в склады и дома
229
культуры. Большая часть духовенства находилась в лагерях, где
многие были убиты или пропали без вести. В результате такой
политики, в 1941 г. к началу войны церковная структура по всей
стране была почти полностью ликвидирована. Во всем Советском
Союзе были открыты для богослужений лишь несколько сотен
храмов.
Катастрофический для страны ход боевых действий в
начале войны заставил Сталина мобилизовать для обороны все
национальные резервы, в том числе РПЦ в качестве народной
моральной
силы.
Для
богослужений
открылись
храмы,
священнослужители, включая епископов, были выпущены из
лагерей. Русская Церковь не ограничилась только духовной
поддержкой дела защиты Отечества, она оказала и материальную
помощь армии, вплоть до финансирования танковой колонны и
эскадрильи самолетов.
Кульминацией этого процесса, которого можно охарактеризовать
как
сближение
единении",
Патриаршего
был
государства
прием
и
церкви
Сталиным
Местоблюстителя
4
в
"патриотическом
сентября
митрополита
1943
года
Сергия
(Страгородского) и других митрополитов, что было равноценно
возрождению Патриаршества на Руси и его признанию властьями.
Можно сказать, что с этого момента началось "потепление" в
отношениях церкви и государства, однако церковь по-прежнему
находилась под жестким государственным контролем, и любые
попытки расширения ее деятельности вне стен храма встречали
отпор. Трудным было положение РПЦ и в период так называемой
230
"хрущевской оттепели", когда в угоду идеологическим установкам
было снова закрыто множество церквей на всей территории
Советского Союза и продолжалось их физическое уничтожение.
Празднование тысячелетия крещения Руси в 1988 году, на закате
государственно-атеистической системы, придало новый импульс
улучшению
церковно-государственным
отношениям.
Власть
начинает вести диалог с церковью, выстраивать взаимоотношения
с нею на принципах признания ее огромной исторической роли в
судьбе Отечества и ее вклада в формирование нравственных
устоев нации [2].
Новые страницы в отношениях РПЦ и государства открылись
после отмены шестой статьи Конституции СССР в 1990 г., после
распада СССР годом позже. Принципиально новые отношения
между ними устанавливаются после принятия новой Конституции
РФ в 1993 году. В ст.14, п.1 записано, что «Россия - светское
государство и никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной», а п.2 этой же статьи
гласит «Религиозные объединения отделены от государства и
равны перед законом» [1]. В последующие десятилетия отношения
РПЦ и государственной власти заметно потеплели, РПЦ были
возвращены многие соборы, силами государства в Москве
восстановлен Храм Христа Спасителя. В нем в Зале церковных
Соборов 13 - 16 августа 2000 года состоялся Юбилейный
Архиерейский
Собор
Русской
Православной
Церкви,
завершившийся торжественным освящением Храма. Членами
231
Собора были приняты Основные принципы отношения Русской
Православной Церкви к инославию,
Особое значение имеет
принятие Собором нового устава церкви и Основ социальной
концепции Русской Православной Церкви, являющейся первым
документом такого рода в православном мире. Они содержат
базовые
положения по вопросам церковно-государственных
отношений и по ряду современных общественно значимых
проблем. Документ отражает официальную позицию Московского
Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским
обществом [3]. Стали ощутимы взаимоподержка и взаимопомощь
этих
двух
социальных
институтов
в
деле
духовного
и
нравственного воспитания населения. Вместе с тем, есть ряд
аспектов взаимоотношений церкви и государства, на которые
следует остановиться подробнее.
Как было отмечено, по Конституции, РФ является светским
государством,
в
котором
церковь
(религия)
отделена
от
государства. Но Россия – многоэтничная и поликонфессиональная
страна, в ней мирно сосуществуют граждане, исповедующие
разные, но имеющие равные
права религии: католическая,
протестантская, исламская, иудейская, буддистская и другие. А в
документах РПЦ, помещенных на сайтах Интернета говорится
лишь о «инославных» и «иноверных» людях, что создает
впечатление, будто православие – единственная в России религия,
более того, единственная в мире признанная форма христианства.
Много
споров
и
вопросов
232
вызывает
и
предложенный
Министерством образования и науки РФ и одобренный РПЦ для
преподавания священниками в школах страны предмет «Основы
православной культуры» в то время, как сегодня и в школах, и в
вузах не нашлось места для преподавания «Основ этики»
(светской), «Культуры общения», «Культурологии» при наличии
сотен преподавателей-философов, специалистов по этике, многие
из них с учеными степенями, но без работы по специальности. А
не является ли это вмешательством РПЦ в светском образовании,
как и появление в вузах и школах (в том числе и в тех, где учатся
много детей других этносов и религий) православного священника
на празднике «Дня знаний» 1 сентября, при открытии учебного
года. Почему в таком случае не пригласить и священников других
конфессий, раз власть решила обратиться к помощи церкви в этом
непростом деле просвещения и воспитания? Ведь мобильность
населения и иммиграция в Россию растут с каждым годом. Эти и
другие непродуманные шаги власти и церкви могут обострить в
будущем
межэтнические
напряженность
в
стране.
отношения,
создавать
Оставляет
желать
социальную
лучшего
и
благотворительная работа РПЦ, и регулярно показанные по ТВ
посещения первыми лицами государства главного православного
праздника – Пасхи, вызывающие недоумение у значительной
части населения. Ведь не все население России – религиозно
верующие.
Таким образом, затронутый нами вопрос взаимоотношений
церкви
и
государства
–
многоплановый,
233
нуждающийся
в
повышенном внимании к нему как государственных органов, так и
представителей церквей.
Литература
1.
Конституция РФ. М., 2003. Ст.14. ч.; ч. 2.
2.
Краткая история Русской Православной Церкви //www.na-
gore.ru|history_church.htm [дата обращения - 7.10.2017 ]
3.
Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви//www.na-gore.ru /social.htm [дата обращения - 8.10.2017]
4.
Сторчак В.М., Элбакян Е.С. Социология религии - М.:
Юрайт, 2017, с.62-71.
5.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Григорианский календарь [дата
обращения – 12.10.2017]
Овчинникова Е.А.
МОРАЛЬ И ИДЕОЛОГИЯ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ (20-30-ые гг.)
В первые же послереволюционные годы все сферы общественной
жизни
и
прежде
всего
мораль
подверглись
глубоким
трансформациям. Основным фактором воздействия на моральное
сознание как отдельной личности, так и общества в целом
становится идеология. Этике было отказано в теоретической
самостоятельности, она замещается идеологией и фактически
упраздняется как дисциплина, исключается из образования, все
234
внимание
переключается
с
теоретической
рефлексии
на
моральную практику, строительство нового общества и нового
человека .
Это приводит, с одной стороны, к отрицанию этики как науки, как
дисциплины, удалению ее на долгие годы из научного и
образовательного
пространства,
с
другой
стороны
–
к
формированию жесткой моральной нормативности. Превращаясь в
моральную идеологию, этика становится составной частью
педагогической практики,
поскольку в задачи морали как
идеологии входило формирование нового человека.
Таким образом, в культуре пореволюционного периода можно
обнаружить отказ от теоретической этики как метафизической
науки,
не
связанной с
анализом реальных общественных
отношений, однако при этом усиление интереса к прескриптивной
составляющей морали, поскольку мораль, моральная практика
рассматривается как мощный инструмент классовой борьбы и
формирования нового человека и общества. В советском обществе
20-х гг. за моралью закрепляются функции жесткой регламентации
поведения и идеологического воспитания. Доминирующими
формами моральной регуляции выступают
общественные,
институциональные, внешние по отношению к индивиду формы
регуляции в виде комитетов и комиссий, рассматривающих и
оценивающих
поступки
законодательную
инициативу,
закрепляется
своеобразная
человека,
в
силу
надзирающая
235
предваряющих
этого
и
за
моралью
наказывающая
функция. Следует также заметить, что стремление закрепить
определенные нормы и принципы было продиктовано не столько
желанием зафиксировать сложившееся, существующее положение
вещей, сколько сформировать образ будущей морали, изменить
настоящее во имя будущего, таким образом в моральных
требованиях можно было усмотреть утопические тенденции.
Утопическое мышление может быть охарактеризовано как
«конструирующее идеальный, воображаемый мир, в котором
преодолено противоречие между сущим и должным. Утопии
представляют
подтвердить
собой
теоретические
правильность
тех
или
модели,
иных
призванные
идеологических
установок». [1, с. 9]
Основным
теоретическим
««пролетарская
этика»
и
концептом
становится
«пролетарская
мораль»
понятие
(следует
заметить, что во многих работах революционных авторов понятия
мораль и этика синонимичны).
Пролетариат представляется в
дискуссиях этого периода классом, который творит новую мораль
и является этическим по своему существу. Сам пролетариат в
процессе революционной деятельности создаст свою этику, свою
мораль «Пролетарская борьба, - рассуждает автор брошюры «О
пролетарской этике», - это лишь особый вид творческой
деятельности, … которая создает новые жизненные формы.
Революционное творчество – этично по своему существу» [3, с. 3].
Принцип должного в этике, по утверждению автора, является
фактом социальным, и в этом отношении – идеологическим.
236
В дискуссиях 20-х годов в революционной среде широко
обсуждались проблемы нравственного поведения и облика
партийца, характер нравственного быта и семейных отношений.
Поскольку в новом обществе человек должен совершенствоваться,
обновляться, оставляя позади весь скарб нажитых традиций,
обычаев, привычек, то, соответственно, вставал вопрос о
поведенческих моделях, о том, что должно и не должно делать, как
жить, как выстраивать отношения с другими людьми. Партиец
должен был выступать образцом для подражания, поэтому все
внимание было сосредоточено на нравственном облике члена
партии. Именно этой проблеме были посвящены материалы
дискуссии о партийной этике [4]. Основные нравственные
принципы были изложены в докладе Е.М. Ярославского «О
партэтике» на II Пленуме ЦКК РКП(б) 5 октября 1924 г. В своем
докладе Ярославский объясняет, почему назрела необходимость
декларировать
некоторые
требования
морали:
«ломка
экономических отношений, религиозных норм и буржуазной
семейной морали, раскрепощение женщины, более свободное
воспитание молодежи — все это выдвигает ряд вопросов,
касающихся семейных взаимоотношений. Беспартийная масса
рассматривает компартию как застрельщицу в создании новых
форм семьи, семейного быта, половых взаимоотношений. Между
тем общество еще не выработало в этой области вполне
устойчивых новых форм»[4, с. 156-157].
237
Переосмысление морали, смещение акцентов с индивидуальной
морали и внутренней саморегуляции субъекта на общественную и,
соответственно, внешнюю регуляцию, приводило и к пересмотру
системы моральных ценностей, вытеснению моральных понятий
из морального сознания или замещение их другим понятийным
строем. Такие понятия, как долг и совесть, честь и достоинство
были отнесены к старой морали, ценности которой должны быть
преодолены революционным творчеством пролетариата. Долг
заменялся свободой, честь рассматривалась как исключительно
сословное понятие, которому нет места в обществе всеобщего
равенства. В дискуссиях о проблемах пролетарской морали
«устаревшие» этические понятия ставились под сомнение,
целесообразно ли пользоваться такими понятиями, как этика,
мораль, нравственное - безнравственное, если в них отражен
только некий исторический этап развития человечества, но они не
отвечают современному состоянию пролетариата, а тем более при
помощи этих понятий невозможно описать будущее.
Наиболее очевидна смена ценностных доминант морали в
педагогических концепциях 20-30-х годов. В воспитательной
доктрине А.С.Макаренко обосновывает принцип коллективизма в
противоположность со старой моралью, в которой приоритетным,
по
мнению
педагога,
«Коммунистическое
было
индивидуалистическое
поведение,
начало.
коммунистическая
нравственность, коммунистическое воспитание должны иметь
иные линии развития, совершенно новые формы и новую
238
терминологию». Так, с точки зрения А.С.Макаренко, в новой
морали
должны
быть
новые
критерии
нравственности
и
моральные принципы. В качестве основополагающих принципов
морали выступают принцип нравственного отношения к труду и
принцип коллективизма: «Христианская этика не интересовалась
вопросами труда и трудовой честности. … У нас труд есть дело
чести, дело доблести, геройства. В нашем обществе труд является
не
только
экономической
категорией,
но
и
категорией
нравственной». Основой нравственного закона, его «логической
осью»,
по
выражению
обособленный
А.С.Макаренко,
индивид,
безразлично
«не
может
быть
относящийся
к
общественным явлениям». Критерием нравственного поступка
выступают интересы коллектива, а добродетели приобретают иные
смыслы и значения: «Честность «праведника» и честность
коммунистическая – принципиально разные вещи. Очень многие
категории поступков, в старой этике стоявшие вне пределов
моральной нормы, у нас делаются моральными категориями. И то,
что усиливает или ослабляет связь между людьми, что,
следовательно, объединяет или разрушает коллектив, в нашем
обществе не может оставаться безразличным по отношению к
нравственной
коммунистической
норме».
морали
Главными
являются
«добродетелями»
«воля,
мужество
и
целеустремленность»[2, с. 323].
Таким образом, в этико-воспитательной теории А.С.Макаренко
сложился новый понятийный строй морального сознания, в
239
котором
многие
понятия
замещались
новыми,
предметное
содержание ряда традиционных этических понятий менялось и
переосмысливалось. Многие этические ценности утрачивали свое
прежнее значение и вытеснялись из сознания.
Этика в пореволюционной России на ранних этапах построения
нового общества была, фактически, не теорией, а идеологией,
участвующей в обновлении общества, формировании нового
человека и классовой борьбе пролетариата.
В этой связи мораль рассматривалась как форма идеологии, одна
из превращенных форм общественного сознания. Она сама по себе
не имеет ценностного значения, но может рассматриваться
инструментально как оружие победившего пролетариата
в
процессе построения нового общества. Поэтому в этическом плане
возрастает
прескриптивная
составляющая
–
моральная
нормативность строго регламентирует, направляет и воспитывает
человека новой эпохи.
Литература
[1]. Бродский А.И. Логика идеологий. Из истории русской
политической мысли XIX-XX веков. СПб, 2006. 439 с.
[2]. Макаренко А.С. Коммунистическое воспитание и поведение //
Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. М., 1985. Т. 6.
357 с.
[3]. О пролетарской этике М., 1918. 38 с.
[4]. Партийная этика. Документы и материалы дискуссии 20-х
годов. М., 1989. 396 с.
240
Петушков Сергей Александрович
Революционные события 1917 года и распространённость
девиантного поведения в молодом Советском государстве
Революции относятся к существенным трансформациям
социальных систем, причём обычно их масштаб таков, что
происходит
существенная
Представляется
трансформация
оправданной
версия,
всего
общества.
что
революция
представ¬ляет собой радикальную, системную трансформацию
данного общества, при этом насильственная смена правящей
элиты и существенная роль идеологии вовсе не обязательна, но
революционные преобразования осуществляются в условиях
резкого ослабления государственной власти [4, c.125-126].
Действительно, правящая элита и государство в таких условиях не
могут организовать и провести необходимые преобразования для
выхода из кризисной ситуации (которая таким образом становится
революционной), и они проводятся во многом стихийно, силами
революционеров, иногда – восставшей толпы.
Для
социологии
важно,
что
во
время
революции
происходит слом старых порядков, часто это происходит быстро,
неожиданно для обывателей, и нужно некоторое время для
формирования новой системы общественных отношений. Это
важнее, чем смена правящей элиты, тем более что отдельные её
241
представители переходят в новую элиту и вступают уже в
отношения по новым правилам, и возможная смена идеологии, за
исключением
случаев,
когда
идеологии
пронизывают
всё
общество, и тогда их динамика оказывается существенным
элементом динамики социокультурной. Слом старых порядков,
как и любой кризис доминирующей культуры, приводит к
существенному росту девиантного поведения. Сорокин, описывая
существенные трансформации социальных систем, в том числе и
революции, выделял две фазы – негативную и позитивную, на
первой
фазе
происходит
кризис
и
упадок
морали
и
нравственности, распространение атеизма, нигилизма и цинизма, а
также собственно преступности; на второй фазе происходит или
восстановление
традиционной
системы
ценностей,
или
формирование новой [8]. Очевидно, что для революций характерен
последний вариант. Как будет показано ниже, негативная фаза
после революционных событий в России 1917 года значительно
затянулась,
и
значительные
масштабы
девиаций
будут
присутствовать на протяжении большей части 1920-х годов.
Известно деление девиаций на позитивные и негативные.
Гилинский и соавторы пришли к выводу, что и в мировой и
отечественной девиантологии позитивные девиации практически
не исследуются, хотя все изучающие девиации констатируют факт
наличия
таковых
[1].
В
данной
статье
также
будут
рассматриваться негативные девиации, как наносящие ущерб
обществу, гражданам, социальным отношениям. Но при этом
242
необходимо отметить, что любая девиация как отклонение от
нормы
независимо
от
своей
направленности
вносит
неупорядоченность в систему социальных отношений, разрушая
сложившиеся ожидания. Чем распространённее девиации в
обществе или в какой-то его части, тем менее понятно, как будут
поступать окружающие.
Распространённость девиаций и субкультур (а практически
любая субкультура есть не что иное, как концентрация девиантов
одного типа) в Советской России 1920-х годов изучена неполно;
долгое
время
тема
замалчивалась
советской
пропагандой,
утверждающей,
что
большинство
населения
поддерживало
Советскую власть и её реформы, а оппонировали только классово
враждебные элементы – дворяне, собственники, священники,
кулаки, торговцы и т.д. Но если взглянуть на ситуацию
беспристрастно, то очевидно – действовал целый ряд причин,
объясняющих высокий уровень девиаций: рост безработицы,
беспризорности и преступности, низкие заработки, нарушения
норм охраны труда. Но главное – ситуация была близка к аномии:
старые нормы уже не работали, новые только начинали
действовать. Человек становится более свободным от семьи,
многие родители к тому же не знают, чему теперь учить детей –
налицо кризис социализации. Наконец, наступает разочарование
революцией, в разгар которой сторонники которой полагали, что
все их проблемы будут решены, но настал новый порядок,
который априори не мог удовлетворить всех, в свете отмеченных
243
трудностей он закономерно разочаровал многих. В свете этого
распространённость девиаций совершенно закономерна, удивить
же могло другое: красноармейцы и комсомольцы также были
склонны к девиациям, а рабочие – тем более.
Рожков, исследуя девиации и протесты в молодёжной
среде в период НЭПа, отмечал, что протестами были охвачены
самые
разные
слои
общества.
Естественно,
протестовали
беспризорники, причём не против бедности, а против попыток
новых органов управления разрушить их жизненный мир.
Пойманные беспризорники сопротивлялись, назывались чужими
именами, портили казённое имущество, бежали из приютов,
детдомов,
распределителей.
Во
многом
сопротивление
беспризорников Советской власти было вызвано жёсткими мерами
по их подавлению – так, если из детдомов тюремного типа бежало
40-45% воспитанников, то из детдомов с хорошими условиями
содержания
и
гуманным
уходом
–
единицы.
Студенты
протестовали в основном в крупных городах, пик их протестов
пришёлся на 1920-21 годы. Студенты выдвигали политические
требования: освобождения политзаключённых, демократических
свобод, автономию высшей школы от государственных органов,
избрания ректоров и учёных советов. Студенты Петровской
сельскохозяйственной академии приняли декларацию недоверия
советской власти. Понятно, что такие требования большевики
выполнять не собирались, и протестующие были репрессированы.
Среди красноармейцев протестовали прежде всего выходцы из
244
крестьян, а таких было большинство; протестовали против
бедственного
положения
деревни,
против
хлебозаготовок,
коллективизации; среди других причин протеста можно выделить
недовольство снабжением воинских частей.
Среди
комсомольцев
протестовали
также
преимущественно выходцы из деревни, и больше всего протестов
было во время коллективизации. Комсомольцы, люди политически
грамотные и активные, часто выдвигали политические требования
(только комсомольцы – рабочие требовали рост оплаты труда), в
отдельных
регионах
были
случаи
создания
подпольных
оппозиционных организаций. Кончилось всё это масштабной
чисткой комсомола в конце 1920-х годов, причём ненадёжных
исключали как за пьянство и уголовные преступления, так и за
нарушения устава [5, c.107-114].
Естественно,
недовольных
новыми
порядками
было
гораздо больше, чем протестующих. Многие уходили в религию,
причём не в традиционную церковь, которая так же отталкивала,
как и советские организации, а в секты, распространённость
которых вообще характерна для периодов резких трансформаций.
Многие просто прожигали жизнь – потребительские настроения в
годы
НЭПа
были
достаточно
распространены.
Крайнее
распространение получило хулиганство – явление, которое не
было известно в России до конца ХIХ века. Помимо всего прочего
вырос и уровень самоубийств, и это также закономерно –
Дюркгейм отмечал, что чем ниже уровень социальной интеграции,
245
тем выше уровень самоубийств [2, c.185]. В 1920-е годы
социальная интеграция была крайне низкой: церковь потеряла
статус института, родители не знали, чему учить детей,
большевистское правительство своими действиями вносило раскол
в общество и стремилось не интегрировать недовольных и не
адаптировавшихся, а подавить их. Всё это способствовало росту
самоубийств. К сожалению, о периоде до 1922 года нет данных изза революционных событий и гражданской войны, а с 1926 года
проблема самоубийств начинает замалчиваться формирующимся
тоталитарным режимом. За период с 1922 по 1926 годы уровень
самоубийств в РСФСР увеличился – 4,4 на 100 тыс. жителей в
1923 году, 5,1 в 1924 году, 6,4 в 1926 году [6, c.8]. Впрочем,
поскольку в эти годы уровень самоубийств увеличивается в самых
разных странах мира, Россия остаётся территорией с невысоким
уровнем суицидального поведения, но это следствие низкой
распространённости самоубийств в Российской империи, прежде
всего в среде крестьян.
Весьма распространённой формой девиантного поведения
в молодом Советском государстве становится хулиганство.
Хулиганство было распространено и в городе, и в деревне, Рожков
отмечает, что пик хулиганства приходится на 1924-26 года, и что
среди задержанных за хулиганство 13% составляли коммунисты и
комсомольцы [5]. Кульпина, исследуя генезис этого нового для
того времени вида девиантного поведения, приходит к выводу, что
хулиганство появляется в Российской империи на рубеже XIX-XX
246
веков
как
результат
целого
ряда
кризисных
явлений,
наложившихся друг на друга – освобождение крестьян от
крепостной зависимости без наделения их землёй, распределение
земли
между
общинниками
по
числу
"едоков",
неприспособленности крестьян к городской жизни (в большинстве
городов империи заводы строились за чертой города, и там же
находились рабочие посёлки), революции, гражданской войны,
массового беспризорничества. Хулиганами стали те выходцы из
деревни, которые не смогли адаптироваться ни к новой жизни в
общине после отмены крепостного права, ни к жизни в городе. Но
поскольку урбанизация объективно продолжалась, хулиганство в
начале ХХ века всё в большей степени переезжает в города, и
Советская власть сталкивается уже прежде всего с городским
хулиганством.
У
хулиганов
(следовательно,
их
было
можно
нигилистическое
отнести
к
мировоззрение
нигилистическим
субкультурам, о типологии субкультур см. [7, c.95-102]) – они не
уважали ни правительство, ни церковь, ни большаков –
авторитетных
крестьян
управляющих
на
общины,
производстве.
ни
Зато
интеллигенцию,
ни
они
ряд
сохранили
традиционных для русского крестьянства черт – неуважение к
собственности и склонность к стихийным и разрушительным
бунтам. Суть хулиганства в том, что это был массовый протест
неадаптировавшихся к новым порядкам бывших крестьян – сперва
к позднеимперским, а потом к советским порядкам. Если в 1900-е
247
годы они жгли помещичьи усадьбы и били антики как чуждое им
явление, то в 1920-е годы они портили станки уже на советских
заводах и пускали под откос поезда [3, c.82-116]. В этой борьбе
против любой власти они были подобны воровскому братству, но
в отличие от того были силой более массовой и более стихийной.
Анархические черты привели к тому, что хулигански настроенные
жители России поддержали революцию и большевиков, но затем
они уже стали головной болью для Советской власти, и это
продолжалось все 1920-е годы, весь период НЭПа, и преодолено
массовое хулиганство было только в условиях тоталитарного
режима. Отмечу, что распространённость хулиганства в период
становления советской государственности привела к тому, что
хулиган стал одной из главных отрицательных фигур в советском
кинематографе – образцовый молодой человек часто защищал
девушку от хулиганов.
Этот
пример
с
хулиганством
показывает,
что
распространённость девиантного поведения в первые годы
Советской власти – результат не только революции и гражданской
войны, а всех тех существенных трансформаций российского
общества, которые происходили в нём с середины XIX века.
Произошедшие изменения оказались слишком значительными для
крестьянского в своей массе населения, которое до того ни с чем
подобным не сталкивалось. Рассматривать рост девиантного
поведения только как следствие революции 1917 года и
гражданской войны было бы неверным и упрощённым выводом, а
248
именно
так
могут
преподносить
ситуацию
современные
оппоненты Советской власти.
Литература
1. Девиантность и социальный контроль в России (XIX-XX вв.):
тенденции и социологическое осмысление, под ред. Гилинского
Я.И. СПб., 2000, гл.2, предисловие.
2. Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1994.
3. Кульпина Ю.Э. Генезис пьянства и хулиганства в России. М.,
2009.
4. Мау В. Экономика и революция: уроки истории // Вопросы
экономики, 2000, № 1.
5. Рожков А.Ю. Молодой человек 1920-х: протест и девиантное
поведение // Социс, 1999, № 7.
6. Самоубийства в СССР в 1925 и 1926 гг. М., 1929.
7. Сергеев С.А. Молодёжные субкультуры в республике // Социс,
1998, № 11.
8. Sorokin P. Man and Society in Calamity. N.Y., 1942, chs. 10-12.
249
Резвицкий И.И.
ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ПОИСКИ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
В ФИЛОСОФИИ Н.БЕРДЯЕВА
Социально-философская мысль России конца 19 века и
начала 20 века была сосредоточена на поиске новых путей
обоснования нового мира и нового человека, которые открылись
после Октябрьской революции. В связи с этим происходит
переоценка классических ценностей, отказ от рациональных путей
познания, переход к иррациональным, духовно-религиозным
способам освоения проблемы жизни и культуры человека и
общества.
В рамках этого направления исследований находится и Н.
Бердяев, который среди других русских философов занимает здесь
свое особое место. Он стремился создать свою особую концепцию
человека, построенную на основе понятия свободы, вокруг
свободы личности. В основном эта концепция была сосредоточена
в духовно-религиозной плоскости и носит антропологическийсоборный характер. Таким образом, понятый человек, считал Н.
Бердяев, открывается нам как высшая ценность, высшая загадка в
которой скрывается тайна самого бытия.
В начале своего философского творчества Н. Бердяев
примыкал к легальному марксизму, но затем перешел на позиции
религиозно-идеалистического мировоззрения, в рамках которого
250
он и строит свою концепцию человека. Здесь он отвечает, что
русский человек находится в новом состоянии самопоиска в связи
с
новыми
духовными
ценностями,
провозглашенными
Октябрьской революцией, но не находит истинных путей
обретения собственной свободы. Он пишет: “Русская революция
пробудила огромные силы русского народа…Но свободы человека
все еще нет” [1].
Свободу он считал ядром личности, высшей духовной
ценностью человеческого бытия. Именно на основании свободы
он и строит свою концепцию человека, но через “религиозное
искание” человека, выходя с этой целью в область философии,
политики, поэзии.
Человек рассматривается в концепции Н. Бердяева сквозь
призму понятий: “индивид – личность - индивидуальность”. Но
исходным началом здесь является понятие личности. Он пишет:
“Учение о человеке есть прежде всего учение о личности” [2].
В связи с этим Н. Бердяев выделяет личность в системе
свойств человека в качестве его определяющего признака, отделяя
ее на этом пути от индивидуума и от индивидуальности.
“Индивидуум, - утверждает он, - есть категория натуралистическибиологическая. Личность же есть категория религиозно-духовная”
[3]. Индивидуум у него есть часть вида, он рождается и умирает.
Личность же не врождена, не дана от природы, она творится
богом, но человек может и не иметь личности, отказаться от
личности, оставаясь индивидуумом, как все. Личность же имеет
251
свое лицо, через которое она проявляет себя через общение с
другими.
Далее, Н. Бердяев отличает личность от индивидуальности,
которую он определяет как “микрокосм”. Он утверждает: “Всякая
народная индивидуальность, как и индивидуальность человека,
есть микрокосм и поэтому заключает в себе противоречия” [4].
В отличие от личности и индивидуума она несет в себе уже
не свой вид, а весь мир и поэтому содержит в себе некоторую
тайну, которая может быть постигнута иррациональным путем.
“Тайна всякой индивидуальности, - объясняет он, - узнается лишь
любовью, и в ней всегда есть что-то непостижимое до конца, до
последней глубины” [5]. И все же в центре его концепции человека
находится не индивидуальность, а личность, которая определяется
им как высшая духовная ценность. Она творится богом и есть
божья идея в человеке. Она не может быть частью природы и
частью общества, так как сама есть целое. В конечном счете
личность у него – это человек как духовный субъект, творец и себя
и мира, реализующий замысел, проект бога на земле. “Личность, считает он, - есть носитель и творец сверхличных ценностей, и
только это созидает ее цельность, единство и вечное значение” [6].
Вместе с тем он считает, что “личность создана Божьей
идеей и свободой человека” [7]. Отсюда свобода трактуется как
созидательная сила личности. Общество не детерминирует
личность, которая не есть часть общества, напротив, в обществе
личность подавлена. Наряду с этим он считает, что личность –
252
существо не изолированное, она может выражать себя среди
других людей, но по воле бога.
Наконец, личность отличается от индивидуальности. Это –
разные, непересекающиеся понятия. “Человек, - объясняет он, может иметь яркую индивидуальность и не иметь личности” [8].
Индивидуальность – это человек, взятый “как он сам”. Она
вытекает не из другого, а из глубин совести. Отсюда его
заключение: “Тайна всякой индивидуальности узнается лишь
любовью, и в ней всегда есть что-то непостижимое до конца, до
последней глубины” [9]. Вместе с тем он выступил против
индивидуализма, который, по его мнению “убивает личность и
индивидуальность”.
Но главную особенность личности составляет ее связь со
свободой. В связи с этим он утверждает: “Личность связана со
свободой. Без свободы нет личности” [10]. Свобода – это
определяющая сила человеческого бытия, она пронизывает все
существование человека в мире. Это – некоторая творческая сила,
идущая изнутри, “есть иррациональная тайна бытия”. Сама
свобода – безосновна, некоторая первичная данность, рожденная в
бездне
бытия.
Но
сама
она
является
основой
всего
существующего. Даже боги действуют через свободу.
В своей трактовке проблемы свободы Н. Бердяев прошел
путь от марксистского понимания свободы как “познанной
необходимости” к ее божественному пониманию как духовнорелигиозной силы. Он так объясняет ее суть: “Свобода есть моя
253
независимость и определяемость моей личности изнутри, и
свобода есть моя творческая сила, не выбор между поставленным
передо мной добром и злом, а мое созидание добра и зла” [11].
Н. Бердяев утверждает, что в своей жизни человек
движется от “объективации” в предметном мире через свободу к
творчеству, которая, по его мнению, и составляет суть человека.
Отсюда “объективация – свобода - творчество” – это три этапа
человеческого бытия в мире. В предметном мире человек захвачен
необходимостью, отчужден от себя, теряет свой дух, лишен
свободы и оказывается в духовном рабстве.
Вторая ступень – это ступень свободы. Ее суть состоит в
том, чтобы открыть человеку путь к себе как субъекту
собственного творчества. Третья ступень – ступень творчества, в
котором выражен божественный замысел. Человек на земле творец
и это высшее его определение. Н. Бердяев исходит здесь из того,
что мир не дан человеку богом в готовом виде, а задан ему как
проект и человек должен его реализовать в своем творчестве.
Поэтому путь человека к себе лежит через творчество. Человек в
конечном счете предназначен к тому, чтобы быть творцом и
собственного бытия и творцом мира. Это, говорит Н. Бердяев,
трудный путь, “тяжелое бремя”, порождающее страдание. Но
только оно открывает путь в собственную жизнь: “Я страдаю,
значит, я существую” [12].
И так, обращение Н. Бердяева к новым проблемам
человеческого бытия, порожденным
254
Октябрьской революцией
побудили его искать новый путь осмысления проблемы человека,
который он осуществил с позиции религиозной духовности, в
рамках которой он предстал как свободный и творческий субъект
мира.
Такие
понятия
как
индивидуум,
личность
и
индивидуальность получили здесь свое новое звучание, имеющие
практическое жизненное значение, которое не потеряло свою
актуальность
и сегодня,
хотя
здесь
еще
и нет
четкого
разграничения этих понятий. Так индивидуум у него – это лишь
категория
натуралистическая,
а
личность
не
отделена
принципиально от индивидуальности и употребляется часто в ее
значении
(“неповторимость
личности”,
“незаменимость
личности”). Наконец, оптимистично звучит его глубинная вера в
человека, в его будущее, которой сегодня так не хватает
современному человеку.
Литература:
1.
Бердяев Н. Русская идея. // Мыслители русского зарубежья:
Бердяев, Федоров. СПб.: 1992, с. 37.
2.
Бердяев Н.A. О назначении человека. М.: 1993, с. 62.
3.
Бердяев Н.A. О назначении человека. М.: 1993, с. 62.
4.
Бердяев Н. Русская идея. // Мыслители русского зарубежья:
Бердяев, Федоров. СПб.: 1992, с. 37.
5.
Бердяев Н. Русская идея. // Мыслители русского зарубежья:
Бердяев, Федоров. СПб.: 1992, с. 37.
6.
Бердяев Н.A. О назначении человека. М.: 1993, с. 62.
255
7.
Бердяев Н.A. О назначении человека. М.: 1993, с. 63.
8.
Бердяев Н.A. Философия свободного духа. М.: 1994, с. 296.
9.
Бердяев Н. Русская идея. // Мыслители русского зарубежья:
Бердяев, Федоров. СПб.: 1992, с. 37.
10.
Бердяев Н.A. Философия свободного духа. М.: 1994, с. 314.
11.
Бердяев Н. Самопознание. М.: 1991, с. 61.
12.
Бердяев Н. Диалектика божественного и человеческого. М.:
2003, с. 394.
Романов К.В.
Гуманистический реализм философии образования: чему учит
история
События великой российской революции февраля-октября 1917
года не только оказали влияние на весь ход мировой истории, но и
существенно изменили социокультурную динамику развития
народов России и русскоязычных этносов. Чему учат полные
драматизма трагические, героические и жизнеутверждающие
факты социумов и судьбы граждан России-СССР-Российской
Федерации?
В геополитическом плане - выбору вектора развития России,
соответствующего тренду глобальной динамики на основе
созидания
устойчивого
полицентричного
ключевых
факторов
становится
256
поиск
мира.
Одним
из
международных
объединений цивилизационного порядка [5,c.22] Этот порядок в
начале ХХI века всё больше связан с развитием цифрового мира,
цифровой
экономики
и
цифровых
форм
непрерывного
образования.
Осмысление данного феномена сегодня происходит с разных
точек
зрения,
что
вполне
естественно
для
современной
философии. При этом именно в России с учётом её столетней
ретроспективы рождается новая волна философии образования –
гуманистический реализм [7].
«Задача философии гуманистического реализма в непрерывном
образовании
–
метапредметное
и
личностное
осмысление
отношения жизнедеятельного сознания целостного человека к
миру в концептуальных условиях признания его многомерности и
многомирности. Цель философии гуманистического реализма в
образовании - установление гармонии с окружающим миром в
жизни человека, обладающего целостным мировоззрением».[9;
11].
В связи с нарастающими мировыми угрозами существованию
человечества
XXI
век
выдвинул
перед
продвинутыми
национальными системами образования трудами футурологов
целый ряд задач, определяемых глобальной сменой парадигм как в
культуре, так и в науке. К наиболее заметным относят
информатизацию и внедрение IТ-технологий и использование
цифровой
экономики,
нано
257
технологии
и
массовое
распространение гаджетов, работы в области робототехники и
машинного
суперинтеллекта,
появление
генной
инженерии,
появление концепции пост человека и транс человека.
Управление информацией и компьютерными технологиями в
образовательном и научном пространствах становится важнейшей
задачей развитых цивилизаций. Для решения этой задачи
необходимо
уточнение
метатеоретических
точек
роста
современного образования с позиций философии науки.
Философия
образования
оформилась
в
самостоятельное
направление социально-гуманитарной мысли четверть века назад,
хотя предпосылки её сложились значительно раньше.
Современная российская философия является актуальной частью
мировой
философии.
Она
интегрирует
достижения
диалектического материализма, марксизма и, русского космизма,
русской религиозной философии, атлантической, континентальной
и
восточной
философской
мысли.
Это
философия
гуманистического
реализма.
ядром
сегодня
выступает
Её
философия науки в сфере осмысления развития образования.
(Развитие философии науки в постсоветский период связано с
монографиями, учебными пособиями и статьями В.С. Степина,
С.А. Лебедева, К.В. Султанова, А.В. Солдатова, В.С. Меськова,
А.Л. Никифорова, А.Э. Назирова, В.И. Стрельченко. А.С.
Степановой) [12].
Данная область знаний приобрела методический статус в качестве
программ, учебных пособий и учебников для преподавания блока
258
социально-гуманитарных дисциплин [1; 2; 6;.8; 10; 11]. Обращение
к её идеям заметно на страницах ведущих отечественных
философских («Вопросы философии», «Философские науки»), и
педагогических
журналов
(«Педагогика»,
«Инновации
в
образовании»).
Студентам колледжей и вузов, а также слушателям курсов
системы дополнительного образования чаще всего в разных
вариантах предлагается следующее понимание источника данной
дисциплины. Основы философии образования – это интегративная
совокупность
знаний
философско-педагогической
имеющей
качестве
своего
в
предмета
природы,
наиболее
общие
закономерности развития образования, педагогики и человека, а
также интеллектуально-духовные основания такого развития.
Несмотря на дискуссионность такого понимания, здесь важны три
принципиальных обстоятельства. Первое: данная область знаний
носит интегрирующий, метатеоретический, и, следовательно,
метапредметный характер. Второе: предмет исследований в
данной области направлен на поиск общих закономерностей.
Третье: этот предмет ориентирован на интеллектуальные и
духовные начала развития человека и социума.
В ретроспективе великой российской революции именно третье
обстоятельство приобретает особое значение. Бурные дискуссии
по поводу тех или иных фактов и событий минувшего столетия
могут иметь смысл, если они содействуют национальной
259
консолидации
в
той
геополитической
парадигме,
которая
рассмотрена выше.
Духовно-экзистенциальный
секулярный
смысл
гуманизма
в
педагогическом плане связан с пониманием становления Другого,
на что обратил внимание А.П. Жолобов. «В свете духовности
представляется
необходимым
подчеркнуть,
казалось
бы,
очевидный факт – реальность человека в его индивидуальном
бытии. В идеале необходимо знать, что может именно этот
человек – понять человека, который тайна и для самого себя.
Проигрывание Другого как свою собственную возможность – Путь
приближения
к
пониманию
другого.
Не
есть
ли
это
гуманистическая суть движения на крестном пути педагогической
деятельности?» [3, 78]
Духовно-нравственный сакральный смысл гуманизма соотносим с
понятиями «свобода», «любовь», «добро», «справедливость»,
«милосердие». Его Святейшество патриарх Кирилл, размышляя
над вопросом свободы[14], напомнил о сравнении Н.А. Бердяевым
слов свобода и равенство. Великий русский философ наглядно
показал, что одно может исключать другое. При свободе на лугу
расцветают все цветы и травы
подстриженном
лугу
все
как сильные, так и слабые. На
равны.
Если
свобода
является
величайшей ценностью для всех людей и сообществ, то, что
отличает её от анархии и вседозволенности? Видимо, гарантией
свободы выступает не равенство людей друг перед другом, а
260
равенство
перед
законом,
за
которым
признана
высшая
нравственная справедливость.
Выступая в Кафедральном соборе г. Ижевска Его Святейшество
патриарх Кирилл поставил вопрос о том, что является самым
тяжелым для человека, что опаснее всего? Это конфликт, ссора.
Всё от человеческого сердца, от разума. Суть в том, чтобы уметь
смотреть вглубь сердца и контролировать свои мысли, искать
нравственное согласие. Нет абсолютной власти у зла. Добра
больше чем зла. Если добра будет меньше, чем зла, то зло захватит
весь мир и наступит конец истории. Мир существует благодаря
тому, что очень многие люди живут по вроде бы недостижимым
евангельским идеалам. Поэтому история не закончилась. Мир,
построенный по Божественному замыслу, это прекрасный мир. В
основе его созидания простые слова: «Как хотите, чтоб поступали
с вами люди, так и вы поступайте с ними» [15]. Для этого важно
сохранять замечательное состояние души, когда человек чувствует
нравственную свободу над внешними обстоятельствами. Не в этом
ли исток свободы личности в цифровых цивилизациях высоких
скоростей
перемещения масс,
энергий
и
информационных
потоков?
Основа реализма лежит в рациональном мышлении, у истоков
которого здравый смысл народа и основные модальности логики
науки. Испокон веков философия влияла на образование, задавая
границы понимания мироздания, определяя тип ментальности и
алгоритмы мысли. Классическая и неклассическая философия
261
содействовали утверждению в образовании таких начал как
рациональность,
нормативность,
воспроизводимость,
целенаправленность, рефлексивность.
Сегодня
данная
область
знаний
отличается
не
одной,
а
множеством методологией, судить о результативности которых
можно будет лишь со временем. На уровне общего философия
науки современной эпохи выхода за рамки постнеклассической
рациональности
ориентирует
на
1)
критический
анализ
мировоззренческих универсалий культуры,
2)
рациональное
предсказание
3)
рациональное
вариантов
развития
и
проектирование в научной деятельности.
На уровне особенного общие подходы и методы философии
культуры и науки ассоциированы с кластерами особенных
методов, используемых в математике, логике, естествознании,
социально-гуманитарных науках, а также в междисциплинарных и
трансдисциплинарных исследованиях.
Пока можно указать на проекты и подходы, которые в той или
иной
степени
исследований.
заметны
К
при
проектам
реализации
относят:
аналитический,
феноменологический,
педагогических
неопозитивистский,
критико-рационалистический,
экзистенциальный,
герменевтический,
диалектико-материалистический, деконструктивистский [4]. Среди
подходов выделяются: «антропологический», «онтологический»,
«культурно-антропологический»,
262
«социально-
антропологический»,
«феноменоло-гический»,
«экзистенциальный» и «герменевтический».
Последнее десятилетие ХХ в. стало рефреном событиям 1917 года.
Страна не распалась. Мир был сохранен. С 2017 года начинается
новая эпоха для России. Вступая в эпоху цифровых цивилизаций,
мы на уровне исторической памяти народа несем драгоценный
свет
секулярного
и
сакрального
гуманизма
в
сосуде
реалистического неопостнеклассического рационализма. Культуре
«клипового
сознания
противопоставить
и
безумных
кликов»
абстрактно-логическое,
необходимо
образно-
художественное и историческое мышление.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бессонов Б.Н. Философия и история образования: учебник и
практикум для академического бакалавриата / Б.Н. Бессонов. – М.:
Юрайт, 2015. – 354 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс;
2 Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И.
Введение в философию
образования. – М.: Логос, 2000, 224.
3 Желобов А.П. Идея гуманизма и гуманизация образования //
Академический вестник, 2015. Вып.№ 4 (30). – С. 78.
4 Канке В. А. История, философия и методология психологии и
педагогики : учеб. пособие для магистров / В. А. Канке ; под ред.
М. Н. Берулавы. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 487 с. —
Серия: Магистр. — Гл. 9.
5. Кефели И.Ф. Геополитическая дилемма России накануне
февральской революции // Февраль 1917: взгляд через столетие.
263
Материалы международной научной конференции 28 февраля
2017 г. – с. .10 – 23 – С. 22.
6 Коджаспирова Г.М. История и философия образования в
таблицах и схемах. – М.: МГОПУ, НОУ, 1998. – 301 с.
7. Миры детства в философии непрерывного образования //
Педагогика.2017, № 3. – С. 12-18.
8 Романов К.В., Сергейчик Е.М. История и философия науки:
учебное пособие / под науч. ред. К.В. Романова. СПБ: СПБАППО,
2016. 194 с. (Б-ка аспиранта);
9.
Романов
К.В.
Гуманистический
реализм
философии
непрерывного образования в эпохальной ретроспективе // Февраль
1917: взгляд через столетие: материалы международной научной
конференции 28 февраля 2017 г. – СПб.: Изд-во РГГМУ, 2017. – С.
309.
10. Степашко Л.А. Философия и история образования: Учебное
пособие для студентов высших учебных заведений. – М.:
Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1999. – 272
с.;
11. Философская позиция педагога ДОУ как условие становления
сознания ребенка // Детский сад будущего: условия успешного
развития ребенка. Сборник научных статей по материалам научнопрактической конференции с международным участием 31 марта
2017 г. / Ред. кол.: Г.И. Власова, Е.И. Хохлова, О.Ю. Лагутина,
Т.А. Овечкина. – СПб.: СПб АППО. Выпуск. №5, 2017. – 264 с. –
С.89.
264
12. Философский энциклопедический словарь. М.: Издание 4-е.
Сост., вступит. ст., прил. М.В. Бахтина. – М.: Издательский дом
«Энциклопедист-Максимум», 2016. – 680 с.
13.Чапаев
Н.К.,
Верещагина
И.П.
Философия
и
история
образования. – М.: Академия, 2013. – 288 с.
14. http // www. 1tv.ru. Cлово пастыря. Выпуск от 28.10.2017.
15. http // www. 1tv.ru. Cлово пастыря. Выпуск от 04.11.2017.
Спиридонова В.А.
С.Н. Булгаков – исследователь хозяйства
Факт хозяйства всегда
возбуждал во мне философское «удивление».
С.Н. Булгаков
… так и проблема философии хозяйства,
которая впервые поставлена в экономическом
материализме, конечно, окажется
долговечнее, нежели этот последний.
С.Н. Булгаков
За пять лет до революции (1912 г.) С.Н. Булгаков защищает книгу
«Философия хозяйства» как докторскую диссертацию. Это был
уникальный пример религиозного истолкования хозяйства, всей
социально-экономической жизни, экономических идей. Булгаков
ставит философский вопрос: «Что такое хозяйство в жизни
265
человека и человечества?» Но при этом некоторые главы имеют
характер социологический и экономический (например, глава 7
«Границы социального детерминизма», а также главы 4,8,9).
Впервые после Маркса С.Н. Булгакова рассматривает роль труда в
человеческой жизни, труд как основу жизни человека.
Это была самая крупная работа, касающаяся хозяйства, в начале
XX века в России. Наряду с П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановским,
Г.В. Плехановым, В.И. Ульяновым-Лениным – С.Н. Булгаков
решал важные и глубокие задачи современности. Будучи
приверженцем марксизма, он дал его критику и показал нужные
(на тот момент) стороны; не выпадает он и из социализма –
борется лишь с социальным позитивизмом и формализмом; дает
методологическое, прагматическое и онтологическое решение для
социологии, дает «критику социологического разума». Марксизм
Булгаков рассматривает как «отвлеченное начало» (3, с. 247). О
социализме С.Н. Булгаков говорит так: «Это рационалистическое,
переведенное с языка космологии на язык политической экономии
переложение иудаистского хилиазма… Роль сатаны естественно
досталась на долю класса капиталистов, возведенных в ранг
метафизического зла» (1, с. 116-117). До настоящего времени
данные
работы
не
потеряли
своей
актуальности
и
востребованности для современных исследователей; они задают
им высокий уровень научности.
К сожалению, работа «Философия хозяйства» была издана в
России лишь в 1990 году. Если бы к идеям С.Н. Булгакова
266
прислушались раньше – к размышлениям о человеке, его
деятельности, культуре, истории… Но – лишь слегка откликнулся
Н.И. Бухарин… Наступил послереволюционный период, начались
новые экономические условия. Новая экономическая политика 20х годов сопровождалась концессиями с зарубежным капиталом,
арендой частного капитала, заменой продразверстки налогом; во
многом наметился переход к капитализму. Но как это было
возможно? Теоретики 20-х годов начали искать теоретическое
обоснование новых общественных явлений, были раздумья о
практическом разрешении этого вопроса. Но это были уже другие
люди – Н.И. Бухарин, Н.Д. Кондратьев, А.А. Богданов, А.В.
Чаянов и другие. Сам С.Н. Булгаков «уехал» из России в 1922 г.
Итак, фантастическая попытка С.Н. Булгакова изложить Маркса
теологически ждет своих читателей; у С.Н. Булгакова много
совершенных страниц, и читать его можно как современника. Без
таких деятелей, как С.Н. Булгаков, деятелей русского духовного
ренессанса начала XX века, сложно представить себе русскую
философию и русскую культуру.
Попробуем дать краткую справку. В послужном списке С.Н.
Булгакова были 4 «страшные вещи»: 1) участие в реакционном
сборнике «Вехи» (а также участие в «Проблемах идеализма» и «Из
глубины»); 2) антимарксизм («От марксизма к социализму»); 3)
принятие священства (1918 г.); 4) эмиграция (6, с. 343). Время
работы над книгой «Философия хозяйства» –второй период (1901
– 1918) (религиозная философия); первый период – легальный
267
марксизм (1896 г.) и третий – богословие (1918 г.). Родился С.Н.
Булгаков в г. Ливны Орловской губернии 16 (28 июля) 1871 г. До
12-13 лет был верным сыном церкви, с 14 до 30 лет – время пустое,
тяжелое. 1894 г. – защита диплома в Московском университете.
1896 г. – первая книга «О рынках при капиталистическом
производстве». В 1901-1902 гг. совершил религиозный поворот от
марксизма
к
идеализму
(под
влиянием
Иисуса
Христа,
Достоевского и Соловьева). 1903 г. – «От марксизма к идеализму».
1907 г. – депутат Государственной (II) Думы. 1912 г. – издает и
защищает I часть «Философии хозяйства». 1917 г. встретил как
«гибель самого дорогого, как «гибель любви». В 1918 г. в Москве,
в Даниловом монастыре, принимает сам священника. В 1922 г. –
высылка за границу. В Праге, Париже – профессор богословия.
Ездит по Европе, США, Канаде. В 1939 г. – рак горла;
«Софиология смерти». Умер в 1944 году. Книги: 1919 г. –
«Трагедия философии», «Философия имени», «На пиру богов», «У
стен Херсонеса». 1925 – 1938 гг. – «Святой Петр и Иоанн»,
«Купина неопалимая», «Ангел божий» (трилогия). 30-е гг. –
«Душа социализма» (1931 г.), «Нация и государство» (1934 г.),
«Права и социализм» (1930 г.) (5).
В «Предисловии» С.Н. Булгаков говорит о значении темы, которой
«должен принадлежать если не сегодняшний, то завтрашний день
в философии». Особое внимание он придает постановке этой
проблемы = хозяйству – чем её разрешению (познать мир как
объект трудового, хозяйственного права). Проблема хозяйства
268
рассматривалась в тройной постановке: 1) научно-эмпирическая;
2)
трансцендентально-критическая
и
3)
метафизическая.
«Социальная наука несомненно нуждается в отождествлении с
философией» (4, с. 5). Очень важно это и для совершенного
религиозного сознания, когда религия сводится к этике; «особенно
важно выдвинуть онтологическую и космологическую сторону
хозяйства,
которая
отчасти
раскрывается
и
в
философии
хозяйства» (4, с. 5). Именно здесь рассматривается онтология
хозяйственного процесса. На долю Булгакова должна была
достаться проблема «оправдания хозяйства» – аксиология и
эсхатология; здесь С.Н. Булгаков хотел рассмотреть отношения
плоти и духа (этика хозяйства), смысл истории и культуры. Но
вторая часть не была подготовлена; считается, что «Философию
хозяйства» продолжает сборник «Свет невечерний» (1917 г.).
В главе «Проблемы философии хозяйства» Булгаков пишет: «В
жизни – и мироощущении современного человечества к числу
наиболее выдающихся черт принадлежит то, что можно назвать
экономизмом нашей эпохи» (4, с. 7). Но он – нечто большее, чем
научная
доктрина,
в
нем
находит
выражение
«некоторая
непосредственная данность» переживаний или «историческое
самочувствие». Современный экономический материализм не
должен быть отвергнут и опровергнут; он должен быть понят и
истолкован – не только в своих заблуждениях и слабых сторонах,
но и в своем содержании, которое через него просвечивает. Он
должен быть «внутренне превзойден», разъяснен как философское
269
начало, «одна сторона которого выдается за истину». «Наше время
понимает, чувствует, переживает мир как ходатайство, и мощь
человечества как богатство преимущественно в экономическом
смысле» (4, с. 8). И не почувствовать этого обаяния – значит иметь
какой-то дефект исторического самочувствия, быть чуждым
современности.
Экономизм
скандализирующей
стал
многих,
но
партийной
фактически
догмой,
он
стал
господствующим мировоззрением. Между политэкономией и
экономизмом существует тесная связь. Но дело состоит в том, как
будто «догматы экономизма» есть единственно возможная
философия хозяйства. И вот – наука о хозяйстве терпит жестокий
философский кризис; политэкономия особенно нуждается в
философском пересмотре. «Философское исследование общих
предпосылок экономический деятельности и экономического
мышления
вообще
составляет
прямую
задачу
философии
хозяйства» (4, с. 12).
Чем может быть философия хозяйства? Современное ухо уже
стало
привыкать
к
«философии
культуры»,
«философии
искусства», «философии права», даже к «философии денег» (Г.
Зиммель). Философия всегда привыкла ориентироваться на чемлибо, но главное – вопрос о жизни. «Жизнь первее и
непосредственнее всякой философской рефлексии о ней…Она
наполняет все изгибы нашего существования… и мышления, она –
материнское
лоно,
неизмеримый
источник,
неисследимая
глубина… пространство и временность – суть проявления жизни.
270
Она есть… первоначально… она чудесна, она есть свобода,
парящая над необходимостью… Жизнь есть не разгадываемая
умом, а лишь переживаемая тайна мирового бытия, тот
первозданный свет» (4, с. 14).
В истории философии 2 направления: интеллектуализм и
антиинтеллектуализм,
алогизм
(абсолютный
идеализм
и
критический рационализм). Эту болезнь перебаливает европейская
философия. Но оба направления неверны по-одиночке: жизнь есть
«единство
логического
действительность
и
алогического»;
«алогична-логична»
в
вся
жизненная
своих
изгибах.
Философия может быть выстроена и как философия хозяйства. Но
где различия между философией и наукой? Наука всегда
специфична, такова ее природа; наука «выражает куски жизни»,
дробит жизнь. Научные рефлексы направлены на частности,
философия – на целое.
В разделе «Предварительное определение хозяйства» С. Булгаков
говорит: «Совместимость жизни со смертью, живого и неживого…
(это) вечная загадка для меня» (4, с. 36). Борьба за жизнь с силами
смерти – самое общее определение существования. Это борьба
механизма
(вечного)
и
организма
(жизненного).
Человеку
приходится отстаивать свое существование, защищать жизнь от
смерти. «Борьба за жизнь с враждебными силами природы в целях
защиты… и расширения, в стремлении ими овладеть, приручить
их, сделаться их хозяином… – может быть названо хозяйством»
(4, с. 39). Хозяйство есть желание превратить мертвую материю в
271
живое тело; люди могут превратить «космический механизм» в
организм, в преодоление необходимости свободой. «Очеловечение
природы» –
цель человека. Хозяйство есть выражение борьбы
этих двух материальных начал – жизни и смерти, свободы и
необходимости, организма и механизма, борьбы против князя
мира сего. Но хозяйство есть также и функция смерти; человек не
может снять с себя «поручни раба», повинного смерти.
Хозяйство есть труд, деятельность, усилие труда. Труд есть основа
жизни. Хозяйство включает в себя весь труд, «от чернорабочего до
Канта». Признак хозяйства – трудовое воспроизведение благ,
материальных или духовных, в противоположность дарению. Мир
как хозяйство – это мир как объект труда; труд есть актуальность,
действительная воля, выход на себя. «Способность к труду есть
одно из свойств живого существа, в нем обнаруживается огонь и
острота жизни. Только тот живет полной жизнью, кто способен к
труду и действительно трудится» (4, с. 43). Культура, или
хозяйственно вызываемый рост жизни, предполагает природу;
природа не может вне трудовой культуры выявить всех своих сил.
Природа – естественная основа культуры – вне ее немыслимо и
невозможно хозяйство.
Рассмотрев
хозяйство,
Булгаков
переходит
к
основным
хозяйственным функциям. Как возможно производство и как
возможно потребление? На языке политэкономии это вдыхание
(производство) и выдыхание (потребление). Итак, потребление.
272
«Этот коммунизм жизни и смерти, это загадочное тождество
живого и мертвого, смертность всякой жизни, но и, по-видимому,
жизнеспособность
всего
неживого,
принадлежит
к
самым
основным устоям нашего земного бытия, на котором и отпускается
возможность хозяйственного отношения к миру» (4, с. 66). Жизнь
есть смерть, смерть есть жизнь – вот главное тождество. Вопервых,
всякое
живое
тело
есть
органическая
материя.
Животворныые начала образуют в ней узелки жизни. Во-вторых,
есть конкретная универсальность жизни. Вселенная, Космос могут
становиться
нашим
периферическим
телом,
выражением.
становиться
Вся
его
Вселенная,
внешним
по
снятии
организма, маски, станет организмом. Жизнь и Мэон (материя),
как 2 полярных начала, притягивают друг друга и обусловливают
2 метафизических предела, 2 полюса мирового бытия –
абсолютный организм Вселенной и абсолютный механизм Мэона.
Но сейчас между ними идет поединок; устойчивости нет – ни в
сторону Хаоса, Механизма, Пустоты, ни в сторону Организма,
Жизни, Полноты. Питание – не только еда, но и дыхание, свет,
атмосфера, электричество, химизм. «Мы едим мир», «жизнь
входит в нас через все двери чувственности»; жизнь есть способ
потребления мира, приобщения к нему. «Когда я принимаю пищу,
я ем мир материи вообще, я приобщаюсь к плоти мира и… тем
самым… нахожу мир в себе, себя в нем» (4, с. 71). Итак,
возможность
потребления
основана
на
«метафизическом
коммунизме мироиздания», на тождестве всего сущего. К
273
исследованию природы ведет; 1) опытное естествознание; 2)
натурфилософия; 3) философия.
Что такое производство? Это реальный выход субъекта в объект,
реальный мост из я в не-я. «Поэтому и самое я не есть
законченное, неизменное, данное… Это изменяющее отношение
между субъектом и объектом… - есть жизь, т. е. рост, движение…
динамика. Это живое, действенное, хозяйственное я не должно
быть
исходным
понятием
философии»
(4,
с.
81).
Труд
объективирует человеческую актуальность и весь мир. Субъект
сдирает с себя кожу бессознательности, призывается к своему
объекту трудовым процессом. Это тожество объекта и субъекта,
постоянное его выявление и углубление. И путь этого углубления
– путь жизни, путь труда. «В этом смысле человек есть центр
мироздания, он дает имена животным и… растениям и минералам,
в
нем
осознает
себя
логос
мира,
и
это
потенциальное
мировладение… постепенно осуществляется в хозяйственном
процессе» (4, с. 88). Хозяйственный труд – это новый
космогомический, мирообразующий фактор. Эпоха хозяйства –
новое в истории земли и космоса; вся космогомия делится на 2
периода – до человека, инстинктивный, дохозяйственный и
сознательный, хозяйственный.
Булгаков поправляет существующие теории. В социологии
человек – это представитель класса, жизнь – это механизм причин
и следствий. Но – нельзя смотреть сквозь скальпель науки; жизнь
– свобода и необходимость, человек – индивидуальность,
274
личность, способная создать нечто новое. Политическая экономия
– следует за социологией. Ближе всего к философии хозяйства
подошел марксизм, или экономический материализм. Он строит
философию на факте хозяйства, раскрывает тайну бытия и
общества. Правда, экономическому базису приписывается роль
абсолютного духа; есть противоречия – можно как будто бы
познать необходимость, можно как будто бы прыгнуть в царство
свободы, можно, отрицая этику, построить этический идеал
социализма.
Отсюда
–
посыл
Маркса
об
обожествлении
государством атеистического общества, «канонизация» Маркса.
«Философия
хозяйства»
интересная
-
попытка
автора
теологизировать марксизм; эта попытка осталась Западу как
образец критики. С.Н. Булгаков остался верен классическим
фигурам, он ставт себя позади них: Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель,
В.
Соловьев.
К
сожалению,
он
не
создал
законченной
философской системы, как и Шеллинг; это стало его филосойской
и личной трагедией. По мнению Л.А. Зандера, С.Н. Булгаков
остался чисто руссикм мыслителем; это: 1) почвенность; 2)
эсхатологичность; 3) необычная способность к философскому и
богословскому синтезу; 4) чисто русское стремление доходить во
всем до конца (5, с. 11-22).
275
Список литературы
1. Булгаков С. Два града. Сергиев Посад, 1911.
2. Булгаков С.Н. Карл Маркс как религиозный тип // Булгаков С.Г.
Философия хозяйства. М., 1990.
3. Булгаков С.Н. От марксизма к идеализму. СПб., 1903.
4. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М., Наука, 1990.
5. Зандер Л.А. Бог и Мир: (Мировоззрение о. Сергия Булгакова).
Париж, 1948. Т. 1. С. 11-22.
6. Сапов В.В., А.Ф. Филиппов. «Христианская социология» С.Н.
Булгакова / Философия хозяйства. – М., Наука, 1990.
Федоренко Н. В.
Иван Александрович Ильин в поисках морального
оправдания
насилия над злом
«Революция совершается не на баррикадах –
она происходит в умах и душах людей»
Т.Карлейль (1795-1881) – английский историк и философ
«Философия больше жизни — она есть завершение жизни»
И.А.Ильин (1883–1954)-русский философ
276
Столетний
осмыслению
юбилей
причин
Великого
Октября
революционных
возвращает
событий.
нас
к
Революция
произошла, прежде всего, по внутренним социальным причинам,
отягощенным результатами Первой мировой войны, в которую
Российская империя была втянута договором с Антантой. К тому
же страна была тяжело больна социальными болезнями. Видимо,
ошибочно винить внешние силы в российских потрясениях – что в
ХХ веке, что в XXI-м. Революции делают, прежде всего, сами
граждане страны, а не иностранные агенты, хотя и без них не
обходится исторический процесс.
В результате революционных свершений многие выдающиеся
ученые и философы XX века были высланы из страны. Эту судьбу
разделил и известный русский философ Иван Александрович
Ильин [1, с. 74–81]. Имя И.А. Ильина было исключено из
советского
культурного
пространства
на
70
лет,
на
его
философское наследие был наложен запрет, так как он был
активным идеологом Белого движения в Германии, затем в
Щвейцарии. Только с изданием полного собрания сочинений И.А.
Ильина в 90-х гг. XX в. состоялось возвращение из небытия этого
русского философа, историка, религиозного деятеля, поэта,
музыкального критика. В октябре 2005 г. прах И.А. Ильина и его
жены был перезахоронен в некрополе Донского монастыря в
Москве, недалеко от могилы писателя И.С. Шмелёва (1873-1950).
Как пишет в своей статье Т.П.Самсонова: «В наследии И.А.
Ильина 40 монографий, более 100 статей, и все они посвящены
277
одной главной теме – России. Ключевые вопросы философии
Ильина, которые были сформированы в России: «христианская
культура»,
«религия»,
«дух»,
«духовность»,
«патриотизм»,
«сердечное созерцание», «поющее сердце» – впитали богатый
опыт истории русской культуры прошлых веков, опирались на
реалии духовной жизни и, в частности, музыкального искусства
рубежа XIX и XX вв.» [2, с. 109]
И.А.Ильин считал, что большевики завладели Россиею именно
потому, что русская интеллигенция была сплошь заражена
сентиментально-анархическим неприятием государственности. И
та «государственность», которую принимали левые партии, была
изнутри насквозь пропитана, искажена и отравлена стихиею П.
Кропоткина и Л. Толстого. Эта непротивленческая установка по
отношению к бунтующей массе («революционный народ»)
насаждалась и крепла весь XIX век, пробираясь все выше и выше и
парализуя государственную волю в России. Отречение двух
законных государей, — а с ними вместе царствующей династии —
завершило этот процесс; и власть перешла в руки левых
непротивленцев, которых, по мнению Ильина, философ Николай
Александрович Бердяев пытается изобразить «противленцами»,
смешивая
противогосударственное,
дезорганизующее
бунтовщичество с сопротивлением злу силою. «И вот то, что
делают ныне г. Бердяев и его единомышленники, сводится к
попытке
дать
христианско-православную
278
санкцию
этому
религиозному,
умственному
и
волевому
пороку
русской
интеллигенции…» [3, с. 109]
Протоирей В.В.Зеньковский в своих исследованиях по истории
русской
философии
И.А.Ильина
«О
сопротивлении злу силою», называя ее «нехристианской
и
антихристианской»,
самоправедности».
критикует
проникнутой
«На
это
работу
чувством
фарисейство
«фарисейской
обречен
всякий,
почитающий себя носителем абсолютного добра и от лица этого
абсолютного добра осуждающий и карающий других. У таких
носителей абсолютного добра легко создается ложная поза
героизма и непримиримой воинственности. Но христианская вера
учит нас, чтобы мы непримиримо относились главным образом к
собственному греху и собственным страстям, учит максимализму
в отношении к себе, а не к другим. Ильин же, не отрицая, конечно,
в принципе борьбы с собственными грехами, все же, прежде всего,
и более всего предлагает нам заняться непримиримой и кровавой
борьбой с чужими грехами. Он хочет укрепить самомнение и
гордыню у мнящих себя носителями добра и духа. «Большевики
не торгуют в храме и не находятся в храме, так что их и изгонять
оттуда нет надобности и нет возможности. Большевики извне
разрушают храм. Это совсем иная ситуация. Торговцами же в
храме действительно часто являются люди правого лагеря,
нынешние единомышленники И. Ильина, преобразующие Церковь
в средство для осуществления своих нерелигиозных целей.» [4,
с.711 ]
279
Для И.А. Ильина стало очевидным, что он — носитель
абсолютного добра и духа, — вот он и пошел сажать в тюрьмы и
казнить от лица этой очевидности. Но христианская вера
предлагает нам быть более
осторожными с
такого рода
очевидностью и потому менее осуждать ближнего.
Как отмечает в своей работе Н.А. Бердяев: «Все построение И.
Ильина обнаруживает неспособность любить личность. Но любовь
всегда есть утверждение лика любимого, утверждение его в Боге и
в вечности, утверждение его, несмотря на нечистоту, греховность,
замутненность этого лика. Нужно любить не только Бога в
человеке, но и человека в Боге. Всеобъемлющая любовь должна
была бы увидать в Боге и лик самого последнего из людей, самого
падшего, самого грешного. Это и есть христианская любовь, к
которой мы так мало способны. Полюбите нас черненькими, а
беленькими всякий полюбит. Легче всего любить отвлеченное
совершенство и добро. Это ничего не стоит, не требует никакого
подвига. Любовь к ближнему, к которой призывал Христос, не
есть любовь к отвлеченному совершенству и добру, но к
единичному человеку с индивидуально неповторимым именем. И.
Ильин не хочет любить «ближнего», он любит самого «дальнего»,
любит абсолютное добро, носителем которого почитает себя. Он
исповедует законническую, фарисейскую, буржуазную мораль и
во имя ее хочет истязать людей. Отрицание человека, нелюбовь к
человеку есть его великий грех, измена христианству, религии
Богочеловечества. Он не обнаруживает понимания благодати в
280
христианстве, он весь в законе. Он не понимает различения между
злом и грехом, не знает, что зло есть последствие греха. Поэтому
он повсюду видит злодеев, в то время как христианин, прежде
всего, должен повсюду видеть грешников, и , прежде всего, в себе
самом. Христианство не знает статических типов злодеев и
добродетельных. Разбойник на кресте мгновенно обратился ко
Христу.
Добродетельный
же
может
низко
пасть.
Самый
замечательный из русских старцев, с которым я много беседовал
за несколько дней до моего принудительного выезда из России,
говорил мне, что он придает главное, центральное значение для
спасения России покаянию коммунистов и красноармейцев,
обращению их ко Христу. И многие из них приходили к нему и
каялись в своих грехах, по целым ночам простаивали, ожидая
своей очереди. Вот это для И. Ильина, должно быть, совершенно
чуждо. Религиозная победа над злом является для него не
покаянием и обращением грешника, а принуждением его к добру и
казнью его. Церковь бесконечно дорожит индивидуальной
человеческой душой и ее вечной судьбой. Ильин же отрицает
бытийственность человека, человек для него есть орудие добра,
вечно для него добро, а не человек. Он не преодолел нормативизма
немецкой идеалистической философии. Он дорожит не человеком,
а государственной, правовой, моральной нормой.» [ 5, C 658-673]
Откроем Послание апостола Павла к Римлянам и прочтем главу
тринадцатую. «1. Всякая душа да будет покорна высшим властям;
ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога
281
установлены. 2. Посему противящийся власти противится Божию
установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение.
3. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых.
Хочешь не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от
нее. 4. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же
делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий
слуга, отмститель в наказание делающему злое. 5. И потому
надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по
совести. 6. Для сего вы и подати платите: ибо они Божии
служители, сим самым постоянно занятые. 7. И так отдавайте
всякому должное: кому подать — подать; кому оброк — оброк;
кому страх — страх; кому честь — честь. 8. Не оставайтесь
должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий
другого исполнил закон. 9. Ибо заповеди “не прелюбодействуй”,
“не убивай”, “не кради”, “не лжесвидетельствуй”, “не пожелай
чужого” и все другие заключаются в сем слове: “люби ближнего
твоего, как самого себя” (Левит, 19: 18). 10. Любовь не делает
ближнему зла, итак, любовь есть исполнение закона». [6, С. 12]
«Насилие возможно и существует как результат незавершенности
процесса очеловечивания, гуманизации человеческой истории.
Утверждается, что основания для насилия могут исчезнуть только
при наличии высокой культуры, требующей прогресса творчества,
рефлексии. Раскрытие связи гуманизма с идеей ненасилия
обнажает, на наш взгляд, существо гуманизма как «философии
человечности» и помогает увидеть объективный критерий его
282
исторического развития как идеи и общественного движения.» [7,
С.248]
И.А.Ильин, как истинный патриот своего Отечества, искал пути
укрепления государственности. Он писал: «России не нужны
партийные тра-фареты! Ей не нужно слепое западничество! Ее не
спасет
славянофильское
самодовольство!
России
нужны
свободные умы, зоркие люди и новые, религиозно укорененные
творческие идеи. И в этом порядке нам придется пересматривать и
обновлять все основы нашей культуры. Мы должны заново
спросить себя, что такое религиозная вера? Ибо вера цельна, она
строит и ведет жизнь; а нашу жизнь она не строила и не вела. Мы
во Христе крестились, но во Христа не облекались. Наша вера
была заглушена страстями; она была разъедена и подорвана
рассудком, который наша интеллигенция принимала за Разум.
Поэтому мы должны спросить себя, что такое Разум и как
добывается его Очевидность. Эта очевидность разума не может
быть добыта без сердечного созерцания. Им¬ то Россия и
строилась больше всего: из него исходи¬ла (в отличие от
католичества и протестантства). Православная вера; на нем
покоилось в России верное правосознание и военная доблесть; им
было проникнуто все русское искусство; им вдохновлялась ее
медицина, ее благотворительность, ее чувство справедливости, ее
много народное братство. И вот, созерцающая любовь должна
быть вновь оправдана после эпохи ненависти и страха и вновь
положена в основу обновля¬ющейся русской культуры. Она
283
призвана возжечь пламя русской веры и верности; возродить
русскую народную школу; восста¬новить русский суд, скорый,
правый и милостивый; и переродить русскую систему наказаний;
она призвана перевоспитать в России ее администрацию и ее
бюрократию; вернуть русскую армию к ее суворовским основам;
обновить русскую историче¬скую науку в традициях Забелина;
окрылить и оплодотворить всю русскую академическую работу и
очистить русское искус¬ство от советчины и от модернизма. И
главное:
ВОСПИТАТЬ
В
НАРОДЕ
НОВЫЙ
РУССКИЙ
ДУХОВНЫЙ ХАРАКТЕР.»[ 8, С.157 ]
Литература:
1. Демидова О. Р. Эмиграция как проблема философии культуры //
Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. – 2015. – Т. 2.
Философия. – № 3. – С. 74–81.
2. Самсонова Т. П.Концепция «поющего сердца» в философии И.
А. Ильина // Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. – 2017.
– Т. 2. Философия. – № 1. – С.109-116.
3. Н.А. БЕРДЯЕВ. Кошмар злого добра (О книге И.Ильина «О
сопротивлении злу силою») //И.А. И Л Ь И Н: PRO ET CONTRA
Личность
и
творчество
Ивана
Ильина
в
воспоминаниях,
документах и оценках русских мыслителей и исследователей.
Антология./
Спб.,
Издательство
гуманитарного института, 2004.
284
Русского
Христианского
4. Н.А. БЕРДЯЕВ. Кошмар злого добра (О книге И.Ильина «О
сопротивлении злу силою») //И.А. И Л Ь И Н: PRO ET CONTRA
Личность
и
творчество
Ивана
Ильина
в
воспоминаниях,
документах и оценках русских мыслителей и исследователей.
Антология./
Спб.,
Издательство
Русского
Христианского
гуманитарного института, 2004.
5. Н.А. БЕРДЯЕВ. Кошмар злого добра (О книге И.Ильина «О
сопротивлении злу силою») //И.А. И Л Ь И Н: PRO ET CONTRA
Личность
и
творчество
Ивана
Ильина
в
воспоминаниях,
документах и оценках русских мыслителей и исследователей.
Антология./
Спб.,
Издательство
Русского
Христианского
гуманитарного института, 2004.
6. Новый завет. Синодальный перевод.
7. А. П. Желобов, Н. В. Федоренко. В поисках «человеческого»:
гуманизм и антропоцентризм// Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А. С.
Пушкина. – 2017. – Философия. – № 1. – С. 246-256
8.И.А.Ильин. Что нам делать? //И.А. И Л Ь И Н: PRO ET CONTRA
Личность
и
творчество
Ивана
Ильина
в
воспоминаниях,
документах и оценках русских мыслителей и исследователей.
Антология./
Спб.,
Издательство
гуманитарного института, 2004.
285
Русского
Христианского
Чурзин В.В.
Революция – одна из форм реставрации.
(о историософии 1917 г.)
От
мифологизации
(героизации)
и
фальсификации
(дегероизации) революции 1917 года естественно перейти к её
мистификации. Загадки истории волнуют читательские массы
своей таинственной неочевидностью, очевидным представляется
её конспирологический характер, где рядовые участники – зрители
в
игре
главных
актёров
революционной
драмы.
Причем
реабилитация конспирологии совершается теми, кто её отрицает.
Заговор генералов и депутатов против царя в феврале 1917 года
признаётся, но заговорщицкий характер российской социалдемократии отказываются признавать. За годы Советской власти
мы привыкли к всевластию тайной полиции, деятельность которой
иначе как конспирологической не назовёшь. Борьба с заговорами
при
помощи
заговоров
–
способ
её
работы.
Однако
тайная(заговорщицкая) деятельность вплетается в общую логику
динамики
социальных
процессов,
как
скачок,
прерыв
постепенности, смена сценариев событий через смену лидеров.
Революция обещает будущее, но фактически она восстанавливает
«улучшенное прошлое». Так, например, слабеющая зависимость
личности от государства и от общества не только была
восстановлена, но приобрела тотальность.
286
Революция 1917 года и последовавшие за ней гражданская
война и интервенция по сути дела, разделили Россию на
«красных» и «белых», сторонников и противников восстановления
крепостного права. Крепостное право – есть консервация
социальных
противоречий
на
основе
государственного
патернализма. «Красное самодержавие» могло быть только
народным, но как самодержавие, наследовало от царского периода
единовластие в виде диктатуры партийной и государственной
бюрократии,
новое
закрепощение
крестьянства,
рабочих,
интеллигенции,
моноидеологию
цезаропапизма
хилиазма(земного
рая).
Россия
предлагала
многопартийность,
но
представительную
Белая
демократию,
и
без
большевиков как узурпаторов власти. Красную и Белую Россию
объединяла идея народных вождей(вождизм), пришедших на
смену династическому правлению(началось А.Ф.Керенским, а
закончилось И.В.Сталиным и далее имярек Генсек). Попытка
посредничества
в
примирении
«белых»
и
«красных»,
предпринятая Антантой конференцией на Принцевых островах,
отвергнута представителями Белого лагеря ввиду несводимости
счетов сторон. Над обессиленной Россией встала тень нового
третьего издания крепостничества. Белые ушли во внешнюю и
внутреннюю эмиграцию. Проект представительной демократии
отложен до лучших времён, а упрочение диктатуры происходило
при попрании демократии, под которой понималась всякая
самостоятельность,
не
одобренная
287
партией
большевиков.
Приоритет представительной демократии над непосредственной
демократией до сих пор остаётся демократическим фасадом
диктатуры коммунистов, демократов, чекистов и т.д. Как считал
В.И.Ленин,
земство
являлось
«пятым
колесом»
в
телеге
Романовской монархии, так и теперь муниципалитеты, чей объём
полномочий
ниже
местных
Советов
советского
времени,
самоуправление остаётся жалким придатком бюрократической
машины. Предложение М.С.Горбачёва советам взять власть в свои
руки (советы без коммунистов) не встретило отклика у народа,
отвыкшего от главной привычки – выживания, как народа, так и
отдельной
личности
–
привычки
к
самоорганизации.
постсоветское время, казалось бы, муниципализация
В
общества –
прямой путь к самоорганизации – выведет страну из кризиса.
Кстати, муниципализация и есть европеизация России. Но нет,
этого не происходит.
Отказ от своих прав в пользу обязанностей, фактически признание
взрослыми людьми себя малыми детьми, гарантировал главное –
безопасность.
сервильности
Государственный
и
патернализм
дисциплины(повиновения)
как
требовал
ресурса
в
управлении населением, что традиционно избыточно имелось у
населения России, и прежде всего, у работников физического
труда.
РСДРП-ВКП(б)-КПСС
конспирологического
происхождения (корпорация, стоящая выше или ниже закона,
признающая за собой право последнего слова и носительницы
«истинного» закона - Программы) и диктатуры партийных вождей
288
Ленина-Троцкого-Сталина вытекали из приоритета централизма
над демократизмом в самом партийном строительстве. Курс на
насильственное
свержение
правящих
классов
означал
насильственное удержание захваченной власти. Внеэкономическое
насилие, то есть сочетание административного и идеологического
принуждения, характерное для классического крепостного права,
вытекало из монопольного положения во власти, приобретённого
ВКП(б) к 1922 году – году образования СССР. Для осуществления
данного насилия требовался особый человек одновременно и
презирающий духовную жизнь, и боящийся её, но и боготворящий
материальный мир, распорядителем коего он себя считал.
Мировосприятие
коммуниста,
сознательного
или
бессознательного, близко философии «общего дела» Н.Фёдорова.
Физическое устранение людей со своего пути питалось в
уверенности, что наука изобретёт способ воскрешения людей и
устранённый на время человек может быть воскрешён. Идея
мумификации тела Ленина – вождя может быть объяснена
изложенным выше убеждением коммунистов.
Каковы же предпосылки третьего издания крепостного права в
России 20 века?
Первое; раскол государствообразующего народа, большинства
населения
по
этническому
признаку,
получившему
государственно-территориальное закрепление: великороссов –
РСФСР, малороссов(украинцев) – УССР, и белорусов – БССР.
Наоборот, консолидация менее крупных народов, приобретших
289
статус государствообразующих. Причём помощь «старшего брата»
«младшим
братьям»,
законодательно
партийной
политики
перешла
в
не
оформленная,
государственную
и
из
не
предусматривала никаких ограничений в своих размерах. Уже нет
КПСС, страной правят демократы, но дотационный режим не
отменён. Уже давно жизненный уровень окраинных республик и
областей, сравнялся или превосходит уровень жизни центральных
областей, за исключением столиц и их окружения.
Второе; советская власть на основе ленинской теории «России
как
тюрьмы народов» выравнивала уровни экономического
развития в пользу ранее «угнетённых наций». В настоящее время
ложность этой теории доказана, как и то, что коммунисты
продолжили политику царской администрации по опережению
темпов развития окраин в сравнении с центром. Новая этническая
государственность поднимала приоритет титульной нации в
отношении нетитульных наций. Троцкистская идея «Россия за всё
заплатит» распространялась не только на мировую революцию, но
на строительство национальных отношений. Троцкого уже не
было в СССР, но идеи его осуществлялись в СССР, особенно в
связи с приходом к власти скрытого троцкиста, каким был
Н.С.Хрущёв, ниспровергатель культа личности И.В.Сталина.
Консолидация национальных элит на основании готовности
приватизации общесоюзной собственности в республиках, явилась
стимулом в распаде СССР. Распад СССР и был триумфом
троцкизма
над
сталинизмом
290
в
области
национально-
государственного строительства. СССР исчез, растворился в
мировой революции.
Третье; раздвоение России на красную и белую по обе
стороны границы предопределило продолжение государственного
террора, установленного коммунистами в ходе гражданской
войны, плавно перешедшего в репрессивную политику против
бывших, как «скрытых» белых. За всё заплатят бывшие – значит,
каждый должен был отмежеваться от них, подтвердить своё
рабоче-крестьянское происхождение или же принадлежность.
Судьба жертв революции вызывает сочувствие и интерес. Никто
не боролся за восстановление дворянских привилегий, царь
отрёкся
от
престола.
Спрашивается,
за
что
наказывать
отказавшихся от своих прав? Наказывать за происхождение живых
людей за недоказанностью преступлений мёртвых – нелепость.
Мы имеем дело с проявлением социальной мести и геноцида.
Можно
предположить,
что
победители
1917
г.
мстили
победителям 1907 г. за побеждённых в первой русской революции
(С.Ф.Нефёдов), а геноцид означал насильственное искоренение
возможности реставрации неравенства. Однако, мы видим в этом
явлении
применение
восточного
принципа
коллективной
ответственности, заложничества и т.п., известный у нас как
партийно-классовый подход.
Четвёртое; впервые в истории богоборческая и атеистическая
власть получила от населения мандат на длительное правление.
Отрицая сверхземных богов, власть обожествляла себя как земную
291
силу, близкую народу, но в то же время самозаконную, не
подлежащую критике и признающую одно лишь повиновение.
Круговая порука, действия заодно и со всеми и деяния всех как
одного целого соответствовало плановому характеру деятельности
ВКП(б)
–
КПСС.
Партия
нового
типа
–
авангардная,
антипарламентская отвечала характеру своей деятельности как
харизматической и идеократической. Поэтому представление о
способности КПСС к компромиссу до и после 1917 г. достаточно
условно, т.к. все решения о компромиссах в партии принимались
на основе изучения соотношения сил и все союзники заведомо
были временными попутчиками, ибо «кто не с нами, тот против
нас».
Пятое; по праву победителей КПСС приписала себе все
достоинства
побеждённого
режима,
а
свои
недостатки
побеждённому. В борьбе за единовластие КПСС присваивала себе
программы других партий, позиционируя себя единственной
силой, способной решить проблемы страны и всего мира.
Декретируя решения проблем одних классов за счёт других, КПСС
вызвало гражданскую войну, т.к. изначально свергаемые классы
поставлены
вне
закона.
гражданской
войны
Ответственность
КПСС
возложила
за
на
развязывание
представителей
свергаемых классов и сословий. Между тем, ещё до 1917 г. КПСС
утверждала необходимость гражданской войны для победы своей
партии и нового строя.
292
Шестое: Революцию 1917 года справедливо рассматривать в
контексте столкновения цивилизаций. Экспансия Запада на восток,
борьба
за
передел
Европейской войне
уже
поделённых
колоний,
участие
в
представителей афро-азиатских народов
привели к подъёму антиколониального движения и поставила
Россию в эпицентр восстания Востока против Запада. Вождям
революции в России оставалось лишь воспользоваться этим
восстанием в интересах удержания своей власти. Перемещение
столицы России в Москву, отложение Прибалтики, Финляндии,
Польши вернули ей допетровскую старину, в том числе восточные
методы управления. Так современный исследователь Плыкин В.Д.
пишет: «Двухконтурная система денежного обращения в СССР
была введена по указанию Сталина и быстро внедрена советскими
экономистами, изобрели эту систему в Китае в XII веке. Известно,
что бумагу и бумажные деньги (фаби) изобрели в Китае». (1)
Деньги делились на наличные для мелкого товарооборота и
безналичные
для
крупного
строительства.
После
нэпа
установилось преобладание последних. Безналичные не имели
функции сокровища. Значит, воровство их лишалось всякого
смысла.
Безналичка
(счётные
деньги)
применялась
на
строительстве городов. «Двухконтурная система обращения денег
стала одним из факторов великого взлёта после 1929 года, тогда
как капсистема впала в депрессию».
Большевики наследовали восточные методы управления Россией,
которых придерживался и Николай II. Он запретил иностранному
293
капиталу вывозить из России заработанную в ней прибыль, а
инвестировать её в экономику России. Монаршья дерзость стоила
ему
короны
–
иностранный
капитал
инвестировал
в
революционеров, а не только в экономику России, и впоследствии
революционеры отдавали долг дешёвыми поставками Западу, где
их обвиняли в советском демпинге.
Выводы.
1.
Крепостное
право
или
административно-командная
система в истории России устанавливается при единении верхов и
низов на заседаниях представительных органов, земских соборах,
съездах
добровольно
и
необходимости
для
мобилизационной
модели
представляет
собой
дальнейшего
развития
экономики,
общества
признание
страны
и
власти,
предполагающей строгое единоначалие, добровольное наложение
взаимных обязательств друг перед другом сословий, классов и т.д.
Так было на Земском соборе 1613 года, в Соборном уложении
1649 года, Уложенной комиссии 1763 года, 17-м съезде ВКП(б).
2.
Отмена крепостного права (АКС) нарушает целостность
мобилизационной модели, что и произошло в 1861 году, в 1991
году. В начале XXI века возрождается «белое снаружи и красное
изнутри»
самодержавие,
известное
как
бюрократический
капитализм. Между тем, новая индустриализация предполагает
поглощение
капитала
собственности
эффективные
менеджеры
занимают
294
капиталом
место
функции,
собственников,
технологические отношения и их двигатель – инженерный корпус
–
отодвигает
политиков
от
управления
экономикой.
Централизация в системе АКС позволяет заменить бюрократию
технократией и вывести Россию из числа стран сырьевых
придатков. (2)
3.
Иными словами, дело революционеров 1917 года не
пропало даром. Частная собственность обречена исчезнуть в
пучине НТР, даже если новая война не отсрочит этот процесс.
Библиография.
1.
Плыкин В.Д. Стратегии технологического и социального
прорыва в XXI веке. – Ижевск, 2017. – С.71-72.
2.
Бляхман Л.С. Глобальные, региональные и национальные
тенденции развития экономики России в XXI веке. // Избранные
труды СПбГУ. – 2017. – С.172-191. Плыкин В. Д. ук. соч. – С.74.
Секция 3
РЕЛИГИОЗНАЯ
ЖИЗНЬ
И
ДУХОВНЫЙ
РУССКОГО ОБЩЕСТВА В 1917 Г.
КРИЗИС
Воронцова И.В.
Вопрос общественно-политической занятости духовенства
в 1905–1907 гг.
и его отражение в решениях Поместного Собора 1917–1918 гг.
295
В революционный 1905 г. в русском обществе стал популярен
новый тип пастыря, – увлеченного общественной и политической
деятельностью и соединявшего партийную идеологию с
религиозной верой. Разрешение Св. Синода духовенству
участвовать в выборах в Государственную Думу вызвало в 1906–
1907 гг. ряд конфликтных ситуаций, показавших, что то
отношение, которое выразили к общественной занятости
духовенства Вселенские соборы, является единственно верным; в
1918 г. проблема получила свое историческое решение на
заседаниях Поместного собора Православной российской Церкви.
Запрос на общественную активность возник в эпоху
государственных реформ 1860-х гг., когда правительством
принимались меры к расширению гражданских прав, появились
проекты, обращенные к изменению материального состояния
православного духовенства и гражданских ограничений,
касавшихся выходцев из духовного сословия. В 1860–1870-х гг.
наметился процесс сближения образованных слоев общества с
Русской
Церковью,
сопровождавшийся
проникновением
публицистики в церковную проповедь, пастырское слово было
востребовано в светском кругу, и журналы охотно публиковали
проповеди и статьи популярных проповедников. В конце XIX в.
последовал многолетний запрет духовенству участвовать в
общественной жизни. В первые годы ХХ в. проблема
актуализировалась.
В виду появления в 1901 г. религиозно-реформистского движения
в среде интеллигенции и в 1905 г. либерал-реформаторского в
церковной среде, общественная активность духовенства возросла
и принимала разные модусы: от духовного окормления рабочих
коллективов до членства в политических партиях. Проблема
обсуждалась на разных уровнях: в среде культурно-политических
деятелей (поддерживавших, или отрицавших социальнополитическую активность священнослужителей), среди самих
священников Русской Церкви, в духовно-академической среде, на
Предсоборном Присутствии 1906 г., фигурировала в Отзывах
епархиальных архиереев. Она получила свое отражение и на
заседаниях Поместного Собора Православной российской Церкви
в 1918 г. Важность проблемы очевидна для историков,
296
занимающихся Новой и Новейшей историей Русской
Православной Церкви.
В первые годы ХХ в. вновь возникла востребованность в
российском обществе «живой проповеди». Понятие «живое слово»
церковной проповеди, оставленное архиепископом Харьковским
Амвросием как завещание следующему поколению церковных
публицистов, стало лозунгом молодых священников [1, 14].
Насущная задача, писал в газете о. Григория Петрова, цитируя
архиепископа Амвросия, ректор С.-Петербургской семинарии
архимандрит Сергий (Тихомиров), – стряхнуть «мертвенный сон
безучастия» в народной жизни, проникнуться «жалостью к
народу», оставить «устарелые формы речи, неудобные для
потребностей минуты» [14, c. 14]. Настрой на «оживление»
проповеди, привел пастырей к мысли о том, что и публичные
лекции должны быть доступней, что нужно менять методику
преподавания Закона Божия. Ряд священнослужителей –
законоучителей и проповедников религиозно-просветительских
Обществ С.-Петербурга и Москвы – по собственной инициативе
начали проводить это в 1903–1904 гг., выступая таким образом за
«оживление» веры. В начале 1905 г. газеты обвинили Русскую
Церковь в не предотвращении кровопролития 9 января, в
равнодушии к жизни рабочих, и ряд проповедников С.Петербургского
Общества
распространения
религиознонравственного просвещения в духе православной Церкви
устремились в рабочие коллективы, решив содействовать
улучшению не только нравственного, но и социального состояния
рабочих. Лидеры петербургской группы опубликовали в марте
1905 г. записку «32-х петербургских священников», выступив за
скорые церковные реформы и всероссийский собор духовенства и
мирян. Началось церковно-реформаторское движение, в 1-й пол.
1905 г. поддержанное С.-Петербургским митрополитом Антонием
(Вадковским) и епископом Ямбургским Сергием (Страгородским).
В дальнейшем лидеры движения, образовав либералреформаторское его «крыло», встали в оппозицию синодальной
Церкви, выступили за христианизацию гражданско-трудовой
жизни и поддержали «христианских социалистов», настойчиво
продвигавших понятия о христианской политике и экономике. С
297
1905 г. популярный проповедник священник Григорий Петров
стал выступать с социальными статьями, где религиозное понятие
«истина освобождающая» обслуживала социальные вопросы,
темой были права государства [9, c. 15], личности и народа (при
столкновении интересов правда, по Петрову, – находилась не на
стороне проводящего политику запретов государства, а на стороне
трудового народа), право на свободу союзов и собраний [10].
В 1906 г. в отзывах епархиальных архиереев о реформе, в пункте
об общественной деятельности духовенства, большинство владык
написали об изолированности его от общественной работы как о
затянувшейся исторической ошибке, и высказали мнение, что это
вызывает у общества справедливый упрек в бездеятельности и
нежелании работать, и нужно снять этот упрек. Некоторые ответы
опирались на мнение епархиальных собраний. Другие ссылались
на то, что уже с 1903 г. правительство рядом мер стало призывать
священнослужителей к участию в общественной жизни, создав
«Положение о церковно-приходских школах» и выпустив
Манифест от 26 февраля 1903 г. «О мерах к улучшению народного
образования и незамедлительном удовлетворении назревших
государственных нужд» (Манифест призывал к оживлению
пастырской деятельности и работе на пользу народа). За
примерами обращались к истории Руси, когда епископы были
советчиками князей, а протоиереи приглашались в Думу.
Некоторые преосвященные, как епископ Вологодский Алексий
(Соболев) писали, что из Правил святых апостолов, Вселенских и
Поместных соборов нельзя заключить, чтобы клирики совершенно
были устранены от участия в государственных и общественных
делах. Епископ Минский Михаил (Темнорусов) считал
допустимым членство священнослужителей в городских думах и
земских собраниях, как способ направлять деятельность дум ко
благу горожан. Епископ Волынский Антоний (Храповицкий)
предложил ввести представителей Церкви в совещательные и
законодательные органы власти, и представителей монастырей – в
Думу [7, c. 133]. Для епископа Симбирского Гурия
(Буртасовского) желательность присутствия духовенства в
общественно-государственных учреждениях была продиктована
«целесообразностью широкого доступа» Церкви к «внешней,
298
телесной жизни», что, с его точки зрения, отвечало задаче пастыря
не быть чуждым и материальным нуждам пасомых. Митрополит
Киевский Флавиан (Городецкий) видел в проникновении
духовенства
в
общественную
жизнь
–
возвращение
«исторического права» [7, c. 121]. Малочисленные возражения
против напомнили о каноническом препятствии (называлось 81
апостольское правило), об опасности увлечения духовенства
политической борьбой, что унизило бы пастырское служение; о
том, что возможности священнослужителей судить о гражданских
делах – ограничены.
По той же схеме разворачивалось обсуждение в IV отделе
Предсоборного присутствия. Отдел единогласно решил, что само
по себе участие «желательно». Работа в общественногосударственных
учреждениях
рассматривалась
им
как
доброделание, примером служил византийский уклад жизни, когда
епископы участвовали в делах управления, суда, администрации, в
выборах начальника провинции, контроле распределения
городских доходов и действий наместников, судей и чиновников.
IV отдел констатировал, что Манифест о преобразовании
Государственного Совета, де факто, допустил участие в
законодательной деятельности выборных от духовенства, и это
признание надо юридически закрепить. Священнослужители не
имеют права отказываться от возможности влиять на мирскую
жизнь, тем более в обстоятельствах, когда в православная вера из
господствующей в государстве стала одной из многих. В отделе
обсудили, по всем ли делам духовенство должно принимать
участие, или только по храмостроительству, просвещению и
благотворительности; и как совмещать церковные службы и
общественное служение, и подлежит ли общественная
деятельность священнослужителей контролю церковной власти.
Председатель IV отдела архиепископ Могилевский Стефан
(Архангельский) отрицательно отнесся к идее участия священства
в общественно-государственных учреждениях, но остался в
меньшинстве. Было принято, что, исходя из правил святых отцов,
Апостольских постановлений и Поместных соборов (ап. пр. 6 и 7,
81, 83 и 3 пр. IV Вс. соб.) нельзя заключить, чтобы клирики
совершенно были устранены от участия в государственных и
299
общественных делах [7, c. 2073], и «по духу» этих правил
общественная занятость несовместима с пастырской лишь «в
видах корыстных», и когда отвлекает от богослужений. Отдел
признал желательным участие по всем делам, не исключая ссудосберегательных и кооперативных товариществ, с условием не
занимать должностей писаря, старшины и директора, и
предостерег от членства в политических партиях.
3 правило IV Вселенского собора вело речь об опасности участия
священнослужителей в откупах и управлении имениями при
разного рода опекунстве, 7-е запрещало участие в мирских делах
[11]. 6-е апостольское правило запрещало епископам, пресвитерам
и диаконам принимать на себя «мирские попечения» под страхом
«извержения» из сана. 81-е говорило, что «не подобает епископу,
или пресвитеру вдаваться в народные управления, но
неопустительно быть при церковных делах: или да будет убежден
сего не творить, или да будет извержен. Ибо “никто не может
служить двум господам” (Мф. 6:24)» [11] . В 83-м речь шла о
священстве, занимавшимся воинским делом; желавший удержать
обе «должности», подвергался извержению из священного сана,
ибо «кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21). 10 правило VII
Вселенского собора вело речь о беглых священниках,
поступавших в домовые церкви, им также не надлежало
принимать на себя мирских и житейских попечений: если же «кто
обрящется, занимающий мирскую должность у глаголемых
вельмож, или да оставит оную, или да будет извержен» [12]. 11
правило Константинопольского собора говорило о невозможности
пресвитерам и диаконам одновременно нести церковные
обязанности и занимать начальственную должность и «в домах
мирских начальственных лиц звание управителей», ибо «никтоже
может двема господинома работати (Мф. 6:24)» [6].
В 1906 г. Св. Синод разрешил участие духовенства в выборных
органах государственного управления, ряд священнослужителей
стали думскими делегатами. После краткосрочной I Думы (27.04–
08.06.1906), во II Думе (20.02. –02.07.1906) возник прецедент:
священники-депутаты (А. Гриневич, А. Бриллиантов, А. Архипов,
К. Колокольников, Ф. Тихвинский) попали в ситуацию, когда
должны были сделать выбор. Они не пришли на заседание 7 мая,
300
когда обсуждалось отношение к подготовке покушения на
Николая II.
Присутствие на заседании поставило бы пастырей в сложное
положение: покушение на убийство нельзя было не осудить, но в
этом конкретном случае попадал под сомнение их авторитет как
«свободомысленных» и «прогрессивных» священников, и для
коллег по Думе, и для выборщиков. С.-Петербургский митрополит
Антоний (Вадковский), согласно постановлению Синода от 12 мая
1906 г., предъявил священникам-депутатам требование выйти из
левых партий. Строго говоря, это была духовно-охранительная
мера по отношению к самим священникам.
Епископ Псковский Арсений (Стадницкий) тогда записал:
разрешение участвовать в выборах было изначально неверным,
«если можно принадлежать к октябристам, то почему нельзя к
кадетам и т. д. принадлежать». [2, л. 132 об] 13 мая священник Ф.
Тихвинский опубликовал письмо, в котором писал: «как
общественный деятель… посланный защищать общественные
интересы, я должен считаться с… реальною жизнью, иначе всякий
имеет право назвать меня беспочвенным моралистом» [5, c. 73].
Священники ответили, что они состоят не в партиях, а во
фракциях. 14 мая митрополит Антоний вызвал священниковдепутатов и подтвердил выход их из думских фракций. Им было
предложено к 18 мая заявить о том, что они по совести
отказываются от своего образа мыслей и действий, формальный
выход из фракций будет лицемерием. 15 мая группа привлекла к
обсуждению вопроса саму Думу, внеся запрос и заявив: «Мы,
нижеподписавшиеся, видим …грубое нарушение свободы мнений
членов
думы,
гарантированной
ст.
14
учреждения
Государственной думы, в силу которой члены думы пользуются
полной свободой суждений и мнений по делам, подлежащим
ведению думы, и ст. 8 закона 8 марта 1906 г., карающей, за
воспрепятствование угрозами или злоупотреблениями власти
члену думы исполнять его обязанности…» Группа предложила
поставить и рассмотреть в Думе свой вопрос вне очереди 17 мая.
В защиту священников-депутатов 17 мая вышла статья С.Н.
Булгакова «Св. Синод и Государственная дума», отстаивавшая
разность природ Церкви и государства, духовную ответственность
301
депутатов перед церковным начальством и неподсудность их
Синоду в гражданском плане. 18 мая газеты опубликовали письма
священников-делегатов к митрополиту Антонию, где они писали о
верности императору и народу, и отказывались в три дня
переменить убеждения. «Написано сильно», отмечал епископ
Псковский Арсений, а Синод попал в сложную ситуацию, связав
себя «решением о предании их суду, не выслушав предварительно
объяснения». [2, л. 132 об.] Общественное мнение было
взбудоражено. Согласно объяснениям священников А. Гриневича
(подчинившегося указу Синода) и К. Колольникова, священникидепутаты оказались заложниками ситуации, когда думцы
восприняли предложение вынести суждение по террору, как
провокацию со стороны правительства, угрожавшего распустить II
Думу. Но в тех же объяснениях их авторы настояли на том, что в
три дня невозможно переменить «политические убеждения». Так,
предположение IV отдела Пресоборного присутствия, что пастырь,
участвующий в работе правительственных учреждений, может
избежать стихийных всплесков общественной борьбы, в
реальности не выдержало проверки. В конфликт вошли долг
пастырского подчинения церковному единству и
личная
гражданская позиция.
Чтобы понять, что руководило действиями священниковдепутатов, недостаточно учитывать революционную ситуацию, в
обществе, из-за религиозно-реформистской идеологии менялось
восприятие христианских заповедей, они социализировались, а
традиционно-православное толкование ряда сентенций (напр.,
«нет власти аще не от Бога»), приобретало историческую окраску.
В феврале 1906 г. в Государственную думу кадетами спешно был
избран
удалённый
в
Череменецкий
монастырь
за
публицистическую деятельность священник Г. Петров. Его
сторонники депутатством хотели вызволить его из монастыря. В
думе он никак себя не проявил, но резонанс от кампании,
поднятой в прессе, был большой. В 1907 г. Св. Синод запретил Г.
Петрову чтение лекций и на 7 лет удалил из Петербурга и Москвы,
а в 1908 г. снял с него священный сан. Г. Петров не протестовал и
продолжил свободное чтение лекций в разъездах по всей стране
уже «свободным художником». Обращение к одной из его лекций
302
позволяет увидеть, как рассматривали общественно-политическую
деятельность другие священнослужители-депутаты.
В лекции «Политика и религия» Г. Петровым был изложен новый
взгляд на политику, показаны возможный для пастырей синтез
политики и религии и новое отношение к государственной власти.
Г. Петров считал, что надо различать идею политики и политику
личностей, т.е. историческую, которая на деле может быть
«извращением» идеи. Задача политики – проведение блага в жизнь
народа, политик – этот тот «дивный композитор», призвание
которого создать две великие симфонии – «совершенного
человека» и «совершенное общество» [8, c. 9, 19], и правильный
ответ на вопрос «прилично ли духовенству заниматься
политикой?» зависит от того, что оно избирает: политику или
политиканство. Политика, по Г. Петрову, и есть работа «истинного
духовенства», ибо именно на нем лежит долг «очищать» и
«освящать» отношения общественные и государственные, между
правительством и народом, трудом и капиталом, между
сословиями. Этот был тот образ «христианской политики»,
который пропагандировался «христианскими социалистами»
1905–1908 гг.
Поместный собор Православной Российской Церкви 1917–1918
гг., проходил в государстве, где была проведена свобода
вероисповедания, не стало православного самодержавия, судьба
Церкви становилась все более шаткой. Когда на Соборе был
одобрен переход к каноничному образу церковного управления,
стало
очевидно,
что
проблема
общественной
и
внутриполитической занятости духовенства должна вернуться в
каноничные рамки, и проблема была приведена к теме «живая
проповедь и требования жизни». Она обсуждалась в 1918 г. на 3-х
заседаниях Отдела о богослужении, проповедничестве и храме.
Высказывались как делегаты от религиозной интеллигенции (Г.Н.
Трубецкой, Н.А. Котляревский) и церковные реформаторы (К.М.
Аггеев и Д.И. Боголюбов), так и противостоявшие им
консерваторы (архимандрит Вениамин (Федченков) и митрополит
Харьковский
Антоний
(Храповицкий)).
Дискуссия
сконцентрировалась на дилеммах: «вдохновение и талант, или
профессионализм проповедника?», «публицистичность проповеди,
303
или опора на святоотеческие тексты?»; и
«периодичность
произнесения». 8 пунктов проекта решения Собора предлагали:
узаконивание
проповеди
как
«первейшей
обязанности»
священника, включение в нее проблематики общественногосударственной жизни, расширение института церковного
проповедничества
за
счет
дьяконов,
псаломщиков,
учительствующих мирян; чтение проповеди с амвона на языке
национальных окраин и во всех соответствующих местах:
обществах, кружках, коллективах, общественных собраниях;
обучение искусству проповеди с первых лет учебы в духовной
школе и на специальных курсах, по специализированным
изданиям.
Для либералов было важно отстоять злободневность и
талантливого проповедника, в том числе, мирянина; решающим
был принцип исторической необходимости. Протоиерей Д.И.
Боголюбов акцентировал важность «запросов времени»; «“живая
проповедь” возможна и за литургией» [13, c. 136-137]. Н.А.
Котляревский сказал, что приоритет «обязательности» – уклон в
протестантизм: проповедь станет «механической частью
богослужения»; он отстаивал необходимость «новых отношений
между Церковью и обществом», ее «практическое проникновение
в… социальный строй» [13, c. 138]. Священник И.А.
Артоболевский считал, что важнее всего «живая проповедь»,
идущая из «душевного состояния» проповедника, и наличие
«нового типа пастыря», способного сказать то, что нужно «по
требованию жизни». Потому делать проповедь «обязательной
пастырской
принадлежностью
нет
оснований»;
«нужно
предоставить проповедь пасторской свободе и творчеству» [13, c.
163–164]. Преподаватель Литовской духовной семинарии В.К.
Недельский отметил, что проект опирается на 19 правило VI
Вселенского собора, считавшего проповедь существенной
принадлежностью иерархического служения, но вместе с тем,
составлявшие проект подразумевали и талант проповедника [13, c.
140]. Представители консервативной части отстаивали, что
главное – умение произнести и составить проповедь. Антоний
(Храповицкий) обосноваk свою речь цитатами (из 19 пр. VI Вс.
соб. и 2 пр. VII Вс. соб.) и ссылками на историю XVII – XVIII вв.
304
Он был не против привлечения к проповедничеству, по примеру
древней Церкви (под руководством священника), дьяконов,
псаломщиков и мирян. Архимандрит Вениамин (Федченков)
настаивал на том, что обучение проповедничеству начинается с
«углубления религиозного опыта» [13, c. 171–172].
После прений предложенный проект был принят, он расширил
пределы пастырского проповедничества, учел запрос начала века
сблизить христианские идеалы с современностью, признав, что
церковная проповедь «должна озарять светом Евангелия и все
пути земной человеческой жизни» [13, c. 169], и то, что церковная
проповедь может звучать на «местных наречиях и языках» там, где
это необходимо. Он сохранил принцип построения проповеди на
святоотеческих творениях, наряду с приданием ей «жизненного
практического характера»; утвердил новый состав проповедников
и создание братств и кружков для обучения культуре проповеди,
тем самым подготовив почву для развития церковной проповеди в
новых
условиях,
и
очертив
пределы
гражданской
внутриполитической деятельности духовенства.
Литература
1.
Бобура В., свящ. Живое слово // Друг трезвости. 1901. №
18. С. 3–9.
2.
ГА РФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 515. Дневник митрополита
Арсения (Стадницкого).
3.
Заседания Предсоборного присутствия. IV отдел //
Прибавления к «Церковным ведомостям». 1906. № 26. 1 июля. С.
2073–2080.
4.
Каноны или Книга правил. Ч. 2. Правила святых апостолов.
http://azbyka.ru/otechnik/pravila/kanony-ili-kniga-pravil/2
(13.04.2017)
5.
Св. Синод и священники-депутаты // Клад. 1907. Кн. 11. С.
72–83.
6.
Никодим (Милаш), еп. Толкования на правила святого
Собора Константинопольского,
во храме святых апостол
бывшего, глаголемого Двукратного http://lib.pravmir.ru/
7.
Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной
реформе: В 3 т. СПб., 1906. Т. 1.
305
8.
Петров Г. Политика и религия: Лекция / Превед. от рукоп.
Д. Божков. Изд. София, 1927.
9.
[Петров Г., свящ]. Для чего нужна свобода? // Вестник
трезвости. 1905. № 131. С. 15.
10.
Петров Г., свящ. Четыре свободы // Вестник трезвости.
1905. № 131. С. 11–14.
11.
Правила
IV
Вселенского
собора
https://drevoinfo.ru/articles/2953.html (10.04.2017)
12.
Седьмой Вселенский собор – Никейский.
http://www.agioskanon.ru/vsobor/007.htm (21.04.2017)
13.
Священный собор Православной Российской Церкви.
Деяния. М., 1918. Кн. III
14.
Сергий, архим. Слово живое – насущная современная
потребность // Друг трезвости. 1901. С. 14.
Гаевская Н.З.
ВНУТРЕННИЙ ПУТЬ.
Русское подвижничество в России первой половины XX века.
К именам великих русских подвижников, святых, чтимых
Русской Право-славной Церковью: мучеников и исповедников,
преподобных, блаженных обращены думы, чаяния русских
людей о заступничестве в самые тяжелые моменты истории.
Память о скорбных днях прошедшего века, покаяние и
прощение – такова историческая и духовная парадигма, в
которой Церковь осмысляет сегодня события революций и войн
первой половины XX века. Память о годах большого террора,
памятование новомучеников обращает нашего современника к
покаянию. В опыте покаяния формируется христиан-ская
идентичность, выражающаяся в концептах принятия и
причастности. Перед лицом исторических трагедий XX века
подвижническое стояние тра-диционно в причастности чрез
Любовь Христову воспринимает в себя жизнь всего человечества.
Исторические условия жизни
народа становятся
обстоятельствами труда подвижнического и обстоянием внутреннего
306
пути, выраже-нием которого в начале XX века стало стояние за
веру, новомученичество и исповедничество.
Особенность внутреннего пути христианина во времена
гонений века XX
в том, что подвижничество вошло в
повседневную жизнь, духовное мужество в противостоянии
гонениям стало каждодневным переживанием. В. Лосский
обращается к словам Св. И. Сирина о человеке во Христе,
который входит в самого себя, затворяется «во внутренней клети»
своего сердца, обретает там, в глубинах, начало восхождения, в
котором
мир
будет все более
и
более соединенным,
пронизанным духовными силами. Духовная сила, обретенная во
внутреннем пути и обращаемая к миру в служении стала
содержательной
характеристикой
русского
православного
подвижничества.
Период конца XIX - начала XX века известен духовным
учительством Оптинских старцев, о. Серафима Саровского, о.
Иоанна Кронштадского, тре-вожными пророчествами старцев о
судьбе России. Окормление паствы, мно-гочисленное общение с
мирянами давало старцам опыт и знания челове-ческих душ,
понимание социальных процессов народной среды и государства. Говоря о характере пророчества старцев, надо отметить
апокалиптичес-кие и покаянные мотивы. Так в рукописи
«Летописи
Серафимо-Дивеев-ского монастыря» сказано о
пророчествах отца Серафима: «Страшное время идет на Россию,
- я молил Господа отвести страшную беду, но Господь не
услышал убогого Серафима». Пророчествовал отец Серафим и
о событиях грядущей гражданской войны, всеобщего голода и о
Великой Отечественной войне: «О, радость моя, какое горе
постигнет Россию за ее грехи, какое вели-кое горе! А смертностьто какая великая будет в России! Ангелы не будут по-спевать душ
человеческих возносить на небо! О, радость моя, горе великое
покроет Россию!»
Страх мирской приходит к человеку, во грехе потерявшему
Страх Божий. Концепт греха - основной концепт пророчеств,
тема которых наказание за грех. О покаянии говорит в своих
пророчествах о.И. Кронштадский. «Если не будет покаяния у
русского народа, конец мира близок. Бог… пошлет бич в лице
307
нечестивых, жестоких, самозванных правителей, которые
зальют всю землю кровью и слезами.»
К кому были обращены слова старцев, о чем предупреждали? В
частности, о таких опасных явлениях политической жизни
России, разрушающих общество и государство, как нигилизм,
возникший в середине XIX века, и его закономерном последствии
терроризме. Это идеи nigilo, имеющие в основе атеистические
представления, и террор, из индивидуального ставший массовым, форма насилия,
обслуживающего государственную
машину револю-ции. Социальный хаос, тоталитаризм стали
результатом
именно этих,
пред-ставленных
выше идей.
Нигилист- человек, принимающий волю к власти вне Бога как
высшую ценность, нигилизм - забвение бытия, поглощающее
личность. «Убивать – этим словом наименовано событие, в
котором сущее становится иным в своем бытии. В этом иным
становится и человек, и преж-де всего человек. Вместе со
смертью Бога происходит нечто более жуткое, и сущность этой
жути мы еще даже не начали толком обдумывать». Понятия о
полном отрицании в нигилизме связаны с понятием о смерти,
небытии. Ни-гилизм становится базой для террористических
идей, когда жажда духов-ного превосходства рождает жажду
смерти человека как врага. В этом смысл терроризма.
Распространение нигилизма в России подготовило почву для
обострения
общественно-политической
ситуации
перед
событиями 1905 года. Именно с этого периода в мироощущении
русского
человека явственно прослежива-ется чувство
«гражданской войны», которое есть не только признак природы
человека, поврежденной грехом, но и показатель уровня
секуляризации куль-туры в современном мире. Нигилизм
возникает на почве отступления от веры, когда душа стремится
избегать покаяния. Это состояние вне покаяния становится как
онтологической (относительно секулярного сознания, центрированного Я), так и психологической характеристикой русских
нигилистов. Отсюда тревожные провидения старцев, призывавших
к покаянию как спо-собу преодоления рабства страстей,
обуявших человека. Только покаяние возвращает спасительность
Богообщения, делает человека вновь рабом Божиим, отвращая
308
от рабства греху как причастности смерти, ничто. Опас-ность
нигилизма обнаруживал внимательный взгляд Церкви. «Наша
Церковь всегда порождала святых…и во времена, казавшиеся
современникам почти бесплодными, каков был XIX век. Уже
тогда дальновидные умы, наблюдая совершающийся подрыв
православной веры во всех сословиях, ожидали «последствий
беспримерных», «по беспримерности характера народа»,пишет
Св.Игнатий (Брянчанинов). Именно самопревосхождение в
подвиге способ-но противостоять нигилизму, когда сила
Откровения восполняет пустоту ничтожествования.
На события революции 1917 года и вскоре начавшиеся
гонения церковь отвечала подвигом, подвижничеством, которое
стало уделом не единиц, но многих. Политика государства была
направлена на планомерное искорене-ние веры и религиозной
жизни народа.
Реквизиция
имущества, закрытие церквей,
насилия, чинимые над духовенством, расстрелы крестных
ходов, ликвидация
монастырей,
изъятие
ценностей,
антирелигиозная агитация
и пропаганда, вскрытие
мощей,
святотатство, организация раскола - вот те приемы и методы,
которые применялись в ходе реализации антирелигиозной
деятельности. Грубость и варварство при закрытии монастырей
было обыч-ным делом, часто при этом уничтожались
монастырские святыни. Так мона-хиня Серафима (Булгакова)
вспоминала о закрытии Саровской
пустыни: «Сгребли
святыни: Чудотворную икону Живоносного Источника, гроб-колоду, в котором лежал 70 лет в земле Батюшка Серафим,
кипарисовый гроб, в котором находились мощи, и другое. Все
это сложили, устроили костер и зажгли». В 1918-1920 гг. в 14
губерниях Советской России были вскрыты 63 раки с мощами. В
ноябре 1920 года на IX уездном съезде Советов было при-нято
решение о вскрытии раки с мощами св. Серафима Саровского.
Обыч-ным становится организация театров в помещениях церквей.
Протоиерей С. Лавров пишет в дневнике: « При открытии театра
один из представителей власти говорил, что вместо церквинародного обмана, будем давать сцени-ческое искусство, вместо
гнусавого чтения дьячка будут петь артисты» . Социализм -это
не что иное, как попытка занять идеей место Бога. Идея дол-жна
309
быть конкретизирована в практиках. Большевизм заменяет
церковь теат-ром, демонстрациями и митингами, святых –
героями, духовное рождение в Крещении социальным рождением
в партии, комсомоле, поклонение мощам посещением мавзолея.
Так создавался новый человек, - пишет Н. Ростова. Внешние
обстоятельства революционного богоборчества с 1918 года предельно противостояли как религиозности русского человека, так
и подвиж-ническому
деланию.
Русское
православное
подвижничество вновь, как и всегда во время
испытаний
вставало на внутренний путь. В истории оста-нутся имена тысяч
мучеников - епископов
Церкви,
старчество
Серафима
Вырицкого, покаяльная семья о.А.Мечева, юродство еп.Варнавы
(В.Беляева).
А в России вместе с пропагандистскими подменами
происходил разгул насилия, аресты и репрессии причта и
прихожан, ставшие к 30-ым годам частью политики большого
террора. Происходила идеализация и героизация террора. Ответ
церкви на гонения и тиранию - подвиг мученичества. Уже
в
апреле 1918 года определением Собора было установлено
«возношение в храмах особых прошений о гонимых ныне за
православную веру и церковь и о скончавших жизнь свою
исповедниках, мучениках.»В данном случае важна для понимания
внутреннего пути подвижничества мысль Флоренского о
том, что настоящее, целостное мученичество - это явление
внутреннее, обо-сновывающееся
идеей о Вечной жизни.
Мученичество становится свиде-тельством
совести, опытом
страдания и смерти, переживаемый внутренне «open to the life on
interiority».
Нигилизм, составляющий
базовую
основу
идеологии
правящей партии, продолжал свое разрушительное действие.
Человек верующий должен чувст-вовать себя лишним в новом
обществе, лишенным права, десятки тысяч ста-новились так
называемыми лишенцами. За веру приговоренные к расстрелу,
сосланные в каторгу ГУЛАГа, люди оказывались в ситуации, где
все постро-ено на лишении человека достоинства. В этом
подвиг лагерного стояния, восходящий к древней традиции
столпничества. Подвиг столпничества- это попытка укрепления
310
в спасительной
правде, утверждения
«места» - топоса
обретения
надежды, пронзительное выпрямление вертикали
духов-ного
самопревосхождения.
Архимандрит С.Сахаров
отмечает это состоя-ние как «contemplation- union» - актуальное
созерцание- соединение в духов-ном акте любви. Лагерное
стояние за веру стало подвигом перед попытками уничтожения
личности. Опыт подвижничества показывает, что противостоит нигилизму евхаристическое сознание, пустоте отрицания евхаристи-ческая жертва, основа мироощущения верующего
человека, открывающая переспективу Спасения. В истории
остались свидетельства лагерных литур-гий, служившихся среди
лесов на Соловках, в тюремных камерах, тексты на-писанных в
ГУЛАГе молитв. Тайные службы проводились по всей России,
сохранялись монашеские общины. Ибо евхаристическому
сознанию присуще литургическое видение. Leitourgia «общее
дело» всех христиан - сообщает свои характеристики и практике
подвижнического служения. В
основе
под-вижнического
служения Богообщение в сердечном расположении чистого
сердца. Блаженны, где бы они не были: на войне, среди
страданий, голода, гонимые и униженные. Евхаристическая
парадигма выстраивает
вектор
ста-новления традиции
подвижничества от переживания евхаристии
общиной к
соборности Церкви, от жертвы одного за многих к общему в
едином. Уни-кальность русского церковного служения в годы
революций и войн XXвека в ощущении сродненности священства
со своей страной, со своим народом, с русской культурой,
отрицание эмиграции как спасения, оставления паствы. Сопричастность, со-работничество, со-трудничество стало частью
русской
православной
картины
мира.
Евхаристический
контекст становится глав-ным для русского подвижничества в
период испытаний XX века, внутрен-ний путь которого стал
опытом мученичества, внутренним опытом стра-дания, смерти,
со-распятия в преодолении нигилистического падения.
311
Ольга Анатольевна Рашитова
Церковная жизнь Ямбургского уезда Санкт-Петербургской
епархии после революции 1917 года
К 1917 в Санкт-Петербургской Епархии насчитывалось 790
церквей при 1700 священниках. В Ямбургском уезде имелось 30
церквей, две из которых были городскими: это Екатерининский
собор и кладбищенский Скорбященский храм. Приходская жизнь
проходила размеренно и спокойно. Священники занимались не
только Богослужениями и исполнениями треб, но и
просветительством.
Так в церкви Архангела Михаила в с. Удосолово при храме была
огромная библиотека, собранная священником Фальковским.
После 1917 года религиозные книги сожгли, а оставшиеся
составили первый книжный фонд удосоловской избы-читальни.
В селе Вруда, Ямбургского уезда, служил 23 года отец Алексий
Медведков. Приход был бедный, но получал дотацию от
правительства на содержание священника и псаломщика. Мать о.
Алексея поселилась при сыне и занималась просфорами. Чтобы
обеспечить семью о. Алексей сам обрабатывал землю, пахал, сеял
пшеницу. Скромный сельский пастырь ревностно исполнял свои
священнические обязанности. Приход окормлял 13 маленьких
деревень, насчитывалось 1500 прихожан. Отец Алексей
преподавал Закон Божий в нескольких сельских школах, заказывал
книги, проводил с народом чтения святоотеческой и житийной
литературы; он не жалел сил, чтобы по-христиански воспитать
свою паству, проводя иногда целые ночи над составлением
проповедей. От своего скромного достатка о. Алексей уделял на
помощь бедным, устраивал дома для престарелых, не оставляя
стариков пастырским окормлением. Он любил своих чад
духовных, и все его прихожане отвечали ему любовью и
уважением. За ревность к службе и послушание правящему
архиерею он не раз получал церковные награды, а в 1916 году
удостоился сана протоиерея.
И так было во многих церквах благочиния. Все изменилось с
приходом к власти большевиков.
312
В 1917 году, о. Алексея Медведкова из села Вруда посадили в
тюрьму, Господь сподобил его венца исповеднического.
Безбожники надели на него тяжелые вериги, издевались, били
нагайками, переломали ему руки и ноги, приговорили его к
смертной казни. Он все терпел кротко. Старшая дочь о. Алексея
отдала себя в заложницы, и его выпустили. Но след от нагайки
остался на всю его жизнь: ему повредили лицевой нерв, правый
глаз открывался больше, чем левый. О. Алексей бежал с семьей в
Эстонию, в Кохтла-Ярве, где зарабатывал на жизнь тяжелым
физическим трудом в шахтах.
Одним из направлений политики Советского государства после
Октябрьской революции становится атеизм, являясь составной
частью коммунистического мировоззрения. Цель создания
атеистического государства планомерно достигалась всеми
возможными способами вплоть до начала Великой Отечественной
войны. Большевики считали Православную церковь одним из
главных врагов революции и социализма. С первых месяцев
существования Советской власти РПЦ стала подвергаться
жесточайшим гонениям.
Согласно декрету Совета Народных Комиссаров 1918 г. «Об
отделении церкви от государства и школы от церкви» была
ликвидирована материальная база церкви: все имущество и
капиталовложения стали общенародным достоянием. Религия
объявлялась частным делом граждан, религиозная присяга
изымалась из государственного употребления, церковный брак
утрачивал юридическую силу. Одновременно в стране была
развернута широкая антирелигиозная и антицерковная пропаганда.
Патриарх Тихон в послании от 19 января 1918 г. предал власть
большевиков анафеме и призвал не вступать с ними в контакт. Он
призывал паству мужественно сносить испытания, не впадать в
уныние, не взывать о помощи, а самим укреплять свое стадо и
ограждать его от развращения и погибели.
Революционные события, охватившие Россию, затронули и
уездный Ямбург. Вместе с ломкой политической системы
началось глобальные перераспределение имущества, в том числе и
церковного. Ямбургский уездный Совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов разрешил православной общине
313
пользоваться Екатериненским собором и Скорбященской
церковью на кладбище. Для удержания за собой двух церковных
зданий в 1918 году верующие перерегистрировали два церковных
прихода и выбрали две церковные двадцатки . Из-за отсутствия в
Скорбященском храме духовенства прихожане церкви духовно
окормлялись в городском соборе. Службы велись не более раза в
месяц, проводились только поминальные службы и отпевания.
У стен кладбищенского храма Скорбященской церкви в 1919-м
приняли мученическую смерть пленные добровольцы СевероЗападной армии генерала Н. Н. Юденича. а кол были посажены все
захваченные в плен на Нарвском фронте пленные офицеры и
солдаты. Ника¬кое перо не способно описать мучения
страдальцев, ко¬торые умирали не сразу, а спустя несколько
часов, из¬виваясь от нестерпимой боли. Некоторые мучились даже
более суток. Трупы этих великомучеников являли со¬бой
потрясающее зрелище: почти у всех глаза вышли из орбит...
В исторической части города Кингисеппа (бывшего Ямбурга)
расположен архитектурный комплекс - здания казарм и манежа
146-го Царицынского полка. В свое время в восточной части
манежа располагал храм св. вмч. Георгия Победоносца. В церкви
находились памятные доски с именами погибших в РусскоЯпонскую войну солдат и офицеров Царицынского полка,
хранились полковые реликвии и знамена. В первые месяцы 1918
года был расформирован 146-й Царицынский полк, а полковая
церковь оказалась первым ямбургским храмом, разоренным
организацией «Воинствующие безбожники».
В апреле 1918 года Ямбургский исполнительный комитет выслал
бумагу на имя настоятеля екатерининского собора протоиерея
Михаила Ветроградского. В ней содержалось требование
освободить здание полковой церкви от культовых предметов и
сообщалось о намерении использовать помещение храма под
культурно-просветительские цели. ... Священника предупредили:
если помещение не будет освобождено от церковного имущества
силами верующих, то власти самостоятельно очистят его в
ближайшее время .
28 мая 1918 г. началась разборке храма, 26 после молебна
Великомученику Георгию начался крестный ход с переносом
314
престола полковой церкви, икон, хоругвей в часовню деревни
Большой Луцк. Имеются свидетельства, что крестный ход с
переносом образов был освистан и оплеван поборниками новой
власти и новых порядков. Но и этого показалось мало
торжествующим святотатцам: они разрушили сень над
источником, а сам источник вывели в канаву с нечистотами.
С 1918 - 1920 г.г. помещение полковой церкви занимал "Советский
театр", а в манеже разместилась казарма Нарбата (народного
батальона). По указу уездного исполкома, с 14 сентября 1920 г. в
бывшем Георгиевском храме расположился клуб им. Карла
Маркса, а в здании манежа с 1923 г. регулярно устраивались
сельскохозяйственные выставки.
С 1918 года началось расхищение церковного добра.
Экспроприация (откровенный грабеж, узаконенный новой
властью) изымала в числе прочего и культовые произведения
искусства. Как свидетельствуют архивные акты об изъятии
церковных ценностей за 1919 год, золотой оклад, снятый с образа
Скорбященской Богородицы, был «получен из церкви города
Ямбурга с пятнадцатью сереброзлащенными сосудами для
церковных нужд». Членами комиссии Наркомпроса по делам
искусств во главе с Яковом Комшиловым эти предметы были
доставлены в Петроград в качестве лома драгоценных металлов и
предназначались для продажи через сети Торгсина (торговли с
иностранцами) .
С приходом в город войск армии Юденича церковная жизнь
оживилась. В Ямбургском соборе Св. Великомученицы Екатерины
летом и осенью 1919 года молился генерал Н.Н. Юденич, генерал
А.П. Родзянко и другие высшие чины СЗА.
«Все тела погибших на фронте или скончавшихся в полевом
лазарете белых воинов доставлялись поездом из прифронтовой
полосы в Ямбург, встречались на вокзале духовенством, почётным
взводом и в сопровождении воинского оркестра при стечении
множества горожан перевозились на городское православное
кладбище. В сослужении трёх священников и диакона отпевание
совершалось в прикладбищенской церкви Святого Петра
митрополита (обиходно храм во имя Скорбященской Божией
315
Матери), где тела предавались земле с отданием воинских
почестей.
Очевидец похорон вспоминал: «Кладбище было недалеко от
нашей школы, и раза два мы попали на похороны офицеров в
кладбищенской церкви. <…> Хоронили привезенных с фронта
убитых офицеров, шествие шло под звуки похоронного марша.
Около могилы после отпевания, после винтовочного салюта,
последнего приветствия <…> исполнялся “Коль славен наш
Господь в Сионе” – неофициальный гимн в таких церемониях
военной печали. Затем оттуда по традиции всех армий мира шли с
весёлыми маршами, старались притупить впечатление от гибели
молодых людей бойкими звуками, сулящими торжество победы.
На меня всегда производило сильное впечатление, как везли на
катафалках, а потом несли на руках гробы, где на верхней доске
привязаны были офицерские фуражки с романовскими кокардами»
На сегодняшний день выявлены сведения на восемь офицеров и
двенадцать нижних чинов, погребенных в июне-июле 1919 г. на
старом Ямбургском кладбище. Могилы их не сохранились .
С отходом Белой армии начинается разгул воинствующего
безбожия. Были изъяты все книги из церквей, касающиеся записей
гражданского состояния за последние 25 лет. Священники
лишились права выдавать выписки из книг. Была произведена
перепись всего церковного имущества, которое вскоре будет
разграблено или уйдет на переработку: гонители церкви не были
способны оценить их духовную и культурную ценность.
Все 30-е годы продолжают закрываться храмы. В 1939 году в
Ямбургском благочинии был закрыт последний православный
храм. На всю Ленинградскую епархию к 1941 году уцелел лишь 21
православный храм.
К 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь
«Умереть на молитве – это высшее счастье для христианина»
«Кого расстреливать первым – Тебя или сыновей?» О
непостижимых подвигах и мученичестве пресвитера Философа
Орнатского
316
В августе 1918 года оборвалась земная жизнь выдающегося
церковного деятеля, настоятеля Казанского собора в Петрограде,
протоиерея Философа Николаевича Орнатского. Вместе с ним
приняли мученическую кончину его сыновья – герои Первой
мировой войны, удостоенные многих боевых наград – Борис и
Николай – русские офицер-артиллерист и военврач.
По неизреченной милости Божией мне довелось готовить
материалы к канонизации и писать жития этих славных сынов
Земли Русской. В процессе исследований в архивных и
библиотечных фондах, встреч с потомками Орнатских удалось
открыть многие поразительные факты из жизни отца Философа.
Прежде всего, это сведения о его непостижимых подвигах,
которые можно было совершить только с помощью
всеукрепляющей благодати Божией.
В начале 2000 года была впервые издана моя книга «Крестом
отверзается Небо. Жизнь и подвиги новомученика протоиерея
Философа Орнатского», основанная на собранных материалах и
свидетельствах родственников этого дивного пастыря. На
основании этих исторически достоверных и точных сведений
Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
2000-го года принял решение о прославлении для общецерковного
почитания
протоиерея
Философа
Орнатского
в
лике
священномучеников, а иже с ним убиенных чад Николая и Бориса
– в лике мучеников.
Величие подвигов отца Философа воистину превышает всякое
воображение. Они поражают обилием дел, совершенных во имя
любви ко Господу и к ближним. «Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Флп. 4, 13), – вспоминаются здесь слова святого
апостола Павла.
Ближайший ученик и соработник святого праведного Иоанна
Кронштадтского, в течение 26 лет возглавлявший Общество
религиозно-нравственного просвещения в духе Православной
Церкви и деятельный участник ряда других Всероссийских
православных братств; член Синодальной комиссии по выработке
правил для наблюдения за выходящими в свет произведениями
духовной литературы; редактор и духовный цензор шести
317
многостраничных православных журналов; издатель, стараниями
которого были изданы многие миллионы (!) душеполезных книг и
брошюр; блестящий проповедник и прекрасный оратор, которого
по праву называли Златоустом своего времени и всероссийским
церковным витией – его слова и поучения – подлинный кладезь
духовной мудрости, пронизанной светом и любовью; богословмолитвенник и духовный наставник ряда студентов СанктПетербургской духовной академии, впоследствии – выдающихся
архипастырей Русской Православной Церкви, в том числе,
прославленных во святых; депутат Санкт-Петербургской
Городской Думы от духовного ведомства, возглавлявший
комиссию
по
народному
образованию;
благотворитель,
стараниями которого был обустроен ряд ночлежных домов,
безплатных столовых, школ и приютов для детей-сирот, больниц
для неимущих и богаделен для престарелых; храмоздатель,
построивший в Петербурге и его окрестностях 12 благолепных
храмов, но при этом подрабатывавший частными уроками Закона
Божия в разных концах Санкт-Петербурга для поддержания жизни
собственной многодетной семьи (все перечисленные выше
послушания протоиерей Философ исполнял безвозмездно!)
Светлейшей души и чистейшего сердца человек – удивительный
духовный врач, исцелявший скорби и недуги многих тысяч
верующих в течение нескольких десятилетий. Только Единому
Господу известно, каких духовных сил и физических трудов
стоило батюшке Философу совмещение всех его ответственных
послушаний с напряженной пастырской деятельностью!
Он был первым духовным наставником митрополитов:
священномученика
Вениамина
(Казанского), митрополита
Петроградского; Алеутского и Сан-Францисского Вениамина
(Федченкова), экзарха Русской Православной Церкви в США;
Японского Сергия (Тихомирова); Ленинградского Григория
(Чукова); Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича);
архиепископов: святителя Серафима (Соболева) Богучарского
чудотворца; Полтавского и Переяславского Феофана (Быстрова),
духовника Царской Семьи; Казанского и Свияжского Венедикта
(Плотникова); священномучеников, епископов: Ревельского
Платона (Кульбуша) и Сарапульского Амвросия (Гудко);
318
протопресвитера военного и морского духовенства Георгия
Шавельского и других выдающихся церковных деятелей.
Отдавший в годы Первой мировой войны свой дом под лазарет для
раненых воинов, протоиерей Философ постоянно выезжал для
совершения богослужений в районы боевых действий на самые
передовые рубежи русской армии с многочисленными подарками
для доблестных защитников Отечества. Огромной была народная
любовь к этому безкорыстному служителю на ниве Христовой.
Великий исповедник Православия, отец Философ одним из первых
встал на защиту Александро-Невской Лавры при попытке захвата
ее богоборцами в январе 1918 года. Крестный ход по Невскому
проспекту в защиту главной обители Петрограда, состоявшийся по
призыву батюшки, собрал около полумиллиона верующих. Так
удалось отстоять эту дивную святыню северной столицы.
Протоиерей Философ вызывал у богоборцев лютую ненависть и
страх. Участь его была предрешена в рамках начинавшегося
«красного террора»...
На заседании Всероссийского Поместного Собора 24 января 1918
года в Москве отец Философ призвал всех верных чад Русской
Православной Церкви встать на защиту Ее святынь: «Пора сказать,
что разбойники взяли власть и управляют нами. Мы терпели, но
терпеть далее невозможно, потому что затронуто Святое Святых
русской души – Святая Церковь... На сознательное мученичество
идти не следует, но если нам нужно пострадать и даже умереть за
правду, это надо будет сделать.
Крестные ходы докажут всем, что верующий народ объединяется.
Духовенству надо проповедовать народу не по праздникам только,
а всегда и везде, где можно. Все должны говорить, что необходимо
защищать святую веру, надо кричать об этом в трамваях,
кинематографах, на железных дорогах…»
Неутомимый борец за истину Христову открыто обличал
большевистскую власть с амвонов и трибун вплоть до своего
ареста. Во время визита в Петроград Святейшего Патриарха
Тихона на богослужении в Казанском соборе в День Вознесения
Господня 13 июля 1918 года протоиерей Философ сказал другие
знаменательные слова: «Пусть же очнутся наконец безбожники и
богохульники наших дней, посягающие на Святую веру и Церковь,
319
воры и грабители, раздирающие Родину и расхищающие народное
достояние, пусть проснутся теплохладные и встанут на защиту
родных святынь, пора и всем нам объединяться для пробуждения в
народе древлерусского благочестия».
На следующий день, во время встречи Патриарха с участниками
Общества
распространения
религиозно-нравственного
просвещения в духе Православной Церкви батюшка вновь
выступил с речью против представителей богоборческого режима:
«Не на словах только, не в повременной печати, но декретами
правительства, претендующими на силу закона, святая вера и
Церковь Православная признаются отжившими свой век
учреждениями и на место вечных начал христианской жизни
провозглашаются и поставляются начала социализма, имеющего
перестроить жизнь по-новому.
Мы не скрываем своего отношения к социализму и с церковной
кафедры открыто проповедуем, что это есть идейно-обоснованный
голый грабеж. Социализм враждебен христианству, он не признает
Неба и хочет устроить рай на земле. Мы знаем по опыту, во что
обращаются в социалистическом государстве украденные из
христианства святые начала: свобода, равенство и братство. Ныне
больше, чем когда-либо, и в России больше, чем где-либо, ясно,
что только на основах подлинного христианства возможно вернуть
народу порядок для продолжения спокойной жизни, имеющей
конечной целью спасение во Христе».
А вскоре Господь украсил сего ревнителя правды Божией
мученическим венцом. Отцу Философу было всего 58 лет...
Согласно ряду свидетельств, место массовых расстрелов активных
противников кровавого режима в 1918-1919 годах находилось в
районе Стрельны, на южном берегу Финского залива, западнее
поселка Лигово по дороге на Петергоф.
Это был далеко уходивший в море бетонный мол, служивший
защитой и пристанью для судов расположенного там яхт-клуба. С
оконечности этого мола тела убиенных палачи-красноармейцы
сбрасывали в водную глубину...
Известен рассказ сторожа дамбы на Финском заливе, который в
день расстрела до поздней ночи справлял свои именины. Веселье
было нарушено шумом двигателя подъехавшего грузового
320
автомобиля, выгрузкой людей, погребальным молитвенным
пением и выстрелами. Собравшиеся у сторожа слышали и
отчетливо произнесенную фамилию «Орнатский»...
Дошло до нас и свидетельство водителя (лично знавшего отца
Философа), который по приказу чекистов перевозил арестованных
из ЧК с Гороховой, 2 к месту казни: начальник расстрельной
команды спросил отца Философа: «Кого расстреливать первым –
Тебя или сыновей?» Батюшка ответил: «Сыновей», – и стал читать
молитвы на исход души...
Имеется несколько версий рассказов о том, как принял отец
Философ мученическую кончину. Для всех рассказов характерна
одна общая деталь – подвижник встретил земную смерть, стоя на
коленях и совершая молитву. Вместе с отцом Философом и его
сыновьями Николаем и Борисом было тогда расстреляно еще 30
петроградских офицеров, верных Царю и Отечеству.
По пути к месту расстрела батюшка являл собою образец
полнейшей невозмутимости и с несказанной духовной
умиротворенностью
утешал
и
укреплял
взволнованных
сомучеников.
Перед началом казни отец Философ кротко произнес: «Ничего, ко
Господу идем. Вот, примите мое пастырское благословение и
послушайте святые молитвы». И, став на колени, начал
спокойным, ровным голосом читать отходную...
В 1903 году в Сарове отец Философ, бывший главным оратором на
торжествах по прославлению великого угодника Божия Серафима
Саровского чудотворца, в присутствии Августейшей Семьи в
Поучении о праведной кончине преподобного Серафима произнес
удивительные слова: «Какая чудная, блаженная кончина, – венец
праведной подвижнической жизни! Умереть на молитве – это
высшее счастье для христианина. На молитве человек, становясь
лицем к лицу с Невидимым Богом, переживает все святые
чувствования, изливает пред Ним всю свою душу, предает всего
себя в руки Его. Смерть на молитве, освобождая дух человека от
уз плоти, возвращает его в родную стихию блаженства вечного в
лицезрении Божества, что составляет счастье и самой молитвы.
Умирающий на молитве находит то, чего искал, к чему пламенно
стремился. Так, с молитвою на устах умер на Кресте Господь наш
321
Иисус Христос, с молитвою же за врагов своих умер и святой
Стефан первомученик и многие другие праведники. Да не лишит и
нас, братие, Господь Бог этого счастья!» Эти слова протоиерея
Философа Орнатского оказались по отношению к нему самому
поистине пророческими.
Святый священномучениче, отче Философе, святые мученики
Борисе и Николае молите Бога о нас!
Дни памяти батюшки и его сыновей: 1) 31 мая/13 июня – в день
тезоименитства отца Философа; 2) В Соборе новомучеников и
исповедников Церкви Русской (25 января старого стиля при
совпадении этого числа с воскресным днем, в ином случае – день
указывается в церковном календаре); 3) В Соборе СанктПетербургских святых (Неделя 3-я по Пятидесятнице).
Валерий Павлович Филимонов, русский писатель-агиограф,
автор жития священномученика пресвитера Петроградского
Философа Орнатского и иже с ним убиенных чад Бориса и
Николая
Секция 4
ОКТЯБРЬСКАЯ
ИСКУССТВЕ
РЕЗОЛЮЦИЯ
В
КУЛЬТУРЕ
И
Иванов И.А.
РЕВОЛЮЦИЯ И «УТЕЧКА УМОВ»: АМЕРИКАНСКИЙ
ВИЗАНТОЛОГ А. А. ВАСИЛЬЕВ (1867–1953). К 150-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.
Слово «революция» означает «движение вспять», и это
движение зачастую отбрасывает культуру и цивилизацию на
322
несколько ступеней назад. Горькими плодами Октябрьского
переворота стали: насильственная идеологическая трансформация
свободной научной мысли, уничтожение и изгнание ученых из
Советской России. Кто-то вынужден был эмигрировать сам. Этой
отторгнутой плеяде русских ученых принадлежит и А. А.
Васильев.
Александр Александрович Васильев (1867–1953) родился
22 сентября 1867 года в С.-Петербурге в семье подполковника
армии
Александра
Степановича
Васильева
и
Ольги
Александровны (урожденной в купеческой семье Челпановых. В
1880 году Александр Васильев поступил во второй класс Первой
классической гимназии. Учился он блестяще, был первым
учеником в классе, в 1887 году он окончил гимназию с золотой
медалью и сразу поступил на 1-й курс историко-филологического
факультета Санкт-Петербургского Императорского университета,
но уже через две недели перешел на курс восточного факультета
по арабскому отделению и начал заниматься арабским языком у
барона В. Р. Розена, а во втором полугодии также персидским у В.
А. Жуковского. В конце первого года своего студенчества
Васильев решил перейти обратно на историко-филологический
факультет. Арабский и персидский языки он продолжал изучать в
качестве вольнослушателя. Согласно плану занятий на историкофилологическом факультете университета первые два курса были
посвящены общей подготовке. С третьего курса начиналась
специализация – нужно было выбрать одно из четырех отделений:
323
1) классическое, 2) историческое, 3) словесное или 4) романогерманское [1, C. 2].
Вот, что пишет сам А.А. Васильев о своем вхождении в
византиноведение: «Мое знакомство с Васильевским произошло
случайно и при несколько необычных для ученого мира условиях.
Весной 1890 года я переходил на третий курс ИсторикоФилологического Факультета Петербургского Университета. По
правилам того времени я должен был избрать для себя на третьем
курсе одну из четырех специальностей: науки классической
древности,
историю,
западноевропейскую
русскую
литературу
литературу.
Я
или,
наконец,
склонялся
сделаться
классиком и работать по греческой литературе у П. В. Никитина.
Но случай изменил все мои планы. Весной 1890 года профессор
турецкого языка В. Д. Смирнов давал бал для молодежи. На этом
балу были некоторые профессора Факультета Восточных Языков и
между ними арабист барон В. Р. Розен, у которого я в течение двух
лет
занимался
арабским
языком.
Аудитории
Восточного
Факультета были немногочисленны, и профессора хорошо знали
всех своих слушателей. Увидя меня, Розен спросил, что я
собираюсь делать в будущем году. Услышав от меня, что я,
вероятно, пойду на классическое отделение, он сказал: «Слушайте,
Васильев, Вы знаете греческий и арабский языки, сочетание не так
часто встречающееся – почему бы Вам не пойти на историческое
отделение с тем, чтобы заняться историей Византии. Пойдите от
моего имени к проф. В. Г. Васильевскому и посоветуйтесь с ним».
324
Приемный день у Васильевского был вечером в пятницу. В
ближайшую пятницу я отправился к нему. Жил он тогда в одной
из отдаленных линий Васильевского Острова, в скромной
квартире, во дворе. Застал я у него одного из его старых учеников
Степанова,
который
Отступником.
в
то
Встретил
время
работал
над
меня
Васильевский
Юлианом
очень
благожелательно. Несмотря на то, что у меня не было никакого
знания по истории Византии, кроме отрывочных и бессвязных
воспоминаний из гимназического учебника Иловайского, он
просил меня за лето прочесть знаменитое сочинение Гиббона и
осенью снова прийти к нему. Я так и сделал: летом прочел
Гиббона, осенью вернулся к нему, и с той поры наши отношения
продолжались до его смерти.
Во время моего студенчества в семинарии Васильевского
работали не только всеобщие историки. Моими сотоварищами в
нем были будущие известные русские историки А. Е. Пресняков,
Н. Павлов-Сильванский, И. И. Лаппо; историк церкви Б.
Мелиоранский; всеобщие историки Э. Д. Гримм, юный любимый
ученик Васильевского Б. А. Панченко и я. С нами работал также
болгарин В. Н. Златарский, написавший под руководством
Васильевского свое известное исследование о письмах патриapxa
Николая Мистика и ставший позднее виднейшим историком
Болгарии у себя на родине. До нас, известный русский историк С.
Ф. Платонов и медиевист И. М. Гревс также вышли из школы
Васильевского. Известная докторская диссертация арабиста В. Р.
325
Розена Император Василий Болгаробойца была написана под
непосредственным влиянием работ Васильевского» [2, C. 208–
210].
После окончания университета в 1892 А.А. Васильев
получил место преподавателя латинского языка в той же Первой
С.-Петербургской гимназии, в которой сам учился. Начиная с 1893
года, он регулярно печатался в Журнале Министерства Народного
Просвещения и в Византийском временнике. По настоянию
ректора СПб. Университета П.В. Никитина он подал прошение о
подготовке
к
профессорскому
званию
и
заграничной
командировке, и в 1897-1900 гг. был командирован в Париж в
качестве стипендиата С.-Петербургского университета, также он
был
стажером
Русского
археологического
института
в
Константинополе (1899). В 1902 г. вместе с Н. Я. Марром он
посетил монастырь вмц. Екатерины на Синае, изучая арабские и
греческие рукописи.
В 1901 году А.А. Васильев защитил свою магистерскую
диссертацию (Византия и Арабы, т. I), а в 1902 г. — докторскую
(Византия и Арабы, т. II). В 1902–1904 годах он преподавал
историю в первой Гимназии, а в 1904 году был избран сначала
профессором Юрьевского (Тартуского) университета (1904–1912),
а затем стал приват-доцентом (1912–1917) и экстраординарным
профессором (1917–1925) Петроградского университета. Кроме
того, в 1912–1922 гг. А. А. Васильев был профессором и деканом
историко-филологического факультета Петербургского (затем —
326
Петроградского) педагогического института. Также А. А. Васильев
работал в РАИМК-ГАИМК, где с 1919 г. занимал должность
заведующего
разрядом
археологии
и
искусства
Древнехристианского и византийского. В 1920–1925 гг. он был
уже председателем РАИМК. С 1919 г. А. А. Васильев был членомкорреспондентом Российской Академии наук.
Переломным в жизни А. А. Васильева стал 1925 г., когда
он поехал в официальную зарубежную командировку, не имея
специальной мысли эмигрировать из России. Однако несколько
встреч в Париже с М. И. Ростовцевым, известным русским
антиковедом, уехавшим из России вполне сознательно, решили
судьбу А. А. Васильева. М. И. Ростовцев еще в 1924 г. предложил
А. А. Васильеву содействие в получении места в Висконсинском
университете (Мадисон) в связи с тем, что сам М. И. Ростовцев
переезжал из Мадисона в Нью Хейвен.
Впрочем, в начале 1926 г. А.А. Васильев получает и другое
приглашение в Каирский университет, инициированное деканом
факультета
выдающимся
византинистом
А.
Грегуаром,
поддержанное королем Египта. Не отвергая его, А. А. Васильев
подает заявлений на замещение кафедры в Кингс Колледже
Лондонского
университета,
но
вскоре
отзывает
его
и
останавливает свой выбор на Америке [3, C. 3].
Одной из субъективно важных для А. А. Васильева причин
отъезда должно было быть желание сохранить за собой
возможность свободно перемещаться по миру как с целями
327
научными, так и с целями личными. Он не мог не понимать, что в
условиях СССР двадцатых-тридцатых годов такого ему никто
гарантировать не мог. Здесь нужно отметить, что постановлением
Общего собрания АН СССР от 2 июня 1925 г. А. А. Васильев был
исключен из АН СССР и восстановлен только посмертно, 22 марта
1990 года.
После первого года преподавания в Висконсинском
университете Александр Александрович получил там кафедру и
остался в Мадисоне. В 1935–36 учебном году, получив годовой
отпуск от Висконсинского Университета, он читал лекции в
Колумбийском Университете (Columbia University) в Нью-Йорке.
В
1934
году
А.А.
Васильев
участвовал
в
работе
IV
Византологического Съезда в Софии. В том же 1934 году он был
избран в члены Югославской Академии Наук, а в 1936 г. — в
члены
Американской
Академии
Средневековья
(Mediaeval
Academy of America) [1, C. 10].
В Америке большая часть жизни ученого была связана с
Мадисоном и Висконсинским университетом, где он проработал
до 1938 г., сначала временно, затем в штате. Оставив университет
по возрасту и уйдя на пенсию, А.А. Васильев успешно продолжал
свои исследования и в 1944 г. был приглашен в центр византиноведения
при
Гарвардском
(Dumbarton
Oaks)
в
университете
Вашингтоне
в
Дамбартон-Окс
качестве
старшего
исследователя (Senior Scholar), а в 1949 г. получил звание
почетного исследователя (Scholar Emeritus). Из его американских
328
учеников, ставших выдающимися византинистами, можно назвать
таких, как John S. Schneider, Hazel Ramsay и Peter Charanis. В
США Александр Александрович Васильев не случайно считается
основателем американской византинистики. Сердце ученого,
прожившего долгую жизнь, остановилось на следующий день
после 500-летней годовщины взятия османами Константинополя,
30 мая 1953 г. Он похоронен в Виргинии, в городке
Фредериксбург на кладбище конфедератов [4, C. 117].
В научном наследии А. А. Васильева особое место
занимают два сюжета, ставшие наиболее важными во всей его
долгой научной жизни. Это — византийско-арабские отношения и
цикл общих работ по истории Византии, охватывающий весь
период существования империи. Исходный русский текст работы
был опубликован в четырех томах между 1917 и 1925 гг. Наиболее
обработан первый том исходной русской версии издания —
Лекции по истории Византии. Том 1. Время до Крестовых походов
(до 1081 года) (Пг., 1917). Книга представляет собой краткое
изложение событий рассматриваемого периода, без примечаний, с
минимальной
литературой
вопроса
в
конце
глав,
с
хронологической и генеалогическими таблицами. Выводы в книге
почти отсутствуют, также, как и многие разделы, дописывавшиеся
А. А. Васильевым позднее. Принципиально иначе во всех
отношениях
выглядят
три
небольших
тома,
являющиеся
продолжением издания 1917 года, выпущенные в 1923–1925 гг.
издательством “Academia”: История Византии. Византия и
329
Крестоносцы. Эпоха Комнинов (1081-1185) и Ангелов (1185–1204)
(Пг., 1923); История Византии. Латинское владычество на
Востоке (Пг., 1923); История Византии. Падение Византии.
Эпоха Палеологов (1261–1453) (Л., 1925).
Основными же зарубежными изданиями работ А. А.
Васильева являются следующие три: первое американское —
History of the Byzantine Empire, vol. 1–2. (Madison, 1928–1929);
французское — Histoire de l’Empire Byzantin, vol. 1–2. (Paris, 1932);
второе американское издание — History of the Byzantine Empire,
324–1453 (Madison, 1952).
Уникальность трудов А. А. Васильева заключается среди
прочего в достаточно удачной попытке синтеза достижений
западноевропейской, американской и русской исторической науки.
Часть его русскоязычных трудов была переиздана в современной
России, часть была переведена на русский язык и нашла своего
русского читателя, часть (в основном, статьи) остается до сих пор
непереведенной с английского языка. Возможно, когда-нибудь всё
наследие А. А. Васильева вольется в русло русской науки и
культуры, как бы упразднив результаты «революционных»
гонений на русскую научную мысль.
Литература
1. Вернадский Г.В. А.А. Васильев // Annales de l’Institut
Кondakov. 1938. №10. С. 1–18.
2. Васильев А.А. Мои воспоминания о В.Г. Васильевском //
Annales de l’Institut Кondakov. 1940. № 10. С. 207–214.
330
3. Der Nersessian S. Alexander Alexandrovich Vasiliev.
Biography and Bibliography // Dumbarton Oaks Papers. 1956. Vol. 9–
10. P. 3–21.
5. Карпов С.П. Материалы А.А. Васильева в архиве
Dumbarton Oaks (Вашингтон) // Византийский Временник. 1999.
№58. С. 117–126.
Канышева О.А.
ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И
ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
«…(П)сихологически здоровыми, не
Поддающимися духовной и
Психологической деградации оказывались
Люди верующие, в отличие от людей идейных.
(…) Оказывается, для человека очень
важно мыслить вневременно, или
Н.А.
Бердяев
в
работе
«Русская
идея»
пишет
о
фундаментальности веры в поведении любого человека. Она
определяет
его
поведение
и
характер
и
связана
с
той
религиозностью, которая лежит в основе любой культуры. В
основе характера русского человека лежит православие как
принцип уже подсознательных ценностей, которые Н.А. Бердяев
331
называет русской идеей. Эта идея сопровождает духовное
развитие нации вплоть до Великой Октябрьской революции, и
сама революция является ее воплощением. Великая Октябрьская
революция воплотила идею русского человека о воплощении
Царства Божия на Земле, и сама имеет религиозный характер.
«В первооснове России лежит православная вера, в первооснове
Западной Европы лежит католическая вера» [5, с.75].
Русская православная культура раскрывает своим бытием
сущность
христианской
непосредственное
любви.
воплощение
Личность
любви.
Христа
«Любовь
-
есть
дар
божественный, совершенствующий человеческую природу, пока
она «не проявится в единстве и тождестве с Божественной
природой посредством благодати», как говорит св. Максим
Исповедник»» [5, с.236].
Путь Христа — это подвиг человека- Бога и человечества в
целом, который попирает родовые устои и преследует цель
рождения нового человека. Здесь максимой становится такая
добродетель, или такое качество, как Любовь. Она понимается в
пограничном
смысле
самоосуществления,
а
именно
как
непрестанное творчество жизни, которое предполагает реализацию
в мире. Ибо, что есть любовь в своей сущности? «Любовь,
понимаемая в последнем основании, есть мировая гармония,
космическая связь между человеком и божеством. Ее последнее
назначение есть восстановление разделенной природы человека,
воссоединение
разрозненного
332
человечества,
примирение
посюсторонней жизни с потусторонней, неба и земли, людей и
небожителей» [7, с.386].
Зло, само по себе, есть не что иное, как смертность и
ограниченность природы, таящаяся в нас, в нашей самости, где
запрятаны и наш предел, и наше бессмертие, или, говоря другими
словами, наша сущность. «Зло есть пристрастие к вещам,
проистекающее из неправильного суждения о вещах, или
неправильное употребление вещей вследствие непонимания их
подлинного назначения» [7, с.387].
Номинальный мир, или мир духовных сущностей, достигается
через
взаимопроникновение
«познающего
субъекта
с
воспринимаемым объектом» [7, с.389]. «Углубляющийся в
познание мира постигает лежащие в основе его идеи, его смысл,
его разум и через это познание приходит к познанию самого
Логоса» [7, с.389]. Через любовь к Богу, через интимнейшее
взаимопроникновение Бога и человека, последний узревает мир
духовный и, достижением внутреннего предела, обретает саму
Любовь. Она становится производной от Духа, его плодом, и
происходит следующее. «Человек объединяет все сущее по мере
восхождения его к Божеству, или обожения, и касается пяти
основных видов бытия» [7, с.389]. «Воссоединение этих видов
совершается в обратном порядке. Через бесстрастие человек
уничтожает разделение на полы, как не относящееся к идее
человеческого существа. Праведной жизнью он должен всю землю
превратить в рай, иначе – всегда имеет в самом себе рай и не
333
зависит от различия мест; силою знания он должен проникнуть в
небесные
сферы
чувственного
бытия,
уничтожить
пространственные расстояния, словом объединить в себе все
чувственное бытие; силою равноангельского гносиса он выступает
за
пределы
чувственного
бытия
в
области
мира
умопредставляемого; наконец, объединив в себе всю тварную
природу, человек предает себя Богу, чтобы Бог дал ему Себя
Самого и он сделался всем, что есть Бог, кроме тождества по
существу»[7,с.390]. Бытие сотворенное имеет божественную
природу, где достижение высот номинального мира есть тот
предел, который достигается в христианской любви через
реализацию божественного в нас. Природа любви в христианской
культуре жертвенная, или агапическая, по определению древних
греков. Ей можно дать общую характеристику:
1. Агапическая любовь — это та любовь, которую Бог дал
человеку после смерти Христа. Эта любовь коренится в
Боге. В своем рождении это дарящая, или жертвенная
любовь.
2. Жертвенная любовь есть любовь Бога, который
является субъектом этой любви.
3. Агапе – любовь, которая так же направлена на врагов и
в своем специфическом смысле является любовью для
врагов.
334
4. Агапическая любовь – бескорыстная любовь Бога к
человеку и человека к Богу, а через него к людям. Это
ее главная особенность [11, p.12].
Любовь к Богу выходит на первый план, в то время как
родовая организация жизни становится тенью, оттеняющей
совершенство жертвенного начала
в человеке.
«Верующее
сознание пользуется двойной мерой и весом, у него двоякие глаза,
двоякий язык и двоякая речь, оно удвоило все представления, не
сопоставляя этого двойного смысла. Или: вера живет в двоякого
рода восприятия, во 1-х, в восприятии спящего сознания,
живущего целиком в мыслях, не постигнутых в понятии; во 2-х, в
восприятии бодрствующего сознания, живущего целиком в
чувственной действительности, и в каждом из этих случаев вера
хозяйничает по-своему» [3, с.37].
Бог
необходим
человеку
для
восхождения
к
индивидуальному Первообразу, состоящему из триединства.
«Троица» А. Рублева показывает проект внутренней духовной
структуры человека, где есть чувствующая душа, волящая душа и
интеллектуальная душа, пребывающие в единстве.
Душа
обретает
субстанциальную
силу,
из
которой
проистекают корни идеализма. Из этой магической реальности
проистекают слова – тела, имена – энергемы, позволяющие
проникать в действительность: «зная имя, можно познавать вещь»
[8, с.58]. Библия считалась сакральной книгой, которую могли
читать только посвященные, избранные. «Имя вещи есть идея –
335
сила – субстанция - слово, устанавливающая для этой вещи
единство сущности в многообразии ее проявлений, сдерживающее
и формирующее само бытие вещи» [8, с.55].
«Магия»
-
вот
то
единственное
слово,
которое
решает
платоновский вопрос.
Понимать чужую душу – это значит перевоплощаться» [8, с.31].
Способность
к
перевоплощению
есть
божественный
дар
религиозной души, которая обладает целостной природой. Именно
это мы видим в «Божественной комедии» А. Данте, главным
источником его движения мысли и действий является «Любовь,
что движет солнце и светила» [4, с.478].
П. Флоренский считал, что средневековое сознание
оказалось ближе к мышлению ХХ века, чем механическая
идеология Ренессанса, что воплотилось в создании СССР как
воплощения единства церкви, государства и общества, где
государство приняло на себя функцию церкви.
Русская культура была и остается по своему духу религиозной
культурой. Возможно, в этом состоит ее загадка и тайна и
Тютчевское: «Умом Россию не понять…». Не удивительно, что в
ней бродят идеи о мессианской личности, с которой связана
личность Иисуса Христа, которые воплотились в мессианском
коммунизме. Н.А. Бердяев говорит о коммунисте, захваченного
идеей, как о подлинном христианине в работе «Истоки и смысл
русского коммунизма».
336
Существуют
русского
бытия,
незыблемые
которое
онтологические
издревле
основывалось
основания
на
трех
непонятных для здравого смысла истинах: веры, надежды, любви.
Человек в российской повседневности сталкивается ежедневно с
разными уровнями человеческой духовности и бездуховности
тоже. В душе каждого теплится надежда, что человек, с которым
соединяют нас обстоятельства, должен оставаться человеком.
Часто эта надежда оборачивается безнадежностью. Вера соединяет
близких по духу людей в семьи, в организации, политические
направления. Но невозможность до конца ее постичь, открывает
нам путь к отступлению в неверие, что рождает тему подвига.
Российское понимание любви отличается духовностью
через стремление к святости. Святость должна быть у мужчины и
у женщины, у ребенка и у любой отдельно взятой профессии. Эта
святость есть так называемый кодекс чести, написанный для
каждого, но существующий вне текста. Это витает в воздухе над и
около.
Святостью
пронизаны
система
образования,
через
складывающиеся отношения учителя – ученика, отношения в
семье муж – жена – дети; административные отношения:
начальник – подчиненный. Эта святость раскрывается между
людьми в душевности общения, которая соединяет их незримыми
духовными узами в единое целое. «Общество есть, т.о., больше,
чем единство, в смысле одинаковости жизни; оно есть единство и
общность в смысле объединенности, совместности жизни, ее
упорядоченности, как единого конкретного целого» [10, с.287].
337
Работа С. Л. Франка «Духовные основы общества» раскрывает это
широко и подробно.
Русский язык стремится скорее к символичности, чем к
логичности. Дух русского языка подчиняется законам живой
природы, а не логике статичного социума. Поэтому, поговорка:
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», - говорит нам о той
русской логике, которая повторяет логику чувства, сердца, души.
На этой логике основывается русская самобытная культура, где
высшими ценностями были и остаются: вера, надежда, любовь, как
скрижали, соединяющие нас друг с другом, с Богом и со всем
живым.
Парадигма русской православной культуры состоит в том,
что высшей ценностью в ней является душа человека, которая, при
этом, никогда не обнаруживала себя эмпирически.
Российская
культура
выстраивается
на
православии.
Конечно же, нрав древних русичей определял исход их выбора.
Ведь православие само по себе складывается не столько из
христианских
канонов,
но
и
из
тех
обычаев,
которые
сформировались в России.
Исихастская традиция в духовной практике открывает
человека внутреннего. Единственный способ к открытию его в
себе является духовное умозрение, как самонаблюдение. Самая
главная наука в культуре — это сам человек, который есть высшая
ценность культуры. Постичь человека можно методом, который
338
М.М. Бахтин назвал «глубиной проникновения», т.к. «познание
направлено на индивидуальное» [1, с.227].
Вера, надежда, любовь в русской культуре познания
являются
методом
постижения
ценностей,
которые
вырабатываются
методология
принадлежит,
и
освоения
скорее
в
тех
духовных
ее
контексте.
Эта
всего,
эйдосу,
или
субстанциальной идее. «Истина есть единая сущность о трех
ипостасях» [9, с.49].
Духовный опыт души есть метафизика российского бытия.
«Истина, Добро и Красота – эта метафизическая триада есть не три
разных начала, а одно. Это – одна и та же духовная жизнь, но под
разными углами зрения рассматриваемая духовная жизнь, как из я
исходящая, в я свое средоточие имеющая – есть Истина.
Воспринимаемая как непосредственное действие другого – она
есть Добро. Предметно же созерцаемая третьим, как вовне
лучащаяся
–
Красота.
Явленная
истина
есть
любовь.
Осуществляемая любовь есть красота. Самая любовь моя есть
действие Бога во мне и меня в Боге» [9, с.70].
Таинство
Троицы
раскрывает
преодоление
границ,
пролегающих между верой, надеждой и любовью. То же самое
должен сделать русский человек в отношении церкви, государства
и общества, т.е. восстановить на земле образ божественной
Троицы, как вселенской социальной жизни, что попыталась
осуществить Великая Октябрьская революция.
339
Литература
1. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам
гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. 337 с.
2. Бердяев Н.А. Русская идея. // Мыслители русского
зарубежья: Бердяев, Федотов. -СПб, «Наука»,1992. -462 с.
3. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. Соч. в 14 тт. Т. 4. М.:
Соцэкгиз, 1959. -437с.
4. Данте А. Божественная комедия. Пермь: Пермская книга,
1994. -479с.
5. Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной
церкви. // Мистическое богословие. Киев: «Путь к
Истине», 1991. - 399с.
6. Мамардашвили
М.
Очерк
современной
европейской
философии. – Спб: Азбука, Азбука-Аттикус,2014. -608с.
7. Минин
П.
Главные
направления
древне-церковной
мистики. // Мистическое богословие. Киев: «Путь к
Истине», 1991. - 399с.
8. Флоренский П. Оправдание космоса // Общечеловеческие
корни идеализма СПб.:РХГИ, 1994. – 224с.
9. Флоренский П. Опыт православной теодицеи в двенадцати
письмах. М.: Путь, 1914. – 814с.
10. Франк С.Л. Духовные основы общества. Л.: Лениздат,1991.
– 258с.
11. Johan Chidenius. The symbolism of love in Medieval Thought.
Helsinki, 1970.
340
Кипнес Л.В.
А.А. БЛОК «ДВЕНАДЦАТЬ»: РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ЦИКЛОН
…не будем сейчас брать на себя решительного суда.
А.А. Блок
Тема октябрьской революции заняла прочное место в
литературном процессе ХХ века, но сегодняшний день нас
возвращает к первому произведению – поэме А.А. Блока
«Двенадцать», произведению, созданному «по горячим следам» в
январе-феврале 1918 года. Весной 1920 года Блок ставит точку –
пишет «Записку о «Двенадцати».
С момента написания поэмы прошла целая эпоха,
насыщенная весьма разнообразными и трагическими событиями,
созданы тысячи произведений об октябрьских днях семнадцатого
года, проведены тысячи исследований о самой поэме, но что-то
снова и снова возвращает к «Двенадцати» (может быть, сам А.А.
Блок, пророчествующий, что «…"Двенадцать" прочтут когданибудь не в наши времена» [3].
Поэма «Двенадцать» - это одновременно начало и
завершение: начало темы октябрьской революции в русской
литературе и логическое завершение поэзии А.А. Блока; точка
начала и конца. Спустя два года поэт, возвращаясь оглядываясь
назад, в «Записке о "Двенадцати"», отметит: «… в январе 1918
года я последний раз отдался стихии» [3].
О времени написания поэмы А.А. Блок говорил: «… поэма
написана в ту исключительную и всегда короткую, когда
проносящийся революционный циклон производит бурю во всех
морях – природы, жизни и искусства» [3].
Стихия, циклон – так он определил происходящее в те дни.
В «Толковом словаре русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений» С.И. Ожегова циклон понимается
как «Вихревое движение воздуха, возникающее между теплым и
холодным воздушным течениями; область движения такого вихря,
341
характеризующаяся обильными осадками, сильным ветром»[6, с.
875].
Не изменилось понимание значения этого слова и в XХI
веке. В «Большом современном толковом словаре русского языка»
слово циклон представлено в двух значениях: «1.Область
пониженного атмосферного давления с минимумом в центре, с
преобладанием пасмурной погоды с осадками, с системой сильных
ветров, направленных против часовой стрелки в Северном
полушарии и по часовой – в Южном. 2. Буря, ураган» [4]
Циклон – вихрь, буря, ураган, который сметает все на
своем пути и все вовлекает в свое движение, противостоять ему
невозможно. Таковы были и революционные дни 1917 года, об
этом поэма «Двенадцать». Ветер, вихрь, контраст:
Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер –
На всем божьем свете! [1, с. 523]
Уже первая строфа обращает на себя внимание: прежде
всего, наличием контраста (черный/белый), затем присутствием
циклона (ветер, который не дает возможности человеку
удержаться на ногах), обилием существительных (вечер, снег,
ветер, ноги, человек, свет), среди которых только единственный
глагол - стоит, но употребленный с отрицательной частицей
«не». И все это вместе создает ощущение грандиозной стихии,
вовлекающей все, что оказывается на ее пути. При чем нельзя не
отметить, что вот это стремительное, нарастающее ничем не
остановимое движение создается при помощи простых
предложений,
более
того,
доминируют
предложения
односоставные (1/4). В последней строке первой строфы
появляется словосочетание «божий свет». Именно оно
констатирует неостановимость и всеохватность стихии, и именно
оно выводит на заключительные строки поэмы:
В белом венчике из розВпереди – Иисус Христос.
342
Это тоже констатация факта, что все удары стихии
принимает на себя Иисус Христос.
Закончив поэму, А.А. Блок 29 января 1918 года в своей
записной книжке отметил «Сегодня я – гений» [2, с. 496].
На следующий день он напишет «Скифы»:
Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!..
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит! [1, с. 454].
А несколькими днями ранее, размышляя о происходящем,
в статье «Интеллигенция и революция» он фиксирует следующую
мысль: «Россия – буря. < … > России суждено пережить муки,
унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой – и
по-новому великой» [2, с. 218]. Не это ли сейчас и происходит?
Сто лет поэма «Двенадцать» не отпускает, заставляет
исследователей обращаться к ней все снова и снова. Думается, что
это связано, прежде всего, с тем, что А.А. Блок в поэме не дает
никаких оценок. Он не выбирает, на чьей стороне быть. Он отдает
это право последующим поколениям, право определять:
революция трагедия или благо. Нельзя не отметить и того, что
последующие произведения о революции писались уже иначе:
либо с позиции принимающего революцию, либо отрицающего ее.
По Блоку революция – это стихия. Оценивать стихию
невозможно, можно оценивать только ее последствия, которые
будут проявляться в ходе дальнейшего развития исторического
процесса. А тот, кто оказался внутри этого циклона, поглощен им,
но в то же самое время А.А. Блок, любя и чувствуя Россию, верит
в ее величие, верит в то, что божественное провидение сохранит
Россию.
343
Литература
1. Блок А.А. Стихотворения. Поэмы. Театр. Сочинения в
двух
томах.
Т.1.
–
М.:
Государственное
из-во
художественной литературы, 1956.
2. Блок А.А. Очерки, статьи и речи. Из дневников и
записных книжек. Письма. Т.2 – М.: Государственное из-во
художественной литературы, 1956.
3. Блок А.А. Записка о «Двенадцати». Электронный
ресурс. Режим доступа: rulitbox.ru
4. Большой современный толковый словарь русского
языка, 2012. Электронный ресурс. Режим доступа: Slovar.cc
5. Бунин И.А. Под серпом и молотом. Электронный
ресурс. Режим доступа:www.libros.am
6. Ожегов
С.И.,
Шведова
русского
языка:
80000
Н.Ю.
слов
Толковый
и
словарь
фразеологических
выражений./ Российская академия наук. Институт русского
языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. - М.:
Азбуковник, 1999. – 944 с.
7. Флоренский П. О Блоке. Электронный ресурс. Режим
доступа: www.e-reading.mobi
8. Эткинд Е.Г. Демократия, опоясанная бурей.
Электронный ресурс. Режим доступа: sobolev.franklang.ru
Кононова А.В.
Бориса Григорьев: Россия на переломе глазами
очевидца
344
«Ирония или поэзия - все остальное пресно и плоско». Эти
слова французского поэта-символиста Реми де Гурмона Николай
Пунин поставил эпиграфом к своей статьи о Борисе Григорьеве1.
Их можно отнести ко многим
изящным, проникнутым легким
сарказмом произведениям художника, но только не к его «Расее».
Но именно она стала одной из самых знаменитых произведений
мастера. Как некому другому Григорьеву удалось запечатлеть
зримый портрет эпохи революционного перелома.
Ни своим происхождением, ни образом жизни, ни
мировоззрением Борис
Григорьев никогда не
был связан с
деревней. Более этого социальная активность была ему также
чужда. «Я не люблю политику и считаю это дельцем панельным»писал он в одном из писем В.Каменскому2. В России Григорьев
впервые стал известен, как «художник, тоскующий по Парижу». За
4 месяца 1913 г в столице искусств им было создано несколько
тысяч виртуозных рисунков. Его герои: завсегдатаи парижских
кафе и Люксембургского сада, посетители и обитатели зоопарка,
циркачи , музыканты и дамы «полусвета». Его цель – передать
своеобразную «парижскую атмосферу». Художник заостряет
форму,
обобщает
детали,
1
Аполлон.1915, №8-9. С.1
2
ОР ГПБ. Ф.100. ед.хр. 365
345
добиваясь
максимальной
выразительности, и преуспевает в этом, создавая, по словам
Пунина «парадоксы в пространстве и на плоскостях, нежные,
иронические и блестящие»3. Во многих работах есть доля эпатажа
-
желание
приукрасить
порок
и
обывательской морали. Что-то похожее
противопоставить
его
он будет искать и на
родине, за что получит прозвище «Борис Гри» и «русский
западник».
Тем неожиданней для современников стало
обращение Григорьева к крестьянской теме. Легкий и ироничный,
создатель блестящих эротических образов (стоит вспомнить его
«Intimite»)
становится вдруг пугающе
серьезным. Казалось,
Григорьев совершил невероятное “от ночных кафе Монмартра – в
глубины русской деревни. Прыжок дерзкий. Огромный почти
космического масштаба”4.
Работу над серией картин и рисунков «Расея» Григорьев
начал в преддверии и продолжил сразу после Февральской
революции. Первоначально ее составили 9 картин и 60 рисунков.
Произведения были показаны на выставках «Мира искусства» в
Москве и Петербурге в конце 1917 – начале 1918 гг. Александр
Бенуа писал, что работы, представленные в Академии художеств,
3
Аполлон. 1915 №8-9 С.1
Татаринов В. Борис Григорьев // Жар-птица.
Берлин, 1922.,№9. С.9
4
346
производили эффект "головы Горгоны". В образа Григорьева не
было ничего, даже отдаленно напоминающего,
святую Русь
Виктора Васнецова и Михаила Нестерова,
терпеливых и
страдающих
декоративные
крестьян
передвижников
или
фантазии на русскую тему Натальи Гончаровой. Борис Григорьев
не ставит своей целью создать свой миф о России, он фиксирует
увиденное. В отличие от крестьянских легенд с мечтой о
счастливой земле, воплотившейся в «Полдне» Кузьмы ПетроваВодкина, «Сенокосе» Бориса Кустодиева, «Беление хоста»
Зинаиды Серебряковой, написанных
произведения
в том же 1917 году, эти
навеяны ужасом. Они пугали зрителя лицами
"полузверя, получеловека". У работ есть привязка к местности:
Олонецкая губерния и
окрестности Петербурга. Григорьев
изображает измученных нуждой и войной мужиков и баб, детей,
домашнюю живность, простенькие бытовые сценки.
У этой серии была предыстория. Еще в годы учебы
Академии,
в
1910
-
1912
годах
петербургского коллекционера
по
заказу
в
известного
и библиофила А.Е.Бурцева
Григорьев выполнил в графике около 110 работ на народные
темы: иллюстрации к сказкам, святочным гаданиям, шуточным
песням, календарю. При этом и тогда народ предстает на них в
малопривлекательным ( картинки серии были опубликованы в
многочисленных бурцевских журналах). Н. Мишеев вспоминал,
что «Григорьев передавал мне, что его всегда, с детских лет,
347
несколько
«коробил» лик русской «деревенщины»5. Глупые и
агрессивные, они слишком утрированны и вызывают скорее
впечатление
какого-то
театрального
действа.
Они
скорее
развлекают зрителя, в то время как «Расея» пугает. Чуткий глаз
художника и безупречно послушная ему рука смогли запечатлеть
зримый социальный образ эпохи. П.Щеголев писал:"Проклятие
прошлого он почувствовал, проклятие войны, голода, грязной
отвратительной жизни он почувствовал… Тем кто не жил вместе с
нами, кто придет за нами, этот памятник скажет больше чем любая
книга" 6 Расея.Пг.,1918.С.27.
За редким исключением (к примеру «Подсолнухи», 1917)
фигуры
людей
изображены
на
первом
плане,
как
бы
предстоящими, как на иконах. Застылость их поз сродни какому-то
древнему оцепенению. Время как бы остановилось. Часто в
рисунках и холстах художника повторяются одни и те же
персонажи.
Это
девочка,
тревожно
глядящая
исподлобья,
обнимающиеся девки, бородатый старик, молодуха с каким-то
оловянным взглядом.Кому-то. они напоминают «суровые лики
древнерусских святых»7, но в них нет ничего похожего на
5
Перезвоны.1929. №42.С.13.
6
Расея.Пг.,1918.С.27.
7
Галеева Т. Борис Григорьев. М..1995. С.32
348
святость. Скорее здесь можно вспомнить славянофила А. С.
Хомякова, который в отличие от своих единомышленников не
абсолютизировал прошлую русскую историю, а считал, что ничего
доброго, благородного, достойного уважения и подражания не
было в России. «Везде и всегда безграмотность, не правосудие,
разбой, угнетение, бедность». Действительно, в героях Григорьева
есть что-то звериное, в то время как животные смотрят с холстов
мудрым и добрым взглядом. «В Олонецкой губернии доселе еще писал в 1918 г. известный этнограф Е.Катагаров, - разлука души с
телом представляется в виде отделения какого-то «пара». Душа
может принять облик птицы»8.Думаю, что Григорьев считал, что
душа может вселиться не только в «серую утицу», а, например, в
корову. Намеренно сжатое пространство холста в картине
«Старуха-молочница» (1917) как бы выталкивает на первый план
женщину, позади которой огромная коровья морда с большим
человечьим глазом. Почти не прописанный фон с деревом и
отдаленными фигурами не отвлекает внимание от главных
персонажей этого, можно сказать, парного портрета. Невольно
вспоминаются «Коровницы» Павла Филонова (1914).
Как и в
других работах мастера холст тщательно прописан, «от частного к
общему»и «упорно и точно нарисован каждый атом». Картина
напоминает крестьянское
8
лоскутное одеяло, она и состоит из
Катагаров Е.Религия древних славян.М.1918.С. 58 .
349
кусочков многообразного, но единого мира. В нем органично
существуют изможденные трудом женщины, их тощие коровы,
курицы и петух, диковинные, как на жостовских подносах цветы и
плоды. И мир этот важнее маленьких домиков города. Есть что-то
одновременно отталкивающее и завораживающее в филоновских и
григорьевских
образах.
Произведения
присутствующая
в
своеобразная
них
объединяет
гармония
и
людей,
антропоморфного животного мира и природы, существующая в
едином потоке жизни. Филонов неоднократно обращался к
крестьянской теме9. В отличие от Григорьева он использовал
пластические идеи народного искусства, его цветовую гамму,
воспринимая их по-своему и перерабатывая в духе филоновской
«аналитической
формы».
Григорьев
не
создал
своей
изобразительной системы. Он не ставил себе такой задачи.
Живопись его скорее рефлекторно отзывается на страшноватую
действительность. Легкий и ироничный «парижанин» вдруг
становится
серьезным
и
пишет
глубокие
портретные
типажи.
Доказательство
психологические
точности
созданных
художником образов в литературе тех лет, в героях А.Платонова,
Б.Пильника, Н.Клюева. О «Старухе-молочнице» (1917) может
быть сказано: «с запавшими, словно мертвыми глазами, похожими
«Масленица», 1914; «Крестьянская семья», 1914;
«Волы», 1918 и др.
9
350
на усталых сторожей», «с тем зорким и до грусти изможденным
лицом»10 . По тому же композиционному принципу (сжатое
пространство холста и укрупненная фигура, застывшая на первом
плане) построены наиболее значительные отдельные образыкартины серии Описание одного из героев романа «Голый год»
Пильняка можно соотнести с героем картины «Олонецкий дед»:
«Лицо старика походило на избу, как соломенная крыша падали
волосы, подслеповатые глаза смотрели на запад, как тысячи лет. И
в этих глазах было безмерное безразличие, - или, может быть,
мудрость веков, которую нельзя понять»11. «Олонецкий дед» - не
просто типаж, отразивший время, а конкретный человек. Это
портрет крестьянского поэта Николая Клюева, “кому-то он был
лукавым
мистификатором,
кому-то
учителем,
Давидом
хлыстовского корабля, Ангелом, Микулой, духовным братом”12.
Современники по-разному отзывались о поэте. Андрей Белый
писал о нем как о «носителе народной души». Для Григорьева не
столь важен образ конкретного человека, его привлекает типаж,
который будет использован еще не раз. Но и сам Клюев любил про
Платонов А. Цит. по: Русская литература ХХ века.
Т.2. М.,1997. С.155
10
11
Пильняк Б. Голый год. М.-Л., 1927. С.107.
12
Солнцева Н . Китижский павлин. М.,1992.С.7.
351
себя говорить: «Я -- мужик, но особой породы» и требовал от
живописцев, создававшим его портреты пренебрегать внешним
сходством, а изображать «лик его поэтического слов». .
Цикл « Расея»
дал повод современникам сравнивать
Григорьева с Достоевским, что было лестно художнику. У русских
людей всегда было сильно развито чувство своей земли, значение
имели и люди, непосредственно с ней связанные. Славянофилы
видели в крестьянской общине истоки самобытности России, а
народники считали ее основой для установления социализма.
Ненависть к условностям урбанистической цивилизации привлекала
русскую литературу к жизни простого народа. В «природе» больше
истины и справедливости, больше божественного, чем в «культуре»
утверждал Лев Толстой. Не случайно в русском языке христьянство
созвучно крестьянству . Возможно, что «Расея» произвела шок в
1918 году еще и потому, что она подводила черту под XIX веком,
который прошел под знаком утопической веры в народ «богоносец».
Художник навсегда покинул родину в 1919. Он не мыслил
своей жизни без холста и красок и мечтал о нормальных условиях
для работы, а в молодой советской России был голод и разруха. К
тому же его зачислили в ряды Красной Армии. Отказ грозил
расстрелом, и Григорьев решил бежать. Ночью в рыбацкой лодке
он вместе с женой и маленьким сыном переплыл Финский залив.
20 лет жизни в эмиграции складывались по-разному. Но он не
352
забыл Россию. Его цикл картин и рисунков «Расея», начатый на
родине, получил продолжение на западе В 1921 г. художник
написал
большую
картину
«Лики
России».
Персонажи
напоминают героев «Крестьянской земли» (1917), но образы стали
жестче,
страшнее,
карикатурнее.
творчества художника называли
Западные
исследователи
ее «величайшим русским
произведением искусства со времен революции», а сам Борис
Григорьев считал полотно выдающейся работой. Композиция
картины строится планами по вертикали. На вершине холма
изображены церковь и крестьянские избы, на склонах – стога,
отдельные фигурки людей и тощих животных. На первом плане
крупным планом выделены несколько крестьян : мужчин и
женщин - как бы предстоящими перед зрителем «Испитые»,
«мятые» лица несут печать вырождения. В них уже трудно найти
хоть какие-то положительные черты. Даже появившейся среди
знакомых, но ставших более отталкивающими персонажей, поэт
Николай Клюев, которым восхищался художник, поражает какойто «скифской оцепенелостью». Это Россия, из которой бежал
художник. Григорьев вновь и вновь обращается к оставленной
родине. Что было в этом больше – ностальгии или коммерческого
интереса? Конечно, Григорьеву нравилось продавать свои работы,
но он никогда не изменял себе в погоне за вниманием публики.
На западе Григорьев становится
разгадавший
"таинственную
известен, как
русскую
душу",
провидец,
мистическую,
загадочную, таящую в себе угрозу. Отношение к художнику
353
разное. Одни видят в нем чуть ли не «большевика», а другие
наоборот считают его клеветником и антисоветчиком.
В эмиграции Григорьев переиздал с дополнениями
на
русском и немецком языке(1921, 1922) свой альбом «Расея»(1918).
Продолжением «Расеи» стала серия работ
«Лики России» и
альбом (на французском и английском ( 1923, 1924), посвященный
зарубежным гастролям МХТ и
Russie”открывается
черно-белым
Б. Григорьеву. “Visage de
воспроизведением
картины
«Лики России». Ее холодный, чеканный пластический язык еще
более усиливает трагическую экспрессию образов. Книга строится
на сопоставлении этой большой «синтетической» композиции и
отдельных портретных и пейзажных изображений. Эти легкие,
зафиксированные на бумаге, воспоминания художника дополнят
общее впечатление и неразрывно связывают портреты актеров
МХТ с Россией. «Лики России» предстают как своеобразные
размышления мастера о русском характере, истории и культуре в
целом
Работы Бориса Григорьева зримо воплотили черты
русского характера: терпение и бунт, сострадание и жестокость,
неприятие культуры в западном понимании, скрытую мощь,
которая всегда держала в страхе Европу. Трудно не согласится со
словами Александра Бенуа: «Одно документальное значение
российских произведений Григорьева выходит далеко за пределы
узко национальных интересов, и смело можно утверждать, что
354
впредь нельзя будет обойтись без этой живописной летописи тем,
кто будет ставить своей целью познание какой-то сути России
периода, непосредственно, предшествовавшего революционному
перевороту»13
А.
Член
Международной
В.
Ассоциации
Кононова
искусствоведов,
член
Российский творческого союза работников культуры, член Союза
художников
России
с
1990,
старший научный сотрудник ГРМ
13
Александр Бенуа размышляет…М.,1961. С. 247
355
Личак Н.А.
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - НОВЫЙ ЭТАП В ДЕЛЕ
СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ СТРАНЫ
Для государственных органов охраны памятников в
первые послереволюционные годы было характерно отсутствие
научной
методики,
системности,
планирования.
Организационные структуры подчас носили временный и
чрезвычайный
характер.
Важно
было
создать
единое
учреждение, ведущее постоянную работу по массовому и
полному выявлению памятников, их учету и сбережению.
Необходимым условием сохранения памятников искусства и
старины
наряду
с
законодательством
являлось
наличие
работоспособного аппарата.
Таким
всероссийским
органом
стало
структурное
подразделение Наркомпроса РСФСР — Отдел по делам музеев
и охране памятников искусства и старины (Музейный отдел
Главнауки Наркомпроса). Создание отдела в мае 1918 года
открыло новый этап в деле сохранения исторического и
культурного наследия страны. Данный орган разрабатывал
основы государственной музейной политики, осуществлял ее
претворения в жизнь, объединял деятельность отдельных
музеев, придавал их работе планомерный характер. Важнейшей
составной
часть
деятельности
356
отдела
стало
его
взаимоотношение
с
учреждениями
и
органами
охраны
памятников на местах.
Местные органы охраны памятников истории и культуры
начинают формироваться уже с марта 1918 года. На основе
постановления НКП «Об организации губернских коллегий по
делам музеев и охране памятников искусства и старины»[1, д.
39. л. 35—36], принятого
в декабре 1918 года, начали
действовать губернские музеи.
Необходимо
оценить
первые
государственной власти в деле сохранения
мероприятия
памятников
искусства и старины. Захватив в 1917 году власть, руководство
страны было озабочено установлением контроля в области
идеологии и культуры. Государственные принципы становились
определяющими на местах. Важнейшей мировоззренческой
составляющей стал классовый подход, который определял
прошлое как «наследие эксплуататорских классов и служителей
культа» [2, с. 36].
Спецификой советских традиций охраны культурного
наследия являлась
доминирующая роль государства в деле
сохранения памятников
особенностью
искусства и старины, что объяснялось
геополитической
ситуации
(увеличивающимся
размером территорий, сохранением имперских традиций в ее
политической
системе,
тоталитарным
моделям
правления,
мультиэтничным и поликонфессиональным составом населения,
разноплановым характером российской
357
культуры). Система
сбережения и защиты культурных ценностей в губерниях страны
создавалась
и формировалась
именно как
государственная
система.
В рассматриваемый период было накоплено немало
положительных примеров диалога государства и общества в деле
сохранения памятников искусства и старины. Данный диалог стал
основой для постоянного сотрудничества обоих субъектов охраны.
Так, Народный комиссар просвещения А.В. Луначарский в ноябре
1917 года подготовил проект декрета о создании специального
органа
при Наркомпросе — Государственного совета по
управлению дворцами и музеями республики. Предполагаемый
государственный орган мыслился как чрезвычайно широкий по
представительству, в функции которого входила и охрана
памятников. Создавая научные исторические общества, развивая
краеведческое движение, советское общество активно включилось
в дело сохранения раритетов.
В то же время, еще одним государственным органом,
функционировавшим с целью защиты и сбережения народного
достояния,
стал
Народный
комиссариат
государственных
имуществ (НКГИ) РСФСР, функционировавший в период с 1917
по 1918 год. Созданный на основе учреждения
ранее
причастного к ценностям государства (бывшего императорского
двора) — министерства государственных имуществ [3, д. 2, л.
1], НКГИ сконцентрировал в своих руках полномочия по
распоряжению наиболее привлекательных в материальном
358
отношении ценностей государства, содержа своих сотрудников
на доходы, полученные от частичной реализации имущества.
«Реквизиции чаще всего подвергаются изделия из золота
и серебра…», — так оценивалась работа наркомов Народного
комиссариата
государственных
имуществ
РСФСР
В.А.
Карелина и П.П. Малиновского сотрудниками художественной
комиссии, передававшими предметы и капиталы из кабинетов
Его
Величества,
благотворительных
учреждений
бывшего
придворного духовенства в Госбанк, а затем в Монетный двор.
Предписания, вынесенные служащим губернских музеев, были
также нацелены на способы оценки и описи предметов из
благородных металлов и предметов с драгоценными камнями [4,
д. 129, л. 28]. Нельзя не упомянуть, что основная масса
произведений
Оружейную
искусства
палату
Петрограда
Московского
была
Кремля
вывезена
еще
в
царским
правительством в преддверии Первой мировой войны 24 июля
1914 года [5, д. 8776, л. 15]. Вторая волна эвакуации пришлась
на ноябрь 1917 года, когда было упаковано и доставлено в
Москву то дворцовое имущество, которое еще оставалось в
Петрограде [4, д. 129, л. 15].
Новой
власти
музеефицировать
в
спешном
значительную
порядке
часть
пришлось
реквизированных
ценностей [2, с. 1].
Представители среднего класса, аристократии, крупных
промышленников и предпринимателей, озабоченные сохранени-
359
ем
своего
имущества,
имевшего
культурно-историческую
ценность, были вынуждены обращаться к действующим органам
охраны памятников, ожидая помощи с их стороны [6, д. 19, л.
3,115]. В ответ на это местные власти предлагали на выбор:
либо владелец сам защищает свое имущество от посягательств,
либо безвозмездно передает его на государственный учет,
получая взамен так называемую охранную грамоту, оставаясь
при этом хранителем памятников истории и культуры на месте.
Существовала практика приобретения государством
частных
коллекций [7, д. 9, л. 99].
Оказавшись в подобной ситуации и не видя для себя
иного выхода,
представители обеспеченных слоев были
поставлены перед необходимостью выбора второго варианта.
Кроме того, советская власть организовала мероприятия,
в результате
которых культовые здания, представлявшие
значительную художественную и историческую ценность, такие
как русские православные церкви и монастыри, костелы, кирхи,
мечети, синагоги, а также предметы, связанные с совершением
религиозного обряда, были национализированы [8, с. 200]. Это
было связано с отношением
нового общества к памятникам
религиозного искусства, отразившееся
в декрете СНК «О
свободе совести, церковных и религиозных обществ» 1918 года
[9, с. 374], согласно которому Церковь была отделена от
государства.
С
этого
документа
уничтожения церковной собственности.
360
начинается
процесс
Итак, условия осуществления сохранения памятников
искусства и старины в первые послереволюционные годы
являлись
своеобразным
общественным
следует оценивать с точки зрения
по
всей
стране.
явлением,
которое
проходивших мероприятий
Особенностью
становления
системы
государственных органов сохранения памятников являлось
своевременность ее формирования, как в центре, так и в
провинции.
Созданная
система
сбережения
памятников
искусства и
старины и музейных коллекций не была
изобретением
представителей
нового
режима.
Активно
использовались достижения созданных в дореволюционный
период организаций по всей стране.
В
то
же
время
государственные
органы
власти
поставили памятникоохранную деятельность под свой контроль
и стремились направить ее в нужное идеологическое русло.
Было заявлено, что «область охраны памятников являлась и
является в настоящее время широкой ареной классовой
борьбы».
Разумеется, что сохранение памятников искусства и
старины рассматриваемого периода при всех бесспорных достижениях была процессом противоречивым, как противоречива
была сама культурная политика нового правительства, основа
которой сформировалась в условиях ожесточенной борьбы в
годы гражданской войны, интервенции и разрухи. И все же
значение данного процесса трудно переоценить, понимая, что
361
многие культурные ценности были спасены в сформированных
музейных коллекциях.
Литература
1.
ГАРФ. Ф.А.-2306. Оп. 2.
2.
Музей. 1923. № 1. С. 3.
3.
ЦГАЛИ. Ф.-29. Оп. 1.
4.
ГАРФ. Ф.А.-1726. Оп. 1.
5.
РЦХИДНИ. Ф.-2.
Оп. 1.
Д. 8776.
Л. 15 // Русская
Православная Церковь и коммунистическое государство 1917—
1941 гг. Документы и фотоматериалы. М., 1996. С. 40.
6.
ГАРФ. Ф.А.-2307. Оп. 8.
7.
ГАРФ. Ф.А.-2306. Оп. 28.
8.
Декрет
СНК
«Об
обращении
в
музей
историко-
художественных ценностей Троицко-Сергиевской лавры» от 20
апреля 1920 г. // Охрана культурного наследия России XVII—XX
вв. : Хрестоматия / Под ред. Л. В. Карпова. М., 2000. Т. 1. С. 400.
9.
Декреты Советской власти. М., 1957—1989. Т. 1. С. 374.
Михайленко Т.В.
БЕРЕГА ВО ВРЕМЕНИ
За прошедшее столетие немало ладожской воды утекло по
невским берегам в Балтику, мимо берегов русских, берегов
финских, устремляясь к свободе, к бескрайнему океану... Одно
поколение сменяло другое, сменялись режимы и власти, границы
362
государств и возможности общения. Однако, добрая память и
дружеские русско-финские добрососедские отношения брали свое.
Об этом переплетении времени, дорог, взаимоотношений и
явлении Промысла Божьего в нашей жизни и пойдет речь.
Еще в 1917 году, в эпоху послереволюционных событий,
отошли острова Валаамского архипелага на Ладоге во владение
вновь образованного независимого государства Финляндия, что во
многом сыграло благоприятную роль в сохранении этого
светильника веры для целого поколения русской эмиграции
первой волны. Воспоминания современников сохранили для нас
тот образ подвижничества, нетронутый безбожной властью и
гонениями на веру. Святейший Патриарх Алексий Второй, еще
ребенком будучи на Валааме с
родителями, впитал дух
подвижнической веры старцев, ставшей, возможно, определяющей
силой в его становлении архипастыря Русской Православной
Церкви. Однако во время зимней войны монастырь подвергся
жесточайшим бомбардировкам с советской стороны. Чудом и
милостью Божьей, монастырь уцелел и, 5 февраля 1940 года, по
приказу финского правительства, насельники монастыря во главе с
игуменом Харитоном были эвакуированы вглубь Финляндии по
льду Ладожского озера. Тогда, на земле финской обрели приют
205 валаамских монахов, послушников и трудников, гонимых
бомбежками и спешно оставивших свой святой остров, спасая
братию и имущество монастыря от поругания. До сих пор в
монастыре сохранилось немало икон со следами тех пуль.
363
В регионе Хейнявеси, на берегах чистейших озер, по
Промыслу Божиему, ведомые своими заступниками свв. Сергием
и Германом Валаамскими, была основана новая обитель так и
названная Нововалаамским Спасо-Преображенским монастырем.
Инокам предстояло вдохнуть новую жизнь в эти места и сделать
его местом притяжения на долгие годы...
Неподалеку, в 18 км от монастыря, в 1944г. после
нескольких лет скитаний, обосновался и женский Линтульский
монастырь с 44 сестрами, войной изгнанными из своего обжитого
и намоленного Свято-Троицкого монастыря в местечке Линтула,
области
Кивенаппа
(ныне
восстанавливаемой
прекрасным возрожденным храмом, подворье
обители
с
Константино-
Еленинского монастыря, около поселка Огоньки, Выборгского
района).
Сестры монастыря, известные своим трудолюбием и усердной
молитвой, имели много послушаний и, сменяя поколения, поныне
трудятся на собственном небольшом свечном заводе, обеспечивая
свечами приходы всей Финляндии. На сегодняшний день это
единственный женский монастырь в Скандинавских странах.
Трудами и постничеством спасались монахи в жизнь
вечную, обретая неизменное уважение и любовь местного
населения. Со всей Финляндии к духовным отцам приезжали
православные за советом, поддержкой и духовным окормлением, а
если не было возможности самим добраться до монастыря, то
письма отправлялись со всей Финляндии и из-за рубежа.
364
Впоследствии, усилиями финских друзей и прихожан монастыря,
была издана книга «Письма Валаамского старца», включающая
переписку с духовными чадами замечательного и духоносного
старца
схиигумена
Иоанна
(Алексеева)(1873-1958гг).
Книга
издавалась на русском, финском и других языках и уже претерпела
несколько переизданий – такой духовной силой и утешением
скорбящей души она обладает. Со временем, бòльшая часть той,
старовалаамской братии обрела и покой вечный в земле финской,
на кладбище
монастыря... Но жизнь духовная теплилась,
разгораясь новыми светильниками веры, и ныне свет православия,
принесенный сюда братией со Старого Валаама – это маяк для
православных всей Скандинавии и стран Европы.
Сегодня братия Нововалаамского монастыря и сестры
Линтулы – этнические финны – и в этом тоже промыслительно
усматривается нива, засеянная зернами благодатными и дающая
плоды добрые. При Нововалаамском монастыре был открыт
Народный Университет (Kansanopisto), где проходят занятия по
разным ремеслам, музыке и искусству для взрослых и детей, здесь
же
проводятся
курсы
иконописи
для
начинающих
и
профессионалов. Настоятелем монастыря в настоящее время
является игумен архимандрит Сергий (Райаполви) – хранитель и
благоукраситель обители, скромный и гостеприимный хозяин,
открывающий врата доброго сердца каждому нуждающемуся в
помощи и поддержке. Игумен продолжил добрые традиции
сохранения и преумножения духовных и культурных ценностей
365
монастыря. Здесь работали в разное время известные современные
иконописцы, такие как архимандрит Зинон (Теодор) с учениками,
Георгий Гашев и многие другие мастера.
Монастырь знаменит также своей богатейшей библиотекой, где
хранятся столь редкие книги, что из дальних стран приезжают
специалисты для работы с ними. К счастью, современные
технологии позволяют работать с литературой и на расстоянии,
благодаря хранителям и трудникам монастыря. Иногда возникают
и финансовые трудности из-за ремонтов, поддержания жизни
братии, трудников и паломников. Несколько лет назад пожар
уничтожил старинный игуменский дом, куда изначально и пришли
монахи. Но, как известно – «без искушения нет и спасения», – и
братия с трудниками снова и снова возрождают обитель к жизни и
славлению Бога. Поддерживают иноки и братские связи с
возрожденным Валаамским монастырем на Ладоге, радуясь его
чудесному восстановлению, видимо, по святым молитвам старой,
давно почившей, братии иноков, так и не вернувшихся на свою
землю обетованную. И эта нить православной веры связывает нас
независимо от национальности, языка, главное, чтобы был отклик
у верующего сердца.
Вернемся на русскую землю, которая, как известно, не раз
уже восставала из пепла и небытия... Много храмов на Руси было
утрачено безвозвратно за время богоборчества. Зачастую из руин
приходилось восстанавливать святыни после поругания, много сил
и средств требовалось на реставрацию архитектурного облика, и
366
если зодчие могли помочь с проектом и реставрацией, то
иконописная
школа
невозможностью
ее
была
почти
преподавания
полностью
в
утрачена,
учебных
за
заведениях
атеистического государства. Но «Господь поругаем не бывает. Что
посеет человек, то он и пожнет», как писал апостол Павел в своем
послании к Галатам (Гал.6.7), и те ростки веры и верных проросли
на казалось безжизненной почве гонения и запретов. Благодатным
жемчугом в летописи иконописания советского времени явилась
Мария Николаевна Соколова – тайная монахиня Иулиания (18991981гг), работавшая в Москве реставратором и, из-за гонений,
тайно занимаясь иконописью. Она написала замечательную книгу
«Труд иконописца», систематизировав методику и технологию
иконописи.
В Псково-Печерском монастыре, в не менее сложное время
начала 80-х годов, подвизался Архимандрит Зинон (Теодор),
создавший целую школу иконописи. Многие художники из
Петербурга, Москвы и со всей России стремились попасть к нему в
ученики,
познать
азы
иконописи.
И
наша
петербургская
иконописная школа во многом сложилась благодаря влиянию и
таланту этого мастера. Так, по крупицам, иконопись опять стала
востребована
и
развивалась,
появлялись
новые
имена
и
благоукрашались храмы.
Вспоминаются времена самого конца 80-х, начала 90-х
годов прошлого столетия, когда наши петербургские, а тогда еще
ленинградские, иконописцы, среди которых были Александр
367
Иванов, Георгий Гашев, Сергей Павлов, Вячеслав Михайленко и
другие мастера, начинали работу над восстановлением иконостаса
в храме-усыпальнице св.прав. Иоанна Кронштадтского ко дню
прославления святого. В то время тотального недостатка всего, а в
первую
очередь
продовольствия,
о
красках-пигментах
для
живописи можно было только мечтать и приходилось изыскивать
что-то из старых запасов. И тут, совершенно неожиданно,
появляется благодетель из Финляндии, простой школьный
учитель, неравнодушный к искусству и ремеслам: у себя в
мастерской он занимался резьбой по дереву, так же имел опыт
иконописи, золочения и чеканки окладов для икон, более того, он
даже организовал небольшое производство иконных досок для
иконописцев всей Финляндии. Недавно вышедший на пенсию, но
не оставивший желания помогать ближним, Яакко Туоминен с
верной супругой Раили вырастили троих детей и могли бы просто
проводить время на отдыхе в своем доме на берегу озера. Но тут
Божий Промысел повел их путями неисповедимыми. Супруги
выразили желание оказать помощь друзьям-соседям в России, и
при
очередном
посещении
Нововалаамского
монастыря,
духовенство посоветовало им обратиться к русским иконописцам
и помочь с художественными материалами для восстанавливаемой
святыни в Петербурге.
Надо сказать, что Яакко и Раили- это финские имена,
соответствующие библейским святым именам прародителей
Иакову и Рахили. Ветхозаветные супруги Иаков и Рахиль, своим
368
смирением и любовью стяжавшие память в веках, словно
напоминают, что нет в нашем мире ничего случайного. Воистину,
«Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га
Иа́ковля» (Псалом 19).
Так,
Яакко
не
ограничился
только
помощью
дорогостоящими, высококачественными материалами для работы
над иконостасом, но и продолжал приезжать и поддерживать
своих новых друзей всем, чем мог, даже просто пропитанием в то
сложное время. Конечно, и русские друзья отвечали, чем могли –
гостеприимством, интересными экскурсиями по храмам и музеям
Петербурга, сопровождали в поездках в Москву, где гости
посетили храмы Кремля и Свято-Троицкую Сергиеву лавру,
удостоившись встречи с наместником-игуменом Феофилактом
(ныне – епископ Дмитровский), познакомились с замечательными
художниками в Вологде, здесь финские друзья открыли для себя
красоту и богатую на таланты русскую глубинку. Наши
соотечественники везде встречали финских гостей неизменным
радушием, устраивали музыкальные вечера, интересные встречи в
мастерских художников и реставраторов.
На сегодняшний день почтенным супругам Туоминенам
уже самим далеко за 80 лет и теперь из России, благодаря
открывшемуся сообщению наших стран, к ним заезжает частенько
кто-нибудь из русских проведать и навестить старых и верных
друзей.
369
Именно Яаакко Туоминен в те времена стал инициатором
приглашения наших мастеров в Финляндию и проведения мастерклассов по иконописи. Позолотчики и резчики по дереву делились
опытом с финскими коллегами, сначала частным образом, а затем
и
по
приглашению
Народного
Университета
при
Ново-
Валаамском монастыре. Около двадцати лет проводит в Новом
Валааме
свой
иконописец
мастер-курс
Вячеслав
по
иконописи
Александрович
петербургский
Михайленко.
По
образованию профессиональный художник, выпускник ЛВХПУ
им. Мухиной (ныне – Академия им. Штиглица), член Союза
Художников России, Вячеслав серьезно занялся иконописью в
середине 80-х годов, получив благословения вначале духовника,
затем Святейшего Патриарха Алексия Второго и Вселенского
Патриарха
Димитрия.
Руководствуясь
в
работе
лучшими
образцами византийской и древнерусской иконописи, постепенно
сложился свой, узнаваемый стиль живописи. Вячеславом были
написаны иконы для вновь открывшейся Киево-Печерской Лавры,
первый храмовый образ Владимирской Божией Матери для храма
Сретения на Лубянке в Москве, храма-усыпальницы св.прав.
Иоанна Кронштадтского и других храмов Санкт-Петербурга,
России и Зарубежья. В Финляндии, во время работы в НовоВалаамском монастыре был создан ряд икон, особо чтимых в этом
регионе таких, как св.прп. Трифон Печенгский, св.прп. Александр
Свирский, св.прп. Антипа Валаамский, свв.прп. Сергий и Герман
Валаамские. Списки икон Божией Матери «Коневской» и
370
«Валаамской» и много других образов для храмов монастыря. Для
иконостаса женского Линтульского монастыря, по заказу его
игумении м. Марины (Илтолы), была написана икона Покрова
Пресвятой
Богородицы
и
аналойная
икона
«Воскресение,
Сошествие во ад».
Особое
место
занимает
преподавание
в
Народном
Университете Нового Валаама (Kansanopisto). Надо сказать, что
преподавание иконописи в Финляндии – это всегда необычный и
где-то
проверочный
этап
для
учителя
как
православного
христианина, ведь учениками могут оказаться кроме православных
и лютеране, другие иноверцы, а иногда и просто теплохладные к
вере люди, решившие овладеть новым умением. Здесь приходится
не просто делиться мастерством, но волей-неволей становиться
миссионером и проповедовать Евангелие в красках, насколько
уместно это сравнение. Вячеслав при обучении старается уделить
внимание всем вместе и каждому в отдельности во время
проведения курсов. Сегодня многие его ученики уже сами стали
мастерами и имеют свои иконописные школы: Ритва Тарима и
Тарья Тарима в г. Хельсинки, Елизавета Корпелайнен в г.
Йоенсуу, Евтихия Пападопуло в г. Стокгольм и г. Салоники,
Туулла Ахонен г. Савонлинна, Мари Забишны в монастыре Новый
Валаам. По всей Финляндии, в храмах и частных домашних
иконостасах можно встретить иконы, написанные Вячеславом и
его
учениками.
Финская
Православная
371
Церковь
в
2016г
представила Вячеслава Александровича к награде медалью
Святого Ангела за служение на благо Церкви.
В настоящее время Вячеслав Михайленко живет и работает
в
Санкт-Петербурге,
постоянно
развивая
и
совершенствуя
иконописное мастерство. В соавторстве с дочерью, Татьяной
Михайленко,
они
работают
и
над
новыми
òбразами
новомучеников Российских. Так, по благословению игумении
Иларионы (Феоктистовой), им выпала честь приложить все свои
силы и опыт к созданию иконографии священномученика
Философа Орнатского с сыновьями-мучениками Николаем и
Борисом. В 2016 году была написана икона для храма городского
подворья
Константино-Еленинского
монастыря
на
Рижском
проспекте в Петербурге. Отец Философ был строителем и первым
настоятелем этого храма во имя св.прп. Андрея Критского и стал
одним из первых новомучеников российских, приняв смерть
вместе со своими сыновьями за веру в первую годину революции,
в 1918 г.
Теперь,
когда
Константино-Еленинский
монастырь
имеет
попечение и о первой Линтульской обители в поселке Огоньки,
трудами и молитвами сестер и матушки, игумении Иларионы,
преображается и украшается она во славу Святой Троицы.
Прошедшим летом 2017 года, возрождающуюся обитель посетили
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и
Архиепископ всей Финляндии Лев, вместе совершив литургию и
освящение верхнего храма, в основание которого легли камни еще
372
той, прежней разрушенной обители во имя Живоночальной
Троицы, словно напоминая нам Евангельское повествование о
краеугольном камне. Радуется сердце православное о Господе,
дающем нам надежду на Воскресение!
В заключение, хотелось бы сказать несколько слов об
иконе, как некоем связующем звене и в человеческих отношениях
и отношении человека с Богом. Икона и сама по себе может
являться
проповедью,
передавая
воздаваемую
ей
честь
первообразу, посредством молитвенного обращения на абсолютно
любом языке. Иконописец иногда даже переживает за судьбу
своего творения, в какие руки оно попадет, утешаясь тем, что это
тоже
часть
миссионерского
служения
христианина.
Икона
зачастую сама прокладывает путь к сердцам и приводит людей к
вере. Ее язык понятен всем без перевода в отличие, скажем, от
книг или нашего общения. Поистине, «умозрение в красках», как
когда-то написал Трубецкой, в своих исследованиях древней
иконописи. Наш христианский долг сохранить и преумножить
древнее знание и умение, передать их следующим поколениям,
независимо от национальной принадлежности, будь то в России
или в Финляндии. Главное, чтобы любовь и вера не охладевала в
сердцах наших и соединяла берега...
373
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Валаамский старец схиигумен Иоанн (Алексеев),
«Письма
о
духовной
жизни»
М.:
изд.
Спасо-
Преображенский Валаамский м-рь, 2007 г.;
2. http://spbda.ru/publications/m-v-shkarovskogo-svyatotroickiy-lintulskiy-monastyr-v-finlyandii/
3. Журнал о православной жизни в Финляндии, интервью
с В.А. Михайленко, 1998 г.
4. Альманах «Линтула», книга четвертая, М.: С-Пб,
Константино-Еленинский м-рь, 2014 г.
5. http://valamo.fi/
6. http://www.konst-elena.ru/
374
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Абезгауз Софья Аркадьевна, кандидат исторических наук,
волонтер-экскурсовод в музее Black Creek Pioneer Village, Toronto
ON. Канада
Алымов Юрий Владимирович, кандидат исторических наук,
Канада.
Бежанидзе Георгий Вениаминович, кандидат богословия,
доцент, руководитель основной образовательной программы по
подготовке бакалавров теологии, зам. зав. кафедрой общей и
русской церковной истории и канонического права Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Москва.
Бубнова Яна Владимировна, старший преподаватель
кафедры социально-гуманитарных наук;
Будашевский Григорий Владленович, кандидат исторических наук.
Санкт-Петербург.
Вокуев Александр Михайлович, студент Российского
государственного гидрометеорологического университета. СанктПетербург.
Воронцова Ирина Владимировна, кандидат исторических
наук, кандидат богословия, старший научный сотрудник отдела
Новейшей истории Русской Православной Церкви Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Москва.
Гаевская Надежда Зеноновна, соискатель аспирантуры
Русской христианской гуманитарной академии. Санкт-Петербург.
Глотов Михаил Борисович, доктор социологических наук,
профессор, РГПУ им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург.
Гогоберидзе Георгий Гививич, директор департамента
научных исследований и перспективных разработок РГГМУ,
доктор экономических наук;
Граматиков Петр, иеродиакон, доктор теологических наук
профессор. Республика Болгария, Пловдив.
375
Гусева Анна Юрьевна, кандидат философских наук,
Российский
государственный
гидрометеорологический
университет, Санкт-Петербург
Дударев Константин Владимирович, студент ЛГУ им. А.С.
Пушкина, 4 курс. Санкт-Петербург.
Евдокимова Елена Александровна, кандидат философских
наук, доцент Санкт-Петербургский государственный институт
кино и телевидения. Санкт-Петербург.
Есикова Татьяна Владиславовна, кандидат педагогических
наук,
доцент,
Российский
государственный
гидрометеорологический университет. Санкт-Петербург.
Желобов Андрей Петрович, доктор философских наук,
профессор, Российский государственный гидрометеорологический
университет. Санкт-Петербург.
Жэрве Нина Наумовна, заведующая сектором Музея
истории Санкт-Петербургского государственного университета,
выпускающий редактор журнала «София». Санкт-Петербург.
Иеромонах Силуан (Никитин), кандидат богословия,
преподаватель Сретенской духовной семинарии, директор
Издательства Сретенского монастыря. Москва.
Иванов Игорь Анатольевич, священник, кандидат
философских наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных
языков Санкт-Петербургской духовной академии. СанктПетербург.
Игумения Илариона (Феоктистова), настоятельница
Константино-Еленинского
женского
монастыря
СанктПетербургской Епархии
Илюшин Михаил Алексеевич, доктор химических наук,
профессор,
Санкт-Петербургский
государственный
технологический институт (Технический университет). СанктПетербург
Казарина Вера Борисовна, кандидат искусствоведения, член
Союза
художников
России,
начальник
научнобиблиографического отдела Научного архива РАХ.
376
Канышева Ольга Альбертовна, кандидат философских наук,
доцент, Российский государственный гидрометеорологический
университет. Санкт-Петербург
Кефели Игорь Федорович, доктор философских наук,
профессор, Северо-Западный институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Центр геополитической экспертизы,
Санкт-Петербург.
Кипнес Людмила Владимировна, кандидат педагогических
наук,
доцент
Российский
государственный
гидрометеорологический университет. Санкт-Петербург.
Когут Виктор Григорьевич, заместитель Генерального
секретаря Совета МПА СНГ, представитель Национального
собрания Республики Беларусь в МПА СНГ и ПА ОДКБ.
Кокоулин Владислав Геннадьевич, доктор исторических
наук, доцент, Новосибирское высшее военное командное училище.
Новосибирск.
Колышницына Наталья Валерьевна, кандидат исторических
наук, главный архивист Центрального государственного архива
Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург.
Кононова Алла Викторовна, член Международной
ассоциации искусствоведов, член Творческого союза работников
культуры, член Союза художников России, старший научный
сотрудник Государственного Русского музея. Санкт-Петербург.
Королев Александр Анатольевич, магистрант СанктПетербургской духовной академии. Санкт-Петербург.
Корпелайнен Елизавета Александровна, преподаватель
иконописи Государственного университета в г. Ювяскюля.
Финляндия.
Лазар Михай Гаврилович, профессор кафедры социальногуманитарных наук РГГМУ, доктор философских наук, профессор
Литвиненко
Сергей
Викторович,
руководитель
департамента образования ГК «Омега», доктор педагогических
наук, профессор;
Личак Наталья Алексеевна, доктор культурологи, доцент, ФГБОУ
ВО Ярославский государственный технический университет.
Ярославль.
377
Лоек Кшиштоф, профессор истории, Высшая Школа
менеджерских кадров г. Конин, Республика Польша.
Лысенко Игорь Владимирович, священник, доцент Русской
христианской гуманитарной академии. Санкт-Петербург.
Меньшов Николай Петрович, кандидат исторических наук,
историк-архивист. Москва.
Михайленко Татьяна Вячеславовна, иконописец, член союза
художников России. Санкт-Петербург.
Михеев Валерий Леонидович, кандидат юридических наук,
доцент,
ректор,
Российский
государственный
гидрометеорологический университет. Санкт-Петербург;
Монахиня Антония (Лангуева), старшая сестра СанктПетербургского подворья Константино-Еленинского женского
монастыря Санкт-Петербургской Епархии.
Нурышев Геннадий Николаевич, доктор политических наук,
профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет. Санкт-Петербург
Овчинникова Елена Анатольевна, кандидат философских
наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет.
Санкт-Петербург.
Палкин Иван Иванович, кандидат военных наук, доцент,
проректор по внеучебной и воспитательной работе, Российский
государственный гидрометеорологический университет. СанктПетербург.
Петушков Сергей Александрович, старший преподаватель,
Российский
государственный
гидрометеорологический
университет. Санкт-Петербург.
Пименов Георгий Германович, священник, соискатель
аспирантуры Санкт-Петербургской духовной академии. СанктПетербург.
Портнягина
Наталья
Александровна,
кандидат
исторических
наук,
доцент,
Санкт-Петербургский
государственный университет. Санкт-Петербург.
Рашитова Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук.
Санкт-Петербург.
378
Рогожкина Софья Петровна, студент Российского
государственного гидрометеорологического университета. СанктПетербург.
Резвицкий Иван Иванович, доктор философских наук,
профессор, Российский государственный гидрометеорологический
университет. Санкт-Петербург.
Романов Константин Владимирович, доктор философских
наук, профессор, заведующий кафедрой, Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования. СанктПетербург.
Сартаков Алексей Владимирович, магистрант СанктПетербургской духовной академии. Санкт-Петербург.
Славнитский Николай Равильевич, кандидат исторических
наук, Государственный музей истории Санкт-Петербурга. СанктПетербург.
Смирнов Андрей Вячеславович, кандидат химических наук,
старший
научный
сотрудник,
Санкт-Петербургский
государственный технологический институт (Технический
университет). Санкт-Петербург.
Спиридонова Вера Анатольевна, кандидат социологических
наук,
доцент,
Российский
государственный
гидрометеорологический университет. Санкт-Петербург
Судариков Андрей Михайлович, заведующий кафедрой
социально-гуманитарных наук РГГМУ, доктор исторических
наук, профессор.
Устинова Ирина Олеговна, старший преподаватель СанктПетербургского института кино и телевидения. Санкт-Петербург.
Федоренко
старший
преподаватель,
Российский
государственный гидрометеорологический университет. СанктПетербург.
Филимонов Валерий Павлович, русский писатель-агиограф.
Санкт-Петербург.
Ханин Дмитрий Самуилович, кандидат педагогических наук,
преподаватель физики, информатики, кафедра компьютерных
технологий
и
электронного
обучения
РГПУ им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург.
379
Холяев Сергей Владимирович, кандидат исторических наук,
доцент. Санкт-Петербург.
Черных Никита Сергеевич, магистрант ЛГУ им. А.С.
Пушкина. Санкт-Петербург.
Чурзин Вячеслав Васильевич, СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Санкт-Петербург.
Шевченко Татьяна Ивановна, кандидат богословия,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела
новейшей истории Русской Православной Церкви Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Москва.
Шкаровский Михаил Витальевич, доктор исторических
наук, главный архивист Центрального государственного архива
Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург.
Шугалей Ирина Владимировна, доктор химических наук,
профессор. Санкт-Петербург;
380
Для заметок
381
Научное издание
Взгляд через столетие. Октябрьская революция 1917 года и ее
последствия в истории религиозной жизни России и Финляндии
Материалы
международной научной конференции
25 ноябрь 2017 г.
Ответственный редактор:
Казарина В.Б.
Редакторы:
Алексеев-Борецкий А.А., канд.филос.н. Гусева А.Ю., др.филос.н.Кефели И.Ф., д-р.филос.н. Лазар М.Г., д-р.ист.н
Судариков А.М.
Российский государственный гидрометеорологический
университет
190103, г. Санкт–Петербург, Рижский пр., д.11
382