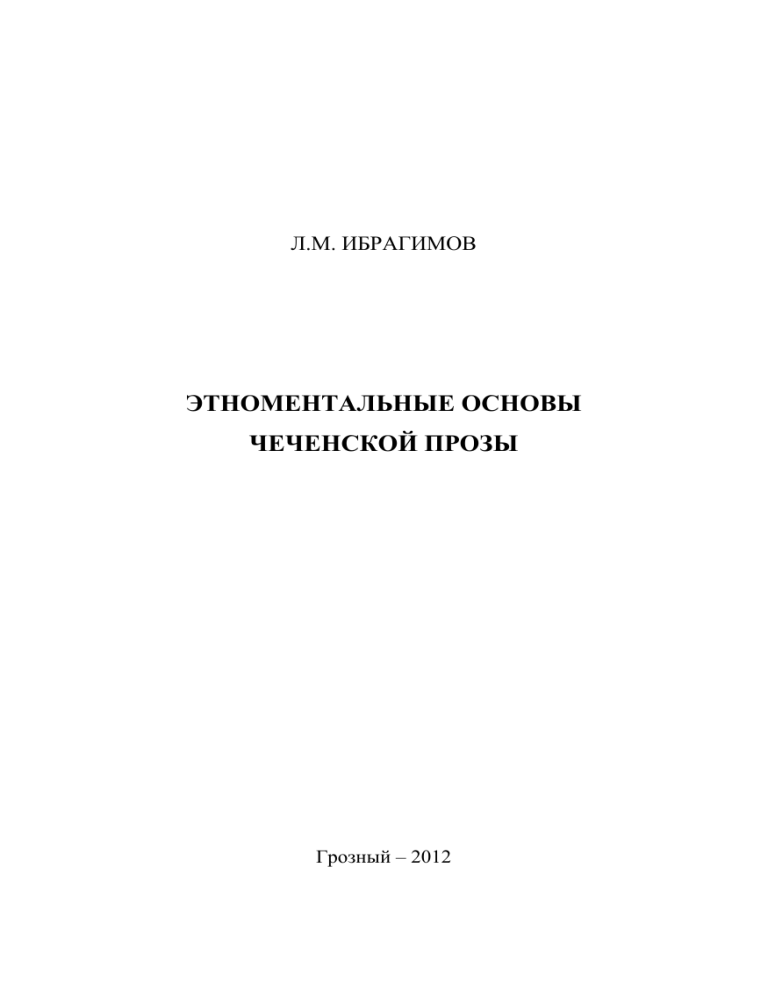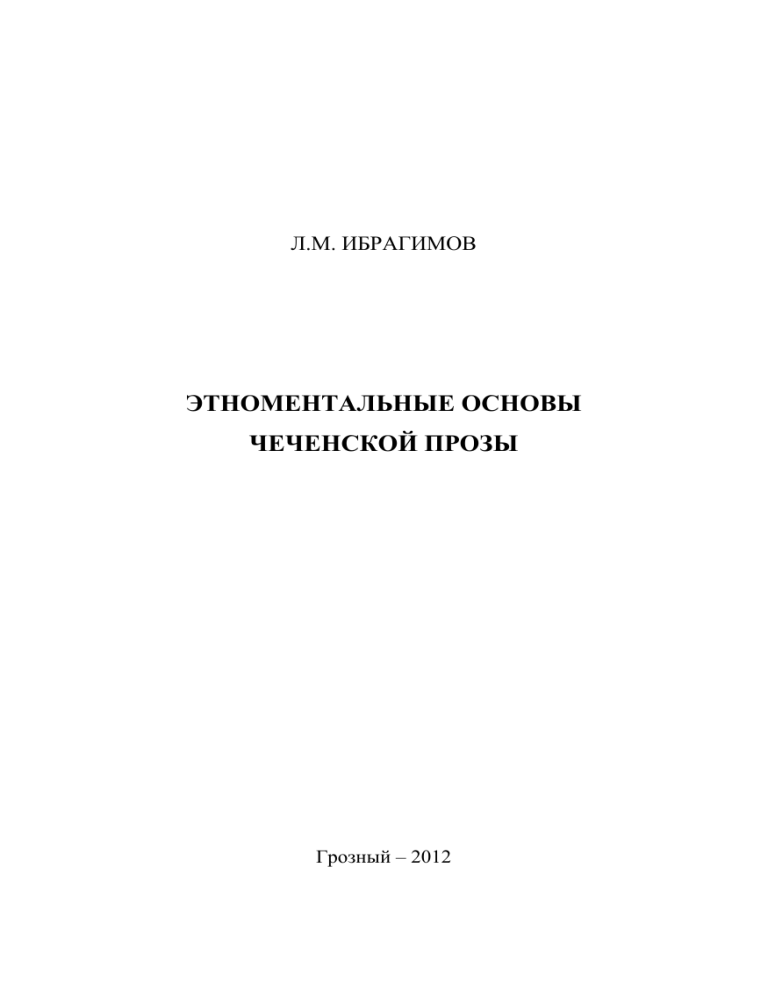
Л.М. ИБРАГИМОВ
ЭТНОМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ЧЕЧЕНСКОЙ ПРОЗЫ
Грозный – 2012
Печатается по решению Ученого Совета ЧГУ
протокол № 7 от 29.11. 2012 г.
УДК 82-3
ББК 83
И – 15
Научный редактор – доктор филологических наук,
профессор З.Н. Акавов
Рецензенты: доктор филологических наук,
профессор А.М. Аджиев
кандидат филологических наук
Г.В. Индербаев
Ибрагимов Л.М. Этноментальные основы чеченской прозы. –
Монография. – Грозный, издательство ЧГУ, 2012. – 168 с.
В исследовании предпринята попытка монографического
изучения художественных, этнических и фольклорных традиций, определивших национальные особенности творчества чеченских прозаиков. В работе исследуются этноментальные основы и словесно-образный мир чеченской прозы. Книга адресована широкому кругу читателей, литературоведам, преподавателям, студентам филологических специальностей вузов и педагогических колледжей.
ISBN 978-5-91127-053-7
© Ибрагимов Л.М.
©Чеченский государственный университет, 2012
ВВЕДЕНИЕ
Сложные социальные, этнополитические, культурологические процессы, происходящие в России, в том числе и на Северном Кавказе, вызывают интерес к проблемам, связанным с
этнической психологией, самосознанием, проявляющимся в
межнациональных взаимоотношениях. Особенности национальной самоидентификации вызывают насущный теоретический и
практический интерес. В отечественном литературоведении
проблема этноментальных аспектов в последнее время активно
разрабатывается многими российскими исследователями.
Проблема этноментальных основ, национального мира чеченской прозы в национальном литературоведении изучена не
так широко и детально. Очевиден подъем современной науки о
литературе в Чеченской Республике: в последнее время появляется все больше теоретических исследований литературоведов
республики и диссертационных работ молодых ученых. Тем не
менее, актуальность нашего исследования обусловлена постановкой проблемы, которой ни в одной из них не уделялось
должного внимания. До сих пор нет специальных монографических исследований и публикаций в периодических изданиях по
данной теме. В национальном литературоведении наше исследование является первой серьезной попыткой изучения этноментальных основ чеченской прозы.
Актуальность настоящего исследования состоит в постановке и теоретическом осмыслении кардинальной проблемы художественного мироведения, исследовании этноментальных основ, языковых особенностей картин национального мира, художественных образов в произведениях писателей С. Бадуева, А.
Айдамирова, И. Эльсанова, С. Яшуркаева, Л. Куни, К. Ибрагимова как наиболее ярких представителей чеченской прозы ХХ–
ХХI вв.
Исследование произведений обозначенных писателей позволяет проанализировать языковую картину мира чеченской
прозы, выявляя лингвистические особенности, стилистику и поэтику творчества этих литераторов. Современными исследователями чеченской литературы (И. Мунаевым, Х. Юсуповой, М.
Исмаиловой, Г. Индербаевым, Т. Джамбековой, О. Джамбековым, Л. Довлеткиреевой и т.д.) не раз подчеркивалось, что твор-
чество чеченских писателей отражает духовный опыт народа с
многовековой историей. Ментальность, отраженная в литературе, помогает вскрыть новые детерминанты человеческого поведения, обогащает и углубляет представление как самого народа
о самом себе, так и его соседей об этом народе. Важно выявить
этические аспекты выражения ментального своеобразия индивида, этноса. Такая художественно осмысленная информация
способствует осмыслению важности представителями иных этносов межкультурной коммуникации и диалога культур.
Сложность исследуемой проблемы потребовала изучения
обширного круга научной литературы. Исследуя этноментальные аспекты чеченской прозы, мы опирались на принципы и методы, разработанные в трудах Д. Лихачёва, Ю. Лотмана, Е. Мелетинского, М. Бахтина, У.Далгат, Г. Гачева, Н.Надъярных, А.
Бушмина и других классиков отечественного литературоведения.
Сегодня в мире коммуникативные процессы приобретают
статус ключевых факторов социальных изменений. Поэтому исследование ментальных характеристик становится важным основанием для построения типологий культуры. Наибольшие
успехи в разработке проблем теории ментальности в России достигнуты А.Я. Гуревичем и сотрудниками руководимого им исследовательского центра «Человек в истории».
Значительную роль в решении научной концепции нашей
работы сыграли труды и северокавказских литературоведов. В
последние годы появился ряд фундаментальных работ, посвященных проблемам национального своеобразия северокавказских литератур, динамике развития художественного сознания.
Исследователи национальных литератур Л. Бекизова, А. Мусукаева, К. Султанов решают проблемы художественного мировидения, национального своеобразия творчества, специфики художественных образов. Глубокому исследованию особенностей
русского и кавказского менталитетов посвящена монография
З.Н. Акавова и Л.А. Эмировой «Кавказская проза А.А. Бестужева-Марлинского: проблемы русского менталитета в евразийском
диалоге культур» (Махачкала, 2004). Авторы исследуют русский и кавказский национальные характеры не только с литературоведческой, но и с философской точки зрения, показывая
национальные характеры в контексте диалога разных культур.
Источниками нашего исследования послужили также материалы международных, российских и региональных форумов
по проблемам Северного Кавказа, опубликованные на страницах
газет, журналов и в сети Интернет: К. Ибрагимова, А. Найман,
Л. Бекизовой, Л. Егоровой, Л. Куни, В. Лебедевой, М. Хакуашевой.
Другую группу исследований составили работы, связанные непосредственно с тематикой традиционной чеченской
культуры и литературы. Это монографии И. Мунаева, Л. Ильясова, Т. Чагаевой, Т. Мазаевой, Т. Шавлаевой, С. Хасиева, И.
Алироева, Х. Туркаева, Т. Джамбековой, Г. Индербаева; диссертации М. Исмаиловой, И. Мунаева, Х. Юсуповой, Л. Довлеткиреевой и др.
В качестве гипотезы научного исследования нами выдвигается идея об эволюции в создании национального образа мира
чеченскими писателями: от 1920–30-х годов к современности.
Если в литературе первой половины ХХ века этническая ментальность реализовывалась в художественных произведениях
только через фольклорные образы, то чеченская проза второй
половины ХХ века, особенно рубежа ХХ–ХХI вв. демонстрирует разнообразные приемы выражения национальной ментальности. Особенно ярко это проявляется в творчестве И. Эльсанова,
С. Яшуркаева, К. Ибрагимова, Л. Куни и др.
Цель исследования определяется её темой, необходимостью научного осмысления важнейших проблем, связанных с
особенностями художественного мировидения чеченских прозаиков, индивидуальными способами выражения чеченской
ментальности посредством элементов устного народного творчества, приемами создания национального мира, образа человека, воплощающего нравственное представление народа, философию мифов, легенд, афоризмов, пословиц.
Для достижения данной цели в разрешении нуждаются
следующие задачи:
– определить место и роль этнической ментальности в системе культуры;
– выявить идеи, способствующие категориальному определению национальной (этно)ментальности в художественной
литературе;
– установить роль литературы в формировании чеченской
художественной культуры;
– исследовать истоки творчества чеченских прозаиков,
обусловившие принципы изображения национального характера,
человека
этноса; проследить роль фольклорноэтнографических традиции в изображении героя и действительности, в воссоздании национального характера;
– исследовать творчество чеченских прозаиков с точки
зрения отражения в нем национального образа мира;
– проанализировать внутренний мир первого романа К.
Ибрагимова «Прошедшие войны» и выявить в нем основные
способы отражения этнической ментальности;
– описать круг художественных приемов, используемых
К. Ибрагимовым при воплощении национального характера в
романе «Прошедшие войны».
Для этого чеченская проза проинтерпретирована нами с
позиций выявления национального образа мира в эстетически
значимых произведениях как классиков (И. Цискаров, А. Шерипов, С. Бадуев, С. Арсанов, А. Айдамиров, Ш. Окуев), так и современных писателей (С. Яшуркаев, Л. Куни, К. Ибрагимов и
др.). Осуществлена практическая демонстрация корреляции
мышления и художественного слова на примере чеченского этноса. Смыслонаполненность слова формируется вместе с понятием, точнее, параллельно понятию и имеет свою историю. Она
отражает происхождение слова, развитие его значения, употребительный узус в прошлом и настоящем. Поэтому внимательное
отношение к слову дает нам возможность постичь ментальные
особенности друг друга в своем общечеловеческом единстве и
индивидуальном проявлении.
Национальное начало в творчестве чеченских писателей
выступает не только как тема, сюжет и предмет художественного отображения действительности, но и как взгляд художника на
мир вещей, на события своего времени. Каждая эпоха привносит
нечто особенное в мировоззрение и психику народа, каждый его
шаг вперед дается за счет этих изменений. Другое дело, что
происходит это не так быстро и не так наглядно для современника, как хотелось бы.
Созданный в романе К. Ибрагимова «Прошедшие войны»
образ мира воплощает представление писателя о действительности. Работая над произведением, художник организовал его
структуру так, чтобы читатель двигался по тексту от начала к
концу наиболее удобным для понимания смысла произведения
маршрутом. В данном произведении содержится программа познавательной деятельности по отношению к образу действительности, созданному писателем. Главное действие произведения ориентировано на реализацию этой программы читателем.
Программа эта и составляет сюжет. Реконструируя и осмысливая программу восприятия образа действительности в произведении, можно получить полное представление о сюжете.
В характере героев реализуются представления автора о
национальной картине мира. Особенную роль здесь играют отраженные в тексте, художественно осмысленные нравственные
законы, по которым живут герои, которыми руководствуются
они в своей жизнедеятельности и поведении. Важным элементом в структуре национальной картины мира выступает пейзаж.
В основе стремления художника, создающего произведения искусства, лежит интерес к человеку, его личности, характеру, индивидуальности, только ему присущей внешности, и
среде, в которой он обитает и т.д. Этнохудожественные истоки
чеченской литературы восходят к различным жанрам устного
народного творчества — песням, сказкам, легендам, пословицам
и поговоркам, преданиям. И именно в преданиях, пословицах и
поговорках проявляется вековая мудрость и менталитет народа,
общественный строй, национальная история, его быт и мировоззрение писателя. С учетом вышесказанного ареальное изучение
многокрасочной палитры культур является одной из важных
научно-исследовательских задач, актуальными становятся проблемы развития современных этнокультур. В связи с этим рассмотрение чеченской художественной культуры в качестве модели, применимой для изучения культурно-цивилизационных
процессов и развития национальных культур, представляется
научно-практической проблемой как регионального, так и глобального уровня.
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
МЕНТАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ
НАУКЕ
1.1. Современные подходы к изучению национальной
ментальности в художественной культуре (литературе)
Социальная трансформация российского общества, одной
из составляющих которой выступает проблема возрождения и
развития духовной культуры народов России, ставит сегодня
перед представителями отечественной гуманитарной мысли ряд
задач, связанных с уточнением специфики национальной ментальности этих народов.
Ментальность – понятие относительно новое в науке. Оно
вошло в научную сферу в середине 50-х годов ХХ столетия благодаря исследованиям французских ученых Ж. Люб'е и Р.
Мандру (Электронный ресурс). В последнее время это понятие
стало очень популярным и широко употребляемым. Словом
«ментальность» характеризуют определенные социальнопсихические явления, поэтому можно говорить о ментальности,
присущей определенной эпохе, поскольку ментальность отображает духовный мир человека или социальной общности, эпохи или этнокультуры. Исходя из этого, мы можем утверждать,
что категория «ментальность» дает возможность анализировать
национальный характер людей в этническом контексте. Этническая ментальность проявляется в доминирующих жизненных
настроениях людей, характерных особенностях их мироощущения, мировосприятия, системе моральных приоритетов, норм,
ценностей и принципов воспитания, в соотношении магических
и технологических методов влияния на действительность, формах взаимоотношений между людьми, семейных принципах, в
отношении к природе и работе, организации быта, праздников, в
конкретных актах самоорганизации этноса и т. п. Таким образом, применительно к какой-то психологической черте этноса
или особенности его поведения, говорят, что «это заложено в
нашей ментальности» или «это не отвечает нашей ментальности».
Ментальность – это целостное выражение духовных
направлений, которые не сводятся к сумме общественного со-
знания (религии, науки, искусства), а является специфическим
отображением действительности, обусловленным жизнедеятельностью народа в определенной географической и культурно-исторической среде его обитания.
Ментальность – важный этнопсихологический феномен,
выступающий интегральным этнопсихологическим признаком
личности, народа, нации. Ментальность рассматривают как систему, которая создана тремя компонентами: эмоциональным,
познавательным и поведенческим. Эмоциональный (эмотивный)
компонент ментальности составляется из эмоциональных состояний и переживаний. Он дает определенный энергетический заряд ментальности, стимулирует познавательную и поведенческую деятельность, мотивирует ее определенным чином. Познавательный (когнитивный) компонент ментальности состоит из
знания об объектах и ситуациях жизнедеятельности, которые
являются результатом обретения индивидуального жизненного
опыта (обучение). Познавательный компонент ментальности в
значительной мере дает возможность народу ориентироваться в
определенных исторических ситуациях. Поведенческий (коннотативный) компонент выражается в действиях, поступках этноса. Благодаря поведенческому компоненту реализуются ценностные ориентации этноса. Итак, этническая ментальность –
это целостная система образов, представлений, ценностносмысловых образований и «своеобразных правил жизни», что
стимулирует и регулирует национальный тип поведения в этих
культурных и естественных условиях. Типичные психологические черты этносубъектов, что зафиксированы в их ментальности, есть вместе с тем и своеобразные «метки» той естественной
и социальной среды, в которой они сформировались.
Именно этническая ментальность становится на современном этапе относительно самостоятельным и даже определяющим социально-историческим фактором, который предопределяет не только процессы этногенеза, но и общественнополитические процессы в государстве. История свидетельствует, что все стабильные и могущественные нации, которые существовали в прошлом или существуют сегодня, имеют идеалидею, которая глубоко укоренилась в душе людей, въелась в их
характеры. Например, у американцев – это свобода личности –
«живи свободным или умри», у англичан – аристократизм, по-
рядочность, у немцев – упорядоченность, у французов – изысканность, у итальянцев – полнокровность, эмоциональная
насыщенность, у японцев – филигранное совершенство во всем.
Наибольшие успехи в разработке проблем теории ментальности в России достигнуты А.Я. Гуревичем и сотрудниками
руководимого им исследовательского центра «Человек в истории».
В 1981 году, описывая народное сознание, Гуревич вводит
термин «mentality», называя его духовным инструментарием,
умственным оснащением, складом ума [Гуревич 1981: 19]. От
него, по Гуревичу, зависят видение мира, приемы освоения действительности, коллективные психологические установки, т.е.
это имплицитные, неявные модели и навыки сознания и поведения. Это не элитарное сознание верхних слоев общества, а сознание нижних народных слоев. Согласно ему, Марк Блок и
Люсьен Февр [Блок, Февр: Электронный ресурс] применили понятие «mentality» к умонастроениям, складу ума, коллективной
психологии людей в «горячих обществах», находящихся на стадии цивилизации [Гуревич 1979: 56-57]. Говоря о ментальности
больших групп людей, Гуревич замечает, что «понятие ментальности означает наличие у людей того или иного общества,
принадлежащих к одной культуре, определенного общего «умственного инструментария», «психологической оснастки», которая дает им возможность по-своему воспринимать и осознавать
свое природное и социальное окружение и самих себя» [Гуревич
1979:56-57]. При этом создается особое мировидение, которое
налагает неизгладимый отпечаток на все поведение человека.
Для самого Гуревича благодатным полем исследования является
«Средневековье – эпоха господства ритуала, условного демонстративного жеста, заклинающего или благословляющего слова,
строгого этикета во всех социальных отправлениях человека»
[Гуревич 1979: 65].
Развивая свои мысли, А. Гуревич отмечает, что для изучения ментальности надо выявить установки сознания, что ментальность не официальная идеология и не история общественной мысли. Вообще, духовная жизнь общества богаче и шире,
чем сумма политических и философских доктрин, чем религия,
ересь, эстетическая мысль и поэтика [Гуревич 2001: 16]. Касаясь источников для изучения ментальностей, А. Гуревич замеча-
ет, что «не существует какой-либо специфической категории источников для изучения ментальностей: любой текст или предмет, возникший в другую эпоху «есть свидетельство, и оно может пролить свет на его сознание. И, естественно, ментальность
делается не на уровне официальном, теоретическом, а на уровне
обыденного сознания» [Гуревич 2001:17]. Исходя из этого, ставя
задачу перед историком, ученый предостерегает его: «Ни одной
эпохе нельзя верить на слово, нужно вскрыть те представления
ее людей о мире и о самих себе, которые, возможно, не были
выражены прямо и всеми словами. Этими представлениями, при
всей их смутности и непрорефлексированности, прежде всего,
руководствуется человек в своей повседневной жизни» [Гуревич
2001: 18].
Ментальность человека создает особое мировидение, которое, в свою очередь, влияет на творчество человека. Если выявлены ментальности, то они непременно дают социокультурную картину мира, своего рода мировидение, т.е. органическое
слагаемое социальной жизни. В годы тоталитаризма общественные науки страдали от неучтенности менталитета живых, действующих людей, субъектов истории: «Игнорирование мировосприятия людей прошлого изуродовало всю картину истории
и превратило ее в поле игры социологических абстракций» [Гуревич 2001: 22].
Продолжая свои мысли о ментальности, А.Я. Гуревич в
другой публикации называет их автоматизмами и привычками
сознания. Он пишет: «ментальности диффузны, разлиты в культуре и обыденном сознании. По большей части они не осознаются самими людьми, обладающими этим видением мира, проявляясь в их поведении и высказываниях, как бы помимо их
намерений и воли. Ментальности выражают не столько индивидуальные установки личности, сколько внеличную сторону общественного сознания, будучи имплицированы в языке и других
знаковых системах, в обычаях, традициях и верованиях» [Гуревич 2002:75].
История ментальностей выросла из этнологии, культурной
антропологии и социальной психологии. Исследование ментальностей было белым пятном лишь для советской исторической науки: «на Западе проблема ментальностей выросла ныне в
первостепенную, центральную задачу исторического знания»
[Гуревич 2002: 76]. Благодаря работам Марка Блока, Люсьена
Февра и их последователей исследователи вместо изучения истории героев, правителей, государственных деятелей и мыслителей перешли к изучению истории повседневной жизни разных
социальных слоев и групп, рядовых людей, общества в целом,
констатирует А. Гуревич. Говоря о ментальности как о мировидении, составленном из представлений и установок, он выделяет
как первостепенные такие ее представления:
- Восприятие пространства и времени;
- Отношения мира земного с миром потусторонним;
- Восприятие и переживание смерти;
- Сверхъестественный и естественный миры.
Кроме этого, через ментальность проясняются:
1) отношение к природе;
2) оценка общества и его компонентов;
3) понимание соотношения части и целого, индивида и
коллектива, степени выделенности личности в социуме (или его
поглощенности).
Выявляются также отношение к труду, собственности и
богатству, бедности; отношение к различным видам богатства и
к разным сферам деятельности; выделяются установки на новое,
на традицию; дается оценка правилам и обычаям, их роли в
жизни общества; выделяется особое понимание власти, государства и подчинения; интерпретируются различные виды свободы;
описывается степень доступности к различным видам источников и средств хранения и распространения информации, выделяется и описывается культура письменной и устной речи.
И это все вместе взятое и многое другое, что будет затронуто исследователями в будущем, создает систему, т.е. картину
мира, своего рода широкую панораму культуры. А последняя
тождественна социальной сущности человека, взятой вместе со
способом освоения этого мира. Таковы темы исследовательских
интересов, сферы приложения метода ментального рассмотрения мира, компоненты самой картины мира. И все это создает
единый ментальный взгляд на мир в целом.
Ментальности изменяются чрезвычайно медленно. Говоря
о значении ментальности в истории, исследователь подчеркивает, что «любые факторы исторического движения становятся его
действительными пружинами, реальными причинами, когда они
пропущены через ментальность людей и трансформированы
ею» [Гуревич 2000:8]. Важным признаком ментальности является ее неосознанность или неполная осознанность.
Потому, естественно, что «в ментальности раскрывается
то, о чем изучаемая историческая эпоха вовсе и не собиралась,
да и не была в состоянии сообщить, и эти ее невольные послания, не отфильтрованные и не процензурированные в умах тех,
кто их отправил, тем самым люди лишены намеренной тенденциозности – в них эпоха как бы помимо собственной воли
«проговаривается» о самой себе, о своих «секретах» [Гуревич
2003: 115]. Знания об истории человека, верованиях и страхах,
представлениях и чувствах, поведении и жизненных ценностях
– все это дано в ментальности. Гуревич не отказывает человеку
в его личной ментальности: «Если идеи вырабатывают и высказывают немногие, то ментальность – неотъемлемое качество
любого человека, ее нужно лишь уметь уловить», т.е. и слой
идеологов имеет свою ментальность. Таким образом, ментальность – пласт сознания, явно не выговоренный, текучий и потаенный. Ментальность неавтономна, но нет у нее и механической
зависимости от материальной жизни. На ментальности сверху
надстраиваются все рациональные, осмысленные идеологические системы. И потому без учета этого слоя сознания невозможно понять эпоху и ее людей, ее культуру и ее идеологию.
Продолжая свои размышления над природой и сущностью ментальности, Гуревич дает (1989 г.) следующее ее определение:
«Ментальность – социально-психологические установки, способы восприятия, манера чувствовать и думать. Ментальность выражает повседневный облик коллективного сознания, не отрефлексированного и не систематизированного посредством целенаправленных умственных усилий мыслителей и теоретиков.
Идеи на уровне ментальности – это не порожденные индивидуальным сознанием завершенные в себе духовные конструкции, а
восприятие такого рода идей определяется социальной средой;
восприятие, которое их бессознательно и бесконтрольно видоизменяет, искажает и упрощает», т.е. ментальные идеи – плод
такого социального образования, которое не осознает, что творит такие идеи. И в основе любых идеологических конструкций
идей лежит ментальность людей, их создавших. ... Есть своя
ментальность и у простого народа – «у безмолвствовавшего
большинства», практически исключаемого из истории. Они оказываются «способны заговорить на языке символов, ритуалов,
жестов, обычаев и суеверий и донести до сведения историков
хотя бы частицу своего универсума» [Гуревич 2003: 115].
Сторонницей взглядов А. Гуревича является Е.М. Михина.
Она отмечает, что через работы А. Гуревича слова «ментальность» и «менталитет» прочно вошли в научную и обыденную
речь. Неопределенность слова «mentalitу» одни принимают за
недостаток, другие – за достоинство. И «единство ментальности
обеспечивается не столько рациональной связью понятий,
сколько значимыми для людей ценностями», т.е. получается,
что ценности как бы освещают ментальный мир [Михина
1994:305]. С введением понятия «ментальность», «культура
предстает теперь гораздо более вязкой, инерционной, почти материальной, неким сплавом духовного и бытового», и представление о культуре «утяжеляется», ей уже труднее «парить» в воздухе» [Михина 1994: 305].
В самой теории ментальности ключевой проблемой, по
мнению Михиной, является выяснение причин механизмов её
изменения. И она приводит мнения других исследователей по
данной проблеме. Так, Д.Е. Харитонович считает, что сдвиги
ментальности происходят под влиянием крупных исторических
событий. А.Л. Баткин не только не приравнивает друг другу понятия культуры и ментальности, но и противопоставляет их.
Ментальность, считает он, есть набор стереотипов и бессознательных привычных реакций, и в этом смысле она неподвижна, поскольку стереотипы сковывают, предопределяют поступки и мысли людей. Но в ходе использования стереотипов
множеством индивидуальных сознаний ментальность раскачивается, «размораживается» и начинает «дышать». Движение, которое происходит внутри и посредством стереотипов, незаметно
превращает их в нечто иное. Ростки точечных сознаний разрушают глыбу традиционного сознания. Таким образом, по Баткину, культура – это движущаяся ментальность, а ментальность –
застывшая культура.
Проблема национальной ментальности в наши дни рассматривается и в публицистике, но менее строго, чем в науке.
Во времена распада СССР в Прибалтике ученые много дискутировали на тему: что есть национальный менталитет? Понимая
большей частью под менталитетом разум и мышление, прибалтийцы считают, что «основу национального менталитета составляет менталитет отдельной личности. А это, прежде всего,
свобода творчества, свобода мысли, выбора, суждений и стремлений. Основа менталитета нации – в ее свободе. Онтологическое определение национального менталитета сводится к «способности нации абсолютно определять свою судьбу, реализуя
эту способность как собственную, от своего имени, под свою
ответственность, самостоятельно и для себя. Это одновременно
и онтологическая потенция, составляющая основу национального менталитета» [Микутавичюс 1991: 149]. В данном определении под менталитетом понимаются национальное самосознание
и поведение.
По мнению М.А. Шенкао, «национальная ментальность
есть сложная система взглядов на мир, на чужие традиции и
обычаи. Национальная ментальность – сложный клубок духовного образования, где имеется и важная нормативно-оценочная
сторона сознания, и, как следствие этого, имеются своеобразные
национально-этнические, духовно-ценностные ориентиры, которые способствуют выживанию этносов (особенно малочисленных народов) при всех исторических коллизиях. Можно сказать, что национальная ментальность есть затаенная мудрость (а
то и философия, в широком смысле слова) народа. Эта мудрость, т.е. жизненная философия, не афишируется, не выставляется наружу в обычное время. Их манифестируют лишь в часы
пик, в моменты истин. Ментальности, как мироориентационные
чувства, ощущения и представления, проявляют себя в особом
мировидении и поведении людей. К примеру, в конце концов,
русского делает русским его ментальность, т.е. русскость русского проявляется через его ментальные установки и стереотипы, которые, как и у любого народа России, медленно меняются
в сторону европеизации. Можно заставить народ принять чужую
идеологию, но ментальность – нет. Она как особый стиль мышления, как особая правда народа по природе прогрессивноконсервативна, т.е. она медленно отбирает из опыта этноса жизнеспособное, апробированное (опыт, доставшийся ей кровью и
потом) и аккумулирует их у себя в виде народной мудрости»
[Шенкао 2002:252].
Скрытая структура ментальности этноса проявляется в
пороговых экзистенциальных ситуациях в жизни народа. К примеру, для народов Северного Кавказа, и в частности Чеченской
республики), она национально-своеобразно проявлялась и проявляется в здравицах (декъалвар, луца), в предисловиях и послесловиях к намазам (молитвам), в слове об умершем (веллачух
дош алар), в слове учителя (устазан дош), в завещании умирающего (весет, васият), на суде, на родовом и семейном сборе, в
молитвах-просьбах (до1а-дехар) – снятии порчи с ребенка, с раненого, в молитвах об уходе засухи (Къоршкъали), в угрозах
врагу, в плач-песнях (тийжамаш), в профессиональных языках
(охотничьих, языках с подтекстами, жаргонах), в письмах к родным из армии и в армию к новобранцам, в словах влюбленных,
в прямых просьбах верующих к Всевышнему (до1а), в обращениях к начальству, чиновникам, воззваниях (арз, дехар, кхайкхам), в дебатах, докладах, решениях и требованиях национальных общественных организаций (д1ахьедар).
Человек, живя по меркам и в рамках национальной ментальности, ощущает себя комфортно, психологически неуязвимо. Параметры поведения и мышления, заданные ему национальной ментальностью, конечно, не освобождают его от обязанностей гражданина России, гражданина мира. Человек лишь
коррелирует свое поведение и мышление с всеобщим, с законом
для всех, но внутренне, ментально, понимает и делает его своим
по-своему. Каждый этнос имеет право на свою ментальность, на
свою истину, на свое национальное лицо и психологию: лишь
тогда он существует как субъект истории и культуры.
В «Словаре философских терминов» дается такое определение ментальности: «Ментальность – совокупность установок
сознания, привычек мышления, предрасположенностей восприятия, поведения и повседневных верований индивида или социальной группы» [Словарь философских терминов 2005: 315].
Подводя общие итоги, мы можем сказать, что в России
существует собственная школа историков, философов, культурологов и психологов, занимающихся теорией ментальности.
Это школа сделала довольно серьезные шаги в разработке собственной концепции истории ментальности. Серьезные оригинальные культурологические мысли Г.Д. Гачева обогатили общемировую копилку идей по теории ментальности. Общим для
всех российских теоретиков является то, что они ближе к социо-
генной теории происхождения ментальности.
Мы склоняемся к такому определению термина: ментальность – это особое неочищенное природно-изначальное мировидение масс, отдельной личности; это эмоции, идеалы, ценности
этноса, это неофициальное, потаенное «сознание при себе»;
это – своя правда (личности, этноса).
Люди одного менталитета понимают друг друга с одного
взгляда, с полуслова, интуитивно. Ментальность как нечто затаенное, как тайна и общее мировидение их консолидирует, делает их идеалы и смысл жизни общими. Мир через общий менталитет видится гармоничным, понятным, своим, комфортным.
Проблема определения и выявления этнокультурных
общностей приобрела актуальное значение в последние десятилетия. Наличие многих нерешенных и спорных вопросов в
национальной политике государства, недостаточные теоретические знания, накопленные в марксистский период развития отечественной науки, подсказывают необходимость новых подходов к решению проблем этнологии, философии, культурологии,
которые связаны с этносом, национальной культурой и национальным характером. Хотя в последнее время ученымисоциологами, этнологами, философами пишутся ценные труды
по этническим проблемам, разработаны такие понятия как этнопсихология, национальный характер, архетипы, ментальность
или менталитет, этнокультурные стереотипы, однако до сих пор
понимание, определение этих понятий остается недостаточно
адекватным. Выявление тех или иных черт национального самосознания и национальных поведенческих стереотипов не имеет
разработанной методологии; недостаточно четко разработан категориальный аппарат. Застой в этой области был предопределен всем ходом развития отечественной науки за последние
семьдесят с лишним лет. В годы воинствующего марксизма и
засилья его химерических отпрысков – истмата, диамата, формационной теории, – изучение особенностей национальной
идентификации граждан не получило почти никакого развития.
Приоритет отдавался модному в то время примитивному интернационализму, классовости, классовой солидарности, классовому самосознанию. В качестве непреложных истин с высоких
трибун съездов и университетских кафедр заявлялось об абсолютной роли классового фактора в истории человечества, клас-
совая борьба объявлялась двигателем прогресса. Различия, коренящиеся в глубинных слоях подсознания и вызванные разностью этнопсихологических установок и парадигм у тех или
иных народов – не суть важны, важно классовое происхождение, и оно, в конце концов, объединит русского, татарина, калмыка, чеченца или балкарца.
Смысл жизни человека, нации, человечества – познание
своей сущности (природы, идеи), выяснение своей идентичности. Смысл жизни как отдельного человека, так и человечества,
и этноса – онтологическая философская проблема (т.е. ее решение не нужно изобретать, а следует находить в основах мироздания), которая имеет общечеловеческий и национальноэтнический онтологический аспект (универсальное поле смыслов, задаваемое свыше человечеству и отдельным народам) и
индивидуальный онтологический аспект (миссия человека и этноса в земной жизни, задаваемая свыше каждому человеку и этносу). Библейские слова о том, что «много званных, но мало избранных», на мой взгляд, выражают проблему каждого человека
(или любого целостного человеческого сообщества, например,
этноса) – поиска своего призвания-миссии в жизни. Эта проблема в принципе решаема – для каждого природного образования,
наделенного сознанием, есть своя природная миссия, т.е. «много
званных» (по существу все званные), но не каждый в своей жизни хочет или успевает ее решить, т.е. «мало избранных», мало
познавших самих себя в главном – природном предназначении.
В этой связи важно обратиться к проблемам методологии
познания национальной идеи на уровне философской рациональности. В контексте данного наиболее общего раздела понятия «нация», «этнос» и «народ» не разделяются строго и употребляются в одном и том же смысле – как культурногеографические общности людей без обязательного отнесения к
расово-этническому («кровному»), т.е. биологическому признаку представителей этих общностей. Смысл жизни этноса с точки
зрения биологии – продолжение его физического существования, т.е. смысл жизни при чисто биологическом подходе может
обсуждаться только на «животном уровне» биоценоза и популяции, жизнь особи такому подходу безразлична. Более того,
жизнь больных и убогих есть зло для «генетического здоровья»
сообществ любых живых существ, в том числе и человека. Ин-
туиция человека естественно протестует против такого «смысла». Какова суть национальной идеи: она метафизическая (т.е.
сверхприродная) или это интеллектуальный конструкт философов, идеология власть предержащих, экзистенциальный феномен, миф? Среди философов имеет место явно ущербный субъективистско-релятивистский подход к проблеме смысла жизни
человека, этноса, общества, т.е. считается, что проблема смысла
жизни состоит в его конструировании как субъективнокреативной реальности. При таком подходе из поля зрения выпадает онтологический аспект национальной идеи и соответственно проблема смысла жизни выносится на обочину философских проблем.
С нашей точки зрения, смысл жизни этноса – одна из важнейших составляющих национальной идеи, которая выражается
в миссии этноса (нации) как целостности во всей истории его
земной жизни. Этническое сознание, этнический коллективный
разум должны решить трудную (но разрешимую) философскую
проблему познания самого себя, исходя прежде всего из осознания своей миссии, задаваемой высшим Началом. Этническое, и
вообще коллективное, сознание полностью недоступны индивидуальному человеческому восприятию, познанию и пониманию.
Этот предмет находится за пределами возможного опыта человека, т.е. это метафизический объект. Человеку трудно познать
сферу бессознательного (по определению – иначе, какое же это
бессознательное?), ему также трудно включить в сферу индивидуального сознания понимание сознания коллективного – иначе
какое же оно коллективное? Следовательно, поскольку мы имеем дело с метафизическим объектом, нужно с сожалением признать, что познание его ограничено.
Когда национальная идея познается и высказывается в понятной для многих форме, можно говорить о выявлении народом своей идентичности, о пробуждении национального, или
этнического самосознания. В качестве центральной буду обосновывать мысль, что сущность народа выражается в его традициях-преданиях и что именно традиции-предания раскрывают
национальную ментальность и определяют национальную идентичность.
Осознанная национальная идентичность может выражаться в идеологической и политической форме. Вопрос состоит
лишь в том, верно ли народ определяет самого себя. Первая методологическая установка, которую считаем необходимой принять: понятия «национальная идея», «сущность нации», «национальная идентичность» суть понятия, обозначающие онтологические основы жизни этноса. Вопросы онтологии неизбежно
связаны с метафизикой. Метафизический объект – объект, в существовании которого мы убеждены, но вместе с тем осознаем
невозможность его познания научными методами, в пределах
возможного опыта. Природа народа, сущность его идентичности
– метафизический объект, следовательно, он находится за пределами возможного опыта отдельного человека, в том числе
специально познающего этот объект. Отсюда следует, что нам
чрезвычайно трудно выявить предикаты такого объекта, как
природа нации, хотя и не надо отказываться от познания его.
Здесь успокаивает уверенность в единой природе того или иного
этноса (народа, нации). Безотносительно к тому, познали мы ее
или нет, она определяет органичную целостность народа, его
имманентное единство. Вторая методологическая установка:
национальная идея как сущностная основа жизни нации имеет и
общечеловеческие, и национально-особенные ипостаси. Национальная же идентичность выявляется по специфическим признакам сущности нации. Поэтому при анализе работ по национальной идее любого народа нужно изымать из рассмотрения
простое перечисление общечеловеческих черт.
Третья методологическая установка имеет этические основания и должна быть сформулирована в форме императива:
«Этические черты и уровень интеллекта не могут быть специфичными для отдельных наций, а присущи всем народам в равной степени». Эта установка «освобождает» от шовинизма ввиду того, что национальная идентичность не может выражаться в
превосходстве одного народа над другим в отношении умственных способностей и способности нести добро. В первом приближении при методологическом анализе необходимо ясно
установить, какие характеристики нации, пусть на первый
взгляд и важные, не являются атрибутами ее самости, ее «Я», ее
сущности. Рассмотрим их.
Национальность. Здесь имеется в виду национальность по
биологическим генам, расово-этническая, кровнородственная
принадлежность. Это, наверно, наиболее простой вопрос. Гене-
тическая характеристика не имеет существенного отношения к
национально-этнической идентичности. Можно привести миллионы примеров, когда люди, имеющие чужеродные корни, но
родившиеся или выросшие в соответствующем национальном
окружении, являются полными представителями этого окружения. Африканская кровь Пушкина не помешала ему стать русским национальным поэтом № 1 и одним из творцов русского
национального литературного языка.
Язык. Древнегреческий язык и латынь сохранились, но
вряд ли на территории современной Греции и Италии проживают те же этносы-нации, что и в античности. И наоборот, можно
с уверенностью говорить о сохранении идентичности евреев,
однако многие представители этой нации (не по генам, но по
сущности) сменили иврит на идиш и даже на язык страны обитания. В современной Индии один из государственных языков
английский, многие на нем говорят, но не становятся при этом
англичанами по духу. К тому же в многонациональных странах
есть писатели и поэты, которые говорят и пишут на языке не
своей нации, но остаются национальными писателями и поэтами, выразителями духа своего народа. Как ни притягательна
концепция Шеллинга, что историческое разделение человеческого общества на народы имело причиной, прежде всего, разделение языков, как ни весомы аргументы и авторитет Потебни,
который отождествлял национальную идентичность с национальным языком, – все же получается, что знак равенства между
понятиями «язык» и «нация» поставить невозможно. При этом
язык, безусловно, является важнейшей частью особенностей
народа. Недаром в этимологии русского языка слово «славяне»
имеет общий корень со «словом» и обозначает своих, владеющих общим языком («словом»), а слово «немец» имеет общий
корень со словом «немой» и обозначает изначально чужестранцев, говорящих на непонятном языке.
В целом, все сказанное выше свидетельствует о том, что
такой важнейший компонент национальной культуры, как язык,
все же не является инвариантом национальной идентичности.
Здесь «инвариант» означает неизменный признак народа при
всех формах его существования: исторических, географических,
политических и пр. При этом, конечно, надо сказать, что язык
есть важнейшая часть национальной идентичности.
Территория и государственность. Диаспора евреев, а
также армян приводила к утрате территории. Многие народы на
длительный период лишались государственной независимости,
но при этом сохранилась их национальная идентичность. Следовательно, и указанные характеристики не являются инвариантом
национальной идентичности.
Анализируя черты нации, В.И. Ленин в своих статьях
1913–1914 гг. по национальному вопросу (Ленин ПСС. Т. 48)
также пытался выявить существенные признаки нации и вместо
языка и территории остановился на общности экономической
жизни. На исходе второго тысячелетия с его унификацией экономической жизни совершенно очевидно, что общность экономической жизни никак не может быть принята ни за основу
национальной идентичности, ни за сущностный признак нации.
Религия. Религия имеет большую объединяющую силу,
чем язык – это прослеживается на примере еврейского народа,
который на протяжении истории менял язык, но сохранил верность иудаизму и национальную идентичность.
Ментальность. Понятие «ментальность» в данном контексте выступает как особенности характера, стиля, способа мировосприятия. Без своеобразия ментальности нет и нации как
особой целостности в человеческом сообществе, т.е. невозможно ее установить, идентифицировать. Другой вопрос: как и
насколько можно выявить такой идеальный объект в национальном «Я» рациональными методами? Эмпирический материал для этого дает национальная духовная культура: фольклор,
философия, искусство, произведения национальных мыслителей, – проблема здесь только в выделении национального и интернационального в каждой из названных сфер. Наиболее «чистый объект» – национальный фольклор, который выражает общие духовные черты народа, и если в фольклоре что-то заимствуется, то только то, что соответствует его природе.
Традиции и символы. Здесь имеются в виду традиции и
символы во всех сферах духовной и материальной жизни, образно говоря, без доли шутки, от национальных религиозных
святынь до квашеной капусты, мамалыги и черемши. Совершенно очевидно, без символов и традиций национальная идентичность скрывается в невидимые метафизические измерения,
становится неявной. Недаром Макиавелли рекомендовал за-
хватчикам разрушать столицы и святыни, с целью искоренить
духовные истоки и символы покоренного народа. Однако и до
него захватчики почти всегда так и поступали: они знали, что
разрушения ослабят дух покоренного народа.
Миссия. Метафизическая природа духовных корней народа есть и она определяет его миссию для себя и всего человечества. Природное предназначение в земной жизни отдельных
людей различается, это справедливо и для целостных общностей
– «нация», «народ», «этнос».
Таким образом, инвариантами национальной идентичности являются своеобразные ментальность, традиции и миссия.
В ряде исследований по коллективной психологии и истории
ментальностей высказывается мнение, что ментальность сковывает свободу человека, поскольку задается социокультурным
окружением. То есть отстаивается мнение, что ментальность –
одна из ипостасей, тянущих человека из сферы свободы в сферу
необходимости. На это надо ответить просто – следует различать «ментальность вредную» и «ментальность добрую». Не все
совершающееся по необходимости вредно для человека, не всякая свобода полезна человеку и народу. Ментальность органично входит в душу и интеллект человека, определяет его характер, но особенности характера человека не есть его несвобода,
хотя, конечно, характер человека определяет характер его мышления, переживаний и поступков – все это, однако, не противоречит свободе действия человека.
Сохранение традиций, а вместе с этим утверждение национальной ментальности – вопрос национальной (духовной) безопасности любого народа, как в смысле здоровья нации, так и в
смысле ее сохранения в среде душевно-интеллектуальных складов других народов. Носителями национального духа, на которых взращивается национальная ментальность, являются составляющие национальной духовной культуры: язык, фольклор,
религия, изобразительное искусство, литература, музыка и т.д.
Культивирование этих «почвенных» основ национальной ментальности внутри государства способствует единству (соборности) народа значительно более, чем государственнобюрократические структуры. Распространение этих основ в других государствах – мощное средство внешней политики, которое способствует духовному утверждению народа в среде дру-
гих народов. Отсюда граждане, которые работают за границей и
пропагандируют традиции, искусство, язык своего народа, способствуют выполнению важной миссии укрепления национальной безопасности Отчизны во внешней международной сфере,
улучшают экологию своего народа.
1.2. Национальная ментальность в художественной
литературе: основные методологические подходы
В условиях современных глобальных процессов, унификации национальных культур, приобретают особый смысл произведения писателей, создавших в ХХ веке общезначимые духовно-нравственные ценности. Актуальной задачей в таком контексте являются рассмотрение и выявление своеобразия национальной картины мира (НКМ), воплощение национальной ментальности в художественном слове, познание основ современной литературы.
Масштабные изменения в духовной сфере последних нескольких лет и последствия этих изменений сформировали новое отношение личности к процессу эстетической стратификации и, в первую очередь, к его основной составляющей – нормам и схемам оценки тех или иных характеристик моральных и
этических стереотипов. В то же время, общепринятая идеология,
общественная психология взаимоотношений в Российской Федерации не претерпели сколько-нибудь заметных изменений и, в
принципе, находятся в той же стадии развития, которая сложилась в советский период. По сути дела, дисбаланс между нефункциональной ныне социальной иерархией старой морали,
этики и трансформировавшимися факторами формирования
этих показателей во многом становится причиной дальнейшего
усугубления негативных явлений не только в области художественной культуры в целом, и литературы, в частности. Затрагивает и те области, которые, на первый взгляд, очень далеки от
эстетического и относятся больше к вопросам государственного
порядка – вплоть до проблем демографического и моральноэтического толка, при этом опосредованно влияя на ситуацию в
других областях жизнедеятельности. Происходящие сегодня в
России духовные преобразования обуславливают перемещение
основных зон культурной активности на так называемую нацио-
нальную периферию, в том числе, и в сфере национальных литератур. Это, в первую очередь, объясняется тем, что литературные системы и целые культурные регионы, прошедшие этапы развития эстетического сознания в эволюционном порядке,
давно оказались в ситуации, когда большинство нововведений в
области духовно-презентативной культуры, в сущности, оборачиваются – пусть на новых основаниях – традиционными системами общежития эстетического отражения, апробированными еще в XIX веке. Особый интерес в подобной ситуации вызывают общеэстетические системы – в частности системы литературного отражения, выражающие взгляды и стереотипы восприятия нетрадиционного толка, зачастую резко специфичные,
например, Северного Кавказа.
С другой стороны, одним из четко выраженных знаковых
направлений изучения данной проблематики служит анализ истории формирования моделей эстетического отражения в литературах различных народов во всех их формах – от радикально
классовых и идеологических до морально этических и философских. Изучение основных тенденций эволюции и формирования
конфликтных оппозиций в поэтических произведениях литератур народов Северного Кавказа, либо – альтернативных форм
художественного противопоставления тех или иных комплексов
нравственно-этического плана, представляется задачей, решение
которой может привести к пониманию фундаментальных закономерностей процессов изменения национального сознания. А
в конечном итоге – формированию адекватной стратегии (быть
может, на государственном уровне) в деле выявления и соответствующего заполнения приемлемых для небольших этносов
культурных ниш, что видится весьма актуальной проблемой
всего мира в последние полвека. Таким образом, проблемы
формирования эстетически полноценной художественной среды
в литературах народов Северного Кавказа имеют особое значение с точки зрения острой своеобычности культуры и этических
представлений, традиционных для региона, его прозы и поэзии.
С ними тесно смыкаются вопросы самого различного характера,
большинство аспектов реализации эстетического потенциала
национальных авторов, ментальной ориентации современного
общества и даже актуальные моменты национальной политики
Российской Федерации. Об этом пишет известный исследова-
тель литератур народов Северного Кавказа Л.П. Егорова в статье «Актуальные проблемы литературного кавказоведения»:
«Обращаясь к религиозным мотивам, мы тем самым проясняем
и проблему идентичности, и проблему ментальности, под которой понимается образ мышления, духовная настроенность как
отдельного человека, так и того сообщества, к которому он принадлежит. В нашем случае речь идет о проживающих на Кавказе
народах, как автохтонных, так и исторически обретших здесь
свою родину. Но как мы определим такую ментальность – как
этническую или национальную? Этому вопросу посвящен сборник нашей лаборатории «Этнонациональная ментальность в художественной литературе» [Ставрополь, 1999], поэтому я не буду повторяться, лишь подчеркну, что, не являясь собственно
филологической проблемой, дефиниция этнической и национальной ментальности может быть глубоко раскрыта на материале художественной литературы, быть предметом комплексного
исследования.
Не сводя проблему художественно познаваемой ментальности только к разработке религиозных мотивов, подчеркнем,
что важная составляющая художественных концепций и одновременно сторона объекта литературоведческих исследований, в
том числе и в кавказоведении, – потребность индивида быть
личностью, успешность или неуспешность реализации этой потребности. Такая, казалось бы, традиционная постановка вопросов, в наши дни актуализируется сменой парадигм: структурализм уступил место антропоцентрической парадигме. Разгадку
структуры личности философы и психологи ищут в особом пространстве – во внутреннем пространстве личности. Оно многогранно, ибо каждый человек, а в нашем контексте – литературный герой – сам творит свое личностное пространство. Личностное время и личностное пространство, говоря языком психологии, перцептуальны, т.е. обусловлены особенностями восприятия самого человека» [Егорова 2008: 17–19].
Антропоцентрическая парадигма предполагает функциональность аспектов тех или иных уровней поэтики. Важнейшие
категории, будь то жанр, стиль, композиция, сюжетостроение и
т.д. и т.п., интересуют литературоведа-антропоцентрика лишь в
той мере, в какой они работают на постижение общей философско-этической и эстетической концепции произведения и внут-
реннего мира его героев: он находит и подчеркивает их внутренние системные связи с авторской концепцией человека. Разумеется, категориями поэтики можно (и дóлжно) заниматься
весьма подробно и тщательно, уделяя внимание наиболее репрезентативным для данного произведения категориям. Здесь есть
свои открытия, но изучение этих категорий в максимально возможном полном объеме не может быть основной целью антропоцентрического литературоведения. Кстати, в сборнике «Антропоцентрическая парадигма в филологии» [Ставрополь, 2003]
ряд концептуально важных статей был посвящен именно литературам Северного Кавказа: депортация как антропологическая
проблема в лирике Исмаила Семенова [Б.А. Берберов, Нальчик],
или «Гора как этнопоэтическая константа в лирике Кайсына Кулиева» [Б. Тетуев, Нальчик], а также Кавказу как эстетическому
объекту русских писателей: «Техника изображения человека в
творчестве современных русскоязычных писателей Кавказа» [В.
Шульженко, Пятигорск].
Антропоцентрическая парадигма в литературоведении соответствует и современному этапу науки – постнеклассическому. (В постнеклассической науке утверждается парадигма целостности, согласно которой мироздание, биосфера, ноосфера,
общество, человек и т.д. представляют собой единую целостность. И проявлением этой целостности является то, что человек
находится не вне изучаемого объекта, а внутри него, он лишь
часть, познающая целое. И, как следствие такого подхода, мы
наблюдаем сближение естественных и общественных наук, при
котором идеи и принципы современного естествознания все
шире внедряются в гуманитарные науки, причем имеет место и
обратный процесс). В свете общенаучных методологических задач, мы не должны забывать, что тема «Этноментальные основы
чеченской прозы» разрабатывается нами в условиях постнеклассического этапа развития науки, когда на первый план выдвигается субъект исследования, в нашем случае – интерпретатор художественного текста. Избирая те или иные методологические
параметры, ту или иную призму интерпретации, исследователь
тем самым предопределяет характер получаемых в итоге знаний
[Постнеклассическая наука: Электронный ресурс].
Говоря о новых подходах к изучению истории национальных литератур, а значит и кавказской проблематики, нельзя не
выделить статьи научных сотрудников Северо-Осетинского института гуманитарных исследований Р.Я. Фидаровой, И.В.
Мамлиевой, где утверждается идея исследования северокавказской художественной словесности как целого. Практически это
было достигнуто еще ранее: в монографиях А.Х. Мусукаевой
(Нальчик) о северокавказском романе (и многочисленных диссертациях аспирантов ее научной школы), Р.Я. Фидаровой о северокавказской повести и др. Далее Л.П. Егорова делает ряд интересных замечаний относительно того, как «ставропольский
текст» вписывается в художественный мир литератур Северного
Кавказа: «Среди методологических подходов той же направленности надо отметить и изучение «кавказского текста» (по аналогии с «петербургским текстом», понятием, введенным В. Топоровым еще в 1970-х гг.). Это монография В.И. Шульженко
«Кавказский феномен русской прозы» [Пятигорск, 2001] и исследования его аспирантов. По пути текстуализации пространства пошли и мы, говоря о Ставрополе как тексте. Текст города,
в том числе и ставропольский, соответствует определенному локусу и формируется из его семиотических ресурсов. Для Ставрополя, лежащего «на семи холмах» таким текстообразующим и
визуальным знаком стала гора, значимая и сама по себе, и как
преддверие главной цепи Кавказских гор. В Ставрополе происходила первая встреча с горами путешественника, едущего на
Кавказ. «В Ставрополе я увидел на краю неба облака, поразившие мои взоры тому ровно за девять лет. Они были все те же,
все на том же месте. Это – снежные вершины Кавказской цепи»,
– писал А.С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум». Вспомним
также постоянно присутствующее в сознании Оленина «А горы…» в повести Л.Н. Толстого «Казаки». Гора как реальная
черта топоса Ставрополя не только заставляет вспомнить космогонические мифы о мировой горе, как оси мира (на такую роль
видимый из Ставрополя «пятитысячник» Эльбрус как нельзя
более подходит), но и связывает ставропольский текст с историко-культурным мифом о Кавказе, сложившимся в русской классической литературе» [Шульженко, 2001].
Структурная перестройка идеологического пространства,
кардинальные изменения поведенческих и культурных стереотипов, приводящих к трансформации народов в целом, трудности становления системы адаптированных к современному
окружению эстетических и морально-нравственных воззрений
ощутимо сказываются на областях презентативной культуры
народов Северного Кавказа. Четче всего негативные явления
заметны в сфере литературы: продолжается «старение» наших
литератур, падает читательский интерес к произведениям национальных авторов. Можно утверждать, что литература, точнее,
национальные литературы многих новописьменных народов подошли к определенной черте в своем развитии, к черте, за которой воспоследует либо новый рывок эволюции, либо наступит
время угасания.
Вопрос о методологии сущности национальной идентичности лежит в той же гуманитарной плоскости, что и вопрос о
национальной картине мира, так как своеобразные ментальность, традиции и миссия отражают содержание и этого направления в социокультурных исследованиях.
В последние полтора десятка лет оказались актуализированными и востребованными книги Г.Д. Гачева, посвященные
национальным образам мира. Уже первая из них – «Национальные образы мира» (М., 1988) возбудила общественное мнение:
слишком много в ней было необычного – форма, стиль, идеи. Их
обсуждение потребовало от автора объяснения не только своих
мировоззренческих установок, проблемного поля своих представлений о национальных образах мира, но и того метода изложения, которым он пользовался.
Объединив общим названием «гипотезы», Г. Гачев представил их в обобщающем виде в книге «Национальные образы
мира. Космо – Психо – Логос». (М., 1995). За несколько лет до
этой книги он рассказал, как начиналась еще в середине 60-х годов среди аспирантов Института мировой литературы разработка самой идеи «национальных образов мира» [Гачев Г. Национальный космос // Современная драматургия. 1990. № 2]. Тогда
на своеобразном семинаре, посвященном национальному пониманию мира в литературе, Гачев во вступительном слове изложил свое понимание проблемы: «… каждый народ видит мир
особым образом. Зависит это от того участка мирового бытия,
который достался, доверен на жизнь каждому народу: от особого сочетания первостихий – земли, воды, воздуха, огня – которое отлилось и в составе человека (этническом и духовном), и в
быту, и в слове. История народы меняет, сближает, перемеши-
вает, однако работает она на добротном, сложившемся тысячелетиями национальном субстрате, и все изменения суть именно
его изменения. Оттого и история народов своеобразна, и особы
в ней извивы и сочетание общей миру цивилизации и исконно
выросшей у народа каждого культуры» [Гачев 1990:180].
Через тридцать без малого лет, пройдя этапы обсуждения,
уточнения, предварительных публикаций, эти идеи Гачева
трансформировались в достаточно стройную теорию, названную
им «национальные образы мира». В основание своих представлений о национальных образах мира ученый положил несколько
принципиальных положений:
1. Существует некое Целое, единое устроение Бытия, т.е.
единичная мировая цивилизация, единый исторический процесс
существования человечества. Это единое интернациональное
Бытие мира (космос, природа, история, культура) проявляет себя через «национальные образы мира», каждый из которых суть
уникальное проявление этого бытия.
2. Национальный образ мира, национальная целостность
определяется через Космо–Психо–Логос, как своеобразное
единство взаимодополняющих друг друга национальной природы, склада психики и мышления. Их соответствие следующее:
«Природа каждой страны есть текст, исполненный смыслов, сокрытых в Матери-и. Народ-супруг Природины (Природы + Родины). В ходе труда за время Истории он разгадывает зов и завет Природы и создает Культуру, которая есть чадородие их семейной жизни. Природа и Культура находятся в диалоге: и в
тождестве, и в дополнительности; Общество и История призваны восполнить то, чего не даровано стране от природы» [Гачев
Г. Национальные образы мира. Космо – Психо – Логос. М.,
1995:11].
3. Природа – первична, она – главное, что «питает и расширенно воспроизводит национальную целостность», в ней «совершается история данного народа. Она – Природина ему… Но
если Природу понимать так, как ее толкует народ и фольклор, и
поэзия, тогда она – Великая Матерь(я) и, как мать-кормилица и
заботница, излучает душу, ее явления сочатся смыслом. Природа – заповеди, скрижали и письмена самого Бытия, в которые
надо вникнуть и расшифровать данному народу. Природа источает волю быть – и на то идет история народа» [Там же:16-17].
4. История – это приход народа к тождеству с природой
своего обитания, «приноравливание» к ней. Она совершается
народом: «История – в утробе национального Космоса, меж небом и землей, силами народа совершается». При этом получает
разрешение антиномия национального и исторического, поскольку «история – реализация потенций национального Космоса в браке с Социумом народа, в порождении – творчестве материальной и духовной Культуры» [Там же:19]. Национальный
мир проявляет себя в истории разнонаправленно: из земли и из
неба, из прошлого своего и спереди (как цель – призвание, идеалы). Его можно понять через предметы национального быта.
5. Культура – «это совершенство в своем роде… Жизнь
долгой работой естественного отбора создает высокую культуру
животных и растений, идеально прилаженных к данному космосу… Но подобно и люди-племена, поселившиеся на тех или
иных пупырях или вмятинах Земли, среди лесов или среди снегов, в ходе труда-производства из здешних материалов развивают совершенную по данному месту породу культуры. Культура
есть прилаженность – человека, народа, всего натворенного
ими, выплетенного из себя за срок жизни и историю – к тому
варианту природы, который ей дан (к которому он придан, человек и народ, как соответствующая ему порода существ)» [Там
же: 17-18]. Культура раскрывается в творчестве народа приспосабливающего к своей жизни природу. Как Космологос, она
проявляется разнообразно через нижние этажи быта (дом, одежду, пищу) и через верхние этажи их осмысления. О последнем
Гачев размышляет следующим образом: «В качестве гипотезы
возникло предположение, что у каждого народа, культурной целостности, есть свой склад мышления, который и предопределяет картину мира, что здесь строится, и сообразуясь с которою и
развивается история, и ведет себя человек, и слагает мысли в
ряд, который для него доказателен, а для другого народа – нет»
[Там же:21-22].
Эти основные положения (понятия), характеризующие
«национальный образ мира», Гачев неоднократно повторил в
своих книгах, посвященных космо – психо – логосу различных
стран и народов, но в своей сути они им не менялись. Подводя
итог этим своим определениям, он писал: «… в ходе истории и
особенно в XX веке, сблизились и унифицировались все народы
по быту (у всех телевизоры и авто…) и мышлению (интернационализм и математизация наук), тем не менее, в ядре своем каждый народ остается самим собой до тех пор, пока сохраняются
особенный климат, времена года, пейзаж, пища, этнический тип,
язык и проч., ибо они непрерывно питают и воспроизводят
национальные склады бытия и мышления. Соответственно и о
Единой материальной Вселенной (Космос) или Духа (Логос) у
каждого народа складывается свой образ. Инвариант бытия видится каждым в своем варианте, в особой проекции, как единое
небо сквозь атмосферу, определяемую разнообразием поверхности Земли… Национальные образы мира есть диктат национальной Природы в Культуре» [Там же: 23-24].
Гачев последовательно повторяет, что для познания
«национального образа мира» необходима своя методика, метаязык, который позволит расшифровать космо – психо – логос
народа. Поскольку размышления о своей методологии и гносеологии его познания разбросаны на многих страницах книг Гачева, в обобщенном виде они могут быть представлены следующим образом:
1. Язык, позволяющий прочитать и расшифровать составляющие национальной культуры каждого народа – это древний
натурфилософский язык четырех стихий: земли, воды, воздуха и
огня. Понимаемые символически, они являют как бы «морфологию» языка, а его «синтаксисом» будет эрос (как «любовь –
вражда»). Их возможности в образовании метафорического поля
культуры огромны, что сам Гачев на образах различных культур
успешно доказывает.
2. При логико-научном познании национальных культур
обязательно присутствие субъективного вмешательства. «Как в
экспериментальной науке надо учитывать прибор, его устройство и возможные помехи, так и в теоретическом мышлении, где
«прибором» является вот этот живой человек с особой траекторией жизни и складом души и характером, – субъект должен
быть внесен и учтено его присутствие в объекте исследования.
Тогда одновременно совершается: познание предмета и Сократово познание самого себя. Возникает жанр жизне-мысли, мышления-исповеди, просто так честно экспериментального репортажа… Мой текст – «всябытина». Описание национальных образов включены в дневник жизни, и эти пласты перекрещивают-
ся в повествовании» [Там же: 29].
3. В осмыслении национальных образов культуры при отсутствии прямых сведений может быть применено воображение
и угадывание. Создавая своеобразный «образ об образах» при
помощи «Эроса угадывания», мы, не зная много, по некоторым
известным деталям проникаем в суть и реконструируем, как палеонтолог по одной челюстной кости весь скелет. В этом случае
«наше видение – научно-художественное, с той особенностью,
что материалом образного мышления служат не люди и случаи
из жизни (как в собственно художественной литературе), а страны, народы, эпохи, культуры, научные идеи и проч. – в них художественным образом вживаешься, они тут – персонажи, и
меж ними разыгрываются разные сюжетные перипетии. Это –
художественная философия культуры, веселая наука. Или интеллектуальный детектив – так можно обозначить этот жанр художественного исследования» [Там же: 30-31].
Г. Гачев – первооткрыватель такого познания культуры.
Его образы, так представляемой национальной культуры всегда
неожиданны, увлекательны. Он автор многих «национальных
образов мира», включающих, как мы видели, и культуру – Англии, Америки, Болгарии, Грузии, Евразии, Индии и др. Но более и чаще всего он пишет о национальных образах мира России
и, как правило, сравнивая их с национальными образами мира
других стран. В полном объеме своих исходных культурологических и историософских понятий и гносеологических приемов
национальный образ мира России Гачев определяет опять-таки
рядом положений:
1. В русском Космосе три главных агента Истории: Россия
– мать – сыра земля, а на ней работают два мужика Народ и
Государство-Кесарь. Народ (мал да удал) покрывает Россию по
горизонтали. Он бегл, плохо укоренен. По Гачеву он – «светер»,
т.е. Свет + Ветер. Для него необходимо жесткое начало власти,
формы, порядка. Их он получил с Запада. Народ – воля, а Государь (и государство) – закон.
2. Логос – тоже двояк. Он имеет два субъекта, мужских
начала. Как и кесарево начало власти, Логос – рассудок у нас не
вырабатывались, а пришли с Запада в виде догматической недвижимой формы тезисов. Его закон – послушание науке, логике и идеологии по формуле «так надо». А традиционно россий-
ский – это Логос воли-свободы, поиска путей и смысла жизни.
Он в литературе, фольклоре, вечном вопрошании. В русской
мысли идет вечная борьба между ними, без победы одного из
них. Поэтому она принципиально не завершена, «последнее
слово» в ней не сказано.
3. По составу стихий Россия – мать сыра-земля, т.е. «водоземля». Она – бесконечный простор, и поэтому для нее Пространство важнее Времени. Поэтому по составу стихий ее должен восполнить «воздух» и «огонь», ее аморфность должна
быть восполнена формой (пределами, границей), а в Пространстве должно «врубиться» Время и заработать ритм Истории.
Эти историософские «скрепы» своеобразно преломлены в
русской культуре, в своеобразии русского дома, национальной
еды, одежды, музыки русского народа, его танцев, игр, праздников, образования и воспитания, русского Эроса, т.е. всего того,
что называется культурой и философией быта. Не менее своеобразны его язык, художественная литература и мысль, отражающие эту национальную русскую жизнь и быт. Океан русской
национальной культуры безбрежен. Г. Гачев в своих книгах дал
ориентиры его освоения и уверенность, что впереди исследователей ждет немало открытий.
Здесь нельзя не упомянуть выступление Г. Гачева 17 мая
2007 года в рамках проекта «Полит.ру»: «У меня такие идеи.
Многовариантность народов и их культур есть сокровище человечества. Подобно тому, как в симфоническом оркестре каждый
инструмент имеет свой тембр, так и каждый народ одарен особым талантом видеть мир и сотворять вещи таким образом, который не свойственен народу-соседу. Таким образом, народы
дополняют друг друга на планете, и нам следует не просто
иметь терпимость, толерантность к различиям между народами
и их культурами, но питать любовь к ним так же, как мы уважаем разделение труда в производстве. Возлюбленная непохожесть – вот мой принцип, вот что должно быть принципом во
взаимных отношениях между цивилизациями. Более 40 лет я занимаюсь описанием национальных образов мира, по-немецки
Weltanschauungen, Weltreise, ментальности разных народов, выявляю их шкалу ценностей в умах и в поведении. Общая идея.
Подобно тому, как человек есть троичное единство: тело, душа,
дух (ум) – так и каждая национальная целостность представляет
собой космо-психо-логос – запомните. Т.е. единство местной
природы (космос), национального характера (психея) и склада
мышления (логос). Эти три уровня находятся в соответствии, но
в отношении соответствия дополнительности друг друга. Моя
концепция – космо-психо-логос. Я описываю космо-психо-логос
России, Америки, Англии и т.д. Как же это строится? Первое и
очевидное, чем определяется тип национальной модели мира –
это, конечно, природа, среди которой вырастает народ и сотворяет свою историю. Природа – это постоянно действующий
фактор. Тело земли, лес – и какой, хвойный или лиственный –
горы, степи, море, пустыня, тундра, вечная мерзлота или
джунгли, климат умеренный или подверженный катастрофическим изломам, ураганам и землетрясениям, животный мир, растительность. Все это предопределяет и последующий род труда
(охота,
бортничество,
скотоводство-кочевье,
торговлямореплавание) и модель мира: устроен космос как мировое яйцо
или мировое древо (ясень Игдрасиль в скандинавском эпосе),
или как тело кита (Левиафан и Моби Дик), или как священный
конь и верблюд (у кочевников и в символике киргизского писателя Чингиза Айтматова. Здесь коренится арсенал символовархетипов: образность, литература и искусство, которые весьма
стабильны. Природа каждой страны – это не географическое понятие, не окружающая среда, environment, для нашей эгоистической человеческой пользы. Природа есть мистическая субстанция, «природина» – мой неологизм, природа и родина, мать –
земля своему народу. Народ выступает в отношении «природины» и как сын и муж. Так же, как в древнегреческой мифологии,
вы знаете, земля Гея рожает себе Урана – неба, который ей становится и сын, и муж, супруг. Народ в каждой стране – и сын, и
муж матери Природы. Что тогда история? История – это супружеская жизнь народа и «природины». Культура – чадородие их
брака. Природа – это текст, скрижаль завета, которую данный
народ призван прочитать, понять и реализовать в ходе истории.
В этой драме является новый актер – труд, который является создателем культуры на этой земле. Труд работает и в соответствии с природой и в то же время дополняет то, чего не дано
стране от природы. Например, в Нидерландах природа отказалась дать достаточно земли народу, и народ трудом осушил море, океан и расширил себе территорию и по вертикали и по го-
ризонтали благодаря своему труду. Другой пример – Россия.
Это страна равнинных степей без значительных гор, так что
природа отказала России в вертикали бытия. И в компенсацию
за это отсутствие в России в ходе истории выстроилась гора гигантского государства с его громоздким аппаратом, и жизнь
страны обрела, таким образом, вертикальное измерение. Сейчас
мы говорим о вертикали власти».
Мудрецы древности знали, что мир, в котором мы живем,
не плох и не хорош – он таков, каким мы его воспринимаем.
Л. Витгенштейн в «Логико-философском трактате» сказал, что реальность счастливого и реальность несчастного – это
совершенно разные реальности. Когда человек заболевает или у
него умирает кто-нибудь близкий или природа начинает бушевать, реальность изменяется. И, наоборот, в определенных состояниях реальность кажется человеку яркой и праздничной.
Тогда говорят, что он видит мир «через розовые очки». Получается, что человек – это его картина мира, его представление, которое напрямую зависит от его умственных и душевных способностей, от его энергии жизни. Поэтому, если их стереть и заменить другими – данный человек исчезнет и перед нами будет
совсем другой человек. Люди с разной картиной мира, с разными восприятиями могут смотреть на один и тот же объект, но
видеть совершенно разные вещи. Столь же субъективны и представления о ценностях. Исследованиями установлено, например,
что представления о счастье и иерархия жизненных ценностей
могут заметно расходиться не только у разных народов, но и у
представителей разных поколений или разных субкультур внутри одной культуры, одного народа. Главная причина этого –
наличие у народов, этносов и субкультур, да и, пожалуй, у каждого человека своей индивидуальной картины мира, в полном
соответствии с особенностями которой каждый человек и любая
совокупность людей ведут себя так или иначе.
Основная причина различий картин мира всех человеческих сообществ в том, что они имеют собственные (своеобразные) иерархии ценностей. Например, одна культура с трудом
понимает ценность золота, другая же строит на них фундамент
всех человеческих отношений. Вот почему во второй культуре
считают ненормальным талантливого художника, зарабатывающего гроши и находящего полное удовлетворение в творче-
стве. Но если бы тот же самый художник жил в деревне на юге
Италии или, например, в Мексике, он считался бы вполне нормальным.
Картина мира нужна человеку для осмысленной жизнедеятельности. Потому что так называемый реальный, объективный
мир, с которым он ежедневно сталкивается, сам по себе не существует. Чтобы воспринять некие внешние объекты, человек
должен их как-то категоризировать, назвать и объяснить, оценить, поместив в особое «смысловое поле». Именно это смысловое поле по существу и является картиной мира. Только создав
себе мир в виде целостной его «картины», человек, народ может
в нем успешно функционировать.
«Можно сказать также, что картина мира – это субъективная карта пространства и времени, схема отношений между объектами, набор формул порядка, система правил, управляющих
тем миром, в котором данный человек живет.
Без таких ориентиров жизнь человека была бы хаосом.
Ведь даже сомнения и вопросы возможны только внутри определенной (упорядоченной, скоординированной) картины мира.
Картина мира объединяет все известные человеку образы и понятия в единый общий глобальный образ. Но, обостряя познавательные возможности человека, она в то же время и ограничивает их, замыкая его сознание в круг знакомых явлений и понятий,
оберегая его от «ненужных встреч» с реальностью» [В. Жидков,
К.Соколов:Электронный ресурс].
1.3. Художественное воплощение национального
характера в чеченском фольклоре и литературе
История чеченской литературы 20 столетия дает возможность утверждать, что к рубежу ХХ–ХХI вв. словеснохудожественное творчество Чечни стало переживать эстетический взлет. Чеченская литература находится на значительном
творческом, культурологическом и идеологическом подъеме.
Творчество современных чеченских писателей отражает духовный опыт жизнелюбивого, чрезвычайно стойкого и гордого
народа, находящего в себе силы сохранять и развивать древнейший язык, традиции и самобытную культуру. «Если душа
народа, его поэтический гений воплощается в коллективном
творчестве, в фольклоре, обрядово-ритуальной стороне жизни
чеченцев, то личностное начало выражается в художественной
рефлексии писателей и поэтов, стремящихся передать в литературных образах боль, надежды и собственное переживание истории» [Исмаилова 2007: 3].
Формирование любой национальной новописьменной литературы (в том числе и чеченской) проходило в связи с историческими условиями и обстоятельствами. Во-первых, следует отметить большое влияние фольклора на развитие художественной специфики и национального колорита. Во-вторых, необходимо признать важную роль русской литературы в жанровом
отношении, в развитии основных тем и проблем. Фольклор играет важную этноконсолидирующую роль для разбросанных по
всему миру чеченцев. Знание фольклора, традиций и обычаев
своего народа помогают чеченским мастерам слова в воссоздании национального характера через образы героического эпоса,
используя богатую и красочную символику и другие изобразительно-выразительные средства фольклора (время и место событий, длительность события, обращения героя или автора к животным, реке, роднику, небу, солнцу, луне. Творцу и создателю
всех миров, к матери, к жене и т.д., лироэпические отступления
– узамы и илли, сравнительные обороты и т.д.).
Нельзя сказать, что чеченский фольклор предопределяет
чеченский характер, но можно с уверенностью утверждать, что
он лежит в основе профессионального чеченского искусства, в
том числе и художественной литературы. В историческом
плане, влияние фольклора на становление чеченской литературы советского периода более очевидна на первом этапе ее становления, когда на чеченский язык хлынул огромный поток заимствований из русского языка (партизан, интернационал, капитал, коммунизм, колхоз, красноармеец, коммунист, избачитальня, трудодень, комиссар, уполномоченный, ЧК, НКВД).
Чеченский фольклор (в частности и по преимуществу, героический эпос, сказки, пословичный фонд, назмы) не позволил
инонациональным факторам оказать до конца разрушительное
влияние на чеченский художественный менталитет. Очень
большой урон чеченской культуре нанесла борьба большевиков
(как пришлых, так и своих) с народными обычаями и традициями под лозунгом искоренения пережитков прошлого. Как отме-
чает Х. Туркаев, зарождение чеченской литературы «происходило в то время, когда была распространена пролеткультовская
теория нигилистического отношения к культурному прошлому»
[Туркаев 2007: 79].
Современный исследователь и знаток чеченского фольклора И.Б. Мунаев считает, что трагическая и героическая судьба
чеченского народа нашла свое художественное отражение в
устном народном творчестве, которое представлено во многих
поэтических и прозаических жанрах. С точки зрения содержания фольклор чеченцев обращает на себя внимание четкой
определенностью духовных ориентиров и нравственных ценностей. Лейтмотивом проходит через героико-исторические илли и
лироэпические песни-узамы, через сказки и легенды идея свободы человека, свободы личности жить на земле и самому распоряжаться своей жизнью.
Другой особенностью менталитета, которая прослеживается в устном народном творчестве чеченцев, – это высокая
оценка таких нравственных ценностей, как «собар» (терпение,
терпимость, толерантность), и «бартбар» (миротворчество).
Проявление в критических ситуациях сдержанности, терпения,
толерантности считалось равноценным совершению героического подвига или даже выше его. Из многообразного, многожанрового фольклора ярко высвечиваются великие идеалы, которые почитались больше всего чеченцами.
Мунаев в предисловии к сборнику чеченских илли и узамов пишет: «Превыше всего для наших предков была нравственная гармония между собой и окружающим миром, жизнь
сообразно своим представлениям о высокой нравственности.
Чтобы люди говорили только хорошее о тебе, приумножая славу
и капитал добра, благородства, нажитого до него его уважаемыми предками, предыдущими 7 (семью) поколениями, ощущая
себя ответственным и перед ними и перед 7 (семью) поколениями будущих потомков.
В этом и заключалась национальная идея чеченцев: прожить свой отрезок жизни на этой земле, соответствуя системе
нравственных ценностей, оставляя после себя приметы благородной жизни. Все совершенные тобою богоугодные и добрые
дела люди выскажут в день твоих похорон, и поэтому важно
прожить свою жизнь достойно, важно со спокойной совестью
уйти из жизни. И вся достойно прожитая жизнь в глазах людей
может потерять свою ценность, если уход из жизни был недостойным. Об этом хорошо знает и терский казак, герой одной
песни-илли, который, обращаясь к чеченцу Ахмаду Автуринскому, говорит:
«Если удачливее окажусь я,
И ты погибнешь от руки моей,
То скажут: «Позволил какому-то казаку убить себя»,
И слава, заработанная тобою долгими годами,
В миг исчезнет».
Ахмад Автуринский нашел в себе силы выслушать соперника («собар») и, хотя он с ним находился в состоянии благородного соревнования («яхь») и противостояния, признал убедительными его доводы в пользу примирения» [Мунаев 2005:
11].
Человека, который полностью соответствовал нравственно-этическим представлениям народа о героическом, называли
«къонах-к1ант» – молодец. «Къонах-кlант» (синонимы) – это
идеал, образ идеального мужа, мужчины, созданный народом.
Для каждого чеченца это высшая цель, к которой идут всю
жизнь. Звание «къонах-к1ант» было для чеченца наивысшей
наградой. Это имя не провозглашалось толпой людей на какойнибудь площади и не вручалось так, как сегодня вручаются медали или другие награды. Это имя как бы само возникало у человека в соответствии с его поступками и этикой, так же как бы
само собой это имя уходило от человека, совершившего недостойный поступок. Обретший в народе звание «къонаха-к1анта»
человек не получал от этого никаких преимуществ, льгот или
выгод. Правда, слава «къонаха-к1анта» распространялась в
народе, о нем слагали героические илли, рассказы о его поступках передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Но
при жизни «къонаха-к1анта» незримо возрастали его обязанности, его ответственность перед обществом.
Известный всему Кавказу общественный деятель начала
XIX века Бейбулат Таймиев так говорил о том, как пришла к
нему слава «к1анта»: «Прежде всего, я заслужил уважение собственной жены, потом уважение семьи. Видя то уважение, кото-
рым я пользовался у семьи – меня стали уважать соседи. Вслед
за соседями уважение ко мне проявило мое село, а уважение села принесло мне уважение страны». Слова Бейбулата кажутся
простыми, а путь «к1анта» легким – только на первый взгляд.
На самом деле Бейбулат своими словами пытался подчеркнуть,
что никогда, даже самыми громкими подвигами, не завоюет
славу «къонаха-к1анта» тот, кто не умеет достойно вести себя в
собственной семье или живет с соседями как кошка с собакой.
Не меньше военных подвигов ценились в «къонахек1анте» умение соблюдать этикет, дать полезный совет, прийти
на помощь слабому, оказать помощь (словом и делом) нуждающемуся, вовремя сказать мудрое слово. Достойный поступок
или мудрое слово «къонаха-к1анта» становилось примером для
подражания. О том, какие качества ценились в «къонахек1анте», можно судить по сохранившемуся рассказу об известной исторической личности – Дуде Исмаилове. Однажды, когда
пришла его очередь пасти сельское стадо (как видим, громкая
слава всадника не освобождала от обязательств перед обществом), Дуда увидел, как из села вышла рыдающая женщина. Заговорив с ней, Дуда спросил о причине, так ее расстроившей.
Женщина ответила: «Недавно я вышла замуж и вот впервые
пришла погостить в дом своего отца. Сейчас я возвращаюсь к
мужу, однако, мои родственники не сделали никакого подарка.
Как покажусь я перед родственниками мужа?»
Дуда Исмаилов, заверив женщину, что стадо принадлежит
лично ему, выбрал для нее в качестве подарка лучшую корову.
Позже, сообщив истинным владельцам, что их корова пропала
по его вине, Дуда внес за нее установленную плату...» [Мунаев
2005:12-11]. Весьма показательно, что сохранилось мало преданий о военных подвигах Дуды Исмаилова, но до сих пор пользуются популярностью рассказы о тех случаях, когда Дуда демонстрировал высокие образцы чеченского этикета.
Остановимся на таком, на первый взгляд, частном аспекте, раскрывающем взаимосвязь литературы и фольклора – метафора в художественном тексте как способ познания национального образа мира. Изучение базисных метафор стало задачей этнографов, культурологов и филологов. Метафора рассматривается не только как языковое средство, но и как результат в сдвиге контекста, так как в основе метафоры лежит «заимствование
и взаимодействие идей (thoughts) и смена контекста» [Ричардс
1990:47]. Традиционные литературоведческие категории (метафора, нарратив, история) уже достаточно давно используются
как ключевые понятия когнитивной науки в целом для описания
универсальных механизмов мышления. Поэтому во многих работах когнитивистов сливается воедино изучение человеческого
мышления через аналогию с литературой и изучение литературы как разновидности человеческого мышления» [Западное литературоведение 2004:182].
По мнению многих современных исследователей, образ
родной страны как нельзя лучше отражается в метафорическом
зеркале, которое фиксирует подлинную картину национального
самосознания, где отражаются как традиционные черты народной ментальности, так и новые общественные преобразования.
«Наиболее фундаментальные культурные ценности согласованы
с метафорической структурой основных понятий данной культуры» [Лакофф 2004: 404].
Базовые метафоры по праву причисляются к культурным
кодам, поскольку содержат характеристики, типичные для ряда
культурологических и научных текстов. Понятие «код» становится ключевым в современных подходах к анализу текста.
Культура хранится в сознании человека, а также фиксируется в
языке и языковом сознании. Культурное содержание может не
осознаваться и не рефлектироваться самим представителем той
или иной культуры, оно имеет горизонтальную и вертикальную
структуру. «К глубинным слоям культурного пространства следует отнести те представления, которые восходят к архетипическим, древнейшим представлениям, соотносятся с ними» [Красных 2003: 297].
В этом плане интересны размышления И.Б. Мунаева о
фольклорном жанре узам. «Будучи самостоятельным и совершенно оригинальным поэтическим жанром чеченского фольклора, узамы могут вплетаться в поэтическую ткань героикоисторических илли как своеобразные лироэпические отступления главного героя или героини («Узам из илли о Сурхо, сыне
Ады» – стенания матери Сурхо). Замечательным является «Узам
русского раненого солдата», которого герой илли Хамзат
Зандакский уносит с поля боя, вылечивает и отправляет домой:
Когда уходил я в солдаты,
Мне, плача, отец говорил:
«Уходишь, родимый, далёко,
Когда же мы видимя вновь?»
Он пал мне на грудь, безутешный,
и мы потеряли друг друга.
Душа, не покинь мое тело,
пока не увижу отца!
Когда уходил я в солдаты,
Заплакала мать сиротливо,
Меня проводив до порога:
«Уходишь, мой милый сыночек,
Придеться ли свидетья вновь?»
Мать слез от меня не скрывала.
Познал я солдатскую долю,
И мы потеряли друг друга.
Душа, не покинь мое тело,
Пока не обрадую мать!...
[Чеченкая народная поэзия 2005:304]
Мунаев пишет далее, что «…узамы были известны русскому читателю еще с середины XIX века, они печатались и переводились на русский язык. Видимо, ознакомление широкого
круга русских читателей в XXI веке с традиционной культурой
чеченцев поможет народам России лучше понять друг друга, содействовать развитию толерантности и взаимообогащения
наших культур. Сегодня чеченский фольклор востребован самой
жизнью. Заключенный в нем свет мудрости, доброты и нравственности в силах осветить души людей, которые пострадали
от жестокостей последнего времени. Его издание на русском
языке также необходимо, чтобы русскоязычный читатель достоверно представлял себе духовное богатство чеченского народа,
его открытость, толерантность и устремленность к нравственным высотам» [Мунаев 2005: 32-33].
Современное литературоведение обнаруживает необходимость обращения к культурологическим знаниям. Эта методологическая особенность обусловлена творчеством современных писателей постмодернистской направленности, прибегаю-
щих в своей творческой практике к использованию культурных
матриц и кодов. В свою очередь, современная культурология
заимствует инструментарий пограничных гуманитарных наук –
семиотики, истории, новейшей литературной критики, антропологии.
Так, например, герои романа Саидбея Арсанова «Когда
познается дружба» национально самобытны. Писатель хорошо
знаком с бытом, обычаями, легендами, историей народа, что
позволило автору создать убедительные образы героев романа,
хотя роман написан на русском языке:
– Шашка и кинжал – вот мерило поединка! Бросятся
двое друг на друга... Люди не успеют разнять, как кто-то уже
лежит на земле, истекая кровью. Хорошо, если оба умрут тут
же: тогда не будет кровной мести. Но если один из них умрет,
тогда разгорится настоящий бой, один мститель бросится на
другого, со стороны кинутся заступаться, кто – за того, кто –
за этого. Женщины замечутся. «Гей, гей! Помогите! – закричат они, взывая о
помощи. На крик из домов выбегут все
мужчины – от ребят до стариков. Как барсы кинутся они в
битву, тайп на тайп, нанося друг другу смертельные удары.
Разнесется плач матерей, девушек, а их отцы и сыновья, мужья и братья, внуки и правнуки будут гибнуть в кровавой
резне» [Арсанов 1960:57].
Роман С.-Б. Арсанова «Когда познаётся дружба» – разноплановое произведение, в котором широко показана сложнейшая эпоха социальных катаклизмов в переплетении сюжетных
линий и комбинаций, в остром драматическом движении конфликтных узлов и образований, через которые проходят герои
из множества общественных слоев, в столкновении характеров,
жизненных принципов и устремлений. При всей панорамности и
труднообозримости исследуемого материала, автор сумел все
это расположить вокруг одной личности, найти единый фокус
анализа. Судьба главного героя Арсби носит автобиографический характер. Однако считать роман только автобиографическим нельзя в силу обозначенных нами параметров измерения
событий и явлений революционного времени. В систему разнохарактерных средств анализа и обобщения многоликой действительности, в арсенал художественных принципов ее познания,
ориентирующих произведение на объективный реалистический
подход к решению современных проблем, автор без напряжения
и перегрузки включает обширный поток этнопоэтической информации с описанием обычаев, традиций, нравов, психологии
героев. Таким образом, автор придает этнографизму функции
подлинной художественности, а не привнесённого извне орнамента.
Влияние фольклорных традиций в романе выразилось в
особенностях композиционной структуры, в использовании
эпитетов при создании пейзажа, реализации мифологемы пути в
описании странствий героя, благородно принявшего на себя вину кровника, во включении в художественное пространство лирических, героико-исторических песен илли, реализующих архетипы воина, певца. Каждая народная песня, вошедшая в роман, не просто сопутствует героям романа и укрепляет их решимость, а раскрывает духовный мир исполнителя. Народные
песни в исполнении героев романа – живительный родник, они
дают им силы, придают смысл происходящему, формируют
мышление и чувства.
Автор монографии «Роль фольклора в эволюции чеченской прозы ХХ века» Т.Б. Джамбекова, интерпретируя известный роман С.-Б. Арсанова, приходит к выводу: «Фольклоризм
образов проявляется в их завершенности и «заданности» на
уровне художественного замысла писателя, а также в поляризации героев на положительных и отрицательных, что соответствует фольклорной традиции разделения на «добрых» и
«злых». Так, Арсби, его мать Хадижа, его надежные друзья –
воплощение лучшего и честного. Им противопоставлены богач
Хаджебекир и ему подобные, характеризующиеся негативными
качествами характера, содержательной фактурой их социума.
Безусловно, в романе есть и попытки преодоления такого рода
«заданности», что проявляется в стремлении С. Арсанова психологически контаминировать действия и поступки героев противоположного социального и духовно-нравственного статуса.
Это дает писателю возможность создать убедительные художественные образы героев – представителей чеченского общества.
Тем не менее, роман «Когда познаётся дружба» С.-Б. Арсанова
остается «самым фольклорным» в чеченской литературе: в художественной структуре произведения органично реализовано
немало разножанровых фольклорных произведений – чеченские
лирические песни, пословицы, поговорки и т.д. Несомненно, что
писатель хорошо знал чеченский фольклор, он его впитал с детства и пронёс в своей душе через всю жизнь. Потому он естественно становится органичной частью художественного мира
романа» [Джамбекова 2010: 145].
Следует заметить, что чеченская литература 1940–1970-х
годов вполне может претендовать на звание классической, роль
которой весьма велика в формировании современной литературы Чечни. Так, глава Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ С. Филатов в статье «Словесность в переходную эпоху» отмечает: «Нужно всегда иметь в виду, что в
открытом обществе, как бы кто ни пытался изображать нашу
историю в непривлекательном или искаженном свете, люди
вправе делать свой анализ, часто не совпадающий с взглядами
власти. И литература часто дает нам хорошие примеры. Когда
мы хотим построить историю любого национального искусства,
или историю литературы, мы ищем опорные точки в лучших
произведениях, останавливаемся на гениальных авторах, художниках и на лучших их творениях. Это принцип чрезвычайно
важный и совершенно бесспорный. Ведь каждая национальная
культура занимает место среди культур мира только благодаря
тому самому высокому, чем она обладает. Классическая литература народов России – это неисчерпаемый источник нравственных сил наших народов…
В любой культуре именно литература, письменность, яснее всего выражают национальные идеалы – то лучшее, что есть
в культуре и наиболее выразительное для ее национальных особенностей. Литература «говорит» от имени всей национальной
культуры, как говорит человек, который берёт на себя ответственность за все живое на Земле» [Филатов 2010:6].
1.4. Национальное и общечеловеческое в чеченской
художественной литературе
В данном разделе мы попытаемся выявить некоторые аспекты изучения национального и общечеловеческого на материале чеченской прозы, ввиду того, что данная проблема в чеченском литературоведении больше заявлена в заглавиях литературно-критических работ, нежели развернуто освещена [См.:
Айдаев Ю.А. Зеркало жизни. Сб. литературно-критических статей. – Грозный, 1987; Гайтукаев К.Б. Национальное и интернациональное в творчестве М Дикаева. В кн.: Поэзия и современность. Индербаев Г.В. Проблема национального и общечеловеческого в чеченской литературе. Приложение к литературнохудожественному журналу «Вайнах» № 5, 2003; Исмаилова
М.В. Национальное и общечеловеческое в романе А. Айдамирова «Долгие ночи» / Материалы межвузовской научнопрактической конференция «Национальное и общечеловеческое
в чеченской литературе». – Грозный, 2005:78 – 80].
К проблеме национального и общечеловеческого более
обстоятельней подошел Г.В. Индербаев в своей статье «Проблема национального и общечеловеческого в чеченской литературе» [Индербаев 2003:60 – 67]. Автор пишет, что «национальное в советском искусстве... обычно рассматривалось в сочетании с интернациональным. В такой формулировке проблемы,
очевидным было возвеличивание классового над человеческим,
художественным» [Там же].
Г. Индербаев отмечает, что сегодня проблема эта является не только и не столько чисто теоретической проблемой. Автор подчеркивает роль национального фольклора как первоэлемента и первородного носителя национального своеобразия
культуры и искусства того или иного народа, правомерно связывает проблему национального своеобразия чеченской литературы с его национальным характером, особенностями психического склада его, с историческим прошлым, бытом, укладом
жизни.
Нужно отметить, что в творчестве русскоязычных писателей и в большинстве произведений 20–30 годов 20-го столетия
национальный характер чеченцев получил несколько односторонне отображение.
В произведениях русскоязычных чеченских писателейпросветителей и профессиональных писателей (И. Цискарова
(Омар-али), А. Шерипова (Асир-абрек), М. Мамакаева (Шерипов Асланбек, Зелимхан Харачоевский), Х. Ошаева (Шерипов
А., братья Висаитовы, защитники Брестской крепости) представлены в основном романтизированные образы чеченцев: мужественных, свободолюбивых, воинственных. Можно однозначно утверждать: в стиле и в духе «кавказских произведений»
русских писателей А.С, Пушкина (Тазит), М.Ю. Лермонтова
(Казбич, Мцыри) и др.
Объясняется это тем, что чеченцы за всю свою известную
и неизвестную историю вынуждены были обороняться. А в ХIХ
веке шла затяжная война чеченцев за свою независимость, и
народ в этих условиях вынужден был проявить свои воинственные, героические черты. Но воинственность не «врожденная»
черта характера чеченца. Это не благо, а тяжелое бремя страстей
человеческих, в том числе страстей и тех, кто посягал на независимость Чечни. А, в общем и в целом, чеченцы трудолюбивый и миролюбивый народ [См.: Нохчийн фольклор. – Грозный,
1991; Алироев И. Чеченский язык. – М.: Академия, 2001; Хасиев
С-М.А. Культура полеводства чеченцев и ингушей. – Нальчик,
2004; Кусаев А. Чечня: годы и люди. – Грозный, 2007; Чеченцы:
история и современность. – М., 1996]. На одном мужестве он не
въехал бы из очень и очень далекого прошлого в 21 век с генотипом, сообразным его этнической сути и духу. Чеченцы знали
и другую жизнь, о чем красноречиво и убедительно свидетельствует устное народное творчество, научные изыскания наших
ученых по истории сельского хозяйства, производства холодного оружия, бытовой утвари, добыче железа, кузнечного дела,
ковроткачества, строительства башен Чечни и т. д.
Первоэлемент художественной литературы – человек (и
его проблемы), который не с неба упал, а имеет вполне земное
происхождение и национальную среду обитания. Человек –
один из самых сложнейших объектов художественного познания, вместе с тем и единственно движущий стимул этого познания. Простая сумма знаний частных наук о человеке не дает искомого результата. Социальное содержание человека обусловлено его связями с общественным целым и преломлением в своем сознании этих связей. Вот почему уровень развития отдельной личности есть показатель и уровня развития общества. В
первобытнообщинном и феодальном обществе личные интересы
не были выделены из контекста интересов коллектива. В эпоху
капитализма одновременно с процессом превращения народностей в нации, начинается борьба за личность, против сословной
системы. Особенности истории, складывание и развитие нации,
своеобразие экономического строя, культуры, среды обитания,
быта традиций – все это накладывает отпечаток на духовный
облик нации, создает особенности национального характера.
На Земле великое многообразие народов и наций, уникальность которых неповторимо самоценна. Язык есть, самая
что ни на есть «стратегическая кладовая народа», в котором
хранятся, передаваясь из поколения в поколение чувства, символы-знаки, эмоциональные ассоциации, мифы и легенды. Опыт
предыдущих поколений и тайное знание, нерасшифрованная историческая информация о нем и не только о нем. На сегодняшний день язык данного народа – самое сущностное и базисное выражение национального своеобразия характера любого
народа. Национальное в личности писателя его ум, образ мыслей и чувствований, способ излагать материал.
Духовная и экономическая жизнь нации, ее культура
зиждется на духовности и личном вкладе каждого его представителя, а он, в свою очередь, подпитывается творческой энергией нации. Истинный патриот верить в высокое призвание своей
нации, в силу ее духа, ее прекрасное
будущее. Единству
нации не мешает творческая индивидуальность каждого его
представителя, разнотемпераментность, разномыслие, разнохарактерность составляющих ее людей. Так и разнохарактерность
нации не должно мешать единству человечества, тем более что у
них единые конечные устремления – благо всех людей земли.
От гражданской зрелости каждого члена нации и глубины
понимания коренных интересов своего народа зависит уровень
национального самосознания.
Национальное самосознание способствует сплочению и
общекультурному росту нации, историческому развитию ее по
пути прогресса. Оно позволяет сохранять ее целостность в ее
неизбежных контактах с другими нациями, противодействуя ассимиляции, ущемлению интересов. Формирует вкус и почтительность к своим обычаям и нравам, традициям, чувство гордости за свой народ и героями ее истории и культуры. Каждая
нация, обладающая должным уровнем самосознания, обладает
пониманием своих национальных особенностей, своих положительных и отрицательных сторон.
Чеченский фольклор – как базовая основа исторической
памяти любого народа – открывает нам красоту и мудрость подлинно национальных традиций. В творениях устного народного
творчества в наиболее концентрированном виде находят выра-
жение идеальные представления этого народа о многих сторонах жизни своего этноса, где раскрывается национальный характер, обычаи традиции, его культурный и бытовой уклад. Чеченцы издавна высоко ценили значение метко сказанного слова,
героической песни-илли, преданий «старины глубокой», добродушного юмора. В чеченской паремии немало пословиц и поговорок, в которых отразилась глубокая вера народа в могущество
слова. К примеру:
– Мел бехачу новкъа а, цкъа тоьхча, тоьа дикачу динна
шед; мел йоккхачу майданахь а, цкъа аьлча, тоьа дикчу к1ентан
дош (В дороге, какой бы длинной она ни была, досточно один
раз хлестнуть хорошег скакуна. А народу на площади, какой бы
широкой она ни была, настоящему мужчине достаточно один
раз сказать свое слово).
– Даггара аьлла дош дагах летта (От сердца сказанное до
сердца дошло).
– Хазчу дашо 1уьргара лаьхьа баьккхина (Доброе слово
змею из норы выманило.
Ала атта ду, дан хала (Сказать легко – сделать трудно).
Немало пословиц и поговорок, отражающих народные
представления идеала «настоящего мужчины – къонаха. Настоящий мужчина должен обладать такими качествами, как трудолюбие, отвага, мужество, благородство, скромность, сдержанность (собар), вежливость, верность данному слову и т. д.
– Охуш аьлларг – оруш карийна (Сказанное при пахоте –
аукнулось при молотьбе).
– Хьалххе г1аьттинчу 1уьнан жий шала бехкина (Спозаранку вставшему пастуху овца двойню родила).
– Ирхе ца яьккхича, пурхе (лахе) ца кхаьчна (Не одолевшему подъем /хребта, возвышенности/ и подножье не досталось).
– Шен кет1ахь н1аьна а хулу майра (У своих ворот и петух бывает смелым).
– Стешхачу ж1аьло т1ехьаша катуху (Трусливая собака
кусает сзади).
– Сихалло – са даьккхина, собаро – лам баьккхина (Несдержанность – души лишило, сдержанность – помогло гору
одолеть).
– Хьан дош – дош дацахь, биънарг – дуй а бац (Если ты не
хозяин своему слову, то и клятве твоей грош цена) [Нохчийн
фольклор, 1991:190 – 201].
Мы уверены в том, что в морально-нравственном арсенале
любого народа мира эти качества отнесены в разряд положительных.
В жизни не только чеченского народа, но всех горских
народов Кавказа, немалую роль играл обычай гостеприимства.
Осетинский фольклорист Дзагуров Г.А. писал: «До присоединении Кавказа к России гостеприимство в глазах горцев было
священным, в то же время оно носило правовой характер, было
среди горцев институтом международного права, делающим
возможным общение одного народа с другим. Традиция эта, таким образом, сыграла исключительную роль в отношениях
между людьми и заняла почетное место в общечеловеческой
культуре» [Дзагуров, 1980:6].
Разумеется, что данный обычай (хьошалла, хьаша-да
т1еэцар) нашел отражение в художественном сознании народа в
том национальном варианте, который соответствует своеобразию его менталитета.
– Хьаша веъча, х1усамден пхьор а тоделла (Благодаря гостю и рацион хозяина улучшился).
– Хьаша ца везарг Далла а ца везна (Не любящего гостей,
и Всевышний невзлюбил).
– Хьаша Делера ву (Гость от Бога).
– Хьаша ца вог1учу ц1ент1е беркат ца дог1у (Дом, куда не
приходит гость, Божья благодать обходит стороной) [Нохчийн
фольклор,1991:190–201].
Обычай гостеприимства чеченцев нашел художественное
отображение не только в творчестве местных писателей. Нужно
отметить, что «Кавказские произведения» русских писателей
ХIХ–ХХ вв. (А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, Икскуля, М. Булгакова, А. Приставкина) дают уникальный материал и
для изучения общественного сознания чеченцев в соответствующие периодам написания этих произведений эпохи. В произведениях этих авторов значительное место занимают материалы
по народному общественному сознанию чеченцев, что является
свидетельством значительности этого этноса в кавказском регионе.
Л.Н. Толстой в своей повести «Хаджи-Мурат» описывает
встречу Хаджи-Мурата в 1851 году в чеченском селении Махкеты с жителем этого села Садо, который незамедлительно предпринял все меры для безопасности своего гостя. Автором подробно описан и изображен институт гостеприимства у чеченцев, которого он хорошо знал на личном опыте [См.: Л.Н. Толстой на Кавказе в записях современников. – Грозный, 1961; Л.Н.
Толстой и Чечено-Ингушетия. – Грозный, 1989].
По обычаю гостеприимства хозяин нес перед обществом
ответственность за жизнь, честь и имущество гостя, иногда даже
с риском для собственной жизни, как и в случае с приемом
Хаджи-Мурата Садо – злейшего врага Шамиля. [Толстой,1981:28–33]. Если гость бывал ограблен, оскорблен, арестован вследствие нерадивости хозяина или неисполнения им
кодекса гостеприимства, то общество сурово осуждало его.
Концентрированное выражение представления народа о чести и
отваге встречается помимо этноафористики, также и в его сказках, преданиях, легендах (хадисах). Приведем пример одного
предания из фонда народного творчества, которое называется
«Выбор девушки».
К одной девушке сватались два молодых человека. Один
из них был богатый, другой – бедный. Девушка не знала, кому
из них отдать предпочтение. Переоделась она в мужскую одежду, оседлала коня и приехала во двор богатого жениха.
– Я прибыл из далекого села и собираюсь в набег. Мне
нужен друг, сказала переодетая девушка богачу.
– Я не могу с тобой ехать, ответил богач. Тогда она поехала с этой же просьбой во двор бедняка. Тот сразу согласился. Он
оделся в чистую одежду и приготовился в дорогу. В пути переодетая девушка спросила бедняка:
– Почему ты перед дорогой надел чистую одежду?
– Неизвестно, останемся ли мы живыми, вернемся ли обратно. Поэтому я надел чистую одежду, чтобы достойно принять смерть.
Тогда девушка открыла ему свой секрет и сказала ему:
– Я хотела проверить, кто из вас мужественнее. Я выйду
за тебя замуж.
– Если девушка выходит за меня замуж, лишь проверив,
насколько я мужествен, то я настолько горд, что не женюсь на
ней, ответил бедняк [Чеченские и ингушские народные сказки,
2003:174–175].
Надо отметить, что национальное своеобразие наиболее
первородно и отчетливо у писателей первого поколения, творивших в 20–60 годы. Объясняется это тем, что писатели этого
поколения были еще не до конца в плену идей пролеткульта и
вульгарной социологии, были более тесно связаны с первоисточником – с общественным устройством, этнографией историей, близко соприкасались с фольклорными истоками. В дальнейшем, по мере усиления субъективной роли автора в художественном творчестве, растет и значение его творческой индивидуальности. «При этом черты национального своеобразия не исчезают, они как бы уходят вовнутрь творчества и найти их на
поверхности становится гораздо сложнее» [Баков, 1994:92–93].
Любой нации свойственны предрассудки, предвзятые
идеи, стихийные национальные инстинкты. Одним из инстинктивных соблазнов является стремление оправдывать свой
народ во всем и всегда, перекладывая ответственность за свершенное им или при его попустительстве, на иные, враждебные
силы. Такая практика решения проблем гасит в народе чувство
ответственности и вины, уводит его от трезвого и критического
пути самопознания и развития.
Структура национального характера очень сложна. У любого народа, наряду с хорошими, есть и плохие черты психического склада. Порождены они климатом, ландшафтом, политическим строем, историей, религиозными воззрениями и многими другими факторами. У литературы много путей для выражения национального характера. В одних случаях упор делается на лучшие природные черты, в других – на худшие. Втретьих – на те и другие, сочетая их то в одном лице, то в нескольких и т.д.
Национальный характер каждого народа самобытен и
неповторим, как самобытна и неповторима судьба каждой
нации. Он изменчив, никогда не окостеневает, не превращается
в совокупность раз и навсегда заданных качеств и свойств психики. Он постоянно в перманентном состоянииразвития, сообразуясь с обстоятельствами и «временем на дворе». Условия
жизни, исторические обстоятельства в одних случаях могут способствовать и содействовать худшим проявлениям национального характера, в других случаях – дать зеленый свет лучшим,
давя на худшие ее проявления. Старинное предание «Долг гостеприимства» гласит.
Как-то взяли в плен братья своего заядлого врага, который
причинил им много вреда. Поэтому братья решили предать его
жестоким пыткам. Связали они врага веревками по рукам и ногам и стали думать, как с ним поступить. В это время братьям
пришлось спешно куда-то отправиться. Говорят они матери:
– Мы будем отсутствовать три дня и три ночи, а вернемся
– подвергнем врага пыткам, которые он заслужил. Когда нас не
будет, не давай ему ни пить, ни есть, как бы не просил.
Уехали братья. Прошел день, второй, на третий говорит
пленник:
– Не дай мне умереть с голоду. Подай мне щепотку соли с
чуреком и воды.
– Сыновья велели ничего тебе не давать, ответила мать.
– Пусть бог отвернется от тебя, если ты меня так будешь
мучить! Завтра твои сыновья убьют меня, и я готов принять
смерть. Сегодня же дай мне глоток воды и разреши коснуться
кончиком языка пищи, – попросил пленник.
Мать разжалобилась и дала ему поесть и попить.
Приехали сыновья домой, посмотрели на пленника и
спрашивают мать:
– Дала ты ему поесть и попить?
– Дала, – ответила мать.
– Напрасно ты это сделала. Разве мы можем убить человека, отведавшего в нашем доме пищу! Придется его еще раз
брать в плен, а сейчас – отпустим.
И братья отпустили своего злейшего врага, так как он отведал в их доме пищу [Чеченские и ингушские народные сказки
2003:193–194].
Понимание сложности и динамизма структуры национального характера породило проблему управления национальными стихиями. Перед идеологами враждебных сторон встала
задача манипулирования народом (народами), путем искусного
воздействия на доминанты их характеров. Само понимание «хороших» и «плохих» черт характера, того, что надо поддерживать, а что давить, обусловливалось классовыми, государственными интересами, потребностями политического момента.
Особенности той или иной национальной литературы
(культуры) в особенностях истории и ментальности этого народа. Основные признаки литературы, составляющие основу ее
оригинальности, и определяют ее принадлежность к той или
иной национальной культуре. Само собой разумеется, что художественная литература Чечни зарождалась и развивалась в русле общих законов всемирной художественной литературы. В
литературе и искусстве душа народа. Литература подвластна законам истории и общественного развития, но это вовсе не значит, что писатель механически следует за ними и зеркально
отображает жизнь. Х.И. Баков считает, что «было бы ошибкой
полагать, будто вопросы национальной самобытности искусства
и литературы, в том числе всегда нужно проецировать на историческое прошлое народа, на его традиционную культуру. Как и
сама жизнь нации, национальная специфика всегда переживает
процесс динамичного движения и обновления, который запечатлевает ярко художественная литература» [Баков, 1994:87].
Любая национальная литература и общечеловечна – всемирна – в той мере, в какой выражается ею дух, породившей ее
нации. Будучи продуктом общества, она на определенном этапе
своего развития выступает в роли судьи над этим же обществом.
Но не ради суда, а во имя нравственности этого общества. Творя
нравственный суд над всем тем, что мешает позитивному движению и развитию общества, литература способствует и нравственному ее оздоровлению. Задача литературы не в том, чтобы
найти персонально «виновника всех бед и несчастий народа», а
выявить и показать условия общественной жизни, «прорехи» в
ментальности, способствующие появлению такой личности.
Общество, породившее его, терпевшее от него и его окружения,
подлежит больше му нравственному осуждению, нежели он
один с сотоварищами.
По нашим предположениям, только в конце 80-х годов завершился этап становления зрелой чеченской литературы.
Именно тогда количество стало переходить в качество. Вопрос
этот: когда чеченская литература вступила в зрелый этап своего
развития – далеко не праздный. Это вопрос о глубине постижения и отображения реальной действительности, об эстетическом уровне данной литературы.
ГЛАВА II. СВОЕОБРАЗИЕ ИДЕЙНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ ПРОЗЫ ХХ ВЕКА
2.1. Роль литературы в формировании национальной
художественной культуры
События последних лет как в Чеченской Республике, так и
во всей России и за ее пределами позволили по-новому взглянуть на многие явления национального литературного процесса.
В данном аспекте немалый интерес вызывает художественная
литература, созданная чеченскими писателями на русском языке.
В последние годы в сфере научных, духовных, конфессиональных запросов чеченского социума заметную роль стали
играть также арабский и английский языки. Но ясно одно, нельзя не учитывать всего того, что достигнуто всем народом в области духовной культуры, на каком бы языке (литература), какими бы красками и звуками (живопись и музыка), из какого
материала (ваяние и зодчество) и где бы (в России ли, Турции,
Сирии и т.д.) она ни создавалась. Проблема литературного языка стоит не только перед малочисленными народами России.
Даже у больших этносов Азии, Африки и Латинской Америки
некоторые крупные писатели предпочитают писать на языке
большого распространения.
Известно, что в языке любого народа сохраняются исторические факторы об экономических и политических связях с
другими народами. В чеченском языке обнаружено немало заимствований из тюркских, персидского и арабского языков. Это
терминология религиозного характера, духовная лексика. Чеченская ономастика (антропонимика и топонимика) дает очень
много ценного материала не только для изучения чеченского
языка, но и для раскрытия многих неясных моментов исторического прошлого народа, его этнографии и быта. Этимологический и семантический анализ чеченской лексики дает очень
ценный исторический материал, так как в них обнаруживаются
многочисленные примеры проникновения элементов материальной и духовной культур на территорию современной Чеченской Республики из государств древности – Ассирии, Вавилона,
Урарту, Египта, Древней Греции, Рима, Древней Албании, Гру-
зии, России. Значительный процент современных чеченских
имен представляет собой мусульманские имена, прежде всего
арабского, древнееврейского, тюркского, иранского происхождения. В именах отражаются его прошлое и настоящее, исторические и экономические связи с другими народами, культура,
надежды и чаяния, мировоззрение народа.
Историко-лингвистический анализ словаря чеченского
языка выявляет в нем несколько пластов заимствованной лексики. Одним из значительных заимствованных пластов является
арабско-персидский пласт лексики [Алироев, 1994; Сулейманов,
1997]. Арабы еще в ХIII веке распространили исламскую религию в Дагестане и среди тюркоязычных кочевников Северного
Кавказа. Позже арабские миссионеры проникают и в Чечню. К
концу ХIХ века в Чечне возникает целый институт арабских мусульманских школ, ведется деловая переписка на арабском языке, пишутся сочинения религиозного и светского характера,
изучаются арабская (суфийская) философия, литература, география, астрономия и математика. Кавказская война (со второй
половины ХIХ века) положила начало интенсивной миграции
населения Чечни в Турцию, в арабские страны, которая продолжалась вплоть до Октябрьской революции.
В дореволюционный период в Чечне образовалась прослойка людей, хорошо владеющих арабским языком, пишущих
и вступавших в дискуссии на арабском языке, щеголяя своей
эрудицией. Отдельные ученые-арабисты имели солидные личные библиотеки с довольно разнообразной литературой на арабском языке, где можно было встретить наряду с современной
арабской литературой номера газет и журналов, выписываемых
с арабского Востока [Крачковский, 1960; Алироев, 1994; Крупнов, 1971]. Особенно высока была роль арабского языка в период Кавказской войны. Заслуживает внимания ученых-арабистов
и перевод с арабского языка на русский «Хроники Мухаммеда
аль-Карахи» о дагестанских войнах в период Шамиля или
«Блеск дагестанских сабель», сделанный чеченцем Сапи из аула
Энгеной [Туркаев, 1978:100].
С приходом к власти большевиков в Чечне начиная с конца 20-х годов и вплоть до 90-х годов 20-го столетия апологеты
социализма настойчиво – изустно и печатно – утверждали, что
чеченцы получили письменность только после Октябрьской со-
циалистической революции и благодаря только Советской власти. Сведущие люди знали, что это совсем не так. Фактическим
подтверждением тому служит недавняя находка 15 книг на чеченском языке (на арабской графической основе), изданных до
Октябрьской революции:
«Эти 15 книг не являются завершением, – пишет ученыйфольклорист Исмаил Мунаев, – это только начало... Нас в Дагестан к коллегам привели поиски жайнов, которые были вывезены с территории нашей республики после депортации чеченцев
в 44 году. Они отнеслись к нам с пониманием и разыскали эти
ценнейшие книги... Например, Амирхан Исаев подготовил фундаментальное исследование о просветителях Дагестана, о первопечатнике Магомирзе Мавраеве, опубликовал ценный каталог
книг и материалов публикаций на языках народов Дагестана –
плод его 20-летней работы. В том числе ему удалось найти 15
дореволюционных изданий на чеченском языке. ... Поиски продолжаются. У нас есть сведения, что некоторые жайны попали в
частные коллекции. В Ленинградской библиотеке есть довольно-таки большое количество арабоязычной литературы, среди
которой, уверен, есть и чеченские произведения. И мы принимаем всевозможные меры, чтобы расширить круг неизвестных
имен»... [Мунаев, Газета «Чечня», №5, 2006:1-2].
Русская литература занялась художественным решением
чеченских проблем еще в начале ХIХ века. Бестужев-Марлинский (повести «Аммалат-Бек», «Мулла-Нур»); Пушкин (поэмы
«Кавказский пленник», «Тазит»); Полежаев (поэмы «Эрпели»,
«Чир-Юрт»); Лермонтов (поэмы «Измаил-Бей», «Мцыри», роман «Герой нашего времени», стихи «Казачья колыбельная»,
«Валерик»), Толстой (рассказы «Набег», «Рубка леса», повести
«Казаки», «Хаджи-Мурат») – вот далеко неполный список произведений деятелей русской литературы ХIХ-го века, эстетические и просвещенческие воззрения которых серьезно пошатнули устоявшееся мнение русского обывателя о горцах как о
народах и племенах, живущих только разбоем, набегами, войнами, которых «невозможно цивилизовать», так как они якобы
не способны к мирной и культурной жизни.
До появления произведений Бестужева-Марлинского,
Пушкина Кавказ для русского читателя был всего лишь географическим понятием. Х.В. Туркаев в своей монографии «Исто-
рические судьбы литератур чеченцев и ингушей» цитирует любопытный документ, характеризующий внутренний мир горца:
«В натуре горца много ума и чувства, много мужества и силы
характера... Но оторванный от своего мира и воспитанный в мире европейском горец представляет нам человека способного,
энергического, с умом и чувством... Почему так долго держались против нас чеченцы, терпели и голод, и крайнюю нужду,
умирали и посылали детей на смерть? Нам кажется, не из одной
покорности Шамилю и его проповедникам, не из слепой ненависти к гяурам, не из жажды грабежа, как думают многие, нет,
из желания независимости, по естественному убеждению народа, отстаивающего свою свободу, из чести и славы» [Туркаев,
1978:28].
Русскоязычные чеченские писатели-просветители, начиная от Иова и Ивана Цискарова, которые стояли у истоков нахской филологии и русскоязычной чеченской литературы, У. Лаудаева, Т. Эльдарханова и др., в отличие от писателей, разрабатывающих тему покоряемой и покоренной Чечни по тематике,
идейным запросам времени, по духу, по степени проникновения
в мир народной жизни очень близки к пониманию чеченской
действительности. У них мы видим изобразительновыразительные средства, темы и сюжеты из живого фольклора
чеченцев.
Так, Иван Цискаров проявлял живой интерес к чеченскому фольклору. Сюжет героико-исторической чеченской песни
«Илли об Али, сыне Умара» послужил основой для создания его
блестящего художественного произведения легенды-рассказа
«Лозы любви» (Цискаров, 1855). Сюжет, широко распространенный в мировой и восточной литературе («Лейла и Меджнун», «Тахир и Зухра», «Ромео и Джульетта» и др.). Это предание о чистой и светлой любви юноши Омар-Али и девушки
Газело, которые яростно борются с трудностями, вставшими перед их светлым чувством. Омар-Али и Газело – дети гор, не ведающие хитрости и лжи. Поэтому они легко становятся жертвами коварных и жестоких людей. На фоне великолепной кавказской природы из-за коварства духовно убогого пастуха Сурхая
разыгрывается драма, приведшая к гибели двух влюбленных
божьих созданий. Их хоронят на противоположных склонах
оврага. С течением времени над их могилами вырастают вино-
градные лозы, они сплетаются между собой, как символ продолжения их любви, продолжения и неизбывности самой жизни
на земле.
В очерке «Записки о Тушетии» раскрылись обширные познания Ивана Цискарова в истории, этнографии, фольклоре и
религии тушин. В этом очерке И. Цискаров знакомит читателя с
исторически достоверными сведениями о жизни и быте тушин.
Со знанием дела характеризует психологию своего народа, его
язык и религию. Красочность и сочность языка очерка превращают его в художественное произведение, героем которого является сам народ. «Хорошее знание быта и нравов, образа жизни
и характера тушин позволили автору проникнуть в их психологию, побудить у читателя интерес к их укладу, нарисовать образ
типичного представителя этой народности, остановиться на анализе жизни тушин» [Туркаев 1978: 59].
Когда мы употребляем словосочетания “образ страны”,
“образ народа”, мы вступаем в область научной дисциплины,
которая изучает рецепцию и репрезентацию своего мира или
мира других. В понятийном аппарате имагологии понятие “образ” имеет и широкое, обобщающее значение, и более узкое и
конкретное, в качестве одного из механизмов и инструментов
рецепции и репрезентации других/чужих. Имагология – молодая, но активно развивающаяся дисциплина, причем особенно
бурно именно в современный период, когда место идеологии заняли культурология и цивилизациология, а процесс глобализации породил острую потребность понимания особенностей других/чужих и, соответственно, необходимость изучения того, как
формируются их “образы”. Существует целый спектр познавательных импульсов, породивших имагологию – упоминавшиеся
культурология, цивилизациология, геполитика, политология,
наконец, собственно гуманитарные дисциплины. То есть имагология имеет междициплинарный характер, соединяя фольклор,
литературу, различные виды искусства, элитарную, “высокую”,
и массовую культуру, СМИ. Изучая данные этих источников в
принципе, имагология устремлена к обобщению и выработке
некой объединительной парадигмы рецепции и репрезентации
других/чужих в пространстве своей и других культур [Земсков
2006: 3].
Обращение многих чеченских писателей-просветителей
ХIХ века к возможностям русской литературной традиции,
творческая практика современных писателей республики, реализуемая на русском языке объясняются, в первую очередь,
специфичностью адресатов: речь идет и о собственно чеченцах,
и о других народах, населяющих евразийское пространство.
Так, фундаментальная работа Умлата Лаудаева, известного чеченского просветителя второй половины ХIХ века «Чеченское племя» была предназначена для широкого круга русских
читателей своего времени. В этот период царское правительство, упоенное победами над горцами в Кавказской войне, всячески пыталось идеологически обосновать и морально оправдать бесчеловечное обращение с мирным и беззащитным населением, якобы прирожденной жестокостью и кровожадностью
горцев. У. Лаудаев ставил перед собой цель – создать историкоэтнографический очерк о чеченцах. И с этой задачей он справился блестяще. В книге «Чеченское племя» видна озабоченность автора судьбой своего народа, стремление дать верное
представление о лучших сторонах его характера, тем самым
рассеять неверное и предвзятое представление о своем народе. В
предисловии к ней сказано «из чеченцев я первый пишу на русском языке о моей родине, еще так мало известной» [Лаудаев
1990:75].
Здесь следует обратить внимание на факт одного из первых опытов создания репрезентации «своей» культуры для
«другого/чужого» читателя с целью создания «образа Чечни»,
реализованном как в историческом, так и в общественнопсихологическом контекстах. Среди факторов, влияющих на
формирование имагологической картины мира, – практически
все то, что определяет бытие, быт и историю. Это факторы природно-географические, климатические, цивилизационные, религиозно-конфессиональные, историко-культурные, уровень развития экономики, бытовая культура, обычаи, культура высокая,
роль и место страны в мировой истории и т.п., причем восприятие той или иной страны может изменяться при возрастании или
уменьшении ее роли при смене мировых геополитических конфигураций.
Традиции чеченских просветителей ХIХ века продолжили
писатели нового столетия. Так, известный в Чечне герой гражданской войны Асланбек Шерипов был в числе первых, кто со-
единил традиции художественных культур европейских и чеченского народов. Его статьи и речи воссоздают убедительную
картину разностороннего дарования и разносторонней деятельности этой незаурядной личности.
В 1916 году газете «Терек» он поместил ряд чеченских
народных песен в переводе на русский язык. О том, какие герои
песен привлекли его симпатии, автор говорит в предисловии к
своей книге «Из чеченских песен»: «Власть терроризировала
мирное население, а абреки терроризировали эту власть. И, конечно, народ смотрел на абреков как на борцов против притеснений и зверств власти. Вот этот характер политического
протеста и борьбы с властью придавал абрекам в глазах народа ореол национальных героев, что в свою очередь отразилось в
песнях» [Шерипов 1990:151].
В сборник «Из чеченских народных песен» вошли всего
три песни: «Абрек Геха», «Юсуп – сын Мусы», «Асир-бек», которые претерпели значительные изменения при переводе на
русский язык. В основе песни «Абрек Геха» история гибели известного в народе абрека Гехи. Чувствуя приближение «красавицы-смерти... в последней страстной молитве Аллаху вылил
всю свою душу и приготовился к последней абреческой игре – к
веселой игре со смертью. И огнем зажег геройский Геха души
людей, и огонь тот спалил и разметал всю гниль людских сердец... Ободренный женщиной, которая десятерила силу Гехи, он
бился с безграничной отвагой... Он играл своим смертельным
ружьем последнюю лебединую песню абрека – песню о красивой
смерти... И абрек Геха погиб красивой смертью, погиб победителем. Ибо победитель не тот, кто сражает врага, а тот,
кто в жертву борьбе, на верную смерть без раздумья бросает
душу и тело свое...» [Там же: 156].
У.Б. Далгат писал: «Солидарность выдающейся личности
с коллективом, составляющая в горских песнях об удальцах
преимущество ее героического поведения, наглядно демонстрируется в чеченских песнях» [Далгат 1973:397].
Дело в том, что в «Асир-абреке» Шерипова впервые в истории данного жанра чеченской литературы фиксируется герой,
абсолютно оторванный от нужд и чаяний народа, живущий
лишь для себя, для удовлетворения собственных страстей. Традиционная идея песни-илли, утверждающая общенародную кон-
солидацию, единения с народом в переводе претерпевает заметное изменение. На первом плане идейный разлад между героемодиночкой и серой толпой. Знакомая коллизия и знакомый герой из произведений Байрона (Чайльд Гарольд), Гете (Вертер),
Пушкина (Алеко), Лермонтова (Печорин), Грибоедова (Чацкий),
Горький (Лойко Зобар). Но если в европейской романтической
литературе это гордый одиночка-аристократ, потерявший или не
нашедший цели в жизни, то своеобразие и историческая достоверность идейного разлада чеченского героя-одиночки причинно обусловлены. Асир и европейский аристократ – дети разных
культур и цивилизаций, разных уровней общественного сознания.
Разлад между толпой и Асиром произошел из-за того, что
наш герой не находит среди нее «непреклонных и смелых духом
героев», похожими на него, готовыми, как и он «бороться и
умирать за свободу гор и людей Кавказа... На мятежные и свирепые горы Кавказа надел свои оковы свирепый победитель.
Победитель накинул цепи рабства и на душу детей Кавказских
гор; и из гордых, непреклонных и смелых духом героев они превратились в толпу забитых и жалких рабов: прекрасная мечта
о красивой жизни – нежная и пугливая птица – отлетела от
поруганных гор Кавказа. Поколение же рабов дает поколение
еще худших рабов... После каждой смерти героя толпа рабов
ликует; она рада тому, что избавилась от живого укора прошлой героической жизни...
Но Кавказ не ликует, он грустит и свято хранит в гуле
лесов, в реве потоков и в недрах своих гор дивные образы и песни о погибшей, прекрасной и могучей душе... И разносит потом
пандурист по всему Кавказу песни о вольных людях. Рабы Кавказа слушают песни внимательно, вспоминают рассказы стариков, грустью откликаются на зов далеко улетевшей мечты
старины... а потом – потом мирно пашут поля свои, сменив
шашку буйной свободы на плуг позорного рабства...» [Шерипов
1990: 165–166].
Асир-абрек умер одиночкой. Таков был удел всех борцовабреков за народное счастье. На наш взгляд в песне тема любви
– любви безответной – доминирует в песне, о чем свидетельствует структура данного произведения. Поиск «опоры в себе» и
цели в жизни привел его в страну по имени Нанта, которая по-
корила могучего джигита, но не полюбила... И честно призналась, что любит состоятельного в материальном плане Кагермана. Нанта, видимо, подспудно инстинктом женщины-матери почувствовала, что Асир не из тех, кто продолжает жизнь и заботится о потомстве. Таких, как Асир, ввиду высокого накала их
страстей и душевных порывов, природа исключает из вечного
цикла обновления и продолжения жизни на земле.
В отличие от Алеко Пушкина («Цыгане»), Лойко Зобара
Горького («Макар Чудра») Асир не убивает Нанту, а приводит в
дом любимого ею человека. Врожденное благородство не позволило ему поступить иначе. И тут Асланбек остался верен
лучшим вековым традициям своего народа. В художественной
традиции народной песни-илли нет ни одного примера, когда
из-за отвергнутой любви народный герой совершает насилие
над девушкой. В заключительной части песни автор предельно
обнажает этическую и психологическую суть своих героев.
Услышала однажды Нанта, что Асир «ворвался в казачью станицу и сложил там свою буйную голову... Услышала и низко
опустила голову.
Частые и крупные слезы одна за другой падали на ее колени.
– Ты что? – спросил Кагерман.
Но на вопрос мужа и на тревожные взгляды детей
Нанта ничего не ответила: она переживала что-то страшное,
огромное, плакала о чем-то навсегда ушедшем, о невозвратной
мечте... [Там же: 165–166].
Национальное начало в русскоязычном творчестве чеченских просветителей и общественных деятелей выступает не
только как тема, сюжет и предмет художественного отображения действительности, но и как взгляд художника на мир вещей,
на события своего времени. Наряду с восхищением красотой
кавказской природы и восторгом «безумством храбрых», их
волновала и трагедия народа, потерявшего социальные и нравственные ориентиры после поражения в войне за независимость.
Все это находило отражение в чеченской литературе, в которой
формировался образ чеченца и образ Чечни и для «своих», и для
«других, чужих». Этот феномен органично может быть рассмотрен в контексте уже упоминавшейся новой гуманитарной
науки имагологии.
Прежде всего, следует иметь в виду, что имагология имеет
дело с особой разновидностью культурно-общественного сознания, с особой формой миропознания, то есть со специфическим
видом культуротворчества. Каждая культура любого уровня
развития по-своему воспринимает, воссоздает и закрепляет в
памяти образы других/чужих, такие образы, которые характеризуют либо отдельные стороны, черты и свойства этих “других”,
либо в целом их “сущность”, их идентичность, на фоне собственных представлений о норме и ценностях. Аксиологичность
рецепции и репрезентации является универсальным свойством
имагологических операций. В связи с этим следует заметить,
что чеченские русскоязычные писатели служат двум культурам:
чеченской и русской. Произведения, написанные ими на русском языке, так или иначе, отражают своеобразие художественного мышления чеченцев. Поэтика любого произведения чеченского русскоязычного писателя сродни поэтике одного из жанров устного народного творчества чеченцев, откуда автор черпает сюжет, идею, образы и нравственную проблематику.
Почти во всех русскоязычных произведениях (да и в произведениях на родном языке) чеченских писателей фольклор
выступает не только как источник сюжетов. Художественная
национальная традиция определяет не только проблематику, но
и принцип развития сюжета (переводы чеченских песен А. Шерипова, роман «Когда познается дружба» С-Б. Арсанова, повесть «Всполохи» З.Абдуллаева, романы К. Ибрагимова, повесть «Абрисы» Л. Куни и др.). Так, художественный мир романа К. Ибрагимова «Прошедшие войны» строится как на традициях русской литературы, так и на образной структуре чеченского фольклора.
В центре романа – Цанка Арачаев, его скитания по белу
свету, злоключения, любовь и ненависть – во всем слышится отзвук песен, легенд и преданий седой старины Чечни. Это знак
(символ) народности характера, народности судьбы.
Жизнь Цанки не только хождение по мукам – нет худа без
добра – но и накопление социального опыта, постижение азбуки
противостояния несправедливости. Цанка знает от прадедов, что
Бог не в силе, а в правде. На него он и надеется, им он храним и
ведом по жизни. Образ Времени предстает в романе в трех его
незыблемых ипостасях. В генеалогии семьи Арачаевых ощуща-
ется незыблемость духовных и нравственных основ народного
бытия.
В романе жизнь и судьба главного героя Цанки соотнесены с жизнью и судьбою Чечни, значительными событиями чеченской истории 30–90 годов 20-го столетия: коллективизация,
война с Германией, выселение всего народа, возвращения на родину, созидательный труд на земле предков, революции 1991
года, войны 1995 года. Черты личности героя формируются и
временем, и событиями, и, что немаловажно, историческим
прошлым генеалогического древа семьи Цанки. Время и события, наподобие алмаза, шлифуют и гранят генетически заданные
параметры характера Цанки. В судьбе Цанки личное и социальное тесно переплетены, в зрелом возрасте социальное героя уже
перестает искать выхода через личную месть носителю зла, вернее, он начинает понимать деструктивность такого решения
проблемы в национальном масштабе.
В свое время Н.А. Бердяев заметил, что подъем духа
нации происходит в самые критические ситуации развития той
или иной страны. С конца1990-х гг. стало заметно стремление
значительной части молодежи лучше узнать правдивую историю своей Родины. Одна из главных задач при этом – бороться с
расколом общества, с накопившейся в нем нетерпимостью, которая проявляется буквально во всех сферах. Недаром эта проблема признана критической на правительственном уровне, и
принята специальная программа по воспитанию толерантности
– терпимости – среди детей и юношества. Изучением взаимных
представлений различных народов друг о друге занимается
сравнительно новая отрасль исторической науки – имагология.
Образно говоря, это наука об “образе соседа”, или же “о себе и о
соседях”. Эта наука обладает огромным потенциалом, поскольку отвечает общим процессам глобализации. Знание о других
народах и сообщение им достоверной, исчерпывающей информации о собственном этносе составляет неотъемлемую часть
имагологии.
Известно: язык является базисом и «первоэлементом» художественной литературы любого народа. Данная аксиома порождает проблему – как быть с теми, кто пишет (и неплохо, а
порой и очень хорошо) на нескольких языках. Как быть со многими мастерами художественного слова, которые по разным
субъективным и объективным обстоятельствам и причинам пишут (и писали) на другом, не на родном языке (англоязычные
писатели, франко-, немецко-, русско-, испаноязычные писатели,
черкесские и чеченские эмигранты, живущие в Турции, Сирии,
Иордании, в европейских странах)? Вопрос довольно-таки
сложный. И не только с эстетической и этической позиций. Хотя
язык и является доминирующим национальным признаком художественного произведения, его нельзя рассматривать вне учета других признаков и факторов. Литературовед А. Ворожбитова пишет: «Тенденция же относить того или иного писателя к
определенной национальной культуре только по языковому
признаку может повлечь за собой глобальные перекосы и в
культурной политике, и в конкретных оценках многих явлений
культуры, как настоящего, так и прошлого» [Ворожбитова 1992:
14].
Светлана Алиева считает, что национальный менталитет
зависит не только от языка. «Вероятно, национальный образ
мышления, мироощущения исходит из глубинной совокупности
характерологических черт народа и личности, этот народ представляющий черты, рожденные и сформированные природой, в
которой жизнедействующий индивид, социумом, частью которого он является, временем во всех трех ипостасях – прошлым,
настоящим и будущим, в сложных диалектических взаимосвязях, с которыми он выступает, вынося «на люди», отдавая на
общенациональный суд трепетную исключительность своего
«я»... Зарубежные критики свидетельствуют, что Владимир
Набоков в своих англоязычных произведениях сохраняет «русскость», природу русской души; американский писатель Уильям
Сароян остается армянином» [Алиева, 1989].
То же самое можно сказать и о деятельности уроженца
Екатеринодара, армянина по происхождению, выдающегося
французского писателя ХХ века Анри Труайя. К аналогичным
выводам приводит анализ творчества русскоязычных чеченских писателей и творчества зарубежных чеченских писателейэмигрантов на разных языках.
Анализ социолингвистических, этнопсихологиических
научных изысканий показывает, что язык – самый главный носитель национальной самобытности и его своеобразия в ряду
других наций. Язык не просто средство для обмена информаци-
ей. Диапазон действия человеческого языка практически неограничен. Это – центральный механизм социального поведения людей, проводник их социальных и духовных установок,
посредник- проводник человеческих отношений, хранитель информации во времени и пространстве, координатор социального
развития и поведения человека в данном социуме. И само собой
понятно, что нормальным и менее проблемным является естественный процесс: писатель создает свои произведения на
родном языке – базисе духовности и культуры этой нации –
который он обогащает, и от которого он сам не меньше обогащается.
Но в мировом масштабе экономические и политические
реалии, глобализация в экономической, духовной сферах диктуют свои законы, и в мировом литературном процессе дела обстоят куда сложнее, нежели категоричные суждения иных ученых и писателей.
Всемирная литература знает немало примеров, когда писатель при определенных условиях в определенное время создает свои произведения не на родном ему языке, а затем – и на основе своего языка. За годы советской власти в СССР сложился
тип писателя-национала, который, даже успешно творя на родном языке, считал своим долгом пробовать писать на русском. И
надо отдать должное высокому уровню мастерства некоторых
из них. Так, киргизский писатель Чингиз Айтматов одинаково
талантливо писал как на киргизском, так и на русском. Список
талантливых двуязычных писателей можно продолжить: казахский писатель Олжас Сулейменов; абхазский – Фазиль Искандер; русский – Набоков; чеченские – писатель-публицист, политолог с мировым именем Абдурахман Авторханов, Саид-Бей
Арсанов, Халид Ошаев и др. На наш взгляд, чеченские русскоязычные писатели служат одновременно двум культурам: чеченской и русской. Произведения, написанные ими на русском
языке, так или иначе, отражают своеобразие художественного
мышления чеченцев. Поэтика любого произведения чеченского
русскоязычного писателя сродни поэтике одного из жанров устного народного творчества чеченцев, откуда автор черпает сюжет, идею, образы и нравственную проблематику. Поэтика их
творчества (С. Арсанова, К. Ибрагимова, С. Яшуркаева, Л. Куни) в чеченской литературе отличается умелым использованием
художественно-этнографичес ких мотивов и деталей. В них этнографические составляющие несут существенную содержательную функцию, раскрывающую обычаи и традиции чеченского народа, уходящие вглубь веков: рождение ребёнка (бер
дуьненчу далар), гостеприимство (хьошалла дар), уважение и
почитание старших (воккханиг ларар), обряд взаимопомощи
(белхи) и др. Художественно исследуя национальное своеобразие и специфику векового уклада жизни горцев, они большое
внимание уделяют воспроизведению народных традиций и обычаев. Исследование этнографических деталей и мотивов помогает им максимально достоверно передать облик изображаемого
времени, воссоздать национальные характеры. Обращая внимание на своеобразие языковых особенностей, их роли в сюжетнокомпозиционном построении в произведениях русскоязычных
чеченских писателей, мы отмечаем, что включение фольклорноэтнографических реалий призвано под пером умелого писателя
выполнять конкретную и определённую эстетическую функцию
в контексте всего произведения. Языковые особенности выполняют несколько функций: смысловую (красочно воспроизводят
образы, отражают актуальные для героев вопросы); конструктивную (выстраивают сюжет повествования); философскую и
эстетическую (передают специфический характер представителей народа, духовную культуру, моральные ценности).
То же самое можно сказать и о романах Канты Ибрагимова («Прошедшие войны», «Седой Кавказ», «Учитель истории»,
«Детский мир»), написанных на русском языке. Опираясь на национальную художественную традицию, автор создал национально-самобытные произведения, в которых действуют живые,
реалистические герои со своими ярко выраженными характерами и внешними данными. Размышляя о Чечне, о людях,
ее населяющих, автор выступает в роли выразителя дум и чаяний своего народа, как певец родного края, как его представитель в русской культуре и литературе. И в то же время романы
Канты Ибрагимова, наряду с русскоязычными произведениями
чеченских писателей, являются творениями национальной культуры чеченцев, так как в них вольно или невольно отразилось
своеобразие художественного мышления чеченцев.
Почти во всех русскоязычных произведениях (да и в произведениях на родном языке) чеченских писателей фольклор
выступает не только как источник сюжетов. Художественная
национальная традиция определяет не только проблематику, но
и принцип развития сюжета (роман «Когда познается дружба»
С. Арсанова, романы К. Ибрагимова, повести «Всполохи» З.
Абдуллаева, «Абрисы» Л. Куни).
2.2. Чеченская литература: основные этапы развития
Художественное сознание чеченцев прошло сложный
многовековой путь эволюции до появления письменности и художественной литературы, к чему чеченцы были близки задолго
до Октябрьской революции 1917 года.
На самобытную художественную культуру чеченцев
наложили отпечаток влияние восточных культур с Юга и, в более поздний период, с Севера. У нас нет сомнения в том, что
первая волна профессиональных писателей Чечни (Абди Дудаев, Ахмад Нажаев, Саид Бадуев, Магомед Мамакаев, Арби Мамакаев, Шамсуддин Айсханов, Нурдин Музаев) испытала на себе оба типа влияния. Их деятельность и творчество по преимуществу имеет просветительскую направленность, что роднит их
с чеченскими русскоязычными писателями-просветителями 2-й
половины ХIХ века. Но, в отличие от предшественников, они
пропагандировали художественную культуру на родном чеченском языке, на деле приобщая массы людей к истокам национальной культуры. Учили детей и взрослых родному языку,
прививали эстетический вкус к изящной словесности.
Дидактический и назидательный характер их творчества
идет от восточных литератур. Эти приемы больше соответствуют просветительным и нравственным функциям художественной литературы. В ткань своих произведений они удачно
вплетали чеченские пословицы и поговорки (цхьана буйна ши
хорбаз – два арбуза в один кулак; гуттар ца хуьлу цицигана
т1уо – не всегда коту сметана), эпитеты и сравнения (Мекхаш-мирза – Мирза-усы, буг1а санна – как бык и т. д.) [Нохчийн
кицанаш (Чеченские пословицы), 2003] .
Они прекрасно знали оружие и предметы народного быта
[Асхабов, 2001] танцевальные движения, названия танцев (баккхийчу нехан хелхар – танец пожилых), народную кухню (жижиг-галнаш – галушки с мясом) и т.д., чем удачно пользовались
в своих произведениях, следуя принципам историзма и этнографизма, что и помогло им создать убедительные картины жизни
чеченцев в прошлом и в настоящем. В такой просветительской
традиции и стала формироваться чеченская литература 20 столетия. В своем формировании эта литература ориентировалась
во многом на русскую литературу ХIХ века. Кроме того, на
идейный уровень произведений чеченских писателей имело
огромное влияние социально-политическое устройство Советского государства. Так, в 1934 году на первом съезде советских
писателей единственным художественным методом был провозглашен социалистический реализм.
Рассмотрим советскую чеченскую литературу 20–30 годов
сквозь призму явлений общественной жизни тех лет. Литература
того времени решала задачи утверждения преданной социалистическим идеалам социально активной личности, новых социально-экономических отношений. Делалось это, в основном, через противопоставление современности прошлому, через критику – с точки зрения голытьбы – отживших адатов. Дескать, до
17 года народ прозябал в нищете, социализм принес народу прогресс и достаток, слушайтесь коммунистов, трудитесь и размножайтесь на благо всего человечества и возблагодарите за это
Ленина, Сталина, Брежнева и родную партию. Как известно, для
марксизма проблем того света, смерти не существовало. Сообразуясь с повесткой дня, просветительские идеи чеченских литераторов ХIХ-го и начала ХХ века, вновь актуализировались и
получили дополнительный стимул в условиях культурной революции, когда народ пошел на освоение профессиональных форм
культуры – театр, ансамбли песни и пляски, эстрада. Несмотря
на идеологические и социальные издержки социализма, насильственно насаждаемого метода соцреализма, в чеченской литературе определенно был и позитив: литература тех лет – 30–50 годы – становилась, росла, усваивая положительные, трансформируя или начисто преодолевая отрицательные влияния инонациональных художественных систем. Анализ творчества прозаиков
С. Бадуева, С. Курумовой, А. Айдамирова, Ш. Окуева, У. Гайсултанова и др. позволяет говорить об индивидуальных стилях в
их творчестве, о различных способах освоения действительности. Личная человеческая судьба в чеченской прозе делается
предметом изображения впервые у С. Бадуева. Это ознаменова-
лось появлением вымышленного героя – плода обобщения и наблюдения. В 1920-е годы чеченская литература развивалась в
русле метода просветительского реализма, в котором давал
знать о себе и «наивный реализм» фольклорных произведений.
К началу 1930-х годов усилилась тенденции критического реализма. Изучение закономерностей становления и развития чеченской художественной литературы 1920-х годов показывает,
что система жанров в ней формировалась на основе национально-культурных традиций, которые на первом этапе становления больше тяготели к ближневосточным эстетическим традициям.
В 1930-е же годы национальные эстетические традиции
стали испытывать сильное влияние эстетических традиций русской классической и советской литератур. В тот период
наибольшую актуальность получают публицистические жанры:
очерк, статья, заметка. Очерк как нельзя лучше справлялся с повесткой дня того периода, выполняя информативную функцию,
вводя в общественное сознание сиюминутные задачи партии и
правительства, предлагая чеченским писателям доселе им неведомые темы и проблемы. Кроме этого, по требованию большинства советских писателей в литературе было наложено временное табу на личное. Объясняли они это тем, что в данный момент гораздо важнее разъяснить народу величие нового строя,
смысл перемен и достижений социалистической экономики и
культуры.
Для поэтики чеченского очерка характерна была четкая
расстановка акцентов согласно законам прямолинейной дидактики. Тем не менее, именно в этом жанре чеченской литературы
того периода отчетливо проявилось национальное своеобразие
и материала и структурных компонентов. В жанре очерка произошло дальнейшее углубление синтеза художественной субъективности и объективности. Субъективное описание реальной
действительности сопровождалось активацией личностного, авторского начала. Художественно-публицистический очерк развивался в опоре не только на традиции советской литературы
того времени, но и на традиции чеченских просветителей.
Современный чеченский литературовед Х.В. Юсупова
утверждает, что повесть занимает особое место в системе жанров чеченской и ингушской литератур. «Возникнув в 20-е годы
нашего столетия в процессе взаимодействия национальнокультурных традиций и эстетических традиций не только советской, но шире – русской классической литературы, она вслед за
публицистикой, поэзией, драматургией по-своему осваивала
сложные и противоречивые явления действительности. Как
один из самых значительных художественных феноменов послереволюционного периода именно жанр повести определил
многие тенденции развития вайнахской повествовательной прозы, осуществляя важнейшую для национальной культуры функцию – включение в литературное сознание глубокого пласта рефлексии над актуальными социальными и нравственными проблемами» [Юсупова 2000: 3].
Вместе с тем в чеченской литературе 1920–30-х годов
проза идейно и художественно значительно отставала от темпов
роста и развития поэзии и драматургии. Х.В. Туркаев причину
приоритета поэзии тех лет перед другими родами в чеченской
литературе объясняет преимущественно авторитетом и могуществом песенной традиции: «Не менее важным фактором преобладания поэзии над другими родами литературы явилось и то,
что очерк, рассказ, повесть были непривычны для первых наших
литераторов и читателей. Наконец, более оперативным средством приобщения народа к новой действительности... являлось
именно поэтическое слово. Оно доходило до читателя быстрее,
действовало на него эмоциональнее» [Туркаев 1978:169]. В поэзии 1920–30-х годов доминирует политическая лирика, в которой основное место отводится теме революционных преобразований. В формировании большевистских идеологических и морально-нравственных ориентаций немалую роль сыграла и национальная драматургия. В повышении уровня поэтического
мышления большую роль сыграли и переводы на чеченский
язык инонациональных произведений. Переводы как продукт
межъязыковой коммуникации способствовали развитию и обогащению чеченского литературного языка. Среди переводов тех
лет видное место по благотворности влияния занимают произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Т. Шевченко, Л. Толстого,
Ш. Руставели и др.
Новописьменная литература зарождалась в тесном взаимодействии с эстетикой национального фольклора. По-разному
преломляются ее традиции в родах и жанрах чеченской литера-
туры. Так, автор современной диссертации «Роль фольклора в
эволюции чеченской прозы ХХ века» (2010) Т.Б. Джамбекова
замечает: «Проблема взаимодействия двух глобальных эстетических систем – фольклора и литературы – является актуальной
на всех этапах развития новописьменных литератур. То, что
фольклоризм северокавказских литератур, в том числе чеченской, является недостаточно разработанным, признается ведущими учеными-кавказоведами» [Джамбекова 2010:3]. Далее
ученая отмечает, что чеченская литература 1920–1930-х годов
стала началом нового этапа в развитии духовной культуры
народа. «Ее основателями были молодые авторы, которые глубоко знали народное творчество и опыт русской литературы.
Потребность отразить новую действительность, сделать героем
произведений человека-создателя стала составной частью их
творчества. Авторы обращались к актуальным проблемам современности. Критика отмечала: «Содержание литературного
процесса 20-х годов свидетельствует о том, что первый и очень
сильный отзвук события… нашли в фольклоре. Началась генеральная переоценка морально-этических ценностей и эстетических идеалов» [Джамбекова 2010:4].
Поэзия в основном использует художественные традиции
героико-эпических песен, прозаики же обращаются к богатой
фольклорной традиции сатирико-юмористических рассказов.
Как известно, в подтексте сатиры и юмора содержатся элементы
анонимно-тихого социального протеста против «свинцовых
мерзостей жизни» путем высмеивания и изобличения обобщенного явления или персоналий. Немалую долю в формирование
чеченского рассказа внесли сказки, народные (хабары) рассказы,
притчи, легенды, анекдоты, басни, в основе которых аллегорические подтексты, полные сатиры и юмора. Свободная энергия
чеченской народной сатиры в основном была направлена на
изобличение лодырей и пьяниц, судей и приставов. Так народ
принимал посильно-активное участие в санации собственных
социальных и нравственно-этических норм и устоев. В сатирико-юмористических рассказах событийная канва четко связана с определенным местом, временем и людьми. Это компоненты были очень важны для прозы тех лет, проводника идей партии в массы. Дагестанский литературовед А.М. Абдарахманов
считает, что «устный рассказ по своей жанровой природе – это
одна из форм проявления общественного сознания народа. Диалектика развития непременно приводит его к традиции художественного индивидуального творчества...» [Абдарахманов
2003:364].
Рассказ М. Сальмурзаева «Кхетаме Хьамид» («Сообразительный Хамид», 1923), форма и образы которого очень близки
к формам и образам чеченских народных сатирико-юмористичес
ких рассказов, является первой попыткой авторского художественного осмысления действительности. «Однако, – отмечает
Х. Туркаев, – в отличие от народных рассказов, в которых социальное зло только выявляется, но не ликвидируется, в рассказе
М. Сальмурзаева носители социального зла не только показаны
внешне и изнутри, но и нарисованы также типичные образы бедняков, находящихся с ними в антагонизме и побеждающих их»
[Туркаев 1977: 269].
Для чеченских рассказов 1920–50-х годов характерны такие черты поэтики, как простота сюжетной линии с обязательной морализаторской установкой. Рассказ тех лет, хоть и сторонился социально-политического аспекта общественной жизни,
все же сыграл важную роль в процессе эволюции чеченской
словесности и становления эпических жанров повести и романа.
Повесть и роман, вобравшие в себя предыдущий опыт поэзии и
драматургии, рассказа, как новые формы эпического художественного мышления явились закономерным результатом бурного литературного процесса Чечни. С произведениями С. Бадуева «Голод», «Огненная гора» связано становление жанра повести в чеченской литературе. В отличие от «оптимистических
трагедий» советской литературы того периода, героям начального этапа творчества С. Бадуева (рассказы «Адат», «Зайнап», «Колодец», «Имран»; повести «Голод», «Бешто») даже
ценой своей гибели не удается решить проблемы, формирующие в чеченском обществе нравственно-психологические конфликты такого порядка...
Это не случайно. Тысячелетним нравственным кодексом
народа, нацеленным только на личное выживание, были четко
определены параметры достойной смерти. Но о том, как достойно выжить с помощью разумной и хотя бы относительно
справедливой социальной поддержки – об этом кодекс как-то
мало позаботился. Телиб, Хийжан, Бусана достойно умирают,
освбождая место следующему поколению, которое тоже будет
готово достойно умереть, так и не поняв дум и чаяний своих современников. Верный правде жизни писатель не пошел на поводу у тогдашней литературной моды. В этом его оригинальность,
в этом его гражданская и художественная заслуга перед своим
народом.
Саид Бадуев родился в Грозном 28 августа 1903 года в семье купца, выходца из с. Урус-Мартан. Учился в Грозненском
реальном училище. После окончания курсов учителей препода
вал в школе и в пунктах ликбеза. В 1931 году становится руководителем чеченского драматического театра. Творческий путь
писателя начался в 1925 году. В начале 1937 года арестован и
погиб в застенках НКВД. Но и за это короткое время он успел
очень много написать. Работал почти во всех жанрах и родах
чеченской литературы и создал немало образцовых произведений прозы и драматургии. Блестящий очеркист, переводчик,
талантливый организатор.
Исторические события требовали соответствующих литературных произведений, адекватных реалиям времени. Опыты
местных писателей того периода отмечены неустанными творческими поисками в этом направлении. Создавая базу для становления романа, рассказ и повесть расширили возможности
прозы как тематически, так и в способах художественной типизации. Жизнь во всем ее многообразии, сдвиги сознания масс –
прерогатива эпоса. Для создания романа – как пика эволюции
словесно-художественной системы – требовалось определенное
время. Время для накопления художественного потенциала, как
в плане художественного освоения действительности, мастерства изложения писателем, так и в плане восприятия читателем.
С. Бадуев одним из первых ощутил потребность в создании емкого эпического произведения. На решение этой проблемы и
были направлены творческие усилия писателя при написании
романа «Петимат» (1930).
Европейская и русская литературы располагали обширным кругом произведений, в которых схожие задачи были решены. Бадуев обратился к опыту русской литературы, в частности, к философии творчества М. Горького. Один из исследователей творчества классика чеченской литературы К. Гайтукаев
пишет: «Ориентированность С. Бадуева на М. Горького в плане
перспективы развития идеи образа героини несомненна... О
творческих исканиях С. Бадуева в том же направлении свидетельствует его повесть «Пхи туьма» (Пять туманов), многими
нитями тесно связанная с повестью Л.Н. Толстого «Поликушка»... Однако важно подчеркнуть, что здесь сходство главным
образом связано с тем, что чеченский писатель на хорошем
профессиональном уровне изучил опыт Л. Толстого в создании
типического характера человека из народа и довольно успешно
применил его в своей повести. В созданном им образе простого
горца ясно и убедительно проступают черты, общие для дореволюционной чеченской бедноты. Образ Дика, можно утверждать,
явился одной из первых удачных попыток (не только в собственном творчестве С. Бадуева) решить проблему национального характера, обусловленного исторической, социальной и
духовной жизнью народа» [Гайтукаев 1986:80–81].
Рассказ и повесть – излюбленные жанры чеченских прозаиков. Пути их становления отмечены обогащением средств художественной интерпретации явлений жизни чеченского социума. Хотя повесть, в общем, и не избежала облегченной иллюстративности и схематизма, со времени своего появления по сегодняшний день она была и остается одним из катализаторов
развития и роста всей чеченской прозы. С этим жанром, как закономерным результатом развития национальной словеснохудожественной системы, связаны многие тенденции развития
чеченской прозы.
Чеченские писатели до Бадуева в своих художественных
произведениях, избегая многозначности образа, уделяли мало
внимания эстетической стороне творчества, упрощая их до однозначности публицистики. Они считали, что ясность идеи является главным достоинством художественного творчества. Литературовед М. Завриев пишет: «Критика, отмечая правдивость
отображения реальной действительности в прозе, упускала из
виду самое основное свойство художественного творчества Бадуева – ориентирование образа к идеалу. Если у художника есть
представление об идеале, то, безусловно, есть пути и средства,
ведущие к достижению его» [Завриев 1988:10].
Герои Бадуева, воспитанные в условиях патриархальной
демократии (тотальное равноправие), не приемлют законов
нарождающегося имущественного и, как следствие его, соци-
ального неравенства. Симпатии автора, как правило, на стороне
бедного крестьянина, у которого в условиях нарождающегося
капитализма отбирают элементарные человеческие права, которые он с младых ногтей привык считать незыблемыми и данными ему по факту самого его рождения («Имран», «Бешто»).
Для писателя не столько важен путь, пройденный его героем до самого конфликта, сколько поведение его в момент отстаивания им своих элементарных (на взгляд героя и автора) человеческих прав, когда конфликт между личностью и обществом приобретает экзальтированно-трагический характер. Не
имея сил и нравственного философского стержня для отстаивания своих мнимых человеческих прав, для переустройства общества, герои писателя или гибнут, или уходят в мир грез и
мечтаний,
где
господствуют
более
снисходительночеловеческие принципы в межличностных отношениях (Бешто).
Завриев М. в связи с этим пишет: «В этом плане проза Бадуева
отличается от всей последующей чеченской прозы тем, что в
ней идеализируется человеческое, уходит на второй план типизация и героизация характеров» [Завриев 1988:10]. Своеобразный образ-идеал конструируется автором индивидуальным стилем повествования, из чего зримо вырисовывается образ автора,
который принимает иногда чрезмерно видное участие в первоначальном наброске и завершении образа-идеала. Повесть начинается с фразы, которой обычно заканчиваются классические
романтические истории: «Яьлла лаьтташ б1аьсте а яра. Стигал дошан басахь тхов бина кхозура. Юкъачу хьаннех а дуьзна
лаьттачу дехачу баьццарчу аьрцнаш к1ел кешнаш гора, гонахара керт нийсса ах охьа кхетта. Цу кертара чарташ, т1елата
кечдинчу эскарх тера дара, цу чарташна нийсса хьалха, сехьа,
кертана сов гена доцуш, ах дахка а делла, лаьтташ цхьа дечган
лоха чурт гора. И чурт ширдаларна аг1ордаьллера. Цу чуртан
ширачу борза т1е берталвоьжна цхьа стаг 1уьллура»//И была
весна. И небо свисало свинцовой крышей. У подножья хребта,
заросшего густым лесом, виднелось кладбище с наполовину свалившейся оградой. Надгробные памятники этого кладбища
производили впечатление войска, готового ринуться в атаку.
Отдельно от общей массы надгробных памятников, как бы
впереди их, ближе к ограде, стоял полусгнивший деревянный
надгробный памятник, покосившийся под тяжестью лет. Под
сенью этого надгробья, на могильном холме, заросшего бурьяном, навзничь лежал один человек [Бадуев 1989:218].
Очерчивая для читателя контуры будущего повествования, автор тем самым создает интригу. В данном произведении
Бадуева язык повествования, на первый взгляд, резко диссонирует с национальным менталитетом. Казалось бы, в соответствии с национальным характером Бадуев не мог не знать, что
чеченская проза должна быть скупой на выражение душевного
состояния. Конечно же, он это знал. Но он был не только фиксатором национального характера на современном ему уровне, но
и писателем-провидцем, предчувствующим и изменения, а скорее, необходимость изменений в структуре национального характера не только сегодня, но и в будущем. И на примере судеб
своих героев убедительно показал, насколько опасны для народа, для его дальнейшего развития и процветания понятия и
представления, ведущие к гибели или сумасшествию лучших
его сынов и дочерей. Сынов и дочерей, так открытых миру и
людям сердцем и душой.
Реальный мир, препятствующий осуществлению заветной
мечты героя, с точки зрения эстетических взглядов писателя более ирреален и бесчеловечен, нежели сама мечта его положительного героя. И мир этот по художественным законам не имеет морального права вообще быть, Это он (мир) сошел с ума, а
не герой его повести. Без веры в будущее своей нации Бадуев не
смог бы творить так успешно и неистово. Повесть «Бешто», да и
другие произведения писателя написаны с учетом вековых чаяний народа, с его неистребимым и давним желанием жить нормальной жизнью, а не в бесконечной эпохе экстрима. Но больше
они написаны для будущего читателя, с учетом будущих изменений национального мировоззрения. Он верил, что и чеченские
писатели в будущем займутся художественным исследованием
чувств и порывов, дум и чаяний обычного человека в обычных
обстоятельствах.
Исследователь жанра повести Х.В. Юсупова пишет: «Художественно исследуя проблемы, во многом новые для национальной литературы, эти произведения закладывали основы
жанра повести как новой формы эпического мышления. Расширяя возможности прозы – и тематически, и в способах художественной типизации, эти произведения подготавливали рожде-
ние романа» [Юсупова 2000: 9]. Следует заметить, что С. Бадуев
и его современники сформировали вполне определенную национально-художественную традицию, подготавливая почву для
писателей, заявивших о себе уже после Великой Отечественной
войны – в 1950-е годы.
У. Гайсултанов (1920–1980) в повести «Болат-г1ала йожар» («Падение Болат-Калы», 1959) продолжил и развил традиции основоположника данного жанра С. Бадуева. Автор повести
в свое время был первым, кто оглянулся в столь отдаленное
прошлое своего народа и через «возможное произойти и иметь
место в чеченском социуме в те времена» художественно достоверно отобразил эпоху ХV века через судьбы своих героев
(Лоьма, Леча, Хвичо, Арчил, Кхокха) и социально-нравственные
рефлексии чеченского общества того периода.
В чеченской литературе с конца 1950-х годов заметно возрос интерес к прошлому своего народа, к его изначальным корням. Появилось немало произведений, в которых чувствуется
желание пройтись по следам предков, найти связующую нить
дня сегодняшнего и грядущего с днем минувшим: повесть «Падение Болат-Калы» У. Гайсултанова; романы «Зелимхан» М.
Мамакаева; «Долгие ночи» А. Айдамирова; «Горы молчат, но
помнят» М. Сулаева; «Учитель истории» К. Ибрагимова.
Побудительных причин для этого немало. Немаловажное
значение имеет и тот факт, что с распадом СССР поменялись
экономические и политические, демографические позиции Чечни (четвертая по численности нация в составе России). Возросли и духовные возможности республики. С высоты сегодняшнего дня хочется мысленным и образным взором окинуть прошлое, откуда тянутся корни сегодняшних проблем и успехов
народа. В народе неистребима жажда самопознанья. Истоки наших бед не в ближайшем прошлом, а в очень и очень далеком
прошлом. Правда, и тут не обходится без издержек. Для ряда
литераторов и ученых национальной «нетленкой» является все,
что бытовало в старину, на ранних стадиях истории народа. Национальное ими рассматривается как устойчивая психологическая и этико-эстетическая категория, не подверженная
никаким изменениям.
Если событие не переосмысливается, если не возвращается ему положенное значение и место в истории народа, то дан-
ное событие не будет представлять собой никакой исторической
и художественной ценности. В толковании событий прошлого,
учитывая последующие события и сегодняшние реалии, нужно
проявлять в максимальной степени такт и дальновидность. Если
изменившиеся обстоятельства выявили иную, более истинную,
скрытую завесой времени суть событий, если укоренившаяся на
сегодня точка зрения не соответствует действительности, то писатель или ученый-историк должен ее пересмотреть или отбросить.
Каждая эпоха привносит что-нибудь да свое в мировоззрение и психику народа, каждый его шаг вперед дается за счет
этих изменений и неизбежно ведут к последующим изменениям.
Другое дело, что происходит это не так быстро и не так очевидно современнику, и не так, как хочется кому-нибудь. Нация,
принципиально отказавшаяся от каких-либо изменений, – естественных и сообразных своим коренным интересам дальнейшего развития – добровольно сходит с магистрального пути
всемирной истории и вскоре неизбежно оказывается выключенной из мировых экономических, политических, социальных и
научных процессов.
В связи с этим хочется отметить, что чеченскому бытописателю на пути реализации задач художественного творчества
приходится преодолевать не только «сопротивление материала»,
но и тенденциозную установку местного читателя на позитив.
Проблема непростая и в большей мере искусственно поддерживается и катализируется определенным заинтересованным кругом лиц, как внутри республики, так и за ее пределами. Известно, что в царской и советской историографии, в имперских и
большевистских СМИ, в некоторых произведениях художественной литературы немало документов, в которых в искаженной форме преподносится история и ментальность чеченцев,
оскорбляется их национальное достоинство.
Не так далеки те времена, когда при обсуждении художественного произведения писателя больше внимания уделялось
вопросам его идейной направленности, нежели поэтике и философии художественного творчества. Российские СМИ 1990-х
годов успешно справились с задачей тотальной дискредитации
чеченского народа, его истории и целеполаганий. Вся свободная
энергия чеченской интеллигенции 1960–90-х годов искусствен-
но направлялась и гасилась в русле самообеливания, защиты невероятно очевидных истин: «не дарили мы Гитлеру скакуна»,
«чеченцы приняли достойное участие в гражданской и Отечественных войнах», «выселение чеченцев было незаконным актом советской власти», «мы хотим, чтобы обучение и воспитание наших детей в школе велось на их родном языке» и т.д.
Чеченскому писателю приходилось и по сегодняшний
день лавировать между необходимостью подлинной объективации истории своего народа, оценки ее бед и несчастий, даже позитивного начала в ее мировоззрении и искусно внедренным в
сознание местной интеллигенции, местного читателя в вопросах
национального установки только на «позитив». Вместо того,
чтобы штурмовать высоты литературного Олимпа, интенсифицировать процесс освоения мирового литературного опыта, он
вынужден заниматься доказательством истины в жанре публицистики не столько в мировом масштабе – там и без нас знают
что почем – сколько в масштабе российского обывателя. Общественная и творческая деятельность Т. Эльдарханова, Х. Ошаева, М. Мамакаева тому неопровержимое доказательство. И в
этом тоже проявилось навязанное извне национально-устойчивое своеобразие истории чеченской литературы ХХ века.
По мере исторического движения общества национальное
чувство как сгусток эмоций, вкусов, оценок, представлений при
всей противоречивости структурообразующих элементов перерастает в национальное сознание. Многим кажется, что комплекс вопросов, связанных с национальным своеобразием культуры, не имеет теоретического и практического смысла. Если
прислушаться к мнению отдельных авторов, можно признать
необходимым сдать в архив национальные культуры как эстетические феномены, не прибегать к научной трактовке проблем
национального своеобразия и самобытности. Тысячелетняя
борьба за существование, за свой язык и нравственность выработали в чеченце чувство постоянной настороженности к ожидаемым бедам и внезапным напастям, чувство явного недоверия
ко всему и вся. Но никакие суровые условия существования не
смогли вытравить из чеченского народа доброту и великодушие,
что является залогом его жизнеспособности.
Исторический документ не все объяснит и не все пояснит.
Вот снятием потаенности в истории, пояснением и объяснением
документа и занимается – и должен заниматься – автор исторического произведения. Так, художественная историческая литература становится эффективным средством отражения реалий
национального самосознания. Для Чечни роль исторической литературы трудно переоценить, т.к. процент вольной или невольной потаенности в ее истории по ряду известных причин и событий был и продолжает оставаться очень высоким. Немаловажной причиной подъема исторического жанра в чеченской
литературе являются и исторические события в республике за
последние 15 лет: революция и две опустошительные войны.
Чеченцы в очередной раз попытались совершить «прыжок из
царства необходимости в царство свободы». Но были и в очередной раз подстрелены мастерами стрельбы влет.
Исторический роман сопутствует не только эпохам войн и
революций, но и эпохе экономического и духовного расцвета
нации. Предчувствие беды, катастрофы в национальном масштабе тоже может явиться причиной обращения мастера слова к
историческому жанру. Основная задача исторического жанра –
восстановить, встряхнуть и освежить генетический код народа,
указав на основные связующие черты человека сегодняшнего с
историческим прошлым его народа. Этим самым писатель воспитывает и обостряет чувство национальной гордости за свой
народ, за его прошлое и настоящее. Таковыми являются романы
патриархов нашей литературы Х. Ошаева «Пламенные годы»,
М. Мамакаева «Мюрид революции», «Зелимхан», А. Айдамирова «Еха буьйсанаш» (Долгие ночи), «Лаьмнашкахь ткъес»
(Молния в горах), Ш. Окуева «Юьхь» (Пролог), «Ц1ий, латтий»
(Кровь и земля), К.Ибрагимова «Прошедшие войны», «Учитель
истории» и т.д. Исторические романы посвящены как вымышленным деятелям национально-освободительного движения –
Аьрзу («Долгие ночи» А. Айдамирова), Ана Аргунская («Учитель истории» К. Ибрагимова), так и реально жившим: абрек Зелимхан в одноименном романе Мамакаева, Алибек Алданов
(«Молния в горах» А. Айдамирова). Главные герои этих произведений – люди непреклонной воли и высокой нравственности,
посвятившие себя борьбе со злом и насилием в любых его проявлениях, призывавшие народ к активной борьбе с тиранией и
произволом властей предержащих. Связь личности с событиями
в жизни народа дает возможность автору художественного про-
изведения показать историю как цепь тесно взаимосвязанных и
взаимообуславливающих событий и человека, как живого и естественного продукта истории. Масштаб событий, их связь с
характерами действующих лиц произведения в заданных автором координатах, воплощавших историю во времени и пространстве и позволяет творческой индивидуальности вывести
движущийся и развивающийся образ времени как единство исторически значимого события с исторически особенным, национально своеобразным. Ясно, что восстание чеченцев под руководством Алибека Алданова при всех плюсах и минусах, от самого начала и до полного поражения, по сравнению с другими
восстаниями с такими же целеполаганиями носило национально
– своеобразный характер.
Сложная и многогранная судьба чеченского народа, его
участие в социально-исторических событиях воплощается через
изображение судеб отдельных героев романа. Сюжетное развитие последовательно передает становление их характеров, их
своеобразного, индивидуального понимания действительности.
У каждого героя своя личная и общественная позиция, свое миропонимание. Социально-исторические изменения проходят через мысли и чувства героев. Писатель чутко следит за процессом мышления и созревания взгляда героя на мир, на окружающую его действительность. Почти во всех исторических
произведениях чеченских писателей на первом плане гордая и
мятежная личность (Асланбек Шерипов, Зелимхан Харачоевский, Аьрзу, Алибек Алданов, Александр Чеченский и др.), опережающая рост социального сознания масс, в результате чего
настоящему проигрывают и массы, и мятежная личность. Школа
жизни разрушительно действует на сознание массы: вместо снятия иллюзий жизнь с мистической настойчивостью навязывает
их чеченцам. Причем после каждого поражения усиливая ее
концентрацию и долю в социальных и эстетических взглядах народа.
При всей разности поэтики и проблематики исторические
произведения чеченских авторов типологически внутренне связаны между собой невидимой нитью – почти каждому значительному чеченскому писателю удалось четко отобразить ступени роста сознания главных героев своих произведений: от
смиренности, от неясности и расплывчатости идеала до четкого
осознания ими своего человеческого долга и своего человеческого назначения. Литература занята человеком и его
временем. Само понимание человека и его свободы, меры его
ценности и величии в разных странах различно, и определяется
оно социальным и историческим опытом каждой нации. Конкретные условия и порождают особые структурные признаки
национального варианта идеала. Идеал каждой нации должен
выражать общечеловеческое начало этой нации, то, что понятно,
приемлемо и одобряемо любой другой нацией.
Халид Ошаев (1898–1977) был одним из тех, кто на примере своей жизни и творческой деятельности доказал, что и
«один в поле воин», если он движим чувством справедливости,
сострадания ко всему попранному и оболганному, что позволило ему пройти свой жизненный путь с достоинством. В добротной статье, посвященной жизни и деятельности, вкладу Х. Ошаева в культуру и науку Чечни Х. Туркаев пишет: «Он – автор
первых учебников для первых советских школ Чечни в 1920 –
1930-е годы, собиратель и публикатор фольклорных произведений. ...В начале 1930-х годов главное внимание Ошаева было
сосредоточено на исследовании духовного прошлого народа,
отдельных проблем языкознания, своеобразия первых шагов в
литературе начинающих чеченских писателей» [Туркаев 2007:
221-222]. В 1937 году, наряду с другими прогрессивными деятелями науки и культуры Чечни был репрессирован и сослан на
Север. С 1957-го по январь 1961 года Ошаев, будучи замдиректора Чечено-Ингушского научно-исследовательского института
истории, языка и литературы, явился инициатором издания «Известий» Научно-исследовательского института, «Очерков истории чечено-ингушской литературы».
Сразу же после выхода книги С. Смирнова «Брестская
крепость», в которой не было ни одной фамилии чеченца или
ингуша, Ошаев начал кропотливую работу по розыску и документальному подтверждению участия вайнахов в защите Брестской крепости, в результате чего установил, что в обороне крепости принимали участие как минимум более четырехсот представителей вайнахов. Книга Ошаева «Брест – орешек огненный»
(Ошаев, 1990) при жизни писателя не была издана, т.к. признание такого факта выбывало из наработанной колеи идеологов
партии, вольно или невольно оправдывавших и выселение наро-
да, и жесткую политику партии и правительства по отношению
к нему даже после восстановления республики.
Можно сказать, что эпоха 1920–1960-х годов с ее социальными, нравственными, культурными потерями и приобретениями чеченским обществом наиболее остро преломилась в
судьбе М. Мамакаева (1910–1973), творческим наследием которого по праву гордится чеченская поэзия. В начале тридцатых
годов он принял активное участие в строительстве социализма в
Чечне, занимал ответственные должности и посты в партийных
и хозяйственных органах республики, являлся прокурором автономной области. Был репрессирован. Еще в конце 20-х годов
нападки недоброжелателей на честь и достоинство чеченского
народа заставили его включиться в непримиримую полемику со
злопыхателями и «иже с ними». Он, как и Эльдарханов, А. Авторханов, Х. Ошаев и др., «ревностно защищал национальную
самобытность своего народа, его язык и культуру, историю,
вступая в смелую полемику даже со своими учителями, известными писателями, историками и публицистами» [Туркаев 2007:
161]. Весомый вклад внес М. Мамакаев и в развитие национальной прозы. В 1958 году вышла его книга рассказов и путевых
очерков «Лед тронулся» («Ша меттахбаьлла»), которые значительно расширили диапазон жанров чеченской литературы. Роман писателя «Мюрид революции», посвященный теме Гражданской войны, был написан в целях реабилитации своего народа, обвиненного «держимордами» КПСС в нелояльности к
Советской власти. Автора обвинили в чрезмерном возвеличивании роли А. Шерипова в годы Гражданской войны. После выхода второго романа М. Мамакаева «Зелимхан» – о знаменитом
чеченском абреке Зелимхане Харачоевском – властные структуры республики работу по нивелировке истории, литературы и
культуры Чечни стали вести целенаправленней, «продуманней»
и с удвоенной энергией. Романы писателя значительно углубили романное мышление чеченской литературы 1960-х годов.
Судьба человека и судьба народа, человек и история неотделимы друг от друга. Герои романа А. Айдамирова (1930–2005)
«Еха буьйсанаш» («Долгие ночи»), посвященного переселению
чеченцев в Османскую империю в ХIХ веке, предстают перед
нами не творцами истории, а ее жертвами. Беженцы, обманутые
лживыми посулами ставленников империи, обречены прозябать
на чужбине, и все же они плоть от плоти ее. Роман публицистичен. Обнаженность авторской позиции можно объяснить только огромным желанием писателя как можно скорее открыто противопоставить правду о своем народе – лжи и бесчеловечности партийной системы. И хотя писатель не избежал сухости языка документальной хроники, он все же остался верным
психологической сути данного факта гражданской истории Чечни.
Абузар Айдамиров своими романами «Еха буьйсанаш»,
«Лаьмнашкахь ткъес» («Молния в горах»), «Дарц» («Буря»)
шагнул в прошлое своего народа, представшее не как сказка (в
которой всего лишь намек), а как истина. Истина, которая с легкой руки Айдамирова начала служить современности во всю
мощь свою. Эти романы по праву начали вторгаться в живой
процесс литературного развития, способствуя движению чеченской литературы по пути национальной самобытности. Воссоздавая вслед за С. Бадуевым, С. Арсановым, М. Мамакаевым
коренные черты чеченского национального самосознанья, автор
представил ее как результат исторического опыта многих поколений, как структуру психической жизни нации, обусловленную
обстоятельствами бытия народа. Писатель вооружил литераторов-современников очень важными знаниями о прошлом,
помогал им опираться на национальные традиции. Творчество
Абузара Айдамирова, его публицистическое эссе-размышление
«Вайн амалш» («Наши нравы») и общественная деятельность
всецело были подчинены интересам чеченского народа и, наряду с творческими, общественными, научными усилиями его современников и предшественников, служили делу пробуждения
дремлющего сознанья народа.
Романам Шимы Окуева «Лай т1ехь ц1ен зезагаш» («Красные цветы на белом снегу»), «Юьхь» («Пролог»), «Ц1ий, латтий
(«Кровь и земля») при всех идеологических накладках того, социалистического времени, при всей явной ориентированности
по преимуществу на творчество М. Шолохова, присущ колоритный эпический размах при изображении пути главного героя в
революцию. Шима Окуев родился 1937 в г. Грозном. Школу
окончил в Казахстане, куда был депортирован вместе со всем
народом, затем филологический факультет ЧИГПИ. Широкую
известность получил как автор исторических романов, хотя яв-
ляется и автором добротных стихов. В своих крупноплановых
романах Шима Окуев выступает как прекрасный бытописатель
своего народа, о чем свидетельствует огромный фактографический материал, собранный и использованный им в прозаических произведениях. Автору удалось воссоздать картину социальной жизни Чечни начала ХХ века, колоритным народным
языком, захватывающе интересно и в динамичном ритме. Романная форма дала возможность писателю максимально отразить народное творчество в контексте литературного произведения. Писатель «использовал фольклорный материал как
средство социальной и культурно-исторической характеристики
образов, что можно назвать одной из важных в художественном
отношении функций афористики фольклора – функция национальной и социальной типизации образов» [Шовхалова 1986:
77]. Представленные в романах афористические жанры фольклора отражают уровень образного мышления народа, его быт и
нравы. Лаконизм мысли, афористичность художественного
мышления позволяют художнику создать емкий образ с цельной
характеристикой. Несомненно, писатель играет ведущую роль в
развитии литературного языка, но языковая культура, культура
художественного слова создается не только и не столько писателем. В формировании и развитии языковой культуры участвует стихия народного языка, язык критики, публицистики, всех
отраслей науки, всех неформальных и формальных групп социума, межэтнические связи. Все это подтверждает анализ творческого наследия Ш. Окуева, внесшего неоценимый вклад в развитие чеченской прозы и чеченского литературного языка. Окуев, как и Абдулла Хамидов в чеченской драматургии, непревзойденный мастер диалога в национальной прозе. Умелое построение диалога, использование в нем необходимых автору
слов для реализации авторского замысла, способствуют зримой
выразительности и пластичности образов и событий, внутреннего состояния героев его произведений:
– Дош дац хьоьца дерг, Жаьмбиг, – куьг ластийра Солсабека. – Хьалха иштта вацара хьо, воккхахила мел вуьйли а
телхаш вог1у!
– Массо а стаг телхачу хьокху доккхачу дуьненчохь со
цхьаъ ца телхаш муха вуьсур вара? – аьлла, шен говрана
т1ехиира Жаьмбиг.
– Несерьезный ты человек, Жямбиг, – махнул рукой Солсабек.
– Раньше ты не был таким. Видно, к старости умом
тронулся.
– Если весь мир сошел с ума, как же я могу не тронуться
умом, – сказал Жямбиг. После этого сел на коня и поехал к себе
домой [Окуев 1992: 57].
Язык диалогов настолько прост и естественен, сообразен
матрице языка и как «каждый талантливый писатель отыскивает
оригинальные пути и средства воплощения своих идей и образов, пути и средства, позволяющие ему сделать их интересными,
«заразительными», близкими читательской аудитории» [Храпченко 1975: 104], так и Шима Окуев – автор нашумевших в свое
время и поныне популярных романов «Красные цветы на снегу», трилогии «Кровь и Земля» умело использовал в своем творчестве лексическое богатство своего родного чеченского языка.
Своеобразие стиля писателя создается несчетным количеством
эпитетов, сравнений, фразеологических единиц, пословиц и поговорок, велеризмов, пожеланий, которые органично вписались
в тексты его произведений, играя базовую роль в создании оригинальных авторских синтаксических конструкций [Ибрагимов
Л., 2005]. Само собой разумеется, что источником фразеологии
и паремии для писателя явился народный язык, вплоть до его
диалектов. Например:
Амална – хала, дахарна – дера – На характер – трудные, на
жизнь – злые [Окуев 1992: 84];
Лелачу ж1аьлина кхета г1аж ца эшна – Бродячей собаке
палки вдоволь (т. е. часто битой бывает) [Окуев 1985:84].
Мангало буц санна – Как коса траву [Окуев 1987: 9];
Бахьанаш леладе, рицкъа Ша латтор ду, аьлла бах Дала.
– Говорят, что Всевышний сказал: «Ищите (буквально –
творите) повод, а о хлебе насущном для вас Я позабочусь!»
[Окуев 1985:8 //Чеченские пословицы, 2003].
Очень обширен идейно-тематический диапазон пословиц,
которые соответствуют темам и проблемам того или иного произведения автора. Этнохудожественные и этногенетические истоки чеченской литературы восходят к различным жанрам устного народного творчества – песням, сказкам, легендам, пословицам и поговоркам, преданиям, изречениям. И именно в преда-
ниях, пословицах и поговорках проявляется вековая мудрость и
менталитет народа, общественный строй, национальная история,
его быт и мировоззрение писателя. Когда мы говорим о языковой картине мира, следует отметить, что способом отражения
ЯКМ являются пословицы, поговорки и фразеологизмы, которые часто используются в творчестве чеченских писателей
[Джамбеков 2010: 151–162].
Фразеологизмы, пословицы и поговорки наглядно иллюстрируют и образ жизни, и историю, и традиции той или иной
общности, объединённой одной культурой. Фразеологизмы являют собой национально-языковой вариант, результат взаимодействия универсальности, общности мышления с одной стороны, а с другой – особенности психологии народа, его традиции,
быта, культуры. Ведь их суть не только в различном конкретноязыковом воплощении семантической функции, а в том, что в
качестве критериев для её выражения выбираются, как правило,
значимые для данной культуры элементы. Через образ, метафору, которые лежат в основе идиомы, можно проследить связь
между языковой единицей и культурой, образом жизни, национальным характером и т.д.
В образной системе любого романа писателя неизменно
присутствует образ природы. При описании ее автор использует
народные принципы отбора и изображения явлений природы. К
примеру: «Корах летачу дог1ано а, хьоькхучу махо а сиха наб
кхетийтира г1елделлачу М1аьчиган дег1ана» – Шум дождя и
ветра за окном быстро (дословно – уснули, помогли быстро
уснуть) убаюкали усталое тело Мачига [Окуев 1985:13].
Проблемы литературных влияний, заимствований, использования или обработки сюжетов из произведений других
литератур или из исторических хроник других наций – исторические категории. В разные эпохи проблемы эти по-своему
национально своеобразно вставали перед деятелями культуры и
искусства разных народов.
80–90 годы характеризуются тем, что в прозе расширилось жанровое и стилевое многообразие, использование
фольклорных сюжетов, нравственной проблематики стало более
осознанным. Свидетельством чему являются творческие успехи
в жанре рассказа писателей М. Бексултанова «Буо» (Сирота),
«Г1аланаш, аэропорташ» (Города и аэропорты), И. Эльсанова
«Москвахь сахьийза хьан» (В Москве скучно тебе), «Ши к1ант
ву сан» (Двое сыновей у меня), С. Яшуркаева «Напсат», С-Х.
Нунуева «Илона», М. Ахмадова «Денисолта», В. Амаева «Цхьа
де» (Один день), С-Х. Кацаева «1аьнан суьйре» (Зимний вечер),
«Рей Бредбери», М. Мутаева «Борз» (Волк), «Хиндерг хилале»
(Накануне неизбежного) и т.д.
Так, в рассказе известного прозаика Ислама Эльсанова
«Хозяйка дома – когда приходит гость» [Эльсанов, 1991], действительности сообщены особые эмоционально личностные
смыслы, из совокупности которых и складывается так называемая «картина мира». Эстетические взгляды и гражданская позиция писателя формировались под влиянием, прежде всего, философии суфизма, а также русских и зарубежных писателей
(Достоевского, Чехова, Т. Манна, Г. Маркеса).
Следует заметить, что Ислам Эльсанов являлся наиболее
яркой фигурой в литературном пространстве Чечни 80–90 годов.
Еще на заре перестройки он вторгся в круг тем, находившихся
даже в то время в зоне гласных и негласных запретов. Позиция
художника – общечеловеческий подход к явлениям и фактам реальной действительности, даже если это касается самых драматических страниц истории его народа. Положительные герои его
произведений не изначально законченно «положительны», а
становятся ими, благодаря тому внутреннему нравственному
усилию, которое они прилагают, чтобы сохранить в себе себя
как человека. Все услышанное, испытанное ими в жизни, они
подвергают детальному анализу. Поступки их, нравственный
выбор – результат размышлений, бесстрастного и неспешного
анализа. Автор на стороне сдержанного естества, даже если оно
и подрывает замшелые нравственные устои общества. Но это в
тех случаях, когда устои эти абсолютно игнорируют само это
естество, которое древнее любых устоев и заповедей. В рассказе
«Хозяйка дома – когда приходит гость» наиболее рельефно отразились творческие поиски автора «человека в человеке». Герои рассказа до встречи друг с другом жили, как и тысячи их
сородичей: не посягали на вековые устои, жили как нужно и не
возбраняется жить в том социуме, в котором они «пространственно-временно» реализовывали себя. Автор вообще ничего
не сообщает читателю о жизни Паши до встречи с Зубайдат. Он
лесник. По делам службы, по пути в соседнее село вечером ре-
шил заехать (на лошади) к своему приятелю Маилу. Приятеля
дома не оказалось, но жена его Зубайдат уверила его, что Маил
вот-вот должен вернуться. Тут и началась сатанинская игра
страстей, как правило, в конце концов, ведущих к грехопадению. Страстей, которые от имени разума и голоса плоти властно
и лихорадочно ищут путей реализации. Поведение и Зубайдат, и
Паши в данном случае в рамках народного обычая гостеприимства. Именно рамки эти и не дают Паше расслабиться и идти на
поводу у воображения и инстинкта. Складывается впечатление,
что формально функция обычая и в этом случае реализована:
гость остался доволен приемом хозяином дома, в роли которого,
из-за отсутствия мужа, выступила Зубайдат. Проведя ночь под
одной крышей, здоровые и молодые Паша и Зубайдат, не вышли
за пределы норм нравственности общества, к которому они принадлежат по праву рождения и воспитания. Однако читатель поиному, по-новому начинает воспринимать героев в финале рассказа: в начале – событие, вполне тривиальное, обыденное (заехал человек к другу, но его не застал), но финал диктует уже
иные возможности для интерпретации. Перед нами притча о человеческом достоинстве и нравственном долге. Здесь Паша –
победитель. Но побеждает он себя и благодаря решительности
Зубайдат: ее житейскому недоверию человеческому разуму, часто послушному голосу инстинктов. Такое завершение произведения обусловлено тем, что писатель по сути дела изъял своих
героев из обыденной жизни, провел над ними своего рода «психологический эксперимент» – поместил их в ситуацию из ряда
вон выходящую, то есть прибег к приему «остранения» [Шкловский 1983: 14–15].
В жанре повести за означенный период национальная
ментальность нашла наиболее удачное художественное воплощение в творчестве – И. Эльсанова «Ц1ег1ачу декхнийн боьлак»
(Роща розовых берез), С. Яшуркаева «Маьрк1аж-бодан т1ехь
к1айн хьоькх» (Белое пятно сумерек), В. Амаева «Чекхъялаза
повесть» (Неоконченная повесть).
От рассказов к повести – редко к роману – эту школу мастерства прошел не один чеченский прозаик. Новому поколению чеченских писателей приходилось преодолевать не только
сопротивление жизненного материала, но и соблазны проторенных путей: пришлось перейти к полной творческой самостоя-
тельности как в выборе темы, проблемы, угла зрения, так и в
использовании формальных и функциональных средств выразительности.
Литературовед М.В. Исмаилова утверждает, что чеченская
литература является важной составной частью не только литературного процесса России, но и мировой художественной
культуры в целом. «Творчество чеченских писателей отражает
духовный опыт жизнелюбивого, чрезвычайно стойкого и гордого народа, находящего в себе силы сохранять и развивать древнейший язык, традиции и культуру. Если душа поэта, его поэтический гений воплощается в коллективном творчестве, в фольклоре, обрядово-ритуальной стороне жизни чеченцев, то личностное начало выражается в художественной рефлексии писателей и поэтов, стремящихся передать в литературных образах
боль, надежды и собственное переживание истории. Художественное мышление писателей Чечни преодолевает пределы локальной культуры горцев и выводит трагический опыт народа на
глобальный, общечеловеческий уровень. Изучение чеченской
литературы позволяет не только лучше понимать специфическую уникальность этнической культуры и мировоззрения, но и
в определенной мере дополняет картину духовного опыта других культур» [Исмаилова 2007:3].
Прошло время: для некоторых чеченских писателей
наступила пора зрелости и жизненный материал, благодаря
профессиональному опыту воплотился в более объемные и
усложненно-простые образные решения произведений чеченской художественно-словесной системы. К таковым можно смело отнести художественные произведения К. Ибрагимова, С.
Яшуркаева, И. Эльсанова, М. Мутаева, В. Амаева, Л. Куни.
ГЛАВА III. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В РОМАНЕ
КАНТЫ ИБРАГИМОВА «ПРОШЕДШИЕ ВОЙНЫ»
3.1. Роль творческой индивидуальности в чеченской
литературе.
Художественная литература – это душа автора, отвечающая на свои-общие вопросы времени. В ней наглядно можно
проследить, роль творческой индивидуальности, которая очень
много значит в художественной литературе. Яркая творческая
личность способна ответить на запросы времени, а в иных случаях, и опередить, как например, С. Бадуев в чеченской литературе, или А. Пушкин в русской литературе. Литературовед М.Б.
Храпченко писал: " Привнося в литературу "свое", талантливый
писатель увеличивает общее достояние, духовные ценности,
принадлежащие народу" [Храпченко 1981:68].
Творческая индивидуальность мастера слова проявляется
в различных сторонах его творчества и, прежде всего, в самобытности его взглядов на действительность. А.П. Чехов отмечал: " Оригинальность автора не только в стиле, но и в способе
мышления, в убеждениях и проч." [Чехов 1949:285.]
Для чеченской литературы на данном этапе его развития
важность значения яркой творческой индивидуальности трудно
переоценить. Художник своими достижениями поднимает литературу своего народа на новую, более высокую ступень художественного развития.
В чеченской литературе в ее становлении и реформировании ведущую роль сыграл блестящий прозаик и драматург Саид
Бадуев, который указал и направление магистрального пути ее
дальнейшего развития. Бурная творческая деятельность С. Бадуева стимулировала зарождение и формирование в чеченской литературе жанров прозы и драматургии на родном языке, и к 30годам 20-го столетия местному читателю были известны очерк и
рассказ, повесть, роман и пьеса на родном языке. В них были
запечатлены и специфический колорит быта, и экзотика природы Чечни, и глубокие противоречия общественного уклада.
Творческая индивидуальность – явление историческое. И
формирование его в историческом аспекте происходит постепенно и неоднозначно в различных видах искусства. Фольклор
не выработал способов глубокого анализа общественной жизни,
тем более не породил писателя, который бы персонально это
осуществил. Роль индивидуального начала не столь велика и на
первых этапах становления письменной литературы. О самостоятельности и оригинальности национальной литературы можно
говорить тогда, когда она представлена яркими творческими индивидуальностями, которые и двигают литературу, делая ее фактом и значительным явлением культуры.
И лишь к концу 20-х годов ХХ века развитие социальной
жизни в Чечне родило мощные эстетические импульсы, получившие свое яркое выражение в творчестве местных писателей
/С. Бадуев, М. Мамакаев, М. Мамакаев, М-С. Гадаев/, которые
по своему психофизическому складу и умонастроениям были
органически близки к запросам времени. Писатели первого поколения оказались в известной мере скованными той системой
приемов, которыми они пользовались. Фольклорные каноны
стали тормозит рост авторского начала в их творчестве. И новая
группа писателей во главе с Бадуевым /Н. Музаев, Х.Ошаев, М.
Мамакаев, А. Мамакаев, М-С. Гадаев и др./ пошла по пути освоения европейского, прежде всего, русского художественного
опыта, который значительно расширял арсенал формальных и
функциональных приемов словотворчества. И "восточная линия" в процессе культурного и социального развития чеченского
общества уступила место "европейской линии", которая пришла
к ним, в основном через русскую литературу. Были здесь и другие причины. Самая основная из них та, что восточная назидательность и орнаментальность оказались малоприспособленными к "ветру перемен" ХХ века в чеченском обществе. Творческое сочетание опыта развитых литератур и истоков собственного фольклора с традицией своей молодой литературы позволил чеченским писателям С. Арсанову, М. Мамакаеву, Х. Ошаеву уже в 50–60 годы выйти к всесоюзному читателю.
Тайна творческого начала – это одна из многих научных
проблем, истоки которого лежат в сфере бессознательного. На
сегодняшний день эта сфера, как известно, лежит за пределами
возможностей человеческого познания. То же самое можно сказать и о проблеме творческой индивидуальности.
В этом ключе немалый интерес представляет эссе "Кафка"
С-Х. Кацаева, в которой автор предпринял своеобразную по-
пытку рационализировать иррациональные по своей природе
творческое начало и творческую индивидуальность Кафки [Кацаев 2004:2–24].
С-Х. Кацаев пишет: "чтобы понять писателя, нужно читать его дневники" [Там же:12]. По мнению автора эссе "Кафка"
дневник, единственный жанр, в котором автор знаменитого
"Процесса" мог конгениально себя реализовать. Заодно и излечить свою неврастениию. В своих "Дневниках" Кафка честно
признался, что был готов к смерти в любую минуту, т.к. не было
никакой надежды на исполнение того, что провидение возложило на него. Все противилось тому, чтобы быть записанным.
Именно им, Кафкой быть записанным то, что ему так хотелось
отобразить, т.е. художественно записать...
Развитие литературы невозможно без непрестанного пополнения рядов писателей с яркими творческими индивидуальностями, каждый из которых обновляет и развивает способы и
приемы отображения действительности. Искусство не существует вне индивидуального видения мира художника, его творческой манеры, которые свойственны подлинному таланту. Чем
острее внутренне зрение писателя, тем глубже он проникает в
самую суть вещей, тем значительней его вклад в общелитературный процесс. Именно его, авторски-персональное и своеобразно-необычное проникновение в суть вещей и является бесценным достоянием художественного самосознания народа.
Оно-то и определяет значение и место писателя в общелитературном процессе. Авторски-своеобразное проникновение в тайну и суть вещей передается писателем своей индивидуальной
творческой манерой, которую трудно спутать с творческими
манерами других писателей.
Есть своеобразие и своеобразие. Своеобразие тогда ценно,
когда оно выражает своеобразие языка, на котором творит писатель, своеобразие эстетического идеала и психического склада
народа. Когда оно являет собой пример яркого образца общенационального своеобразия. Шима Окуев в своих романах "Красные цветы на снегу", "Начало", "Кровь и земля" пошел именно
по пути наибольшей концентрации национально-своеобразной
речи в устах своих героев. Язык его произведений сочный, каждое слово несет колоссальную семантическую нагрузку, работая
на реализацию авторской позиции.
Иное "своеобразие" сводится лишь к несхожести с другими проявлениями индивидуального в литературе, ничем не обогащая художественную культуру народа. Это так называемое
своеобразие ради своеобразия или многократно повторенное "Я"
автора или народа, не имеющее ничего общего с подлинной литературой. Нагромождение слов, жонглирование ими, композиционные выверты, лирические сверхстрадания, моральные
наставления /совца, меттадуьйла!/, призывы к жалости и состраданию, жалобы на судьбу /ма декъаз къам ду вай!/, признанья в любви к народу, в бескорыстном служении и готовности
пострадать за нее /къоманна эшахь, къоман пешахь, декъа дечиг
хилла, со вага кийча ву!/ и проклятья / ц1е йойла, к1ур бойла, х1у
дойла, дакъа дуьжийла!/ и т.д., в отрыве от национального идеала, национального характера в литературе приводит к нулевому
результату. В лучшем случае такие произведения могут стать
фактами истории литературы, но не явлениями литературы и
искусства.
Психоанализ, с его расчленением духовной жизни человека на сознательные и бессознательные процессы, выявлением
внутрипсихических конфликтов личности как основы трагических конфликтов в произведениях искусства и литературы, дал
основание отождествлению художественного творчества с душевной терапией. Фрейду и его последователям удалось наметить рациональные пути рассмотрения художественного творчества и произведения под углом зрения психологии художника.
По Юнгу источник творчества "коллективное бессознательное" – архетип – следы памяти прошлого человечества в
структуре бессознательного. И сущность художественного произведения никоим образом не зависит от индивидуальноавторских особенностей художника: творение искусства через
автора говорит от имени духа всего человечества.
"Знает ли автор, что творение в нем зачато и затем растет
и зреет... Оно относится к нему, как ребенок к матери. Психология творческого индивида – это, собственно, женская психология, ибо творчество вырастает из творческих бездн, в настоящем
смысле этого слова из царства Матерей... Не Гете делает "Фауста", но некий психический компонент "Фауст" делает Гете...
Так получает удовлетворение душевная потребность того или
иного народа в творении поэта, и потому творение означает для
поэта поистине больше, чем личная судьба, – безразлично, знает
ли это он сам или нет. Автор представляет собой в глубочайшем
смысле инструмент и в силу этого подчинен своему творению,
по каковой причине мы не должны также, в частности, ждать от
него истолкования последнего. Он уже исполнил свою высшую
задачу, сотворив образ" [Юнг К. Психология и поэтическое
творчество. В кн.: Самосознание европейской культуры ХХ в.
1991:118]. Представления Юнга об искусстве и художественном
творчестве оказали огромное влияние на творчество Д. Джойса,
Г. Гессе, Д. Элиота др. С появлением психоанализа волна бессознательного, буквально захлестывает западное искусство и искусствоведение. И по сегодняшний день психоаналитический
подход к литературному творчеству остается в них чрезвычайно
популярным [См.: Хованская З.И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии1988:37–43].
Л.Н. Толстой справедливо считал, что "Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними приемами передает другим
испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими
чувствами и переживают их" [Толстой 1991:219]. Органическим
свойством настоящего искусства является продуманная ориентация на слушателя, зрителя, читателя, на их восприятие художественного произведения. Ориентация эта учитывает психологию и вкусы будущей аудитории, ее социальную дифференциацию, духовные и эстетические запросы.
Правда, есть произведения, которые создаются аудиторией и произведения, которые сами создают аудиторию. В чеченской литературе к ним относятся произведения С. Бадуева, М.
Гадаева, М. Мамакаева, С. Арсанова, Ш. Окуева, И. Эльсанова,
В. Амаева, М. Мутаева, С-Х. Кацаева.
"Мы должны писать для нашего времени, – заявил Сартр,
– как это делали великие писатели. Но это не значит, что мы
должны замкнуться в нем. Писать для нашего времени не означает пассивно отражать его. Это значит, что мы должны стремиться либо защищать, либо изменять его, – следовательно, идти дальше к будущему; но это усилие изменить время заставляет
ощутить глубокую связь с ним, ибо оно может быть сведено к
неодушевленной массе вещей и обычаев. Оно в постоянном
движении, оно непрерывно изменяется; в нем конкретное насто-
ящее и живое будущее всех людей, которое его составляют..."
[Цит. по кн.: Храпченко 1981. Т. 4:77].
Принижение роли художника, довольно частое явление в
работах теоретиков искусства. Некоторые из них, признавая ведущую роль творческой индивидуальности в литературном процессе, нередко слишком уж обособляют ее от исторической
личности писателя. Или считают, что биографические сведения,
тем более, автобиографические данные писателя не имеют никакого значения для понимания его творчества и своеобразия
его авторской индивидуальности. Трудно представить себе
творческий портрет Льва Толстого без его дневников, без его
переписки с выдающимися и не очень выдающимися людьми
своей эпохи и т.д. Или творческие портреты С. Арсанова, М.
Мамакаева. Х. Ошаева без их публицистических работ и биографических данных.
История литературы знает немало фактов расхождения
между событиями в жизни писателя, психического складом его
и характером его творчества. Если у Байрона, Вольтера, Толстого, Бадуева, Арсанова, Мамакаева М. и др. характер был
сродни творческим завоеваниям, то Рабле, Ницше, Зощенко
опровергали образы своих книг. Рабле, прославляя обильную и
разнообразную пищу, плотские утехи в реальной жизни был человеком умеренным и воздержанным. У Ницше – отца Заратустры и белокурой бестии – было слабое здоровье. Зощенко в отличие от рассказчика Зощенко был мрачным и немногословным
собеседником. Фет – певец любви и красоты, в жизни был скупым и расчетливым помещиком. Верно, что творчество писателя
неотделимо от биографии писателя. Но на этом основании нельзя утверждать, что все содержание, весь строй его произведений
есть порождение его биографии. Мировая литература знает немало произведений, которые созданы непосредственно на основе событий и фактов жизни писателя: "Страдания молодого
Вертера" Гете, "Прощай, оружие!" Хемингуэя, "Детство", "Отрочество", "Юность" Толстого, "В поисках утраченного времени" Пруста. В чеченской литературе творчество С. Арсанова, СХ. Кацаева целиком можно отнести к творчеству, содержание
которого есть порождение их биографии.
Норвежский писатель Юхан Борген /1902–1980/ писал:
"Фантазия всегда основывается на опыте, на пережитом" [Бор-
ген 1982:253] Масштаб освоенного и глубина пережитого редко
совпадают. Как правило, "большой писатель – человек большой
биографии". Но не всегда можно измерять внутреннее развитие
писателя масштабами явлений продуцируемых им или происходящих вокруг него. Биографии Б. Пастернака, М. Булгакова, С.
Арсанова, Ш. Окуева и др. не отличались обилием внешних событий, тем не менее, отразить эпоху достоверно и пронзительно
им удалось вполне.
Богатство искусства рождается из неисчерпаемого богатства самой действительности, из ее многообразия. "Ведь сама
действительность, – писал Б. Брехт, – многообразна, полна противоречий... Есть много способов сказать правду и много способов утаить ее" [Брехт 1965:162]. Художники часто обращаются к
социальным явлениям, свидетелями которых они не были и не
могли быть. Здесь главное – внутренняя близость материала
творческой индивидуальности писателя.
3.2. Современная чеченская проза
Естественно, война как антигуманное явление во многом
определила своеобразие современной чеченской прозы, основные тенденции ее развития. Война катализировала интерес к
мироощущению человека в ситуации войны. Пытаясь осмыслить этот древнейший феномен, чеченские литераторы предлагают свою версию видения сущности и лика войны. Наиболее
продуктивным в осмыслении войны, как свидетельствует материал художественного освоения этой темы нашими литераторами, оказались почти все эпические жанры, которые обозначили
собой новую стадию развития этих жанров, обогатив их новыми
темами и идеями. Но оперативнее всех – жанр рассказа (рассказы И. Эльсанова, М. Мутаева, С.-Х. Кацаева, А. Шатаева).
Национальная художественная литература является универсальной формой выражения духовной культуры, которая содержит
глубинный пласт этнической памяти, архетипы мировосприятия
народа, специфику его ментальных особенностей.
Анализ художественного материала свидетельствует о
том, что чеченская проза последних десяти лет находится в активном поиске художественных средств и приемов максимально
адекватного отражения национальной ментальности в эпоху
экстрима, т.к. духовный опыт каждого этноса, обладающий общечеловеческой значимостью и ценностью, важен для сохранения общемировой культуры, всемирного духовного пространства.
Коллизии времени осмыслены сквозь призму той или
иной индивидуальной судьбы, через его самоощущение. Несмотря на то, что авторы относятся к разным поколениям, их
точки зрения на «прошедшие войны», смуту во многом сходятся
и доминируют в современной чеченской батальной прозе. В
этом плане можно говорить даже об идейном единодушии чеченских писателей: все они однозначно против войн и революций как способа решения социальных и политических, национальных проблем. Все пишут о той, недавно полыхавшей войне,
о страстях общественных, о правых и виноватых в этой трагедии. Вот тут и начинаются расхождения идейные, если начинаются.
Рассказ Аслана Шатаева «Трижды воскресший» [Шатаев:
Электронный ресурс.] типологически можно отнести к рассказам-аллегориям, который лишен дидактизма: автор оставляет
читателя один на один с героем и ситуациями вокруг него. Герой самый что ни на есть рядовой, средний представитель этноса и заслуживает внимания, сочувственный интерес как автора,
так и читателя.
Это типично новеллистический бытовой сюжет с троекратно повторенной сходной ситуацией, в котором оказался бытовой герой: типа «глядим, вроде умер – надо хоронить, присмотрелись – живой». Мало подробностей в описании внешности героев, окружающей их обстановки, пейзажа, зато поступки
их психологически предельно мотивированы, в диалогах отражена индивидуальность каждого персонажа рассказа. Отсутствуют «общие» места, патетика, которыми часто грешили в 20
веке наши писатели.
Принцип отбора художественного материала свидетельствует о том, что и чеченская повесть последних десяти лет
находится в активном поиске художественных средств и приемов максимально адекватного отражения времени-пространства
и национальной ментальности (повести С. Яшуркаева «Царапины на осколках», Л. Куни «Абрисы»). В чеченской повести коллизии времени осмыслены сквозь призму той или иной индиви-
дуальной судьбы. Несмотря на то, что они относятся к разным
поколениям, их точки зрения о прошедших войнах во многом
сходятся и доминируют в современной чеченской батальной
прозе. Все пишут о той, недавно полыхавшей войне, о страстях
общественных, о правых и виноватых в этой трагедии. Все эти
произведения в основе своей тоже автобиографичны.
Следует заметить, что в современной чеченской прозе
весьма велик интерес к литературе воспоминаний. Мемуарноавтобиографическая проза отразила во всей приглядности и
неприглядности, небезбедную событиями и катаклизмами историю Чечни ХХ века: две мировые войны, революция, выселение, две войны в конце ХХ века. Расцвет этого жанра именно в
этом направлении объясняется малым количеством акадеических работ по истории Чечни. Такое положение дел в исторической науке Чечни объясняет и наличие огромного количества
профанических работ эклектического характера о чеченском этносе, хотя есть и работы, отвечающие требованиям современной
науки и культуры.
Литературу эту отличает как жанровое, так и стилевое
многообразие (мемуары, исповеди, дневники, автобиографии,
воспоминания). В силу пограничного характера мемуаристики
при осмыслении ее природы на первый план выдвигается или
эстетический, или историографический критерий.
Оба эти критерия необходимы для осмысления амбивалентной природы сочинений мемуарного жанра. Эстетический –
для введения литературной прозы в контекст художественной
литературы, а историографический – для установки на достоверность.
Мы также считаем, что для филолога вопрос документальной достоверности хотя и немаловажен, но недостаточен:
его интересуют, в первую очередь, художественные достоинства
произведения. Необходимо подчеркнуть, что мемуары отличаются от других жанров художественной прозы высокой степенью индивидуализированности и конкретики. Жанр этот более
открыт формальному многообразию, что предопределяет изначально экспериментальный характер этих сочинений.
Мемуарно-биографическая литература ХХI века «Царапины на осколках» С. Яшуркаева с одной стороны продолжает
традицию мемуарной прозы Чечни ХХ века, в частности, «Ме-
муары» А. Авторханова (Авторханов, 1983). Данная книга Абдурахмана Авторханова представляет собой своеобразный сплав
истории и собственно мемуаров. В ней описывается жизненный
путь автора, чеченца по национальности, мальчика из глухого
притеречного аула, ставшего на Западе профессором по истории
и политике России.
Несмотря на жанровую пестроту и размытость границ, современный литературный процесс в Чечне не только «в брожении», но и в буйном цветении и эстетическом обновлении. У современной чеченской прозы появляются и новые черты, в
первую очередь, оставаясь частью литературы Чечни, стремление стать частью общемировой литературы. Выражается это и в
стиле, и в проблематике этих произведений. Наглядным примером тому является творчество Яшуркаева Султана.
Яшуркаев Султан – поэт и прозаик. Родился в 1942 году в
селе Эшилхатой Веденского района, ЧИАССР. Окончил Грозненский пединститут и юридический факультет Московского
государственного университета им. Ломоносова. Работал учителем, следователем прокуратуры, в Верховном Совете ЧИАССР.
Пишет на чеченском и русском языках. Автор повестей и рассказов «Белое пятно на сумерках ночи», «Картошка», «Зина»,
«Напса».
Русскому читателю писатель известен по первой книге
«Царапины на осколках», вышедшей в 2000 году в издательстве
«Грааль». Произведения С. Яшуркаева переведены на французский, немецкий, польский, чешский и ряд языков стран СНГ.
Дневник свой «Царапины на осколках» С. Яшуркаев вел
во время боев в Грозном зимой 1995 года. Дневник этот о думах
и чаяниях, горестях и надеждах чеченцев, ни сном ни духом не
причастных к развязыванию войны, когда она внезапно,
нежданно-негаданно пришла в их дома и огороды. Вначале, как
бы мультяшно, не всерьез и ненадолго.
Дневник дает понять иноэтническому читателю, что за
народ чеченцы, каковы их обычаи, традиции, история. Дает
представление об их судьбе на извилистых тропах истории. Сам
Яшуркаев – один из ярких представителей своего народа по духу и мировидению. Писатель в своем дневнике блестяще справился с проблемой художественного воплощения национальной
ментальности. Поражаешься и тому, как автор вместо житейско-
го рационального самоспасения в это время и в этом аду занялся
наблюдениями вокруг себя, временами фиксируя все дотошно,
но больше размышляя о причинах и истоках случившейся трагедии. И никакой авторской пафосной озлобленности, никаких
выпадов в адрес какой бы то ни было нации. Первая многозначительная запись в дневнике:
«Сегодня, 4 января 1995 года, под рев самолетов, которые непрерывно бомбят город, вдруг сел и начал делать эти записи. Когда мирные дома взлетают в небо, как серая пыль и
больше на землю не возвращаются, это, может быть даже
интересно. Самолет сбросил бомбу или ракету где-то уж совсем рядом и всадил в дом 15 осколков. Выбило все четыре окна
со стороны улицы. Один осколок пробил стену ближе к потолку
и вышиб книжную полку. На ней стояли книги из серии: "Жизнь
в искусстве"» [Яшуркаев: Электронный ресурс].
И одна из последних записей:
«Жил в Урус-Мартане человек по имени Данга. Это был
крупного телосложения мужчина лет сорока. Я его видел, он
был светловолосым, чуть ли не рыжим. Человек он был блаженный. Услышав о Самашках, и что там будут похороны
жертв, Данга пошел туда. Из Урус-Мартана в Самашки километров 25, пожалуй. Первый пост его пропустил, второй, что
у въезда в село, остановил. Данга требовал, чтобы его пропустили. Тогда солдаты стали его избивать… и они замучили
Данга до смерти...
Я попал в Урус-Мартан в день похорон Данги. Хоронить
его вышли все: и стар, и млад, и женщины, которые обычно в
похоронной процессии не участвуют. Кладбище в УрусМартане далеко за селом, но покойника провожала живая река
из десятков тысяч человек. Каждый хотел коснуться носилок,
на котором лежал мученик. Когда он шел в Самашки, его
встретили несколько мужчин и спросили: «Куда идешь?» Говорят, Данга ответил, что сегодня он идет на похороны в Самашки, но завтра будут его похороны, чтоб они пришли обязательно» [Там же].
Чеченскому менталитету автор дневника уделяет большое
и пристальное внимание. Яшуркаев как бы и через него хочет
доискаться до источника бед и несчастий чеченского этноса:
«Вечером устроил целый пир. Отварил три картофелины,
достал с чердака воблу, было у меня четыре штуки с осени.
Даже неловко в такой обстановке предаваться гурманству.
Чеченец со страстью строит, охотно приобретает вещи, но не любит тратиться на пищу. Историческое недоедание
сделало его здоровым и выносливым. Обжорство – один из самых порицаемых пороков у нас, признак неблагородного происхождения. Чеченец, будь от богаче Рокфеллера, не будет есть
больше двух раз. Главная трапеза у чеченцев вечером. Понятия
«обед» и «завтрак» лишь отражают время суток. Трапеза и
ужин называются «пхьуьйран хан» – час еды. Если есть мясо –
оно на ужин. Ужин – это спокойная обстановка. Спешить некуда, впереди долгая ночь. Топится печь, варится мясо – национальный кайф. Мы не знали табака, водки, картошки, которые надрывают организм.
…Повседневной пищей у чеченцев были: чурек из кукурузной муки, мамалыга, молоко во всех видах, творог, сыр, чеснок,
лук, редька, фрукты, дикорастущие плоды, различные травы,
приправы. У нас в любое время года растет что-нибудь съедобное. В первые морозы поспевает мушмула – лесной плод
размером с дикую грушу, очень сытный и витаминный, долго
держится. Дикую грушу раньше закладывали на зиму в кадки. В
январе-феврале появляется черемша. Ее, наверное, можно
назвать витаминной бомбой, пользуясь терминологией сегодняшних реалий. Ранней весной вылезает крапива. Молодая крапива – важный компонент национального питания. До нее появляется еще не одно съедобное растение, но не знаю, как они
называются по-русски.
…Страх смерти присущ каждому нормальному человеку.
Но у чеченцев есть другой, еще больший страх – чтобы окружающие не сказали, что ты трус. Если чеченец показал свой
страх, он уже умер для всех, кто его знает. У него уже никогда
не будет друзей, родных, любимой девушки – он уже ушел в бессмертие позора. Близкие скажут ему: из-за тебя мы не можем
показаться на люди, ты сделал наши лица «черными». Ему
останется или покончить с собой, или исчезнуть бесследно. Если он покончит с собой, его не похоронят на общем кладбище, а
где-нибудь прикопают, чтобы собаки не глодали человеческие
кости» [Там же].
Повесть Лулы Куни «Абрисы» тоже посвящена историче-
ским событиям недавнего прошлого Чечни. Автор – тоже очевидец этих событий – без надрыва и сгущений формирует у читателя свой убедительный взгляд на характер и социальную базу
русско-чеченского конфликта под занавес двадцатого столетия.
Куни Лула – поэт, прозаик, публицист. Родилась в 1960 г.
Окончила Чечено-Ингушский государственный университет им.
Льва Толстого (1981). Публикуется в российских периодических
изданиях.
Лула Куни с самого начала была сосредоточена на глобальных вопросах бытия и их взаимопроникновении, на проблемах со- и взаимопонимания. Сложная архитектоника повести, при всей ее собственно литературной виртуозности, является функцией ряда последовательно продуманных автором нравственных проблем, связанных, в том числе и с индивидуальным
чувством вины за объективные, казалось бы, события недавней
истории.
Повесть начинается с возникшей в опаленном сознании
повествователя экспозицией маленького Рая внутри большого
"свинцового" Ада в национальных масштабах: "Сегодня собираем абрикосы… В саду – небольшом квадрате заднего дворика…
из прежних обитателей выжило только трое… Два айвовых дерева и одно абрикосовое" [Л. Куни 2009:359].
Когда человек пишет или говорит о том, что он видел и
пережил, он бывает предельно убедителен. Иначе – или попадешь в колею политкорректности, или «официальной культуры
скорби, воспоминаний, плача», основанной на желании определенных сил, чтобы мы помнили только то, что они нам разрешают помнить. Только так, только до такого по вот такой-то период. И ни одной слезинки более…
«Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения, – утверждал в 1905 году
Лев Толстой. – Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Ивановича или Марью Петровну. Писатели,
если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то
значительное или интересное, что им случалось наблюдать в
жизни» [Гольденвейзер 1959:181].
Лула Куни выбрала именно эту форму повествования, в
которой правдивость рассказа о виденном, пережитом ею создается фактами личной авторской биографии и боли.
Время повествования неравномерно движется вперед – автор не сразу знакомит читателя с Ним. С тем, с кем она жива,
жила, собирается и дальше жить. Затем переносится на начало
отношений с Ним же: свидания, разговоры, ключевые для нее
слова-посылы от него.
И все это в родном городе Грозном, где они ведут беседы
о времени, о себе в этом времени – причем говорит Он, а она
больше слушает его. Потом судьба разводит ее с Ним (как и ее
бабушку с дедом – вот и не будь после этого суеверным) и сводит снова в конце 2001 года. В противоположном направлении,
с неравномерностью иного рода, движется время истории – или,
точнее, время предела ее воспоминаний, ведущих все дальше в
прошлое. Для чего во времени повествования предел этот должен дойти до крайней точки замыкания в самом себе. Замкнувшись, обозначится как ищущая выхода наружу нестерпимая
женская боль, которая рано или поздно изольется в мир. Даже
дочитав повесть до конца, невозможно избавиться от деталей:
нашему пониманию не доступны те законы, по которым проистекает воспоминание.
…Женщина седьмой месяц ищет по дорогам войны без
вести пропавшего сына. И вдруг, узнав его в колонне арестованных, вцепилась в него. Сын, зная нравы конвоя, делает вид, что
она обозналась. Но мать не обманешь. Она чует свое дитя:
«Конвой реагирует быстро… оттаскивают от заключенного. Она цепляется за его ноги. Ее резко дергают за торс.
Отрывают от пацана. Тот падает. Ее легкое тельце легко летит на обочину дороги. Голова с глухим стуком ударяется о
бордюр… Он закрыл ее глаза. Потом, мыча от боли, повернулся
к конвою. Неожиданно, резко закинув руки в наручниках за голову одному из убийц, начал бить его головой… На него наваливаются несколько солдат. Хлопок… Из-под груды копошащихся
тел медленно, растворяя падающие снежинки, вытекает темная струйка» [Л. Куни 2009:454].
Это один из самых запоминающихся фрагментов этой повести: по своей эмоциональной глубине, образной насыщенности и отточенному стилистическому рисунку. Именно такие
тексты (въедливые) гипнотизируют читателя, вторгаются в сознание помимо его воли и так накаляют текст, что комок в горле
и прерывистое дыхание, влажная поволока в глазах слабонерв-
ным (то есть, впечатлительным) обеспечены.
Короткие, задыхающиеся бессвязные фразы… Так действительно говорят очевидцы трагедии сразу после испытанного
ими шока, которым трудно собраться с мыслями, изложить их в
связи и последовательно. Невооруженная и неискушенная психика обычного человека это быстро переварить и усвоить не в
состоянии. Это под силу только особой породе людей с каменными сердцами (т1улган дегнаш долу адамаш) и с ясными целями. Породе людей без иллюзий и сомнений, но больших самомнений.
Несколько шагов в сторону, несколько боковых сюжетных
линий. Да, говорят и действуют герои, но на все происходящее
мы смотрим все-таки глазами только одного из них – автора.
Появление остальных персонажей строго дозировано: они нужны только для того, чтобы начать, развить и завершить ту или
иную сюжетную линию.
Историю о жестких разборках между различными силами
в Чечне автору удалось рассказать сжато, не особо некрофильствуя, не слишком пачкая страницы повести кровью и трупами:
не они задают тональность повествованию. Немного иронии,
немного суда человеческого, немало доброты и воли к жизни,
любви к своему народу – вот главные составляющие «Абрисов».
И еще – чеканный слог, умелое чередование дальнего и ближнего планов, короткие периоды, фразы и лексика военного лихолетья – и вы поймете, почему эта повесть, раз овладев вашим
вниманием, не отпускает вашу душу до самого конца повествованья. До и после…
Подчеркнутая аллюзивность и интертекстуальность энергетически цельных и напряженных текстов Лулы Куни естественным образом и в ранних произведениях провоцировали читателя на интерпретацию всех и вся. Текст ее повести тоже «готов» для интерпретаций любым герменевтом с любых позиций:
философских, историко-культурных, политических и т.д. И поэтому прочтение скрытых смыслов реальной (отображенной в
тексте повести) жизни требует понимания и знания того контекста, в котором формировалось данное произведение. Одним
словом, литературоведам, этнопедагогам, историкам, алимам
есть над чем поразмышлять и чем духовно обогатиться.
«Абрисы» – это тщательно структурированное целое, с
четко выстроенным, последовательно развивающимся сюжетом;
отдельные тексты в ней подчиняются некой «общей задаче».
Чтобы попробовать выяснить, «о чем же она», ее нужно читать
последовательно – от первой до последней страницы, потому
что в ней один текст продолжает другой, следующая страница
отвечает на вопросы и ожидания предыдущей. Например – почему и во имя чего ей – героине повести и повествователю в одном лице – очень нужно было тогда выживать ценой таких нечеловеческих усилий, чтобы с этим «жить дальше»?
Когда дочитываешь повесть до конца, становится ясно,
что она и не имела морального права на смерть, прежде дел неоконченных: поставить на ноги двух девочек своих. Поведать
миру о Рае внутри Ада человеческого. Стать символом Времени,
породы, духа. С непременной конкретизацией, беспристрастной
фиксацией женской рукой дел человеческих и интерьера всех
кругов этого "дантова" Ада. Ада вокруг ее Абрикосового Рая.
Рая усилием воли и напряжением духа отвоеванного у Рока и
Злой силы и ежедневно, ежечасно с трудом удерживаемого
хрупкой женщиной. Чтобы врагу и недоброжелателю не сподобиться. И не праздновать вместе с ним поражение духа человеческого. Чтобы потом вместе с ним долго не удивляться и вопрошать пустоту: откуда, мол, эти сволочи вокруг и за кругом
берутся?
Мало что пропущено в тему, мало что сокрылось от ока
Лулы Куни. В пейзажах города, этой Московской улицы, зажатой между федералами и какой-то неведомой силой, очень
враждебной нескольким ее жителям (вернее, жительницам),
представлена вся природа тогдашней Чечни с ее снегами, желтой глиной, дождями и колдобинами, оврагами, заросшими дворами. Копоть от вечно горящих нефтяных скважин, смрад отходов, свалок, отнюдь не добровольно заброшенных жилищ. Точная фиксация живой речи, ничуть не уступающая по качеству
опытам В. Сорокина, производит ударный эффект в сочетании с
динамичным сюжетом. Но это не означает, что автор тешит себя
надеждой кого-то «щясь» же перевоспитать или указать кому-то
«мля» в жизни путь-дорогу. Просто рассказывает о том, что видела и слышала. А мораль – она сама по себе. И ее больше там,
где о ней всуе меньше всего говорят, а люди ведут себя в повседневной жизни согласно ей. Повесть заканчивается катастро-
фой: причиной становятся действия героини по спасению, сохранению жизни вокруг и около себя. А это очень не понравилось тем, кто ненавидит любое становление и рост без их соизволения.
В последние годы появилось немало художественных
произведений, посвященных событиям в Чечне конца ХХ века.
Повесть Лулы Куни «Абрисы» – среди них одна из самых достоверных и пронзительных. Роль ее в контексте освоения русскоязычной прозой Чечни трудно переоценить.
Но наибольших успехов в художественном воплощении
национального характера достиг чеченский роман, позволивший
авторам выстроить исследуемую реальность так, что она этически и эстетически максимально приближает читателя к ментальности чеченцев.
Немалый интерес в этом плане вызывают произведения
известного чеченского писателя Канты Ибрагимова. Он – автор
больших многостраничных, многофигурных романов, действие
которых происходит в Чечне в самые различные исторические
периоды. Для К. Ибрагимова основополагающим началом, без
которого не может существовать ни чеченская культура, ни чеченская история, является духовная традиция. Она определяет
суть национально-культурного сознания. В этой связи его творчество востребовано именно сейчас, когда на стыке тысячелетий
происходит переоценка ценностей, с особой остротой встает
проблема феномена национального менталитета, выступающего
опорой в понимании самобытности чеченской истории и культуры. Обращаясь к творчеству К. Ибрагимова при разрешении
проблемы художественного воплощения этнонациональной
ментальности в чеченской литературе, мы хотим остановиться
на интерпретации самого первого романа писателя.
Феномен первого произведения известен в истории литературы. Как правило, именно в первом произведении проявляются основные черты, характерные для последующего творчества того или иного автора. Именно в первом произведении мы
(читатели) находим элементы, фрагменты, намеки на будущие
сюжеты ли, сюжетные повороты ли. В нем определяется круг
наиболее значимых для писателя тем, проблем, мотивов, героев
и т.д.
К.Э. Штайн отмечает: «как эстетический объект первое
произведение уступает зрелому творчеству, но в контектсте
идиостиля это знак особого рода – знак инициации, он имплицирует связи с предшествующими и эксплицирует отношения с
последующими текстами в большом контексте творчества художника. Это точка отсчета, единство… Первое произведение
может стать основой для осмысления культурного сознания автора, показателем и доказательством единства его творчества»
[Штайн 1997: 4].
3.3. Внутренний мир романа
Обращаясь к интерпретации первого романа К. Ибрагимова с точки зрения художественного осмысления в нем особенностей национального сознания чеченского народа, мы начинаем
его исследование с раскрытия специфики его внутреннего мира.
Как известно, впервые о внутреннем мире художественного
произведения заговорил Д.С. Лихачев в знаменитой статье,
опубликованной в журнале «Вопросы литературы» в 1968 году.
Он утверждал: «Изучение мира художественного произведения
имеет ряд важных для литературоведения сторон. Исследователь внутреннего мира произведения словесного искусства рассматривает форму и содержание произведения в неразрывном
единстве. Художественный мир и мир произведения объединяют идейную сторону произведения с характером его сюжета,
фабулы, интриги. Он имеет непосредственное отношение к стилю языка произведения. Но самое главное: художественный мир
словесного произведения обладает внутренним единством,
определяемым общим стилем произведения или автора, стилем
литературного направления или «стилем эпохи» [Лихачев 1968:
86].
Действие романа происходит в небольшом чеченском селе
Дуц-Хоте на протяжении всего двадцатого века. Иногда события переносятся в Грозный, в Северный Казахстан, Киргизию.
Такой географический разброс не случаен. Он обусловлен историческими обстоятельствами, в круговерти которых оказался не
только чеченский народ.
Революция, Гражданская война, коллективизация, репрессии 1937 года, Великая Отечественная война, высылка 1944
года, возвращение на родину, сравнительно стабильная жизнь в
1960 – 1970-е годы, начало перестройки, первая чеченская война. Все это показано через трагическую судьбу Цанки Арачаева
– сначала молодого парня, сильного, умного, умеющего трудиться и получающего от своего труда удовольствие, потом – к
финалу истории – старика, в одночасье потерявшего почти всех
своих внуков.
При всей кажущейся простоте, сюжет самого романа довольно-таки сложен. И здесь стоит отдельно поговорить о специфике работы автора по формированию сюжета, что позволит
нам выйти на уровень внутреннего мира произведения, что в
свою очередь поможет максимально полно исследовать заявленную проблему – отражение национальной ментальности в
романном пространстве Канты Ибрагимова. Созданный в произведении образ мира воплощает представление писателя о действительности.
Работая над произведением, художник организовал его
структуру так, чтобы читатель двигался по тексту от начала к
концу наиболее удобным для понимания смысла произведения
маршрутом. Иными словами, в произведении содержится программа познавательной деятельности по отношению к образу
действительности, созданному писателем. Главным действием
произведения является реализация этой программы. Реализует
ее читатель вслед за автором. Программа эта и есть сюжет. Реконструируя и осмысливая программу восприятия образа действительности в произведении, можно получить полное представление о сюжете. Так, В. Шкловский считал, что сюжет – это
средство познания действительности [Шкловский 1981: 33].
Ему вторит гениальный режиссер XX века С. Эйзенштейн:
«Произведение искусства, понимаемое динамически, и есть
процесс становления образов в чувстве и разуме зрителей. В
этом особенность подлинно живого произведения искусства и
его отличие от мертвенного, где зрителю сообщают изображенные результаты некоторого протекшего процесса творчества
вместо того, чтобы вовлекать его в протекающий процесс» [Эйзенштейн 1956: 259].
Автор – главный познающий субъект в произведении, т.к.
«произведение искусства – модель определенного явления мира,
общественное и художественное мировоззрение автора, его
представление о структуре мира, которое воплощено в структу-
ре произведения» [Лотман 1992: 79]. Объектом художественного исследования является образ действительности, автором созданный, но наделенный чертами реальности, существующей
независимо от авторского сознания (его еще называют внутренним миром произведения). Как будто бы независимая в силу художественной условности от авторского сознания реальность
является объектом исследования в произведении. Этот образ
жизни в ее свободном, спонтанном течении называется фабулой.
При определении сюжета как «художественно преобразованной
фабулы» необходимо учитывать, что и сама фабула есть художественно преобразованная объективная реальность.
По этому поводу еще на рубеже 1920–1930-х годов размышляли известные отечественные теоретики Б. Томашевский и
Ю. Тынянов. «…фабулой является совокупность мотивов в их
логической причинно-временной связи, сюжетом – совокупность тех же мотивов в той последовательности и связи, в какой
они даны в произведении» [Томашевский 1999:137]; «Фабула –
это статическая цепь отношений, связей, вещей, отвлеченная от
словесной динамики произведения. Сюжет – это те же связи и
отношения в словесной динамике» [Тынянов 1977: 317].
Расхождения между фабулой и сюжетом могут тяготеть к
минимализации, особенно в том случае, когда в произведении
решительно преобладает эпическое начало (т.е. автор постигает
реальность внутреннего мира произведения, доверившись ее
свободному, «самоочевидному» потоку). Но поскольку чистый
эпос – теоретическая абстракция, а в конкретном произведении
эпическое начало всегда осложнено в большей или меньшей мере лирическим и драматическим, то и полное совпадение сюжета и фабулы в принципе невозможно. В противном случае пришлось бы допустить вероятность прекращения какой бы то ни
было познавательной деятельности автора внутри художественного мира произведения. А это, в свою очередь, свидетельствовало бы, что данное произведение созданием искусства не является.
Подтверждением всего вышесказанного является специфика сюжета романа «Прошедшие войны», действие которого
происходит то в разбомбленном селе Дуц-Хоте, то в далеком
послевоенном Казахстане, в котором волею судеб главному герою приходится отбывать наказание за никому неведомую вину,
и в совсем легендарные времена, когда неизвестно по какой
причине к мельнице за селом прибилась тогда совсем еще молодая Хаза. Ибрагимов создает внутренний мир произведения, отталкиваясь от первоначального замысла – показать истинный
характер чеченского народа через историю одного человека (героя). Следует напомнить, что в интервью, в которых вопросы
задавали и о первом романе, Канта Ибрагимов всегда подчеркивает, что одним из прототипов главного героя романа Цанки
Арачаева является его дед Исмаил, переживший, наверное, то
же, что и Цанка, да и весь чеченский народ.
Предметом исследования, основой сюжетного развития
могут стать события и явления самого разного типа и масштаба:
история нации (история чеченского народа на протяжении последних двух веков), ее судьба в переломный момент (первая
чеченская война, например), судьба какой-то социальной группы (жители села Дуц-Хоте), семьи (история рода Арачаевых,
более подробно семьи Цанки Арачаева), отдельной личности
(Цанка), поведение человека в обыденной или критической ситуации (события выселения 1944 года, нравственнопсихологические портреты людей, находящихся в товарных вагонах в литерном составе), выбор им нравственной позиции
(женитьба Цанки на Кесирт), яркое впечатление, психологическое состояние (возвращение в родное село), глубокое переживание (смерть Кесирт), легкое настроение (путешествие молодого Цанки с Баки-Хаджи за перевал) и т.д.
Поскольку наделение явлений действительности эмоциональными личностными смыслами – основной способ художественного познания, то в плане сюжетного развития особый интерес представляют факты духовной жизни. Процесс исследования внутреннего мира произведения автором включает в себя
отражение этого мира в сознании повествователя и персонажей.
Поэтому их духовная деятельность (впечатления, переживания,
мысли) может стать элементом фабулы (если с точки зрения автора эта деятельность нуждается в сильной корректировке) или
сюжета (если автор расценивает ее как плодотворную, верно отражающую реальное положение вещей во внутреннем мире
произведения).
В данном случае, когда речь идет о романе Канты Ибрагимова «Прошедшие войны», можно с уверенностью утвер-
ждать необходимость ввода в анализ этого произведения двух
терминов – «сюжет» и «фабула». Следует еще раз напомнить,
что термины эти употребляются в противоположных значениях.
Это обусловлено этимологией слов (сюжет – предмет; фабула –
рассказ, повествование). В филологической практике сильна
традиция, в соответствии с которой «фабула» и «сюжет» соотносятся как материал и его обработка. Иными словами, в сюжете романа «Прошедшие войны» нарушена хронология, поэтому
необходимо ввести понятие фабулы. Начало романа построено
в виде небольшой новеллы, повествующей о событиях 1995 года:
«Март, 1995 год.
Чечня.
Маленькое высокогорное село Дуц-Хоте.
Длинная холодная ночь на исходе.
Все в тумане, в сиреневой мгле.
Вокруг древнего поселения призрачно-обманчивое спокойствие, тишина. А само село кишит, во дворах, суетясь, мечутся люди. Плачут женщины, дети. Мужчины сдержанно, сипло
кричат, торопятся.
В предрассветной темноте глаза людей наполнены тоской, страхом, паникой… Война…
Жители Дуц-Хоте спешно покидают родные жилища.
Они, до этой кошмарной ночи, думали, что до их высокогорного
села не дойдет ужас истребления. Однако эти ожидания и
надежды не оправдались. Наступила очередь Дуц-Хоте.
Накануне вечером четыре бомбардировщика сбросили в
окрестностях села по две бомбы. Один из зарядов был ужасной
силы: он ядовитым заревом ослепил всю Вашандаройскую долину; со зловещей силой сотряс могучие горы; наполнил ущелье
оглушительным ураганным взрывом…
Еще не умолкло гулкое эхо бомб, а по селу стали бить из
мощной тяжелой артиллерии. Стреляли издалека, с позиций занятых на чеченской равнине. Смертоносные снаряды летели
через несколько горных перевалов, по рассчитанной траектории в несколько десятков километров» (Ибрагимов, 2004, С. 5).
Наутро в селении остаются только двое: «девяностолетний старик Арачаев Цанка и немолодой уже Гойсум Дациев».
Далее автор коротко рассказывает историю каждого. О Дациеве
мы узнаем, что в силу некоторого уродства и нерасторопности
ума он остался бобылем, умеющим выполнять только тяжелую,
непрофессиональную работу. А о старике Арачаеве, что ему некуда, не к кому и не для чего идти: здесь его мир, здесь его земля, здесь он хочет умереть. Кульминационным моментом новеллы, начинающей роман, является известие о том, что в родник
под селом попал снаряд и вода иссякла. Гойсум, который ходил
на родник и первым увидел это разорение, был чрезвычайно
удивлен. Однако иначе ведет себя старый Цанка: «Цанка медленно, тяжело дыша, дошел до родника, спустился по скользкой
тропинке в пересохшее русло, упал на колени, сгорбился в горе.
Только одна скупая слеза появилась в уголке его глаза. Он весь
задрожал, истошно зарыдал» [Ибрагимов 2004: 15].
Далее действие романа переходит во времена, о которых
Цанка вспоминает как о самых благословенных в истории чеченского народа («Всю свою жизнь Арачаев Цанка говорил, что
в истории Чечни последних двух веков только семь лет – с 1918
по 1924 годы – были мирными и люди вели безмятежносчастливое существование»). Это ощущение безмятежносчастливого существования автор романа объясняет тем, что
детство и отрочество всегда вспоминаются как идиллия. Однако
у этого ощущения есть и более материальная база. К. Ибрагимов
замечает: «Однако он (Цанка) связывал это только с полной
утратой раздираемой внутренними противоречиями Россией
своего контроля и надзора над горцами» [Ибрагимов 2004: 16].
Надо сказать, что историософия К. Ибрагимова заслуживает отдельного параграфа, и мы вернемся к этому вопросу позже, в завершении главы, однако заметим, что автор романа во
многом разделяет взгляды Цанки на исторические процессы,
происходящие в Чечне. Вернее будет сказать: автор наделяет
своими идеями своего героя, воплощающего лучшие черты чеченского национального характера. Итак, вступительная новелла прерывается подробным описанием событий, происходивших
в Чечне на протяжении семидесяти пяти лет (1920–1995). И, казалось бы, мы так и не узнаем, что произошло с Гойсумом Дациевым и Цанкой Арачаевым, однако повествование, завершая
свой круг, опять приводит нас к разрушенному селу и погубленному источнику. Здесь происходят события, безусловно, трагические. В разоренном войной дворе Цанки неожиданно встре-
чаются несколько молодых парней – Ваха Арачаев, младший
внук Цанки, уехавший из разбомбленного Грозного учиться в
Турцию (потеряв связь с дедом, он отправился его искать), капитан Кухмистеров, родом из Питера, внук Элеоноры Витальевны, старший лейтенант Российской армии Артур Геннадьевич
Арачаев. Все они гибнут. Артура и Ваху добивает Кухмистеров,
в которого во время борьбы попадает пуля, выпущенная из пистолета Артура (соратники в мгновение превратились в противников). Неожиданным, на первый взгляд, является завершение
эпизода:
«Все застыли в оцепенении. Эта смертельная схватка
привела всех в ужас. Наступила тишина, и только пришедший в
себя старик Арачаев, кряхтя, встал, сделал несколько нетвердых шагов, очутился прямо в центре трех трупов. С минуту он
стоял неподвижно и вдруг истерично захохотал:
– Мои внуки вернулись, – с блаженной улыбкой вымолвил
он, поправляя очки. – Я мечтал об этом, молился. Вот и сбылись мои мечты, возвратились все к родному очагу. Здесь покой
нашли… В борьбе жили, в смерти нашли единение.
После этой фразы его лицо стало серьезным, даже испуганным.
– Видимо, правда, что из одного истока мы вышли и,
враждуя, к одному истоку придем. Как бы и этот источник не
высох, не пересох от взаимной ненависти» [Ибрагимов 2004:
704].
Старик еще раз произносит загадочную фразу: «Не забирайте их, оставьте. … Я их похороню, они мои, они домой вернулись», когда полковник отдает распоряжение отправить убитых в морг.
Загадка разрешима только для прочитавших весь роман –
историю жизни Цанки Арачаева, со всеми сопровождавшими
эту жизнь радостями и горестями, озарениями и ошибками,
несбывшимися надеждами, потерями близких, дорогих сердцу
Цанки людей. И Ваха – сын его непутевого сына, погрязшего в
пороках и преступлениях, Артур Геннадьевич на самом деле не
Геннадьевич, а сын его потерявшегося в Грозном во время высылки сына Гелани, и капитан Кухмистеров оказался внуком
Цанки и той юной девочки, которую прислали по распределению в далекую горную школу, где ученики называли ее Элеоно-
ра Витальевна. Так постепенно в рассказ о войне проникают
иные ноты, иные смыслы.
Ситуация выходит за рамки традиционного батального
повествования: слова старика символичны («они мои, они домой
вернулись»). Новелла, обрамляющая роман «Прошедшие войны» приобретает статус притчи, где каждое слово не равно самому себе, но многозначно. И старик – это уже не Цанка Арачаев, а некий мировой дед, пращур, основоположник рода. И дом –
это не арачаевское подворье, но мир, Земля, колыбель человечества, столь уязвимая и хрупкая. К сожалению, дети вернулись,
но сблизила их только смерть. Единственной надеждой в этой
тьме смерти и насилия оказалось возвращение сельского источника:
«Снова он увидел звездное небо, снова его мысли улетели в
никуда. Но не было тишины. Какой-то знакомый нежный звук
ласкал его слух.
– Ведь это вода, – прошептал он, – это родник. Родной
родник!
И одновременно Цанка почувствовал, как теплая вода
коснулась его головы, потекла по телу вдоль позвоночника.
– Родник! Родник ожил! Ваха, вставай! Родник наш
проснулся! Здесь! Здесь снова будет жизнь! Ж-и-и-знь!!!» [Ибрагимов 2004: 716].
Следует заметить, что вода – это земная жизнь, первичные
соки природы, символ очищения, расслабления, отрешения от
забот и негативных мыслей. У некоторых народов существовал
культ источников и озер, например, у кельтских племен. Водная
стихия – символ хаоса, и для архаического сознания мифические существа, персонифицирующие хаос, часто продолжают
существовать на окраинах космоса, по берегам мирового океана.
Если обратиться к своду представлений чеченского народа
о воде, то здесь мы сталкиваемся с таким пониманием одной из
четырех природных стихий.
Вода (хи) – универсальный символ обновления, чистоты
(хино ца ц1анъеш х1ума яц), здоровья, плодородия (хьекъа), богатства (хьал деба), милосердия (де эшначу дийнахь хин куршка
яла) и источника самой жизни (хи доцчохь дахар а дац). Искупаться, значит очиститься от грехов (лийча – къинойх ц1анвала).
Вода в чеченской культуре подразделяется на чистую (ц1ена хи)
для питья, приготовления пищи и грязную (боьха хи); теплую
(минеральная, термальная) лечебную и холодную (речную, колодезную, родниковую) для питья и хозяйственных нужд. Дождевую воду (дог1ан хи) в народной медицине применяют для
лечения себореи и смягчения жестких волос головы.
Родниковая вода (шовдан хи) – эталон чистой воды. Загрязнение родника (водоемов вообще) считалось очень большим
грехом и серьезным нарушением адата. Такому человеку в прошлом могли воздвигнуть холм проклятия (к1арлаг1а).
В то же время, будучи стихией враждебной человеку (при
наводнении, купании, плавании на кораблях в морях и океанах),
вода символизирует опасность для жизни. Воды потопа (миф о
потопе) как орудие гнева Всевышнего уничтожают все греховное на земле [Словарь символов чеченской культуры 2011:165166].
В этом плане продуктивно будет обращение к системе архетипов в художественном произведении, в том числе и в романе «Прошедшие войны».
Мифологические образы, если рассмотреть их сущностные черты, поразительно подобны в разных концах Земли, несмотря на бросающееся в глаза внешнее различие истории и
культуры разных народов. Это позволяет выделить универсальные прообразы, общие для всего человечества – древнейшие архетипы, подтверждающие единство божественного нуса, как и
психики людей. Среди них есть более древние и более новые, и
каждый из них отразил особое, но непосредственно-цельное и
по-новому яркое отношение людей к миру. (Юнг, 1991).
В этом плане интересным представляется архетип Мудрого Старца (Старика). Архетип Мудрого Старца – это образ
смысла и мудрости. В юнговской терминологии Старец-мудрец
есть персонификация мужского духа. Фигура Мудрого Старца
проявляется в образах духовного учителя, гуру, волшебника,
доктора, священника, т.е. лица, обладающего авторитетом. Когда необходимо понимание, самоанализ, добрый совет, планирование, но своих ресурсов на это человеку не хватает, то архетип духа может появиться в образе человека, карлика, гнома или
животного (Юнг, 2004).
Безусловно, Цанка – это всего лишь старик, в одночасье
потерявший всех своих внуков. Но до последнего вздоха сохра-
няет в себе благородство души и верность традициям предков.
Огромным достоинством романа «Прошедшие войны» является
возможность для его читателей оценить и ощутить социальные
и политические условия жизни чеченцев в двадцатом веке, познакомиться с традициями, нравами, ритуалом и этикетом кавказских горцев. Обращаясь к специфике сюжета романа «Прошедшие войны», следует вспомнить о нескольких классификациях сюжетов. Принцип типологической классификации может
быть связан со способом освоения внутреннего мира произведения: если вглубь, то центростремительный (интенсивный) сюжет, если вширь, то центробежный (экстенсивный) [Кожинов
1964:76].
Сюжет романа «Прошедшие войны», несомненно, относится к такому типу, как центростремительный сюжет. Повествование идет вглубь освоения внутреннего мира произведения. Такой сюжет тесно связан с характерами, что предполагает
возможность решения вопроса о том, насколько правомерна та
или иная сюжетная подробность с точки зрения логики характера. Важен и анализ поступков героев, и соответствие этих поступков характеру. Сюжеты произведения, где главное внимание уделено интенсивному внешнему действию, принято обычно называть авантюрными. К такому сюжету можно отнести
роман Канты Ибрагимова «Учитель истории», который вышел в
2003 году Москве.
Литература – это пограничье между физическим и духовным народа... Теодор Адорно сказал в сердцах: после Освенцима нельзя уже больше писать стихи... И все же после двух кровопролитных войн чеченцы продолжали писать и стихи, и рассказы, и повести, и даже романы. Потому что решили выжить в
этом яростном и безжалостном мире. Чеченцы – народ раненый
историей. Без знания своего прошлого, к настоящему начинаешь
относиться свысока, а в минуты роковые – метаться, кидаться
из одной крайности в другую. Потому что не знаешь, откуда болячки, стыд и срам, беспросветная глупость, гипертрофированные сомнения и эрзац – актуальность.
Без Веры, Надежды и Любви, без целостного знания о
жизни и душе, без знания того, что сделало с тобой и с твоим
народом Время, становишься игрушкой в руках хиромантов от
политики, астрологов от экономики, факиров от чистогана,
джухаргов от фратрий. Нужно представить себе, что значит, для
писателя писать о катастрофе после катастрофы.
Роман «Учитель истории» не исторический роман, а роман о причинно-следственности в истории. Автор методом монтажа показывает, как нарешенное в чеченском обществе 1000
лет назад аукается сегодня. Канта воскресил древний миф, чтобы через нее обьяснить нам суть сегодняшних событий. Чтобы
через лабиринты времени мы пришли к самим себе. К своей несравненной Ане Аргунской, к своим Безингерам, Шамсадовым.
Канта Ибрагимов сознательно поставил свою творческую
деятельность на службу своему народу, сознательно взялся за
создание надлежащей точки зрения на Чечню и чеченский
народ.
Интерпретация литературного произведения требует
аудитории с протокультурой. Художественная литература – это
выражение вечных истин в новых формах на ладонях времени.
Думаю, что Канте это удалось. Потому что он честно рассказал о том, что случилось с ним и с его народом Вчера. Рассказал о прошлом Чечни для будущей Чечни. И при этом не
имел ни малейшего желания бросить камень в прошлое своего
народа.
Если автора по преимуществу интересует внутренняя
жизнь персонажей, сюжет становится психологическим. Такой
тип сюжета (хотя и в не чистом, лабораторном виде) характерен
для романа писателя «Детский мир», здесь имеет смысл поднять
вопрос о роли заглавия в понимании и интерпретации художественного произведения. И это не случайно. Каждый фрагмент
литературного текста является очередным шагом на пути эстетического освоения внутреннего мира произведения. Исходный
и потому важнейший пункт этого пути – заглавие. Оно – образный эквивалент произведения, «стянутая до объема двух-трех
слов книга» [Кржижановский 1931:3], знак, подлежащий расшифровке в ходе чтения. Сюжет, таким образом, можно рассматривать как параллельный развертыванию текста поиск ответа на вопрос: «Почему произведение названо именно так, а не
иначе, какой смысл вложен в данное заглавие?». Конечно, элемент случайности в выборе писателем заглавия не исключен, но
типичнее все-таки ситуация, именуемая «муки заголовка»
[Блисковский 1962: 45]. И даже в том случае, когда писатель не
обременял себя поисками выразительного слова или словосочетания, под влиянием текста название произведения обретает
смысловую значительность и метафорическую глубину. В кратком заглавии два-три составляющих его слова вступают в сложные смысловые и грамматические связи. Нередко по семантике
поставленные рядом слова противоречат друг другу, образуя
тем самым третье понятие. Автор всегда сможет найти единственно верное название своей книге. Чем более четко автором
сформулирована идея, тем точнее название книги. Угроза повтора, боязнь тривиальности, страх перед невыразительностью
названия – мнимые опасности. Их легко избежать, потому что
словарный запас в любом современном языке огромен, а, вступая в синтаксические связи, слова создают неисчислимое богатство смыслов и значений. Выбрать минимальное и самое нужное – это искусство, от него во многом зависит судьба книги.
Характер заглавия определяется способом его развертывания. В процессе сюжетного развития мысль или оценка, в нем
выраженная, может подтверждаться, уточняться, опровергаться.
В одних случаях присутствие метафорического смысла ощущается довольно явственно с самого начала («Детский мир»). В
других – заглавие кажется на первый взгляд предельно простым,
выполняющим чисто номинативную функцию («Учитель истории»). Но первоначальное впечатление обманчиво: первоначальный прогноз, составленный на основании заглавия, до знакомства с текстом в полном объеме, претерпевает сильные изменения по мере продвижения к финалу. Так, в романе К. Ибрагимова «Учитель истории» заглавие обманчиво настраивает читателя на социально-нравственное звучание конфликта, однако
дальнейшее
повествование
приобретает
авантюрноприключенческие черты, а завершается роман серьезными философскими размышлениями о цене мира и цене жизни отдельно взятого человека.
Следует отметить, что парадокс, связанный с личностной
зрелостью К. Ибрагимова и его писательской молодостью, обусловливает и выбор заглавий для его романа. Уже рассматривались с точки зрения поэтики заглавия его романы «Прошедшие
войны» и «Учитель истории». Считаем необходимым дать характеристику заглавий таких его произведений, как: «Седой
Кавказ», «Детский мир» и «Сказка Востока». Заглавия как «пер-
вые слова» произведений, нарицательные части, образы литературных текстов играют важную – формообразующую и смыслопроявляющую – роль в художественном мире К. Ибрагимова.
Уже для первого своего романа он избирает «простую форму»
названия, правда дополненную эпиграфами, с которых начинается каждая часть произведения. В дальнейшем, вырабатывая
поэтические приемы в своем творчестве, он сохраняет характерную для него манеру озаглавливания последующих романов.
Название – это первое, с чем читатель встретится, взяв в
руки книгу или посмотрев на содержание журнала. Это первая
информация о произведении, которая должна читателя заинтересовать или хотя бы дать ему представление о нем. Информация может быть, естественно, лишь контурной, общей, но она
может также дать совершенно конкретное представление о содержании, как и представление ложное, вводящее в заблуждение. Заглавие – это может быть уже сгущенная книга, книга –
это может быть развернутое заглавие.
Именно эффекта контурности добивается К. Ибрагимов,
избирая для титульной страницы своих книг простые словосочетания в наиболее классической форме их употребления – согласование в именительном падеже. Следует заметить, что, не взирая на простоту, эти заглавия заключают в себе большой эмоциональный заряд. Так, заглавие романа «Седой Кавказ» заставляет внимательного читателя, еще не раскрывшего книгу, поразмышлять по поводу оксюморонности этого образа: кавказские
горы считаются молодыми, поэтому применительно к ним
сложно согласиться с определением «седой». Однако последующее повествование заставляет читателя поверить автору, Кавказ, действительно – седой. Только не от старости, а от обилия
горя и несправедливости. Заглавие любого словесного произведения, как правило, является знаковым. Оно имеет двойственную природу. С одной стороны, это языковая структура, предваряющая текст, стоящая «над» ним и воспринимающаяся как
речевой элемент, находящийся вне текста и имеющий определенную самостоятельность. С другой стороны, заголовок – полноправный компонент текста, входящий в него и связанный с
другими компонентами целостного произведения. Заглавие
должно до известной степени предупреждать о содержании.
Так же неожиданно разрешение интриги заглавия романа
К. Ибрагимова «Детский мир». «Детский мир» – это и магазин в
довоенном Грозном, куда водили мальчика его еще не погибшие
родители; это и детский дом, далеко в России, в котором мальчик оказался после первой чеченской войны; в то же время – это
мечта о мире, счастье, о всеобщей гармонии (мальчика, играющего на скрипке, слушают и федералы, и боевики). И еще одно
эмоциональное значение несет в себе это заглавие: герой романа
– ребенок, однако мир вокруг него – мир не для детей, мир жестокий, бездетный. И здесь мы сталкиваемся с ситуацией оксюморона, что заставляет с горечью переживать заглавие романа
после его прочтения. Таким же образом выстраивается взаимосвязь заглавия и основного текста в романе «Звезда Востока».
Сюжеты почти всех чеченских романов и повестей ХХ века сводились к инварианту: герой произведения от сохи или мотыги (девушка-учительница, сын идейно продвинутого офицера, богатея и т.д.), при содействии коммуниста-революционера,
за короткий срок доходил до такой степени прозрения, что проникался лютой ненавистью к муллам, шейхам, кулакам, владельцам лавок и т.д. И под чутким руководством «старшего брата» – коммуниста или большевика – начинал беспощадно бороться со всей этой «контрой». Тут все методы годились: и своей жизни, и жизней своих соплеменников, родственников не
жаль, лишь бы «советска власть» победила по всей Чечне, а заодно и на всем земном шаре.
Роман же К. Ибрагимова «Сказка Востока» [Ибрагимов
2007] и по духу, и по фактуре таит в себе нечто новое, знаменующее качественное изменение в параметрах и целеполаганиях
историко-революционного романа. В романе немало и авторскисвоеобычного: свободное обращение со временем, сферическая
завершенность частей, выверенность композиции. Форма, избранная автором, оказалась наиболее продуктивной для творческой реализации его основной идеи – определение места и роли
чеченского этноса в ряду других этносов во всемирной истории
человечества.
Сюжет романа «Сказка Востока» подсказан автору не
столько самой жизнью, сколько ее гримасой. …Человек занят
своими вполне земными делами... И вдруг, нежданно-негаданно,
в его жизнь врывается прошлое в виде музейного экспоната –
головы знаменитого восточного завоевателя Тамерлана. Любая
встреча когда-то заканчивается расставанием. Но прежде чем
расстаться с Тамерланом, автор решил разобраться с феноменом
«Тамерлан», заодно и с Чингисханом, и другими известными
деятелями восточного Средневековья.
Для этого писатель совершил не совсем краткий экскурс
во времена Тамерлана – конец ХIV-го и начало ХV веков. И вовсе не для того, чтобы обличить грозного завоевателя половины
мира. Перед автором романа стояла более значительная и утилитарная задача – осмыслить это время и деяния тех лет, соотнести
их с днем сегодняшним и художественно отобразить. Уже с
первых страниц романа автор обозначает контуры будущего повествования, доказательно обосновывая и свое право «рассуждать на тему» великих мира сего.
Прошлое воссоздано писателем в основном с помощью
генной памяти народа. Писатель не оставил без внимания легенды, мифы и предания по теме повествования, не говоря о научных трактатах, летописях, всевозможных историях и хрониках.
И свое исследование автор ведет не с колокольни современных
общемировых достижений по данному вопросу, а с точки зрения
сегодняшнего бытия тех, на кого это прошлое перманентно зловеще накатывает.
Может показаться, что прошлое в прошлом и спит там невинным сном младенца. Не тут-то было. «Перманентные набеги
прошлого» на современность в развитых обществах научно
обоснованная данность. После романов К. Ибрагимова «Учитель истории», «Сказка Востока» для Чечни она и научно, и художественно отображенная данность в пространстве чеченской
художественной культуры. К. Ибрагимову удалось не только запечатлеть прошлое, но и отыскать в нем черты того будущего,
которое стало нашим настоящим.
Ценность прошлого не только в том, что оно прошло, но и
в, сопряженным с ним, опыте. Ведь в арсенале «сегодняшних»
деструктивных и не совсем дружественных сил не так уж много
чисто современных способов дестабилизации, устранения, подчинения, разложения. И задачи, и цели, и проблемы, стоящие
перед любым этносом, кланом, партией, имеют тысячелетнюю
историю. Наша эпоха может похвалиться лишь по части их тщательного камуфлирования и доведения до той или иной степени
совершенства. И знание того, как наши пращуры решали – или
не могли решить – проблемы своего этноса в той или иной ситуации – очень ценное знание. В развитых обществах очень даже оберегаемое и бережно хранимое знание.
К.Ибрагимов одинаково превосходно владеет как техникой поглаживания «против шерсти», так и техникой возвышения
человеческого в человеке. Умеет он и окружить аурой своей
симпатии дорогих своему сердцу персонажей, заряжая тем же
своих читателей. И все это в своей обычной манере, где шутка,
юмор, юмор, ирония и самые серьезные мысли мирно уживаются друг с другом. Для автора все персонажи, независимо от
роли отведенной им в романе, одинаково «важны и нужны».
Отношение писателя к созданным им образам намного сложнее,
чем представляется и не могут быть определены категориями
любви и ненависти. И «положительные», и «отрицательные»
они в одинаковой мере работают на воплощение его творческого замысла – художественной реконструкции и отображения
одного из трагических отрезков творческой биографии чеченского народа.
Широкий диапазон «родительского отношения» к своим
героям позволил автору создать многогранные и объемные характеры, с ярко выраженными запоминающимися лицами. И
там, где они не блещут изяществом и грацией, высоким парением над землей, так это следствие того, что не блистали ими
и прототипы (к примеру, сыновья Тамерлана – Халиль и Мираншах), а не художественный просчет писателя. Но, пожалуй,
наибольшего совершенства достигает автор в работе над образом своего одного из центрального персонажа Шадомы (она же
– Шад-Мульк). Об этом красноречиво свидетельствует последний, завершающий данный образ, штрих:
«На самом деле Шад-Мульк – это славная и самоотверженная женщина, которая боролась не против Тимура и его
наследников, не за власть, разоряя казну, а боролась против
своего одиночества, за своего нерожденного ребенка, за свое
исковерканное материнство, за будущих детей и матерей!»
[Ибрагимов 207:622].
Главный герой романа (Красный) Малцаг является олицетворением сопротивления национального духа духу завоевателей. Перед нами глубоко чеченский характер в его апогее,
основными чертами которого являются человечность, откры-
тость и честность, стремление скрасить жизнь ближнего, не мозолить глаза прохожим своей бедой, жажда ниспровержения зла.
Автор в создании образа Малцага избежал равно и декларативности, и гипертрофии национальных чувств, с которыми мы
нередко сталкиваемся в произведениях ряда наших писателей.
К. Ибрагимову не пришлось прибегать к высокопарным и
витиеватым фразам для того, чтобы убедить читателя в том, что
его герой бесстрашен, великодушен, честолюбив, любвеобилен.
Все это сказывается его поступками и делами, мыслями и чувствами. Народная стихия ощущается здесь в каждом слове, жесте героя. Малцаг и плоть, и дух своего народа. Дух, который
жив и поныне в памяти своего народа. В нем воплотилась инстинктивная вера нашего этноса в свое будущее. Без этой веры
невозможно вынести удары судьбы, что выпали на его долю.
Для К. Ибрагимова человек – это не ангел, парящий в небесах и временами торжествующий во взлетах духа над грешной
плотью, а вполне земное существо – пусть даже и великий среди
смертных – со своими слабостями, ошибками, борениями духа:
«Когда Тимур ехал в седле, в кругу своих воинов, он чувствовал себя среди них как единое целое...
Теперь, глядя или подглядывая из маленького дребезжащего окна, он невольно ощущает себя изолированным или
сторонним наблюдателем этой передвигающейся массы. И,
может быть, он задает вопрос: куда, за кем и зачем они идут?
Почему они ему подчиняются, так возвеличивают, боятся и лебезят? Неужели он действительно такой выдающийся, сверхчеловек, богоизбран?» [Там же: 450].
Мастерство писателя сказалось не только в создании образов ведущих героев романа, но и в многообразии проходящих
через повествование персонажей, в создании прекрасного облика родной и чужеземной природы, в проникновенном лиризме
авторских отступлений. Проза К. Ибрагимова временами жесткая. И ее прямота и категоричность вряд ли придутся по душе
тем, кто предпочитает отвлеченный гуманизм экспрессии дня и
корневым основам понятий справедливость, долг.
Как и всякое человеческое деяние, роман «Сказка Востока» не лишен недостатков. И хотя уважение к таланту неотделимо от высокой требовательности к нему, в данном случае,
считаю целесообразным не прибегать к услугам «критики на
уничтожение», а поддержать лучшее в романе, да и во всем
творчестве писателя. Хотя бы и потому что, как писал критик
Александр Макаров: «Ни одно художественное произведение и
даже ни один поэт во всем своем творчестве, как бы оно не было
всеобъемлюще, не в состоянии охватить всех проявлений и всех
сторон национальной жизни» [Макаров 1982:378].
Не в клятвах и заверениях современников заключен дух
времени, а в существе и характере человека, в образном строе
его мыслей, в палитре и накале чувств. К. Ибрагимов не праздный соглядатай этой жизни, а писатель с животворным ощущением времени во всех трех его формах, пишущий хорошие
книги «здесь и сейчас», в которых больше смысла и прорыва
«вглубь и в даль», нежели слов и синтаксических ухищрений в
произведениях иных наших писателей. В своем романе «Сказка
Востока» автор блестяще продемонстрировал, как прошлое
можно заставить работать на сегодняшний день и на будущее.
Роман в какой-то мере и расчет с той неправдой, клеветой вокруг и в круг чеченского этноса, которые преследуют его на
протяжении многих веков, благодаря усилиям тех, кто издавна
зарится на дух и ландшафт этого благодатного края с таинственно-магическим названием – Нохчичоь.
Составной частью заглавия является имя автора, ибо –
особенно культурному читателю – оно дает довольно ясно
знать, что можно ожидать на страницах книги, какую тематику,
какой стиль. Имя автора и название книги взаимосвязаны. Это
отчетливо чувствуется сегодня, когда имя К. Ибрагимова перешагнуло далеко за пределы Чечни и России. Если учесть вышесказанное, то при интерпретации заглавия первого романа К.
Ибрагимова «Прошедшие войны» следует отметить, что это заглавие уточняет оттенок определения основного конфликта, который и является собственно стержнем сюжета. Конфликт сюжета либо знаменует нарушения миропорядка, в своей основе
гармонического и совершенного, либо выступает как черта самого миропорядка, свидетельство его несовершенства или дисгармоничности. Заглавие «Прошедшие войны», лишенное исторически точной закрепленности за какими бы то ни было реальными событиями (о каких войнах роман? – читатель узнает в
дальнейшем, в процессе чтения произведения). Это позволяет
нам определить конфликт как социально-философский: перед
нами роман-предостережение. То, что происходит в Чечне в
1995 году, – это Апокалипсис, Конец Света, который явился
следствием нравственного Апокалипсиса. Ибрагимов специально усиливает апокалипсическое звучание новеллы, обрамляющей роман.
«Дом от взрыва перекосился – все заклинило. С трудом
Цанка вырвался во двор. В лицо ударила свежесть и яркий, согревающий свет. Горели сарай, навес, стог сена. Огонь весело
играл рыжими языками, ненасытно пожирал иссохшие, исковерканные ракетой хозяйственные строения. Еще гремели
взрывы, со стоном содрогалась земля, вдруг, внезапно, все замерло. Стало тихо, мирно, спокойно. Только жалобно потрескивали в огне старые толстые бревна строений. Без взрывов,
без шума в ночном, одичалом селе стало невыносимо тяжело.
Одиночество в заброшенном поселении было несносно» [Ибрагимов 2004:696]. Очевидно, что здесь писатель, используя возможности такого художественного приема, как оксюморон, ставя рядом взаимоисключающие слова, усиливает драматизм ситуации, в которой оказались герои его повествования. Кроме того, можно предположить, что наряду с влиянием русской и западноевропейской литератур Канта Ибрагимов испытал серьезное влияние восточной литературной традиции: его ориентация
на притчу как на способ глобального обобщения своих идей,
представлений, историософских воззрений нашла отражение не
только в романе «Прошедшие войны», но и других произведениях автора («Детский мир», например).
Притча у Ибрагимова реализуется как некое назидание;
урок, который должны осмыслить и запомнить, потому что он в
первую очередь передает не сумму знаний, но систему нравственных уложений. Иногда притчевые ситуации в «Прошедших войнах» довольно просты – это плохо, а это хорошо. Но такой подход продиктован самой природой притчи [Куклин И.
1999: Электронный ресурс].
Необходимо уточнить, что роман с заглавием «Прошедшие войны» обращен к российскому читателю. Здесь К. Ибрагимов выступает как Учитель Истории, он просвещает многих
россиян, довольно небрежно знающих историю своей страны,
населенной многочисленными народами. Писатель стремится
разрушить стереотипы о чеченцах и Чечне, сложившиеся в рос-
сийском обществе. Срез таких представлений дается в разговоре
молодых солдат и капитана Кухмистерова в финале романа: «Да
мы их всех на своем горбу вскормили, грабят они нас и всю Россию» [Ибрагимов 2004: 700].
Более подробно история Чечни 1990-х исследуется писателем во второй части романа «Седой Кавказ» и в авантюрноприключен ческом романе «Учитель истории». Однако немало
горьких страниц посвящено этому времени и в романе «Прошедшие войны». Следует заметить, что Кухмистеров – не простой внук Цанки: в результате случайной связи (а на самом деле
далеко не случайной, а осененной высокой духовностью) Цанки
и Элеоноры Витальевны, юной учительницы, присланной в ДуцХоте по распределению, появляется ребенок (в романе не уточняется – сын это или дочь. Однако, если у внука фамилия Кухмистеров, значит это был сын). Сын незаконнорожденный. Мы о
нем ничего не знаем. Кроме того, что его сын – внук Цанки. Но
внук – опять же от незаконнорожденного отца и бабушки Кесирт. Получается некий системный сбой. Для чеченского писателя, равно как и для чеченского читателя, это обстоятельство
необыкновенно важно: бастард (къут1а) – внебрачный (незаконнорожденный) ребенок – народным сознанием наделяется всевозможными безальтернативными отрицательными чертами характера и дурными наклонностями.
Вернувшись из Москвы после операции на глазах, Цанка
решает посетить грозненский университет, где учится его внук
Ваха. «В храме науки царил кошмар: окна разбиты; в коридорах
грязь, пыль, мусор; по углам толпилась молодежь; курили, матерились, имели отвратительный вид. Попадались люди с автоматами и пистолетами. Видимо, тоже учились. Вокруг университета и в его стенах старый Арачаев не смог найти ни одного атрибута высшего учебного заведения» [Ибрагимов 2004:
693].
Мерзость и запустение, царящие в городе, его потрясают,
и он благословляет внука отправиться на учебу в Анкару, благо,
обучение будет происходить за счет благотворительности. Казалось бы, хотя бы Ваха будет спасен. Однако воспитанный в духе
благородства и уважения к старикам, парень возвращается в
Дуц-Хоте в самое не подходящее для возвращения время. Ваха
не может поступить иначе потому, что для чеченского нацио-
нального сознания дед, Мудрый Старец – добрый помощник,
символ знания, помощи советом, опора на традиции, родительский авторитет, обращение к опыту.
Этот архетип заставляет человека приподниматься над
своими возможностями: находить решения неразрешимых проблем, изыскивать неведомые силы и преодолевать непреодолимые препятствия. Он неразрывно связан с другим архетипическим образом – отца, фигура которого является воплощением
авторитарности, закона, порядка, социальных обычаев, норм поведения, связанных с обществом, а также мужской защиты. Реально существующий отец у каждого вносит свой вклад в формирование образа идеального отца. Эту роль может принимать
на себя и дедушка [Юнг, 2004].
3.4. Художественное воплощение национального характера в романе К. Ибрагимова «Прошедшие войны»
Следует заметить, что наряду с заглавием, важную роль в
познавательной деятельности как автора, так и читателя сильно
стимулируют и эпиграфы. Как и заглавие, эпиграф по отношению к тексту является не прямолинейной сентенцией, а поводом
к размышлению, поиску. Эпиграф обычно больше, чем заглавие,
и гораздо чаще является цитатой. Поэтому влияние эпиграфа на
сюжетное развитие осложнено связью с творчеством другого
автора, т.е. с целым художественным миром или даже какой-то
историко-культурной эпохой. К. Ибрагимов выбрал эпиграф для
своего первого романа из старинного чеченского сказания:
Брат забудет тебя – увидев красавицу,
Сестра забудет тебя – увидев молодца,
Отец забудет тебя – окруженный заботами,
Только в сердце матери – ты останешься.
Его обращение к чеченскому фольклору не случайно. О
тесной связи фольклора и современной литературы Чеченской
республики мы уже говорили во второй главе настоящего исследования. Однако причина, побудившая писателя выбрать
эпиграф из фольклорного текста, обусловлена еще и той
сверхзадачей, которую поставил перед собой автор: рассказать о
чеченской истории последнего столетия, раскрыть подлинную
сущность чеченской души. И именно фольклорная традиция
помогает ему в его нелегкой задаче. Ментальность любого
народа определяется через ландшафт (привычное географическое пространство, в котором народ проживает), через верования, через сказания народные, т.е. фольклор в современном его
понимании. На этом вопросе следует остановиться более подробно. Долгое время фольклором называли устное словесное
искусство, с его специфической жанровой системой, набором
сюжетов, героев, изобразительных средств. Однако постепенно
складывалась и другая точка зрения: фольклор – это вся традиционная народная культура, ее художественные и нехудожественные формы, вербальные и паравербальные (акциональные,
предметно-материальные и др.) способы выражения. Таким образом, фольклор – это особая картина мира, складывающаяся в
народном сознании в течение тысячелетий и не утратившая актуальности и ценностной значимости в наши дни. «Такое понимание фольклора особенно важно исследователям, изучающим
литературу через призму традиции, и не только ближайшей, какой для ХХ века была, к примеру, литература 19, для 19 столетия – 18 и т.д., но и традиции как поля всей предшествующей
культуры. В этом смысле временная удаленность значения не
имеет – совершенно фольклорный принцип: все прошлое обитает в одном пространстве, не в виде дискретных проявлений, а
как целостность, единство» [Ларионова 2006: 3].
Безусловно, абсолютным выразителем авторского замысла
в романе является Цанка Арачаев. Однако, не менее важными по
значению и идейно-смысловой наполненности являются женские образы. Остановимся сначала на них. Центральным женским образом романа можно с уверенностью назвать дочь Хазы
– Кесирт. Вот первое упоминание о ней: односельчане БакиХаджи и Харон едут на мельницу, где несколько десятков лет в
работницах Хаза (история ее жизни – необычная вставная новелла, сюжет которой лишь отдаленно, но все же напоминает
сюжеты более поздних произведений Канты Ибрагимова –
«Сказка Востока» и «Учитель истории»). Харон вспоминает, что
на мельнице живет еще Кесирт:
«Да, знаешь ты, я весь вчерашний день мать детей уговаривал остаться дома. Мечтаю на мельнице встретить дочь
Хазы Кесирт, при этом он жадно облизал свои толстые губы.
– А зачем тебе Кесирт? – глядя в упор на Харона, спросил
Баки-Хаджи.
– Как зачем, может, получится и поиграем.
– А что, она из игривых?
– Да не знаю. Ну, ведь она все равно – жеро. Дважды замужем была.
– А что, есть слухи? – уже тихо, вкрадчиво спросил Баки-Хаджи.
– Да нет, вроде нет… Да и в городе о ней отзывались благосклонно. Просто хороша, чертовка! Жизнь отдал бы за ночь с
ней.
– Кому нужна твоя дрянная жизнь и ты, – с издевкой
сказал Баки-Хаджи… [Ибрагимов 2004: 28-29].
В этом разговоре важно то, что негодяй Харон, сыгравший
впоследствии отвратительную, страшную роль в судьбе Кесирт
(из-за него гибнет ее ребенок и кончает жизнь самоубийством
сама героиня), признает, что молодая женщина, дважды овдовевшая, жеро, ни в чем предосудительном не замешана, поведения достойного. Высокая нравственность – это как отличительный признак Кесирт. О том, что она, по сути дела, является воплощением фольклорного идеала женщины-возлюбленной,
женщины, умеющей свести с ума любого своей красотой и грацией и все же остающейся целомудренной и верной кодексу чести чеченки, говорит сам автор:
«На удивление всем Кесирт была высокая, стройная,
длинноногая. Глаза, волосы, ресницы – смолянисто-черные.
Кожа смуглая, а на щеках играл яркий румянец. Когда она смеялась, маленькие ямочки появлялись в уголках рта и обнажались
ровные, маленькие, белоснежные зубы. Красавиц в чеченских горах было немало. Однако Кесирт отличалась среди них своей
грацией и осанкой. На вечеринках и свадьбах все стремились
станцевать с ней. И выходила она в круг без кокетства и жеманства, строгая и грациозная, как лебедь, стройная и гордая.
И глаза ее не бегали по углам и по сторонам, а печально опускались вниз, прикрытые длинными густыми ресницами» [Ибрагимов 2004:33].
Не удивительно, что именно молодой Цанка отчаянно
влюбился в неприступную красавицу, напрочь отвергавшую
ухаживания юноши, еще только вступающего в возраст, когда
можно обзаводиться семьей. Он на несколько лет младше Кесирт. Но возраст не является помехой в том, чтобы интуитивно
(пока нет еще жизненного опыта) определить, что перед ним
редкая драгоценность, заполучить которую – мечта почти не
осуществимая, но высокая. Кесирт здесь выступает в роли сказочной царевны. Следует заметить, что К. Ибрагимов для своего
первого романа избирает сложный синтетический художественный метод. Это, безусловно, постреализм (реализм в понимании
художника рубежа ХХ–ХIХ вв.), однако у ибрагимовского реализма есть свои особенности: перед нами так называемый символический реализм с активным использованием возможностей
мифопоэтики. И это в художественной практике писателя выглядит вполне убедительно. Так, если использовать терминологию В.Я. Проппа, в романе мы вполне отчетливо можем проследить существование таких архетипических парадигм, как
«змей», «царевна», «герой» [Пропп, 1969].
Размышляя о том, как избранный художником метод
определяет специфику внутреннего мира его произведения, известный философ и литературовед Ю. Борев писал: «Каждое художественное направление создает свой тип художественного
произведения со своей моделью мира, выражающий художественную концепцию через различные смысловые пласты. В
каждом из них запечатлевается один из типов взаимодействия
человека с различными внутренними и внешними средами. Вот
почему произведение оказывается сложнее других феноменов
культуры. Сложность его объясняется и тем, что за художественным текстом стоят и реальность породившей его эпохи, и
реальность эпохи, современной реципиенту, и личность автора,
и то, что он хотел сказать, и то, что сказалось, и смысл темных
мест, сокрытых от прямого понимания. Социальное бытие произведения – бесконечное потребление его публикой, в процессе
диалога читателя и автора (вернее, авторской мысли, заключенной в тексте). Произведение, оставаясь самим собой, исторически меняется, вступая во взаимодействие с новым жизненным и
художественным опытом и обретая новые смысловые и ценностные характеристики. Каждым новым поколением оно прочитывается «свежими и нынешними очами». Различные прочтения художественного текста обусловлены тем, что его восприя-
тие протекает по принципу диалога автора и реципиента (читателя, зрителя, слушателя)» [Борев 2002: 45].
Однако вернемся к сказочной образности романа Канты
Ибрагимова «Прошедшие войны». Здесь мы находим Змеяпохитителя, вредителя и царевну – объект похищения: они являются традиционными сказочными персонажами. Сюжет похищения героини принадлежит к древним элементам сюжетного
языка мировой культуры. Литература, освобождая эти образы от
фантастических черт, как зооморфный облик змея, развивает
главным образом любовный аспект их взаимоотношений, сформированный еще в мифологии. В круг функций сказочного змея
В.Я. Пропп включил вредительство, бой с героем и преследование. Так, архетипические черты образа змеи имеют такие герои
романа, как Харон, второй муж Кесирт, (имени которого автор
не указывает): выкрал героиню и довольно отвратительно обращался с ней как с женщиной). Отчасти в роли змея выступает
Магомедалиев («…плотный немолодой мужчина в шикарном
двубортном шерстяном костюме, в лакированных туфлях, красивом галстуке и с орденом Ленина на широком лацкане»). Черты змея (в положительной коннотации) присущи и самому
Цанке (он выслеживает поздно ночью Кесирт у родника, увозит
из мужниного дома, когда героиня во второй раз овдовела, делает ее сначала тайной возлюбленной, затем второй женой).
Что касается образа самой царевны – Кесирт – то заметим,
что литературные «царевны» имеют меньше сходства, чем
«змеи». Так, например, литературные героини обычно не задают
трудных задач. Однако само их наличие в произведении является «трудной задачей» для героя-«змея», формой его испытания.
В отношении к героине раскрывается его характер, его человеческая состоятельность. В этом плане интересен эпизод из первой части романа, где в роли «змеи» выступает Шарпудин Цанциев, который, получив отпор, решил всеми возможными способами отравлять жизнь молодой безродной девушки. И, казалось бы, преуспел в своих планах. Он жестоко оскорбил девушку во время праздничного гуляния:
«А через несколько дней стало известно, что у подножия
Кхеташ-Корт у селения Цонтарой по требованию жителей села Дуц-Хоте во главе с Баки-Хаджи состоялся мехк-кхел по законам адата и шариата. По его решению Цинцаева Шарпудина
обвинили в оскорблении чести и достоинства девушки. БакиХаджи требовал выселения обвиняемого из родного села, однако суд старейшин наложил штраф в виде двух коров. Коров ни
Хаза, ни тем более Кесирт не приняли, тогда отец Цанка Алдум продал их на базаре Махкеты и отдал деньги, недолго сопротивлявшейся Хазе» [Ибрагимов 2004: 52].
Что касается «героя», то говорить о нем труднее всего.
Дело в том, что в сказке герой – центральное действующее лицо.
Он спасает царевну, вступает в противоборство со змеем, побеждает его. В литературе, как и в сказке, образуется треугольник: «герой» – «царевна» – «змей». Этот треугольник приобретает различное сюжетно-смысловое наполнение. Сложность при
интерпретации такого персонажа обусловлена тем обстоятельством, что не всякий литературный герой заключает в себе архетипические черты сказочного «героя», который в художественном тексте обладает особым комплексом функций и свойств,
выполняет в сюжете строго определенную роль, отличающую
его от других персонажей. М.Ч. Ларионова убеждена, что «типологическими признаками «героя» являются функции – поединок со «змеем», вступление в брак с «царевной» или стремление
к этому, спасение «царевны» от власти «змея»; свойства – стационарность в пространстве, временное отсутствие активности,
физическая или иная сила, застенчивость, «детскость» [Ларионова 2006:51].
В принципе, все вышеперечисленные функции и свойства
«героя» присущи образу Цанки Арачаева. Вот Цанка случайно
встречает на базаре Кесирт, у которой украли все заработанные
ею деньги:
«Оба не могли скрыть радости от встречи. Цанка, пытаясь показать себя взрослым, достал из кармана кисет, неумело закручивал самокрутку. Глубоко затянувшись, закашлялся.
– Ты смотри, какой взрослый стал, даже курить начал, –
шутила дочь Хазы, – бросай это дрянное дело. Терпеть не могу
этот запах. И к тому же тебе это не идет.
Пытаясь еще больше сразить девушку, Цанка все время
лазил за пазуху, желая, чтобы выпал револьвер. Это у него получилось.
– Ой, что это такое? – вскрикнула Кесирт.
Цанка, не вынимая из уголка рта цигарку, важно наклонился, с напускной невозмутимостью поднял с влажной земли
револьвер, не спеша, сунул на прежнее место.
– Зачем тебе эта штука? – не унималась Кесирт. – Мал
ты еще.
– Сама ты малышка, – важничал юноша» [Ибрагимов
2004: 107].
Здесь и надежда на брак с «царевной» – Кесирт, и возможное противоборство со «змеем» (по наущению обиженного
девушкой рыночного грузчика и были похищены деньги), надо
сказать неудачное, и проявление безусловной стеснительности и
«детскости». Следует заметить, что черты сказочного «героя»
присущи Цанке в эпизодах, в которых сюжетно значимо существование Кесирт. Со смертью героини повествование утрачивает сказочную доминанту, развивая в дальнейшем традиционный реалистический подход в изображении мира и человека в
этом мире. Так, другие женские образы решены в иной стилистической традиции: в строго реалистической мать Цанки – Табарк, его последняя жена – Густан; в ярко выраженных сатирических, гротескных чертах показаны другие жены Цанки – Дихант и Мадлена.
Однако во второй и третьей частях романа мы сталкиваемся еще с одним архетипическим образом – «помощника» (по
классификации В.Я. Проппа). Он действительно помогает Цанке
выжить во время этапа на золотоносные прииски (от обморожения они спасаются в лошадиной шкуре, потом Бушман помогает
герою в санчасти, а потом во время побега). Но уже после своей
гибели он является Цанке в виде духа-призрака, в самые трудные, переломные моменты в его судьбе и поддерживает, вселяя
в него надежду (пусть и такую же, как он сам, призрачную).
Однако эпизоды, связанные с взаимоотношениями Цанки и Андрея Моисеевича Бушмана реализуют иной идейнотематический пласт романа, связанный с метафизическими мотивами и теологическими воззрениями автора. Для нас же более
важными будут те сюжетные повороты, те проявления характеров героев, которые реализуют представления К. Ибрагимова о
национальной картине мира. Особое значение здесь играют отраженные в тексте, художественно осмысленные нравственные
законы (пришедшие из глубины веков, и исламские), по кото-
рым живут герои, которыми руководствуются они, осуществляя
свои действия. Код исламской культуры лежит иногда на поверхности, понятен и просто считывается, иногда, наоборот, он
чрезвычайно зашифрован, имплицитен, сложно доступен, но от
расшифровки его, поисков смысла и значения того или иного
символа идейно-художественное содержание романа становится более интересным, глубоким, притягательным.
По Г. Гачеву, каждая культура заключает в себе КосмоПсихо-Логос, т.е. единство национальной природы, склад психики и мышления, что в художественном тексте воплощается в
образах растительно-животного мира, нравах, обычаях, образе
жизни людей, поведения, особенностях мышления героев, своеобразии выражения авторского сознания [Гачев 1988: 40 – 41].
Интерес к проблеме национальной специфики того или
иного этноса растёт с каждым годом: данный вопрос ставится в
различных научных дисциплинах – философии, истории, социологии, политологии, культурологии, не в последнюю очередь, в
литературоведении. Это связано как с общемировыми центростремительными и центробежными тенденциями развития, так и
с глобальными структурными изменениями в самом российском
обществе конца XX – начала XXI века. Предпринимаются попытки взглянуть на собственную культуру как «изнутри», так и
«извне», «со стороны», поскольку категория «своего», «родного» конституируется в сознании путём сравнения, сопоставления с «чужим», «неродным», представления о котором составляют важную часть коллективной «картины мира». Тем или
иным образом эта оппозиция проявляется на протяжении всего
культурного развития каждого народа, выделяющего себя из совокупности всего человечества, однако границы между «своим»
и «чужим» текучи; они изменяются как в пределах каждой эпохи, так и – тем более – в историческом процессе. Наибольший
интерес в этом плане представляет бытийный пласт повествования. Вот эпизод сватовства Цанки к Густан:
«Цанка твердо решил жениться, тем более что все кругом его уговаривали. Каждую субботу в бане водхоза обсуждался этот вопрос, и наконец, когда Цанка дал согласие, появился целый список из двенадцати кандидатур – от восемнадцатилетней девушки до сорокадвухлетней девы. Никого из них
он не знал, просто был знаком. При выборе невесты для Цанки
было главным, из какого она рода и фамилии, и второе – чтобы
успела детей народить, но была не слишком молодая. В результате недолгих размышлений выбрал поистине золотую середину – тридцатилетнюю овдовевшую односельчанку, разнорабочую колхоза, круглую сироту Густан Мовтаеву – племянницу
покойного Макуша Мовтаева, сторожа школы в Дуц-Хоте»
[Ибрагимов 2004: 660].
Следует напомнить, что приблизительно из таких же критериев в выборе невесты исходил дядя Цанка, старый БакиХаджи, когда сватал за него Дихант. Однако выбор был сделан
дядей, а не племянником; брак был неудачным. Сам же юный
Цанка мечтал о Кесирт, и в то время его вовсе не мучили вопросы о ее происхождении, безродности и бедности. Неудачным
получился и скоропалительный брак с Мадленой (расчетливой
содержанкой похотливого Магомедалиева). Сейчас же, пройдя
через суровые испытания, герой понимает, что законы предков
разумны и именно их надо придерживаться.
Густан оказалась наиболее удачным для Цанки выбором.
Она, также пережившая немало бед, выстраивает свое поведение по тем же неписаным народным обычаям: «Не успел Цанка
сказать о своем решении, как молва полетела по округе. В тот
же день земляки организовали смотрины девушки в доме Шовхала. Сидели «молодые» друг против друга, оба смущались. А
Густан совсем опустила голову, низко склонилась. Смотрел
Цанка на девушку и видел, как краской зарделось ее худое лицо,
шея, уши, как нервно дрожат ее потрескавшиеся, огрубевшие
от тяжелой работы руки, как она прячет под стулом поношенные, порванные с краев калоши» [Ибрагимов 2004:660]. Вообще одежда очень важна в данном эпизоде. Она характеризует
Густан в большей мере, чем подробный рассказ о ее жизни. Так,
до Цанки дошел слух, что Густан всегда отказывалась надевать
чужие вещи, идя на смотрины:
«Он почти каждый день меня видит и знает, как я живу,
где живу, в чем хожу. Что я буду красоваться в чужой одежде,
а после свадьбы покажусь ему как есть? Нет! Он и так все
знает, – говорила бедная девушка» [Ибрагимов 2004: 661].
Так, через призму повседневности мы приходим к выводу
о высоких нравственных качествах молодой женщины. Вообще
вопрос о роли повседневности в формировании идейно-
художественного содержания произведения весьма актуален. С
начала XX века повседневная жизнь с ее привычностью и узнаваемостью для каждого человека вдруг становится предметом
изучения гуманитарных наук. Последние открыли для себя важность и значимость изучения повседневной жизни обычных людей. На рубеже веков Макс Вебер писал, что социология должна
заниматься типичными единообразными действиями людей с
«типически идентично предполагаемым смыслом». В научный
язык, благодаря, в том числе, и Веберу, входят новые термины,
такие как «понять», «интерпретировать», которые делают акцент на выяснении субъективных значений фактов и событий
для его участников. Современная философия и социология, чтобы объяснить современный мир, все чаще обращается к анализу
повседневных форм коммуникации, как само собой разумеющимся фактам и формам нашей жизни [Вебер 1990: 669].
Для российского общества изучение повседневности, специфики повседневной социальной практики людей имеет особое
значение в связи с распадом СССР и становлением новой постсоветской социальной действительности. Произошел распад
привычного образа мира. Л.Г. Ионин выделяет два важных
следствия этого распада. Во-первых, это массовая дезориентация, утрата идентификаций на индивидуальном и групповом
уровнях, а также на уровне общества в целом: «Мир для человека и человек для самого себя перестают быть прозрачными, понятными, знакомыми». Второе следствие – это «поиск новых
культурных моделей, призванных восстановить мир как целое,
пусть иное, чем раньше, но равным образом понятное и упорядоченное» [Ионин 2000: 231]. В этом плане небезынтересен уже
упоминавшийся нами ранее эпизод посещения Цанкой грозненского университета, после которого старик сделал вывод:
«Ваха, ты здесь больше ни дня не проведешь, – сделал вывод дед, – здесь хорошему не научат, это полная деградация…
Поехали домой» [Ибрагимов 2004: 693].
Как уже отмечалось, важным элементом в построении
национальной картины мира является пейзаж. В основе стремления художника создавать произведения искусства лежит интерес к человеку. Но каждый человек – это и личность, характер,
индивидуальность, и особая, только ему присущая внешность, и
среда, в которой он существует, и его дом, и мир вещей, его
окружающих. Идя по жизни, человек взаимодействует с близкими и далекими для него людьми, со временем, с природой…
И поэтому, создавая образ человека в искусстве, художник
словно бы смотрит на него с разных сторон, воссоздавая и описывая его по-разному. В человеке художнику интересно всё –
лицо и одежда, привычки и мысли, его жилище и место службы,
его друзья и недруги, его отношения с миром людей и миром
природы. В литературе такой интерес принимает особую художественную форму, и чем глубже вы сможете изучить особенности этой формы, тем полнее откроется вам содержание образа
человека в искусстве слова, тем ближе станет вам художник и
его взгляд на человека. В литературоведении различаются три
вида художественных описаний: портрет, пейзаж и интерьер. Но
подчеркнем, что и то, и другое, и третье главной задачей ставят
именно изображение человека. Пейзаж (фр. рaysage от pays,
местность, страна) в искусстве – художественное изображение
природы. Говоря точнее, это один из видов художественного
описания или жанр изобразительного искусства, основной
предмет изображения в котором – природа, город или архитектурный комплекс.
В литературе пейзаж – одно из важнейших средств раскрытия авторского замысла, которое подчиняется как требованиям литературного направления (романтический пейзаж, сентименталистский пейзаж, натуралистический или символистический пейзаж и т.д.) или жанра (городской, морской, сельский,
индустриальный пейзаж и т.п.), так и целям автора: раскрыть
состояние героя, противопоставить окружающий мир человеческим убеждениям, установить композиционные связи между
элементами произведения, отразить загадку природы и ее отчужденность от цивилизации и т.д. Пейзаж может выполнять и
более сложную, символическую, многозначную функцию, становясь отправной точкой или фокусом авторских идей, воплощая философские взгляды автора на мир и человека. Пейзаж в
литературе есть постижение «языка» природы посредством образного слова. Кроме того, пейзаж играет огромную роль как
прием в геопоэтике. Согласно определению В.В. Абашева,
геопоэтика – это «специфический раздел поэтики, имеющий
своим предметом как образы географического пространства в
индивидуальном творчестве, так и локальные тексты (или
сверхтексты), формирующиеся в национальной культуре как результат освоения отдельных мест, регионов .... Так в русской
культуре есть геопоэтические образы-тексты Петербурга и
Москвы, Крыма, Кавказа, Сибири, Урала, Поморья и т.п.»
[Абашев 2006: 17].
Актуализация геопоэтического подхода в литературе в
2000-е гг. связана, в первую очередь, с ситуацией в политике и
культуре современной России. С распадом СССР многонациональный и мультикультурный Союз остался в прошлом и стране
пришлось искать новую идею, новый культурный образ, который подчеркивал бы ее уникальность в целом. В то же время –
уникальность каждого региона в отдельности. Начиная с 2003 г.
в стране все более обозначился курс на сильное государство с
сильными регионами. «Регионы обрели законное право формировать культурный ландшафт России за счет актуализации собственных ландшафтов. Образы географического, этнографического и культурного характера (в том числе предложенные литературой) стали для многих городов и областей имиджевыми.
В своей совокупности они предстали как культурный капитал,
который работает на привлечение прямых инвестиций в регионы из центра и зарубежья и влияет на общее процветание страны. Современная литература в силу мощной PR-функции получила для развития в регионах дополнительное основание» [Подлубнова 2009: 64].
В этом плане функции пейзажа в романе Канты Ибрагимова «Прошедшие войны» представляют серьезный исследовательский интерес. Вот значимый для идейно-художественного
содержания романа эпизод: Баки-Хаджи отправляется со своим
племянником на другую сторону ущелья:
«Они с большими усилиями, цепляясь за мелкие кустики и
каменистые утесы, взобрались на скалу. Здесь была небольшая,
чуть покатая каменистая полянка, местами поросшая пожелтевшим за зиму мхом.
– Я всегда любил здесь стоять и любоваться красотой
долины.… Смотри, какая прелесть! – говорил неровным после
подъема голосом Баки-Хаджи, прикрыв ладонью глаза от ослепительного солнца, взошедшего за горами.
– Сегодня воздух чистый, прозрачный – все видно… А знаешь, Цанка, даже в пасмурную погоду приятно любоваться
окружающим миром.
Юноша восхищенно, с затаенным дыханием смотрел
вниз, по сторонам. За каменными выступами гор не видно было
ни истока родника, ни мельницы, только маленькие, как игрушки, чернели неуклюжие дома Дуц-Хоте. Под яркими лучами восходящего солнца мир стал еще краше, живее. Темно-бурые на
рассвете леса вдруг стали девственно зелеными. Покатая равнина междуречья Вашандарой пестрела красками цветов: белыми, желтыми, фиолетовыми; там, в беспорядке паслись коровы, а вдалеке, как белый продолговатый жук, ползла отара
овец.
– Вон, видишь, вдалеке за вершинами, в долине, раскинулось Шали, а наших ближних сел из-за гор не видно, – говорил
мулла, оглядываясь по сторонам.
– Посмотри, Цанка, сколько красивых мест у нас, прямо
рай, а живем все равно плохо: все воюем, то с пришельцами, то
сами с собой… Да, эту землю наши предки отстояли и сохранили для нас, и мы должны беречь ее для вас и будущих поколений…. Правда, времена настали страшные, эти безбожники не
дадут нам жить здесь спокойно.… Были бы земли скудные –
никто нас не трогал бы» [Ибрагимов 2004: 83 -84].
Геопоэтический образ горной Чечни раскрывается в этом
эпизоде с максимальной полнотой: речь идет не только об изображении явных красот Вашандаройского ущелья, но и о том
обобщающем, многозначном футурологическом выводе, который сделал старый Баки-Хаджи.
Г. Садулаев в журнале «Континент» в статье «Проза о чеченской войне: литература как универсализация опыта» писал:
«Человечество нуждается в универсализации опыта. То есть в
том, чтобы опыт индивида, особенно, если он уникален и ценен,
становился до известной степени всеобщим опытом…
Традиция также фиксирует образцы опыта, закрепляет
и транслирует путем предписания к подражанию и повторению. Но не только человек, а и все живое вещество, наделенное
сознанием, стремится к универсальному опыту. Некий набор
установок изначально предпослан каждому живому существу в
виде инстинктов, рефлексов, смутной памяти видового прошлого, архетипов. Следует вывод, что универсализация частного опыта в той или иной форме есть свойство сознания как
такового» [Садулаев, 2009].
Воплощенный в художественные произведения жизненный опыт К. Ибрагимова становится частью опыта читателей –
его современников. В этом плане важно понимание того, что его
книги обращены, в первую очередь, к российскому читателю. К.
Ибрагимов апеллирует как к русскому, так и к чеченскому читателю на равных: писатель участвует в сверх-историческом проекте универсализации опыта как своего личного, так и опыта
других.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современной философской, культурологической и психологической литературе значительное внимание уделяется изучению ментальности вообще и этноментальности, в частности.
Изучение этноментальности является культурологическим индикатором состояния общества. Актуальность исследования
проблемы ментальности обусловлена совокупностью причин,
важнейшей среди которых является потребность понять общество, в котором живешь, а также потребность понять специфику
истории этноса, а тем самым и осознать себя. Современные
сложные социальные, этнополитические, культурологические
процессы, происходящие в России, а также в ее регионах, в том
числе и на Северном Кавказе, приковали общественное внимание к сложным проблемам, связанным с этнической психологией, самосознанием, проявляющимся в этнонациональных и
межнациональных взаимоотношениях. Именно поэтому проблема единства и многообразия человеческого в человеке, особенности национальной самоидентификации вызывают как теоретический, так и важный практический интерес. Наиболее полно проблемы ментальности реализуются в произведениях художественной литературы. Чеченскими писателями на протяжении
всего ХХ века был создан ряд произведений, в которых они художественно воплотили свои представления об особенностях
национального характера чеченца, запоминающиеся картины
кавказской природы, с характерными для нее вертикалями, естественными для горных пейзажей. Большое внимание уделялось
и социальной истории Чечни, этноментальным основам. Иными
словами, была создана уникальная развернутая образная система, раскрывающая особенности национальной ментальности. И
это является закономерным процессом, так как художественные
образы формируют складывающуюся в литературе каждого
народа национальную картину мира. Конечно, в творчестве писателей художественная картина мира неизбежно приобретает
субъективно-личностную окраску, однако у писателей с разви-
тым национальным самосознанием базовые характеристики
возникающей в их творчестве картины мира отражают общие
свойства сознания этноса. Подобно языковой картине мира,
национальный образ мира в художественной литературе является вербальным (и образным) выражением этнического менталитета и может воспроизводиться подсознательно. Именно таким
писателем с развитым национальным самосознанием является
Канта Ибрагимов. Его романы, адресованные как чеченским, так
и российским читателям, повествуют об истории чеченского
народа, об особенностях его труда (земледелие и скотоводство в
довольно сложных условиях гористой местности), о природе,
которая, безусловно, является важным – если не базовым –
участником формирования менталитета, об обычаях, кодексе
чести, этических законах поведения в семье, в сельской общине,
в условиях боевых действий.
В данном контексте следует актуализировать такую
мысль: Канта Ибрагимов, его предшественники и современники
своим творчеством участвовали и участвуют в создании этнической культуры народов Северного Кавказа, которая является
неотъемлемой частью духовной культуры современного человечества. Поэтому исследование вопросов формирования национального самосознания имеет исключительно важное научнотеоретическое значение. Известный исследователь проблем
национальной идентификации Ф.С. Эфендиев в монографии
«Этнокультура и национальное самосознание» заметил: «Этнопсихологические и этнокультурные исследования позволили заметить две общие тенденции в развитии национального самосознания горцев Северного Кавказа: с одной стороны, нововведения в связи с демократизацией общества и распространением
массовой культуры Запада интенсивно обогащают духовный
мир личности и в целом этноса. Общечеловеческие культурные
ценности активно воздействуют на формирование и изменение
этнической культуры и национального самосознания. С другой
стороны, наблюдается сокращение влияния этносоциальных и
этнокультурных предпосылок на развитие национального самосознания. Этническое сознание народа претерпевает изменение.
Первая тенденция считается закономерной, прогрессивной, так
как она обусловлена объективным ходом развития человечества.
Вторая вызывает опасения» [Эфендиев 1999: 5].
Национальный характер любого народа генетически обусловлен длительным эволюционным процессом. Особенности
психического склада, типы мышления определяются не только
исторически сложившимися традициями, социальной средой и
воспитанием, но также наследственными задатками. «В каждой
нации, – писал Ф.Х. Кессиди, – представлены все типы темпераментов, разновидности склада ума и восприятия окружающей
действительности... Более того, национальный характер не сводится просто к психическим особенностям народа, которые
встречаются у него чаще всего. Национальный характер есть
неповторимое сочетание отличительных черт данной нации. Такая черта характера как вспыльчивость свойственна грекам, грузинам и испанцам, но греки, грузины и испанцы – разные нации.
Терпением отличаются не только русские, но и китайцы. Словом, каждая нация – это своего рода индивидуальность, живая
целостность, главными признаками которой являются особенности психического склада и типов мышления» [Кессиди 1996:3637]. Об этом писал Н.О. Лосский: «Природная оригинальность и
мощь народного характера обеспечивает ему хранение своеобразного национального лица... В деле хранения и развития
национального своеобразия, кроме природной мощи народа,
нужно еще содействие национального воспитания и образования» [Лосский 1990:44]. По его мнению, главным средством
воспитания должно быть интеллектуальное и эмоциональноволевое вживание в саму конкретную жизнь, в содержание
национального характера, национального творчества.
Следует заметить, что в произведениях известных чеченских писателей ХХ века С. Бадуева, С. Арсанова, М. Мамакаева,
Х. Ошаева, А. Авторханова, Ш. Окуева, А. Айдамирова, И. Эль-
санова, М. Мутаева, С. Яшуркаева, С.-Х. Нунуева, Л. Куни художественно достоверно раскрыты этнопсихологические черты
народа, показаны закономерности формирования и развития
национальных черт характера. «У каждого народа есть свой
особый духовный внутренний мир, отражающий его социальные, географические, этнические, языковые и другие особенности, – писал В.Д. Попов. – Душа народа – это его общественная
психология, то есть включающая такие всеобщие обоснования
душевной жизни каждого человека, которые формируют его
национальный характер, традиции, обычаи, нравы, привычки. И
чем лучше психологическое здоровье народа, тем он сильнее
духом» [Попов 1989: 25].
Каждый народ сейчас стремится выразить свое национальное достоинство, чувство национальной гордости, сохранить духовные ценности и возродить их, если они были частично утрачены, поэтому в северокавказском регионе уже приняты
некоторые меры по защите национальных меньшинств и их духовно-культурных ценностей. Духовное, культурное наследие
горцев Северного Кавказа уникально и является важной и
неотъемлемой частью национального российского и мирового
духовного богатства. Национальное самосознание – не плод
биологического взаимодействия человека с окружающим миром, а сложная система духовного процесса, детерминированного и взаимообусловленного, постоянно изменяющейся динамичной реальностью. Изменяющаяся реальность в самых разных сферах национального бытия влияет на человека, его национальное самосознание.
Ф.С. Эфендиеву принадлежит такое наблюдение: «В процессе своего исторического развития национальные литературы
народов Северного Кавказа в своем ключе отразили социальнокультурные процессы, происходившие в стране и в мире. Большое значение писатели придавали вопросам социальной памяти
и, опираясь на принцип историзма, старались художественно
осмыслить истоки национального характера, показать, какими
историческими обстоятельствами он обусловлен. Опираясь на
действительность и используя разнообразные средства языка,
они художественно отразили и социально-культурные процессы, повлиявшие на формирование национального самосознания,
почему, так или иначе, складывалась судьба героя, его счастливая или трагическая жизнь. Художники слова никогда не отходили от социально-культурной проблематики. Проблема социальной памяти довольно четко прослеживается в литературном
процессе последних лет. Почему сейчас так остро ставятся вопросы, связанные с социальной памятью? Во-первых, потому,
что каждое национально-этническое образование составляет
неотъемлемую часть общечеловеческой популяции, а разнообразие самобытных национальных культур, языков, обычаев и
традиций является основой жизненности этноса и человеческого
сообщества в целом. Земля для каждого народа, где он живет,
является «биохрамом», и в едином этническом пространстве
формируются духовно-нравственные ценности и чувство родины. Поэтому в памяти людей всегда существовали и существуют такие понятия, «как отчий край», «родная земля», «Родина»,
«Отечество», «этническая колыбель предков» и др. В них отражаются природно-ландшафтные, социально-экономические и
духовно-нравственные ценности родного народа. Сокровенная
любовь людей к своей колыбели, привязанность к родному
краю, традициям и обычаям своего народа – все это является
непреходящим социальным феноменом» [Эфендиев 1999: 2627].
Филологический анализ текстов чеченской прозы позволяет сделать вывод: художественное слово и его корневые основы содержат в себе основополагающие идеи национального мировидения. Национальные, этнические образы мира открываются в сложной символике родного языка, того языка, в котором
закодированы главные ценностные ориентиры этноса.
Этноментальные основы чеченской литературы не воспринимаются нами в узко локальном значении. Рассматривая
комплекс филологических, эстетических, исторических и философских и моральных проблем, обусловливающих своеобразие
чеченской литературы, мы стремились раскрыть «зашифрованные» в этноментальной структуре национальной прозы пути и
способы успешного решения нашими предками личных и национальных проблем.
В качестве архетипических форм рассматриваются образцы устного народного творчества, традиции «илли, узамы,
эшарш», запечатлевшие взлеты и борения народного духа и выработавших уникальный эстетический «инструментарий» познания чеченцами мира. Чеченская ментальность трактовалась
нами как многомерное явление национального мировосприятия.
Литературное наследие осмыслено в общечеченском этнокультурном и художественно-эстетическом контексте.
Невозможность анализа памятников литературы чеченского зарубежья обусловлена крайней недоступностью материала. Важное место отведено исследованию филологических и эстетических особенностей творчества видных чеченских прозаиков С. Бадуева, И. Эльсанова, С. Яшуркаева, Л. Куни, К. Ибрагимова и др. В ходе исследования был дан критический анализ
точек зрения многих ученых, так или иначе затрагивающих существо рассматриваемой нами темы. Вклад, внесенный историками, филологами, литературоведами, этнографами, философами, занимавшимися исследованием чеченской культуры, стал
отправным пунктом и основой нашей работы. Освоение многих
проблем стало возможным благодаря трудам ведущих исследователей чеченской литературы: Ю. Айдаева, Х. Туркаева, К.
Гайтукаева, М. Завриева, И. Мунаева, Т. Джамбековой, О.
Джамбекова, Г. Индербаева, Л. Довлеткиреевой, М. Исмаиловой
и др.
Писатели воспринимают духовную целостность этноса
как проявление жизнестойкости его. Понятие семьи, родины,
дома, отчизны, веры и языка значимы для всех народов: объединяет разные этносы гораздо больше, чем их разделяет. Но сам
фактор культурно-исторической общности разных национальных культур изначально предполагает не унификацию этих
культур, а самостоятельное их хронотопическое развитие.
Мы не ставили перед собой цели полно отразить все проявления ментальности чеченского этноса. Это тема для другого
научно-исследовательского труда. Но наши наблюдения проявления национальной ментальности в творчестве наиболее ярких
представителей чеченской прозы позволяют выделить самые
важные ментальные свойства этноса, запечатленные в художественных образах.
Первостепенное значение имеет многомерность понятия
природы отчего края (1алам). Именно природа, как сопутствующий, вневременной и постоянно действующий фактор, аккумулирует в себе «лицо /къоман юьхь/» этноса. Родной язык воспринимается писателями как голос этой природы в человеке.
Для чеченцев также архетипичным и ментально формирующим является все, что связано с горой (ЛАМ). Суммируя
художественно-философский опыт многих литераторов, можно
констатировать, что для чеченцев гора (лам) воплощает своеобразную вертикаль идеи бытия. Устремленность горы к небу метафорически воспринимается как связь между небом и землей,
осязаемым, привычным (питающим, принимающим в себя) и
потусторонним, неведомым, загадочным, манящим.
Мы считаем, что ядром нашей ментальности является любовь к жизни во всех ее проявлениях. Важнейшей константой
ментального единства чеченских прозаиков является их общее
стремление (это, кстати, характерно для всех северокавказских
писателей) – исследовать национальную «архаику». Интерес
к мифоэпическому творчеству народа, прослеживающийся у
большинства исследованных нами чеченских авторов, свидетельствует о том, что дойти до осмысления национальных корней можно лишь при погружении в древность своего народа, в
ее многовековую историю. Идеи национальной консервативности и традиционализма органично сочетаются художниками с
необходимостью исторического сближения различных культур.
Исходя из этого, писатели продуцируют в сознании своих читателей-соплеменников требовательность в оценке процессов глобализации современного гуманитарного пространства. Глубокое
осознание многовариантности взглядов на все и про все, права
любого на свой взгляд приводит писателя к выводу, что неповторимость чеченского мировидения не исключают других
национальных взглядов на общие для всех людей понятия и явления.
Проведенное нами исследование этноментальных основ
чеченской прозы в контексте общероссийского и мирового литературного пространства позволяет констатировать, что язык
предков является символом исторической памяти и залогом этноментального здоровья литературной культуры, а также и общества в целом.
В последнее время отмечается значительный интерес к
развитию общественного самосознания на Северном Кавказе.
Серьезное решение философских проблем связанных с самосознанием, развитием этноса, ее целеполаганий рассматривается в
ряде работ чеченских ученых (В.Х. Акаев, В.Ю. Гадаев, А.С.
Тепсаев, А.Д. Яндаров, Л. Ильясов, Т. Мазаевой, М. Керимова и
др.). Все вышесказанное дает нам право утверждать, что начатая
нами разработка проблемы этноментальных основ чеченской
прозы актуальна и нуждается в дальнейшем изучении.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абашев В.В. Геопоэтический взгляд на историю литературы
Урала // Литература Урала: история и современность. Екатеринбург,
2006. – 17-30 c.
2. Абдурахманов А.М. Сатирико-юмористический рассказ в системе фольклора и литературы Дагестана и Северного Кавказа // ХХ
столетие и исторические судьбы национальных художественных культур: традиции обретения, освоение: Материалы Всероссийской научной конференции. 11 – 16 октября 2000 г. – Махачкала, 2003. – 364 c.
3. Абуков К.И. На посту. – Махачкала, 1979. – 156 с.
4. Агаев А.Г. Нациология: Философия национальной экзистенции. – Махачкала: Изд-во ДГУ, 1992. – 186 c.
5. Акавов З.Н., Акавов Р.З. История кумыкской литературы Нового времени в культурно-историческом освещении. – Махачкала:
ДГПУ, 2009. – 351c.
6. Акавов З.Н. Диалог времен. Махачкала, 1996. – 229c.
7. Акаев В.Х. Национальная идея чеченцев. – Грозный, 2005. –
85 c.
8. Акаев В.Х., Керимов М.М. Ислам в Чечне. – Грозный, 2006.–
72 с.
9. Алиева С. Достоинство. Лит. Газета от 27 октября 1989 г. №
31.
10. Алироев И.Ю. Чеченский язык. – М.: Академия, 2001. – 147 с.
11. Алироев И. История и культура чеченцев и ингушей. – Гроный, 1994. – 205 с.
12. Антология литературы народов Северного Кавказа. В. 5 т.
Том 1. «Поэзия». Часть первая. Сост. А.М. Казиева. – Пятигорск. Издательство ПГЛУ. 2003. – 1120 с.
13. Антропоцентрическая парадигма в филологии. В 2 ч./ ред.сост. Л.П. Егорова. – Ставрополь, 2003. Ч.1. – 561 с. Ч.2. – 410 с.
14. Ардасенов Х.Н. Очерки истории осетинской советской литературы. – Орджоникидзе, 1967. – 240 с.
15. Арcалиев Ш.М-Х. Этнопедагогика чеченцев. – М.: Гелиос
АРВ, 2007.– 384 с.
16. Арсанукаев М. Нохчийн литература хьехаран методика (Методика преподавания чеченской литературы). – Грозный, 1987. – 188 с.
17. Арутюнова Н.Д. Образ, метафора, символ в контексте жизни и
культуры / Res philologica филол. исследования. Ред. Д.С. Лихачев. –
М.; – Л., 1990.
18. Асхабов И.А. Чеченское оружие. – М.:Клуб «Кавказ», 2001. –
240 с.
19. Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен до конца
18 века. – М., 2001. – 426 с.
20. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 608 с.
21. Баглиева А.З. Социокультурная дисперсия менталитета в полиэтническом пространстве Дагестана в условиях глобализации.
Афтореф. дисс. доктора философ наук. – Махачкала, 2009. – 4- 5 с.
22. Бадаев С.-С.С. Чеченская диаспора на Среднем и Ближнем Востоке: история и современность. – Нальчик, 2008. – 316 с.
23. Баков Х.И. Национальное своеобразие и творческая индивидуальность в адыгской поэзии. – Майкоп, 1994. –252 с.
24. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худож.
лит., 1975. – 502 с.
25. Баткин А.Л. Методологический статус диалога в историческом
познании. – М., 2003. – 81 с.
26. Бекизова Л.От богатырского эпоса к роману. – Черкесск, 1974.
288 с.
27. Берков П.Н. К спорам о судьбах языков и литератур «малых»
народов //Пути развития советской многонациональной литературы. –
М.: Наука, 1967.
28. Бибулатов Н.С. Чеченские имена. – Грозный, 1991. – 137 с.
29. Блисковский З.Д. Название всегда важно. – М., 1962. – 52 с.
30. Блисковский З.Д. Муки заголовка. – М.: Книга, 1972. – 157 с.
31. Борев Ю.Б. Эстетика. – М.: Высш. Школа. 2002. – 256 с.
32. Бурсов Б.И. Национальное своеобразие русской литературы. –
М.: Советский писатель, 1967. – 395 с.
33. Вопросы эстетики и фольклора и литератур чеченцев и ингушей/ Сб. научных трудов ЧИИИСФ. – Грозный, 1985. – 104 с.
34. Гайтукаев К. В пламени слова. Критические статьи и исследования. – Грозный, 1989. – 223 с.
35. Газета «Чечня». №5, 2006. – 1-2 c.
36. Гамзатов Г.Г. Национальная художественная культура в калейдоскопе памяти. М., 1996. – 420 с.
37. Гасанова З.И. Кавказский горный менталитет в изображении
русской литературы XIX века. Автореф.дис.канд.филол.наук. – Махачкала, 2009. – 23 c.
38. Гачев Г. Национальный космос // Современная драматургия.
1990. № 2.
39. Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. –
М., 1995 (2007). – 480 с.
40. Гачев Г.Д. Наука и национальная культура: гуманитарный
комментарий к естествознанию. – Ростов-на-Дону, 1992.
41. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Евразия – космос кочевника, земледельца и горца. – М., 1999. – 368 с.
42. Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. – М., 1959. – 486 с.
43. Губанукаева М.М. Фольклорное и художественное мировидение С.-Б. Арсанова в контексте формировании и развития чеченской
прозы //Автореф. дис. канд. филол. наук. – Майкоп, 2006. – 24 с.
44. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: АСТ, 2006. –
512 с.
45. Гуревич А. Я. «Эдда» и сага. – М., 1979. – 192 с.
46. Гуревич А.Я. Диалектика судьбы у германцев и древних скандинавов. – М.,: Наука, 1979. – 212 с.
47. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. –
М.: Искусство, 1981 (М., 2002). – 359 с.
48. Гуревич А.Я. Средневековый купец //Одиссей. Человек в истории. (Личность и общество). – М., 1990. – 224 с.
49. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1998
(М., 2001).
50. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1999 (М., 2003). – 342 с.
51. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990. – 396 с. (М., 2005).
52. Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов» – М.,
1993 (М., 2000). – 236 с.
53. Гуревич П.С. Философия человека. – М., 2001. – 213 с.
54. Дагестанская литература: Закономерности развития (1965–
1985). – Махачкала: ДНЦ РАН, 1999. – 456 с.
55. Далгат У.Б. Литература и фольклор. Теоретические аспекты. –
М.: Наука, 1981. – 303 с.
56. Далгат У.Б. Этнопоэтика в русской прозе 20–90-х годов ХХ
века (Экскурсы). – М., РАН, 2004.
57. Дахкильгов И.А. Ингушская литература (период развития до
40-х годов). – Грозный, 1975. – 186 с.
58. Джамбеков О.А. Жанровые и поэтические особенности чеченских героико-исторических песен илли // Автореф. дис. канд. филол.
наук. – Майкоп. 2008. – 24 с.
59. Джамбекова Т.Б. Фольклор как источник чеченской прозы ХХ
века. – Майкоп, 2010. – 236 с.
60. Джамбекова Т.Б. Роль фольклора в эволюции чеченской прозы
ХХ века // Автореф. дис. докт. филол. наук. – Майкоп, 2010. – 48 с.
61. Довлеткиреева Л.М. Современная чеченская «военная» проза:
историко-культурный контекст, жанровый состав, поэтика (1990–2010
гг.)// Автореф. дис. канд. филол. наук. – Махачкала, 2010. – 22 с.
62. Дубов И.Г. Феномен менталитета: психологический анализ //
Вопросы психологии, 1993, № 5. – 20–41с.
63. Егорова Л.П. Актуальные проблемы литературного Кавказоведения // Художественная литература и Кавказ. Сочи, 2006. – Сочи:
СГУТ и КД, 2006. – 12–21 с.
64. Егорова Л.П. Актуальные проблемы литературоведческой
имагологии //Сборник материалов научно-практической конференции
«Художественная литература и Кавказ». Сочи: СГУТ и КД, 2008. – 31–
40 с.
65. Егорова Л.П. Литературоведческие аспекты имагологии (инновация и традиция) // Известия ЮФУ. Филологические науки. – Ростов-на-Дону. – 2007. – № 1-2. – 393 с.
66. Егорова Л.П. Творческая индивидуальность писателя: проблема дефиниций. // Творческая индивидуальность писателя: теоретические аспекты изучения: Сборник материалов Международной научной
конференции. – Ставрополь, СГУ, 2008. – 296 с.
67. Жидков В. Соколов К. Искусство и социокультурная стратификация
общества.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа
:http://www.narcom.ru/ideas/common/65.html).
68. Завриев М. В поисках художественного метода. Критические
статьи. – Грозный, 1988. – 66 с.
69. Западное литературоведение XX века: Энциклопедия (под ред.
Цургановой Е.А.) ntrada, ИНИОН РАН, 2004. – 560 с.
70. Ибрагимов Л. Толковый словарь чеченских фразеологизмов. –
Грозный, 2005. – 128 с.
71. Ильясов. Л. Культура чеченского народа. – М., 2009. – 264 с.
72. Инаркаева С.И. Эволюция жанров «малой прозы» в современной чеченской литературе: //Автореф. дис. канд. филол. наук. – Майкоп, 1999. – 18 с.
73. Индербаев Г.В. Роль художественного конфликта в становлении, развитии и современном состоянии чеченской драматургии
//Автореф. дис. канд. филол. наук. – Майкоп, 2009. – 24 с.
74. Индербаев Г.В. Проблема национального и общечеловеческого в чеченской литературе. Приложение к литературнохудожественному журналу «Вайнах» № 5, 2003;
75. Ионии Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. –
М.: Логос, 2000. – С. 231.
76. Ионин, Л.Г. Социология культуры: учеб. пособие для вузов /
Гос. ун-т. – Высшая школа экономики. – 4-е изд. – М.: Изд. дом ГУ
ВШЭ, 2004. – 427 с.
77. Исаев Э.А. Вайнахская этика. Электронный ресурс. Режим доступа: http://zhaina.com/2007 /05/11/vajnahskaja_etika.html
78. Ислам в Чечне. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://dumm.ru/new3/
79. Исмаилова М. В. Проблемы традиций и жанровые разновидности в чеченском романе 80–90-х годов ХХ века. // Автореф. дис.
канд. филол. наук. – Майкоп, 2007. – 21 с.
80. История дагестанской советской литературы в 2-х томах. Махачкала: Даг. ФАН. СССР, Т. 1. – 418 с Т.2. – 499 с.
81. История и современность в литературах Северного Кавказа.
(Межвузовский сборник статей). – Орджоникидзе, 1980. – 134 с.
82. История ментальностей. Историческая антропология: Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. / РАН, Ин-т всеобщей
истории; Рос. гос. гум. ун-т. – М., 1996. – 254 с.
83. История русской литературы XX века. Советская классика. Егорова Л.П., Чекалов П.К. – Москва-Ставрополь, 1998г. – 302 с.
84. История советской многонациональной литературы в шести
томах. М.: Наука, 1970–1974. Под редакцией Г.И. Ломидзе и Л.И. Тимофеева. Т.1 – 564 с. Т.2, кн.1 – 512 с. Т.2, кн. 2 – 560 с. Т. З – 632 с.
Т.4. – 664 с. Т.5 – 840 с. Т.6 – 744 с.
85. Кантор В.К. «…Есть европейская держава…». Россия: трудный путь цивилизации. – М., 1999. – 342 с.
86. Касевич В.Б. Каренские языки. – Л. – 1990.
87. Кассиев Э.Ю. Литература народов Дагестана. История советской многонациональной литературы: В. 6 т. Т.1. – М.: Наука, 1970.
317–327с.
88. Кессиди Ф.Х. Об одной особенности менталитета древних
греков // Вопросы философии, 1996, № 2. – 42- 54 с.
89. Кессиди Ф.Х. Народ и нация // Философия социологической
мысли. – Киев, 1992. № 6. – 36-37 с.
90. Кожинов В.В. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры
литературы. – М, 1964. – 408 – 485 с.
91. Кокурхаев К.-С.А.-К. Общественно-политический строй и
право чеченцев и ингушей (вторая половина XIX – начало XX в.). –
Грозный, 1989. – 110 с.
92. Конрад Н.Н. Запад и Восток. – М.: Наука, 1972. – 496 с.
93. Корзун В.Б. Литература горских народов Северного Кавказа
(дооктябрьский период). – Грозный, 1966. – 129 с.
94. Корзун В.Б., Мальсагов Д.Д., Ошаев Х.Д. Основные этапы
развития чечено-ингушской советской литературы (очерк истории чечено-ингушской литературы. – Грозный, 1963. – 8-38 с.
95. Коркмазов А.Ю. Этнополитические процессы на Северном
Кавказе. – Ставрополь: Изд-во Ставроп. ун-та, 1994. – 188 с.
96. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология.
Курс лекций. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.
97. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: Миф или реальность?
М.: ИТДГК Гнозис. – М. 2003. – 375 с.
98. Краткая литературная энциклопедия под ред. А.А. Суркова.
М.: Сов. энциклопедия, 1971. – 457 с.
99. Крачковский И.Ю. Арабская литература на Северном Кавказе.
Избранные сочинения. М.–Л., Изд-во АН СССР, 1960, т. 6. – 611–612
с.
100. Куклин И. «И говорил с ними…»: три интервью о возрождении жанра притчи в современной литературе [Электронный ресурс] //
Text only: сетевой журн. – 1999. – Вып. 2.– URL:
http://www.vavilon.ru/textonly/issue2/ parables.htm (08.09.10).
101. Культурная диаспора народов Кавказа: генезис, проблемы
изучения. Сб. ст. (редкол.: Надъярных Н.С., Бекизова Л.А. и др.). Материалы международной научной конференции. – Черкесск, 1993. –
530 с.
102. Купреянова Е.Н., Макогоненко Г.П. Национальное своеобразие русской литературы. – Л. 1976. – 414 с.
103. Кусаев А.Д. Писатели Чечни. – Грозный, 2005. – 408 с.
104. Лавлинский Е. Чечня – индикатор состояния российского
общества
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http//www.konkretno.ru.
105. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живём //
Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990 (2004). – 387 – 416 с.
106. Лакофф Д. Женщины, огнь и опасные вещи: что категория
языка говорит нам о мышлении. М., 2004. – 792 с. Электронный ресурс. Режим доступа: http://store.chemport.ru.
107. Ларионова М. Миф, сказка и обряд в русской литературе
XIX века. – Ростов-на-Дону: изд-во РГУ, 2006. – 255 с.
108. Лаудаев У. Чеченское племя. В сб.: «Чечня и чеченцы». –
Элиста, Санан, 1990. – 75–106 с.
109. Ленин В.И. ПСС. Т 48.
110. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. – М. 1999.
111. Литература народов СССР. Хрестоматия. Составитель Климович Л. М. Просвещение. 1979 г. – 448 с.
112. Литература народов Северного Кавказа: Учеб. пособ. / Под
ред. Г. М. Гогиберидзе. – Ставрополь, 2004. – 292 с.
113. Литературные направления и стили. Сб. ст. (редкол.: Николаев П.Л., Руднева Е.Г.). – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 389 с.
114. Литературный энциклопедический словарь под ред. В.М.
Кожевникова, П.А. Николаева. М.: Сов. Энциклопедия, 1987. – 378 с.
115. Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. – 1968. - № 8. – 74- 87с.
116. Лосский Н.О. Интуитивизм. – М.: Прогресс, 1992. – 150 с.
117. Лосский Н.О. Ценность и Бытие. М.: АСТ, 2000. –207 с.
118. Ж. Люб'е и Р. Мандру. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.ppsychology.ru /yetnicheskaya_
psihologiya/mentaljnostj_kak_integraljnyj_yetnopsihologicheskij_priznak_
nacij
119. Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х т.– Т. 1.:Статьи по семиотике и типологии культуры. – Таллин: Александра, 1992. – 480 с;
120. Ляшева Р. Точка бифуркации М., 2007. – 133 с.
121. Маканин В. Кавказский пленный. М.: Панорама, 1997. – 480
с.
122. Макаренко В.П. «Свой-чужой»: концепт русской власти //
Политическая концептология, 2010, № 2. – 130- 174 с.
123. Макаров А.Н. Литературно-критические работы: В 2-х т. М.:
Художественная литература, 1982. Т. 1. – С. 378
124. Мелетинский Е.М. Народный эпос. – В кн.: Теория литературы. – M.: Наука, 1964. – 50-96 с.
125. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – M.: Наука, 1976. – 407с.
126. Микутавичюс Р. Католицизм и национальный менталитет
//Сов. этнография. 1991. № 1.
127. Михина Е.М. Размышляя о семинаре // Одиссей. 1993. – М.:
Наука, 1994.
128. Михина, Е.М. История ментальностей / Е.М. Михина. – М.,
1996. – 200 с.
129. Михина Е.М. Конвенция ученых или историческое сознание
/Одиссей - 98. – М., 1999. – 277-280 с.
130. Монисова, И.В. К вопросу о бытовании «кавказского текста»
в современной русской литературе: (на примере рассказа В. Маканина
«Кавказский пленный») // Традиции русской классики XX века и современность: материалы научной конференции. М., 2002. – 261–264 с.
131. Музаев Н.Д. Взаимосвязи литератур Северного Кавказа в
процессе становления жанров. – Грозный: Чечено-Ингушское книжн.
изд-во, 1974. – 235 с.
132. Мунаев
И.Б.
Поэтика
чечено-ингушских
героикоисторических песен илли. (Проблема формирования жанра и его системные связи). Автореф. на соискание ученой степени кандид. филол.
наук. – М.: 198I, – 17 с.
133. Мунаев И.Б. О чеченском песенном фольклоре. Предисловие
к сборнику. «Чеченская народная поэзия в записях XIX–XX вв. Илли, узамы». – М.: Новый ключ, 2005. – 360 с.
134. Мусукаева А.Х. Северокавказский роман: художественная и
этнокультурная типология. – Нальчик: «Эльбрус», 1993. – 192 с.
135. Национальное и интернациональное в литературах Северного Кавказа. Межвузовский сб. ст. Северо-Осетинский госуниверситет
им. К.Л. Хетагурова. – Орджоникидзе, 1986. – 146 с.
136. Невская В.П. Сельская община и феодализация горских обществ Северного Кавказа. – В кн.: Генезис, основные этапы, общие пути и особенности развития феодализма у народов Северного Кавказа. –
М., 1987. – 10 с.
137. Овхадов М.Р. Социолингвистический анализ развития чеченско-русского двуязычия. – Грозный: изд-во Академии наук Чеченской Республики, 2007. – 204 с.
138. Огурцов А.П. Исторические типы дискуссий и становление
классической науки // Роль дискуссий в развитии естествознания. М.,
1986. – 143-156 с.
139. Огурцов А.П. Трудности анализа ментальности // Вопросы
философии. 1994, № 1.
140. Огурцов А.П. Научный дискурс: власть и коммуникация
(дополнительность двух традиций). – М., 2003. – 267 с.
141. Очерки истории осетинской советской литературы. – Орджоникидзе, 1967. – 420 с.
142. Очерк истории чечено-ингушской литературы. Сб. статей
(редкол.: Корзун В.Б. и др.). – Грозный, Чеч.-Инг. книжное издательство, 1963. – 240 с.
143. Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. В 2-х томах. Т. 1.
С древнейших времен по март 1917 года. – Грозный: ЧеченоИнгушское книжное издательство, 1967. – 314 с.
144. Подлубнова Ю.С. Современный литературный процесс.
Проза 2000-х гг.: конспект лекций. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ,
2009.–
62-72
с.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://www.proza.ru.
145. Постнеклассическая наука: http://www.chem. msu.su/rus/
teaching.
146. Притчи.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://pritchi.castle.by/
147. Пропп В.Я. Морфология сказки. – М.: «Наука», 1969. – 168
с. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.bookshunt.ru/
148. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.,
1986. – 335с.
149. Раульф У. История ментальностей. К реконструкции духовных процессов. Сборник статей. – М., 1995.
150. Ричардс А. Философия риторики. // Теория метафоры. – М.:
Прогресс, 1990. – 44–68 с.
151. Рожанский М. Ментальность // 50/50. Опыт словаря нового
мышления. Под ред. Афанасьева Ю.А. и Ферро М.М.: Прогресс, 1989.
– 459–463 с.
152. Рожанский М.Я. Социальная география – цель социологии //
Материалы юбилейной научной конференции «Культурный ландшафт:
теория и практика» (3 – 11 ноября 2003) – М.: МГУ, 2004. – 4-14 с.
153. Русская литература 20 века в зеркале критики. Хрестоматия
для студентов... – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 656 с.
154. Русская художественная культура и вопросы духовного
наследия чеченцев и ингушей. Сб. ст. (Туркаев Х.В. – ответ. редакт.). –
Грозный, ЧИИИСФ, 1982. – 162 с.
155. Садулаев Г. Проза о чеченской войне: литература, как универсализация опыта. Континент, 2009. № 142.
156. Садулаев Г. Надо уменьшать страдания людей // http: // www.
Proza/ru.
157. Скрипник А.П. Бытие, логос и нрав. Этическая мысль. М.:
ИФРАН, 2002. Вып. 3. – 99-105 с.
158. Словарь литературоведческих терминов. Под ред. Л.И. Тимофеева, С. В. Тураева. – М. Просвещение, 1974. – 376 с.
159. Словарь символов чеченской культуры / Ибрагимов Л.
//Вестник Академии наук Чеченской республики. – Грозный, 2010, № 1
(12). – 161–167 с.
160. Словарь философских терминов. – М.: ИНФРА. – М, 2005. –
730 с.
161. Сулейманов А. Топонимия Чечни. – Нальчик, 1997. – 676 с.
162. Султанов К.К. Национальная литература как система художественных ценностей. – М., 1995.– 187 с.
163. Султанов К.К. Национальное самосознание и ценностные
ориентации литературы. – М.: ИМЛИ РАП «Наследие», 2001. – 194 с.
164. Тасуева Л.С. Чеченская советская проза. 20-30-годы. /Дисс.
... канд. филол. наук. – Махачкала, 1975. – 22 с.
165. Таллам. Научно-образовательный журнал Академии Наук
Чеченской Республики. № 1, 2008. – Грозный, 2008.
166. Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп.,
польск.
яз. ...Н.Д.
Арутюновой
и
М.А.
Журинской.
–
М.: Прогресс, 1990. – 512 с.
167. Теракопян Л. Уроки чеченского или работа над ошибками //
Дружба народов, 2008, № 9. – 152-155 с.
168. Типология народного эпоса. Сб. ст. (Гацак В. М. – ответ. редактор и др.). ИМЛИ им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1975. – 324 с.
169. Толстой Л. Н. и Чечено-Ингушетия. – Грозный, 1989. – 176
с.
170. Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. М., 1999. –
334 с.
171. Топоров В.Н. Пространство и текст / В.Н. Топоров // Текст,
семантика и структура. – М., 1983. – 227-284.
172. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в
области Мифопоэтического: Избранное. – М.: Прогресс - Культура,
1995. – 624 с.
173. Туркаев Х.В. Жажда неутоленная. – М.: Молодая гвардия,
2007. – 312 с.
174. Туркаев Х.В. О путях развития чеченской литературы. –
Грозный: Чеч-Инг. книжное издательство, 1973. – 162 с.
175. Туркаев Х.В. Путь к художественной правде. (Становление
реализма в чеченской и ингушской литературах). – Грозный, 1987. –
240 с.
176. Туркаев Х.В. Исторические судьбы литератур чеченцев и
ингушей. – Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1978.
– 252 с.
177. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М.,
1977. – 376 с.
178. Фидарова Р.Я. Художественная культура осетинского народа. – М. Наука, 2007. – 363с.
179. Филатов С. Словесность в переходную эпоху. Электронный
ресурс. Режим доступа: http://www.lgz.ru/article/
180. Хакуашева М.А. Литературные архетипы в художественных
произведениях адыгских писателей. – Нальчик, 2007. – 146 с.
181. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высш. шк., 2004. –
406 с.
182. Хапсироков Х.Х. О национальном своеобразии литератур
адыгских народов. – Черкесск, 1960. – 86 с.
183. Харитонович Д.Е. История структур и история событий //
Одиссей. Человек в истории. – М., 1996. – С. 22 – 38.
184. Хасиев С-М.А. Культура полеводства чеченцев и ингушей. –
Нальчик, 2004. – 148 с.
185. Хоперская Л.Л. Современные этнополитические процессы на
Северном Кавказе: концепция этнической субъективности. Ростов
н/Д., 1997. – 167 с.
186. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и
развитие литературы. – М.: Худ. лит. Т. 3., 1981. – 431 с.
187. Храпченко М.Б. Литература и моделирование действительности // Художественное творчество, действительность, человек. Т.4. –
М.: Советский писатель, 1978, – 368 с.
188. Художественная литература и Кавказ: материалы 2-й науч.практ. конф. – Сочи: РИО СГУТиКД, 2008. – 80 с.
189. Художественная литература и Кавказ: материалы I Междунар. науч.-практ. конф. под ред. проф. Л.П. Егоровой. – Сочи: СГУТиКД, 2006. – 199 с.
190. ХХ столетие и исторические судьбы национальных художественных культур: традиции, обретения, освоение // Материалы Всероссийской научной конференции. 11–16 октября 2000 г. – Махачкала,
2003. – 788 с.
191. Чанкаева Т.А. Русские писатели о горской ментальности:
[образ Кавказа в русской литературе] // Вестник Карачаево-Черкес.
гос. пед. ун-та. – Карачаевск, 2000. – 122-132 с.
192. Чахкиева P.A. Эволюция повествовательных форм в чеченоингушской литературе (преемственность и национальные закономерноети развития младописьменной литературы// автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филол. наук . – M.: 1975. – 212 с.
193. Чентиева М.Д. Черты современника и проблемы чеченоингушской художественной литературы. – Грозный: ЧеченоИнгушское книжн. изд-во, 1967. – 86 с.
194. Чеченско-русский словарь. Составитель: А. Мациев. – М.:
Государственное издательство иностранных и национальных словарей,
1961. – 629 с.
195. Чеченско-русский фразеологический словарь. – Грозный,
1992. –320 с.
196. Чеченцы: история и современность. – М.: 1996. – 352 с.
197. Чечня и чеченцы в материалах XIX века. Материалы по истории и культуре народов Северного Кавказа, том 1. (Берже А.П., Ипполитов А.П., Лаудаев У.; сост. Я.З. Ахмадов, И.Б. Мунаев). – Элиста: Санан, 1990. – 106 с.
198. Шаззо К.Г. Художественный конфликт и эволюция жанров в
адыгских литературах. – Тбилиси, 1978. – 230 с.
199. Шенкао М.А. Основы философской танатологии: понятие
«ментальность» в работах российских авторов. – Черкесск, КЧТИ,
2002.–252
с.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://filosof.historic.ru
200. Шерипов А.Д. Статьи и речи. – Грозный: Чечено-Ингушское
книжное издательство, 1990. – 182 с.
201. Шкловский, 1955. Заметки о прозе русских классиков. – М.:
Сов. писатель, 1955. – 250 с.
202. Шкловский В.Б. О теории прозы. – М., 1983. – 14 -15 с.
203. Шкуратов В.А. Психика. Культура. История. Ростов-на/Д.:
изд-во Рост. ун-та, 1990. – 251с.
204. Шкуратов В.А. Историческая психология. – М., 1997. – 320
с.
205. Шовхалова М.Х. Народная афористика в романе Ш.М. Окуева «Лай т1ехь ц1ен зезагаш» (Красные цветы на снегу) //Чеченский и
ингушский роман. – Грозный, 1986. – 66-77 с.
206. Штайн К.Э. К вопросу о семиологии первого произведения //
Первое произведение как семиологический факт: Сб. ст. науч.-метод.
семинара «Textus». Вып. 2. – СПб.: Ставрополь, 1997. – 4-13 с.
207. Шульженко В.И. Кавказ в русской прозе второй половины
XX века: проблематика, типология персонажей, художественная образность: автореф. дис...канд. филол. Наук. - Пятигорск, 2001.– 21с.
208. Шульженко В.И. Кавказский феномен русской прозы. – Пя-
тигорск, 2001. – 376 с.
209. Эйзенштейн С.М. Избранные статьи. М.: Искусство, 1956. –
456 с.
210. Этнонациональная ментальность в художественной литературе. – Ставрополь, 1999. – 245 с.
211. Эмирова Л.А., Акавов З.Н. Кавказская проза А.А. БестужеваМарлинского: проблемы русского менталитета в евразийском диалоге
культур. Махачкала: ДГПУ, 2004. – 176 с.
212. Этов В.И. Современный рассказ // Проблемы и герои. – М.,
1983. № 1.
213. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М.: Ренессанс, 1991. – 304 с.
214. Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. – Минск: Харвест,
2004. – 398 с.
215. Юсупова Х.В. Жанр повести в чеченской и ингушской литературах: становление и развитие (20-30-е годы). Автореф. дисс. на соик. ученой степени канд. филол. наук. – М., 2000. – 26 с.
216. Юсупова Ч. Расул Гамзатов в расколотом мире. – Махачкала,
2007. – 384 с.
217. Яндаров А. Суфизм и идеология национального освободительного движения. – Алма-Ата, 1975.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА
1. Авторханов А. Мемуары. – Frankfurt/Main: Possev-Verlag, 1983. –
761 c.
Абдулаев З. «Всполохи». Повесть. – Грозный, 1991. – 176 с.
Айдамиров А. «Долгие ночи». – Грозный, 1972. – 350 с.
Айдамиров А. «Молния в горах». – Грозный, 2004. –720 с.
Айдамиров А. «Буря». – Грозный, 2004. –572 с.
Айдамиров А. «Кхолламан цхьа де». Повесташ (на чеч. яз.).–
Грозный, 1993. – 330 с.
7. Алироев Ибрагим. «Кувшин мудрости». Чеченские пословицы и
поговорки. – Грозный, 1990. – 44 с.
8. Антология чечено-ингушской поэзии. – Грозный: ЧеченоИнгушское книжн. изд-во, 1981. – 463 с.
9. Арсанов С.-Б. Когда познается дружба. – Грозный, 1982.–400 с.
10. Бадуев Са1ид. Гулийна сочиненеш: 2 томехь. – Грозный, – 197778. Т. 1. – 383 с. Т. 2. – 431 с.
11. Бадуев С. Дийцарш. Повесташ. – Грозный, 1989. – 296 с.
12. Гадаев М. Ц1ен-Берд. – Соьлжа -Г1ала, 2005. – 214 с.
13. Гайсултанов У. Александр Чеченский. Историческая повесть. –
Грозный: Чечено-Ингушское книжн. изд-во, 1981. –304 с.
14. Гайсултанов У. Болат-г1ала йожар. Повесть. – Грозный, 1970. –
396 с.
15. Ибрагимов Канта. Детский мир. Роман. – М.: Моц-Арт, 2005. –
384 с.
16. Ибрагимов Канта. Прошедшие войны. Роман. – Грозный, (2004)
2010. – 716 с.
17. Ибрагимов Канта. Сказка Востока. Роман. – М.: Лика. 2007. – 636
с.
18. Ибрагимов Канта. Оставаться человеком во все времена. Великороссъ,
№
6.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
http://www.velykoross.ru/72/
19. И была весна. Рассказы и повести. – Грозный, 1991. – 272 с.
20. Илли. Героико-эпические песни чеченцев и ингушей. – Грозный,
1979. –238 с.
21. Канташ. Судьба и душа //Цепи снеговых гор: Повести писателей
Северного Кавказа. – М.: Фолио, 2009. – 189-224 с.
22. Кацаев С-Х. Во тьме. Рассказы и эссе.– Грозный, 2004. – 117 с.
23. Куни Лула. Абрисы //Цепи снеговых гор: Повести писателей Северного Кавказа. – М.: Фолио, 2009. – 356-456 с.
24. Кусаев А.Д. Чечня: годы и люди. – Грозный, 2007. – 430 с.
25. Мамакаев М. Зелимхан. Роман. Перевод с чеченского Ю. Тимофеева. – Грозный: Чечено-Ингушское книжн. изд-во, 1971. – 257 с.
26. Мамакаев М. Мюрид революции. Перевод с чеч. Ю.Тимофеева. –
Грозный, 1976. – 207 с.
27. Мамакаев 1. Винчу юьрта. Повесть. – Грозный,1964. –231-248 с.
28. Ма деха дара и 1а. Повесташ, дийцарш, стихаш. – Грозный,
2.
3.
4.
5.
6.
1991.– 300 с.
29. Нохчийн дийцарш. – Грозный, 2010. – 432 с.
30. Нохчийн кицанаш. – Грозный, 2003. – 176 с.
31. Нохчийн литература. Хрестоматия чеченской литературы для 8-9
классов. – Грозный, 1991. – 366 с.
32. Нохчийн фольклор. – Грозный, 1990. – 592 с.
33. Окуев Шима. Юьхь. «ЦIий, латтий» цIе йолчу трилогин хьалхара книга. – Грозный, 1985. – 388 с.
34. Окуев Шима. ЦIий. латтий. Роман-трилоги. ШолгIа книга. –
Грозный, 1987. – 432 с.
35. Окуев Шима. ТIаьххьара верас. Роман-трилоги. КхозлагIа книга.
– Соьлжа-ГIала, 1992. – 326 с.
36. Ошаев Х. Пламенные годы. Исторический роман в 3-х частях. –
Грозный, 1977. – 573 с.
37. Ошаев Х. Слово о полку Чечено-Ингушском. Сб. документальнохудожественных произведений. – Нальчик, 2004. – 492 с.
38. Ошаев X. Брест – орешек огненный. – Грозный, 1990. – 275 с.
39. Песни вайнахов. – Грозный, 1972. – 178 с.
40. Сальмурзаев М. Кхетаме Хьамид (Сообразительный Хамид)
//Нохчийн литература. Хрестоматия для 7-8 классов. – Грозный, 1977. –
244–256c.
41. Смирнов С. Брестская крепость. Москва.: Раритет 2000. – 406 с.
42. Толстой Л.Н. Круг чтения. Т. 2. – М.,Политиздат, 1991. – 399 с.
43. Чеченская народная поэзия в записях ХIХ–ХХ вв.: [илли, узамы]
– М. Новый ключ, 2005. – 360 с.
44. Чеченские и ингушские народные сказки. – М.: Редакция альманаха «Российский архив», 2003. – 224 с.
45. Аслан Шатаев. Трижды воскресший. Рассказ. Электронный . ресурс. Режим доступа: http://www.proza.ru/2010/10/06/607
46. Эльсанов И. Малх чубузуш. Дийцарш. – Грозный, 1986. – 88 с.
47. Эльсанов И. Хозяйка дома – когда приходит гость// И была весна.
Рассказы и повести. – Грозный: Книга, 1991. – 213–218 с.
48. Яшуркаев С. Дневник чеченского писателя. Электронный ресурс.
Режимы доступа: http://www.litru.ru/.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение……………………………………………….……………3
Глава I. Проблемы изучения национальной ментальности
в современной гуманитарной науке………………………………8
1.1. Современные подходы к изучению национальной
ментальности в художественной культуре (литературе).……….8
1.2. Национальная ментальность в художественной литературе:
основные методологические подходы…………………………..24
1.3. Художественное воплощение национального характера в
чеченском фольклоре и литературе...…………………................37
1.4. Национальное и общечеловеческое в чеченской
художественной литературе……………………………………...46
Глава II. Своеобразие идейно-художественного содержания
чеченской литературы ХХ века………………………………….56
2.1. Роль литературы в формировании национальной художественной культуры……..…………………..………………………..56
2.2. Чеченская литература ХХ в.: основные этапы развития…..70
Глава III. Художественное воплощение национального
характера в романе Канты Ибрагимова «Прошедшие войны»...94
3.1. Роль творческой индивидуальности в чеченской
художественной литературе……………………………………...94
3.2. Современная чеченская проза…………………...................100
3.3. Внутренний мир романа……………………………………111
3.4. Художественное воплощение национального характера в
романе К. Ибрагимова «Прошедшие войны»………….............131
Заключение………………………………………………………145
Список использованной литературы ……….………………….153
Список иллюстративного материала…………………………...165
Подписано в печать 12 12 2012 г Формат 60х90 1 6
Бумага офисная Печать ризография
Усл печ л 11 25 Тираж 500 экз
Издательство Чеченского государственного университета
Адрес 364037 ЧР г Грозный
ул Киевская 33