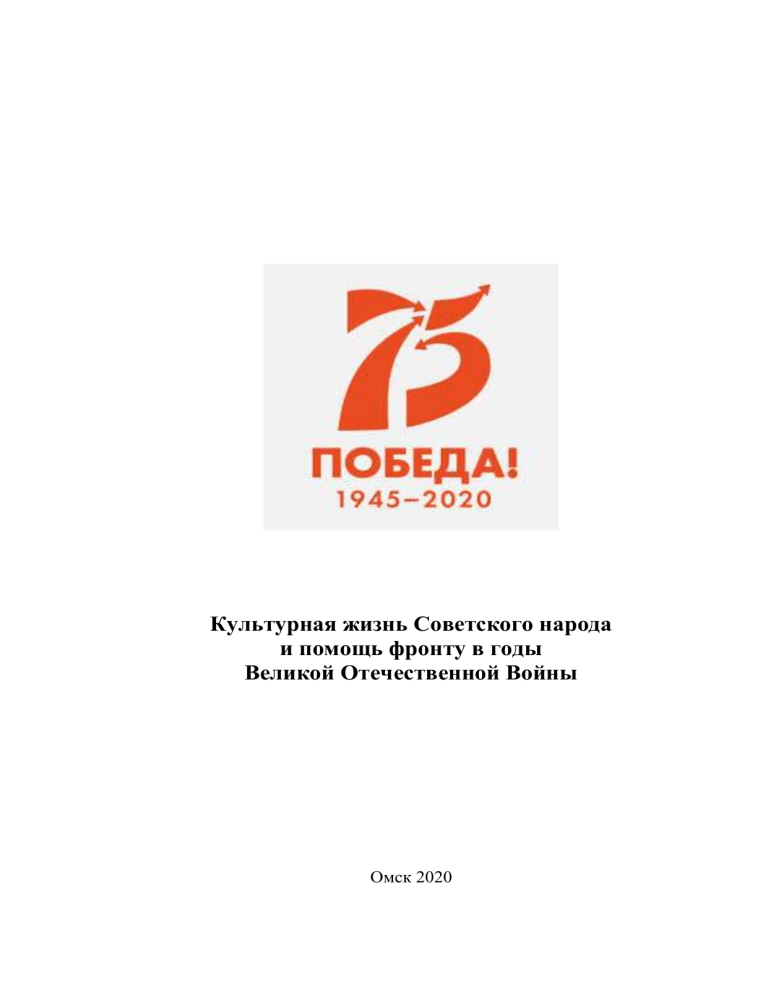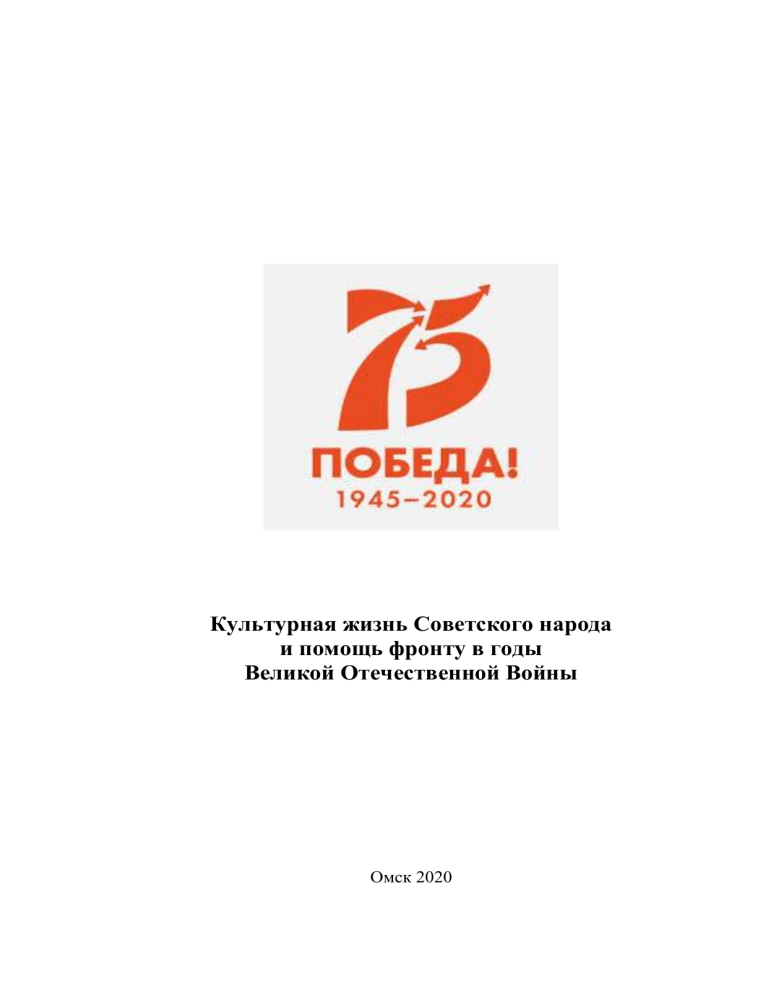
Культурная жизнь Советского народа
и помощь фронту в годы
Великой Отечественной Войны
Омск 2020
Общественная палата Омской области
Культурная жизнь Советского народа
и помощь фронту в годы
Великой Отечественной Войны
Омск 2020
УДК 94(47)
Культурная жизнь Советского народа и помощь фронту в годы Великой
Отечественной Войны Омск.: СОАВН, 2020.- 60 с.
Изучение жизни советских людей в 1941—1945 гг. дает возможность
проникнуть в ткань эпохи, приблизиться к пониманию людей того времени,
их ценностей, мотивов поведения и настроений. Война стала моментом
наивысшей сплоченности в СССР власти и общества, хотя в довоенный
период население имело массу претензий к государственным институтам.
Борьба с фашистской Германией объединила советский народ, придала
смысл существования каждого человека, побуждала его совершать
героические поступки. Представители художественной и научной
интеллигенции, нашли в себе силы подчинить свои жизни и творчество
служению Отчизне. Возникшие в народной среде инициативы затем
поддерживали и направляли государственные и общественные организации.
Движение «снизу» стало массовым явлением, в чем проявился патриотизм
большинства советских гражданАктуальность издания данной серии
обусловлена ориентированностью на патриотическое воспитание молодого
поколения. В установлении диалога между высшими партийно-государственными кругами и социумом большую роль сыграла печать, проводившая
гигантскую идеологическую работу. Основное место в ней занимали призыв
жертвовать всем ради Победы, пропаганда самоотверженного труда и
беззаветной преданности Родине.
Редактор серии « Повседневная жизнь советских людей в годы Великой
отечественной войны», член – корреспондент Академии военных наук ,
профессор Соловьев А.А.
© СОАВН,2020
Введение
При исследовании повседневной жизни общества в период военных
испытаиий 1441 1945 п. ключевыми стали темы, касающиеся стратегии
выживания населения в экстремальных условиях, а также тыловых
социальных практик, взаимоотношений власти и народа, культурного
развития страны, спонтанных инициатив людей и отражения в их
настроениях суровых реалий.
В 1941—1945 гг. решение большинства вопросов подразумевало широкое
участие граждан, хотя социальный патернализм государства и воспитал в них
иждивенчество. В военный период возникло немало народных
инициатив, направленных на поддержку детей, инвалидов, семей
военнослужащих (проведение субботников и воскресников, создание
специальных фондов и т.д.). На заработанные в неурочное время и собранные
населением средства приобретались одежда и обувь, продовольствие и
топливо. Собранные в помощь фронту деньги направлялись на строительство
боевой техники, приобретение подарков для сражавшихся на фронтах бойцов, а также в Фонд обороны (от населения РСФСР — миллиарды рублей).
Государственная помощь и благотворительные акции способствовали
укреплению морального состояния людей, умножали силы сражавшимся
Вооруженным силам страны.
Повседневность военной поры для большинства советских людей была трудной,
бедной, неустроенной (в силу объективных причин и особенностей функционирования советской политической системы). Тем не менее, несмотря на привыкание к
низким стандартам жизни, у граждан СССР сформировались довольно высокие
культурные запросы. При этом они испытывали гордость за свою Родину и любили
ее. Несомненно, патриотизм и духовный фактор сыграли важную роль в
сплочении народа и армии на всех этапах Великой Отечественной войны, стали значимыми слагаемыми Победы
Культурная жизнь в дни войны
Забыть, хотя бы на время, о суровой повседневности и отдохнуть от
изнурительного труда советским людям помогала культурная жизнь в стране,
которая ни на день не замирала, даже в период поражений Красной армии. В
условиях массовой эвакуации предприятий и культурно-просветительных
учреждений в СССР продолжали издавать газеты, журналы, книги, в театрах
ставили новые спектакли, в музеях открывали выставки, в кинозалах и
клубах демонстрировали новые фильмы. Отмечались также юбилеи
выдающихся представителей многонациональной культуры Советского
Союза, устраивались конкурсы и фестивали.
Основой для осуществления государственной политики в гуманитарной
сфере служила сложившаяся в довоенный период структура культурнопросветительных учреждений. Великая Отечественная война, к которой в
должной степени психологически оказались не готовы ни высшее
руководство, ни население, выявила острую необходимость перестройки
агитационно-пропагандистской
работы,
деятельности
культурнопросветительных учреждений, находившихся под контролем партийногосударственного аппарата. Встала задача как можно эффективнее
использовать средства пропаганды и агитации, все жанры литературы и
искусства, влиявшие на умонастроение и гражданскую позицию советского
человека. Необходимо было распространять в массах идеи освободительной
борьбы, воспитывать чувства патриотизма, ненависти к врагу, мобилизовать
духовный потенциал общества для достижения Победы. И творческая, и
художественная интеллигенции искала пути и средства решения этого
социального заказа, исходя из указаний ЦК ВКП(б) и советского
правительства о перестройке всей деятельности государственных
учреждений и общественных организаций на военный лад. На фоне
привычных идеологем, прославлявших советский строй и призывавших к
защите социалистического Отечества, появились иные, — подчеркивавшие
связь СССР с дореволюционной Россией, ее полководцами и былой ратной
славой. Новые трудные задачи следовало решать в условиях резкого
сокращения сети культурно-просветительных учреждений и сложной
социально-психологической обстановки.
В военное время число массовых библиотек уменьшилось с 95 до 47 тыс.,
музеев — с 991 до 787, клубов — с 118 до 94 тыс., киноустановок — с 28 до
14,5 тыс. К концу 1941 г. в стране продолжали театральную деятельность
лишь 411 из 859 театров, работавших до войны. Кроме того, работать
приходилось в условиях неопределенности: несогласованных действий
руководства учреждений и вышестоящих инстанций, отсутствия учета
реальной ситуации, планов эвакуации и т.д.'
Война пробудила во всех слоях общества чувство высокой гражданственности, а также огромный интерес (усиливавшийся в годы войны) к
истории, культуре и народному творчеству. В то же время информационное
пространство изменилось. Новациями в культурной жизни стали: создание по
инициативе артистической интеллигенции фронтовых концертных бригад;
организация передвижных выставок, театров, агитпоездов; смотров
художественной самодеятельности. После освобождения от вражеской
оккупации городов и сел восстановительный процесс шел не только в экономике, но и в сфере культуры: возрождались театры, библиотеки, клубы и
избы-читальни. Именно фактор социально-культурного созидания
способствовал укреплению веры в скорое возвращение мирной жизни.
Направления деятельности учреждений гуманитарного профиля
максимально расширилась. Их сотрудники проявляли инициативу: на
призывных пунктах, станциях метро, в бомбоубежищах, цехах и на полях они
организовывали для населения лекции и передвижные выставки,
выступления артистов и самодеятельных художественных коллективов, а
также читали газеты, книги и т.д.
Самым доступным и мощным по степени воздействия на социум
источником информации и средством общения с деятелями культуры было
радио. Население не выключало его ни днем, ни ночью. Репродукторы были
установлены на улицах и площадях, на заводах и фабриках, в учреждениях и
больничных палатах, на полевых станах и железнодорожных станциях.
Постоянно транслировались радиопередачи из Москвы, передавались сводки
Совинформбюро, выпуски «Последних известий», сообщения «В последний
час» и т.д. Чтение наиболее важных материалов поручали дикторам
Всесоюзного радиокомитета Ю.Б. Левитану и О.С. Высоцкой. Чтобы сделать
радиовещание более оперативным и массовым, создали филиалы Радиокомитета в Куйбышеве, Свердловске, Комсомольске-на-Амуре.
Радио связывало родных и близких, вселяло надежду и веру, вдохновляло
на подвиги. Благодаря ежедневным документальным передачам «Письма на
фронт» (с июля 1941 г.) и «Письма с фронтов Отечественной войны» (с
августа 1941 г.) в течение только 1943 г. было зарегистрировано свыше 5 тыс.
случаев восстановления связи людей со своими семьями. Тысячи граждан
обращались на радио за помощью в розыске родных и близких.
Характерная черта радио военных лет — высочайший уровень культуры. О
чем бы ни шла речь в сводках Совинформбюро, всегда вслед за
официальными сообщениями, корреспонденциями, очерками о буднях
фронта и тыла радио предоставляло эфир видным деятелям науки и
искусства — любимцам народа. Трудно переоценить значение передач из
Москвы с участием академиков — Н.Н. Бурденко, С.И. Вавилова, Е.О.
Патона, писателей — М.А. Шолохова, И.Г. Эренбурга, А.Т. Твардовского,
А.А. Суркова и К.М. Симонова, композиторов — Д.Д. Шостаковича, И.О.
Дунаевского, М.И. Блантера, В.П. Соловьева-Седого, замечательных
исполнителей — J1.A. Руслановой, К.И. Шульженко, Л.О. Утесова, В.В.
Барсовой, С.Я. Лемешева, И.С. Козловского и др. Многим запомнился цикл
передач по роману Л.Н. Толстого «Война и мир», чтение А.Т. Твардовским
отрывков «Василия Теркина», передачи по роману А.А. Фадеева «Молодая
гвардия» и т.д.По радио страна слушала новые песни военных лет. Здесь же 1
января 1944 г. впервые был исполнен новый Гимн Советского Союза на
стихи С.В. Михалкова, Г.Г. Эль-Регистана и музыку A.В. Александрова. Не
прекращались радиопередачи для детей и юношества.
Из блокадного Ленинграда звучали голоса О.Ф. Берггольц, В. М.
Инбер,
А.А. Ахматовой, Н.С. Тихонова, В.В. Вишневского и других представителей
интеллигенции, выступавших со стихами и статьями. Творчество Берггольц
военного периода и ее радиообращения (все выступления собраны в книге
«Говорит Ленинград») отличались высоким накалом чувств и трогали сердца
людей. Поэтесса записала в дневнике: «Ежедневно в разные часы, чтоб не
так уж мог забивать немец <...> Ленинград стал говорить со страной
голосами своих защитников — рабочих, бойцов, партийных работников,
матросов, поэтов, композиторов, ученых. Москва принимала нас и
транслировала по всему Советскому Союзу, и народ наш знал: вот и сегодня
Ленинград не сдался, вот и сегодня он еще держится <...> Ленинград
живыми голосами клялся, что не сдастся ни сегодня, ни завтра — никогда!
Передачи происходили ежедневно и начинались словами: "Слушай нас,
родная страна! Говорит Ленинград"». И страна слушала северную столицу и
оказывала ей помощь и моральную поддержку. В радиоэфире звучало
стихотворение-послание казахского поэта-акына Д. Джабаева «Ленинградцы,
дети мои», текст которого напечатали и в качестве плаката вывешивали на
стенах домов.
Бывший редактор ленинградского радио Г.П. Макогоненко вспоминал:
«Ленинградское утро начинается рано. В пять часов утра. На улицах и
площадях проснувшегося города <...> заговорило радио. Передается первый
выпуск "последних известий". У репродуктора сразу же образуются толпы.
Торопящиеся люди останавливаются на несколько минут, чтобы прослушать
вести с ленинградского фронта. Это тоже дело важное, непременно входящее
в распорядок дня каждого ленинградца». Когда радио замолкало из-за
артобстрелов или недостатка электроэнергии, в Радиокомитет шли письма:
«Радио пусть говорит, без него страшно, без него, как в могиле».
В период блокады в радиоэфире появилась передача «Театр у микрофона»
(на эту инициативу Радиокомитета с готовностью откликнулись оставшиеся в
Ленинграде артисты. В конце 1942 г. полюбившаяся населению передача
стала постоянной. Инсценировки шли одна за другой. В выпусках «Театра у
микрофона» звучали фрагменты из опер П.И. Чайковского и Н.А. РимскогоКорсакова, а также выступления оркестра и хора Радиокомитета. Периодически устраивались встречи актеров со слушателями (такие же передачи — с
продолжением — начала готовить и детская редакция).
Нехитрый радиоаппарат — «черная тарелка» — стал одним из символов
Великой Отечественной войны. Несомненно, что звучавший на всю страну и
весь мир голос Ю.Б. Левитана, а также составляющие золотой фонд радио
уникальные записи военного времени, включающие и воспоминания
непосредственных участников событий, и деятелей культуры, всегда будут
служить примером беззаветной преданности Родине поколения победителей.
В крупных городах работали театры. Художественно-творческая
деятельность их коллективов строилась таким образом, чтобы активизировать роль театра как одного из мощных средств просвещения,
пропаганды и мобилизации сознания народных масс на окончательную
победу над фашизмом. В новой ситуации требовалось сформировать
«оборонный» репертуар, воплотить на театральной сцене героическую тему
защиты Отечества, показать веру народа в Победу, его готовность к подвигу.
Театральные коллективы должны были усилить военно-шефскую работу,
увеличить количество выездных спектаклей, концертов на фронте, в
воинских частях, госпиталях и сельской местности. Постановки на исторические темы в значительной степени помогли актерам и руководителям
театров справиться с психологическими трудностями, которые возникли при
подготовке новых репертуаров.
В тревожной Москве октября 1941 г. работали несколько театральных
коллективов (хотя почти все они были эвакуированы в связи с приближением
фронта). Большой театр СССР — ведущий театр оперы и балета — был
эвакуирован в Куйбышев, Малый театр — в Челябинск, имени Е.Б.
Вахтангова — в Омск. Отказалась покинуть город труппа Музыкального
театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, и 18
октября 1941 г. он открыл зимний сезон. А в декабре, в дни разгрома
немецких войск под Москвой, в городе начал работать Театр драмы,
объединив в своем составе актеров театра им. Ленсовета, МХАТа, Малого
театра, Театра Революции, Камерного и Театра имени Ленинского
комсомола. В столице в сезон 1941/42 г. также работали филиал Большого
театра, Областной театр юного зрителя. Театр миниатюр и Театр обозрений.
Спектакли часто проходили в холодных, не отапливаемых помещениях.
Атмосферу столичных зрительных залов того времени писатель-фронтовик
Е.З. Воробьев описал так: «Публика, которая заполняла театральные залы,
выглядела совсем не так, как в мирные дни. Защитный цвет преобладает.
Многие в военной форме <...> Можно увидеть и легкораненых — с рукой на
перевязи, с костылем, с палкой <...> Билетами в театр премировали и
бойцов противопожарной обороны, групп самозащиты, студентов,
отличившихся на строительстве оборонительных рубежей». Среди
зрителей были и оставшиеся в Москве сотрудники Института истории АН
СССР. Билеты распределялись профсоюзной организацией преимущественно
в театры: Камерный, Ленком, Музыкальный академический театр имени К.С.
Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
12 июля 1942 г. в московском театре имени Ленсовета впервые был
показан спектакль по произведению К.М. Симонова «Русские люди»
(действие происходило за линией фронта, в партизанском отряде). Зрители
так полюбили этот спектакль, что в течение 1943 г. его поставили на 150
театральных сценах страны. В том же году появилась пьеса Л.М. Леонова
«Нашествие», в которой автор талантливо представил основные мотивы
сопротивления советского народа фашизму. Огромное нравственнополитическое значение приобрела пьеса А.Е. Корнейчука «Фронт». Она
поразила зрителей глубиной конфликта, героикой батальных сцен, трагичностью жертв, которыми оплачивались амбиции командования.
В блокадном Ленинграде в связи с эвакуацией всех драматических театров
было принято решение о создании Городского театра. Для работы в нем
пригласили не покинувших северной столицы актеров и драматургов. Среди
них были известные артисты Театра имени А.С. Пушкина, а также Театра
имени Ленинского комсомола.
Из-за усилившихся артобстрелов Городской театр менял помещения
несколько раз, но не терял зрителей и готовил разные постановки: классику и
пьесы военного времени («Русские люди» Симонова, «Фронт» Корнейчука,
«Нашествие» Леонова). Обычно, созданные таким образом труппы редко
выживали, еще реже — делали себе имя и заслуживали любовь зрителей. Но
судьба родившегося в блокадном Ленинграде коллектива сложилась
счастливо — сегодня это Государственный академический драматический
театр имени В.Ф. Комиссаржевской.В жестокие дни первой блокадной зимы
в Ленинграде продолжал работать Театр музыкальной комедии. Поскольку
его здание было повреждено разорвавшимся снарядом в декабре 1941 г.,
театр ставил спектакли в помещении эвакуированною Академического театра
драмы имени А.С. Пушкина.
На сценах советских театров шли спектакли преимущественно
патриотического содержания, в том числе напоминавшие о героических
страницах русской истории. Горьковский театр драмы осенью 1941 г.
возобновил постановку пьесы «Козьма Минин». Подготовлены были такие
спектакли, как «Фельдмаршал Кутузов», «Фронт» Корнейчука. «Нашествие»
и др. Горьковский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина 21 июля 1941 г.
открыл сезон премьерой оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». У горьковчан
была тесная связь с местными театралами. Работники предприятий города и
слушатели военных училищ помогли театрам выйти из трудного положения с
отоплением, а те, в свою очередь, давали для них бесплатные спектакли.
Коллективы двух названных горьковских театров, работавшие в военное
время на собственных сценах, показали зрителям соответственно 1 707 и 1
725 спектаклей, приобщив к театральному искусству 1 млн 869 тыс. 600 и 1
млн 997 тыс. 200 человек.
Важной формой общения народа с творческими коллективами стали
зрительские конференции. Работники театров охотно шли на контакт с
аудиторией. Практически во всех крупных городах проходили зрительские
конференции, на которых артистической интеллигенции высказывались
пожелания ярче воплощать на сцене патриотические пьесы, поддерживать
тесную связь с работниками предприятий и учреждений.
Огромную постановочную и военно-шефскую работу осуществляли
эвакуированные театры, однако сам процесс их перебазирования проходил
достаточно болезненно. Прибывшие труппы, как правило, вытесняли
местные театральные коллективы с их сценических площадок (в результате
ранее работавшие здесь театры прекращали существовать либо переезжали
из областных центров в другие места, или реорганизовывались в
передвижные).
У Большого театра в Куйбышеве была активная творческая жизнь.
Артисты играли свои лучшие спектакли, ставили новые, выезжали на
предприятия и фронт с концертными программами. Прибывший на Урал
Ленинградский театр оперы и балета имени С.М. Кирова за 995 военных
дней работы в г. Молотове (Перми) подготовил 27 оперных и балетных
спектаклей, 14 концертных программ, дал 3 500 военно-шефских концертов.
Основой
творческой
деятельности
коллектива
стало
создание
патриотических и историко-героических постановок. Жители города по
достоинству оценили спектакли «Иван Сусанин», «Князь Игорь», «В бурю»,
восхищались творчеством Ф.И. Балабиной, Г.С. Улановой, К.М. Сергеева и
др. Деятельность этого театра на Западном Урале стала заметным вкладом в
развитие культуры региона. Проводы труппы 2 июня 1944 г. вылились в
торжественную и одновременно грустную церемонию, которую подробно
освещала местная пресса. Руководители области и представители широкой
общественности поблагодарили деятелей искусства Ленинграда за их труд, а
те, в свою очередь, заверили, что надолго сохранят память о пребывании на
Уральской земле.
Большим успехом у южноуральских зрителей пользовалась труппа
Московского академического Малого театра. Этот коллектив с октября 1941
г. по сентябрь 1942 г., находясь в Челябинске, подготовил три спектакля:
«Партизаны в степях Украины» (по произведению Корнейчука),
«Отечественная война 1812 года» (Л.Н. Толстого) и «Осада мельницы» (Э.
Золя). Зрители охотно посещали и тематические вечера театра («Великое
искусство», «Вечер русского народа», «Антифашистский вечер»), творческие
встречи с ведущими актерами — В.Н. Пашенной, А.А. Яблочкиной, И.В.
Ильинским и др. За 11 месяцев эвакуации артисты театра в рамках военношефской работы организовали на промышленных предприятиях и в
госпиталях более 600 концертов. На прощальном вечере 7 сентября 1942 г.
художественный руководитель Малого театра И.Я. Судаков, выражая
благодарность челябинцам за теплоту и заботу, сказал: «Здесь на Урале, где
куется победа всей великой страны <...> мы встретили чуткого и
требовательного зрителя, для которого нужно было работать особенно
добросовестно».
В конце августа 1941 г. Ленинградский Большой драматический театр
имени М. Горького (ныне БДТ им. Г.А. Товстоногова) эвакуировался (одним
из последних эшелонов) в г. Киров. Здесь театр творчески развивался и
совершенствовался. Знаменитый коллектив начал работу над новым
репертуаром — постановкой пьес о Великой Отечественной войне,
пробуждавших в зрителях патриотические чувства. В глубоком тылу
сохранились дух и культура Ленинграда. Большой драматический театр
активно участвовал в культурной жизни Кирова. С марта 1942 г. для
работников искусств начался цикл вечеров, собиравших многочисленную
аудиторию. Здесь читали и обсуждали литературные произведения, организовывали дискуссии о новых постановках, демонстрировали творчество
мастеров музыкального искусства и т.п.
Находясь в эвакуации, театр обслуживал не только жителей тыла, но и
неоднократно выезжал на передовую. За три недели февраля 1942 г.,
пребывая на Западном фронте, бригада артистов дала 26 концертов. Позже
они выезжали на Волховский, Калининский и Северо-Западный фронты с 36
спектаклями и 64 концертами. До своих зрителей артисты добирались на
грузовиках и тракторах, в вагонах-теплушках и пешком. Во время поездок
коллектив накопил ценнейший творческий материал, который помог им в
дальнейшем при воплощении на сцене образов современников —
тружеников тыла и фронтовиков.
Театру удалось заинтересовать кировских зрителей. Актеры делали все,
чтобы повысить качество спектаклей. Работая в Кирове, театр никогда не
забывал о Ленинграде и своих зрителях, воспитанных на высокой
театральной культуре. Возвратившись в родной город, коллектив Большого
драматического театра привез на суд ленинградцев несколько поставленных
в Кирове спектаклей.
Жители г. Чкалова (Оренбурга) приняли Ленинградский академический
Малый оперный театр в сентябре 1941 г. Вместе с труппой театра
эвакуировались ленинградские композиторы И.И. Дзержинский, В.П.
Соловьев-Седой, Я.А. Френкель, М.И. Чулаки. Первое выступление труппы
состоялось 20 сентября 1941 г. в помещении летнего театра. В тот день была
дана опера П.И. Чайковского «Черевички».
Пребывание театра на южно-уральской земле широко освещалось в
местной прессе, знакомя население с постановками и составом творческого
коллектива. Выступления оперных артистов, развернувших бурную
деятельность, имели большое общественно-художественное значение. За три
года работы в Чкалове труппа театра познакомила зрителей как с
постановками классического оперного наследия, так и с новыми спектаклями
и симфоническими произведениями. С участием солистов и хора
симфонический оркестр исполнял выдающиеся произведения русских и
европейских композиторов (Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, Э.
Грига, Ф. Мендельсона и др.). Слушатели и зрители направляли свои отзывы
и впечатления о постановках театра в СМИ.
Артисты Ленинградского академического Малого оперного театра в
составе фронтовых бригад выступали перед артиллеристами, пехотинцами,
партизанами; в составе передвижных артистических коллективов — в тылу,
на Южном Урале. Они отправлялись на гастроли в соседние области. С
самого начала войны для обслуживания сельских тружеников создавались
специальные бригады. Их встречали исключительно тепло и радушно.
Большое количество шефских концертов проходило в госпиталях и тыловых
гарнизонах. За первый военный год (до июня 1942 г.) театральные коллективы Чкаловской области дали 2 290 концертов на призывных пунктах, в
госпиталях и частях Красной армии.
Н.Р. Мириманова, артистка Ленинградского академического Малого
оперного театра, вспоминала, что его солисты, выступая в разных
аудиториях, старались создать душевную атмосферу: «Наше руководство
придумывало разные мероприятия, которые обеспечивали большой интерес
зрителей. Давались ночные спектакли с интригующими, броскими афишами.
Например "«Евгений Онегин» наоборот": все женские роли исполняли
мужчины, а мужские — женщины. Или "Артисты в публике": все
концертные номера проходили прямо в публике, устраивались аукционы <...>
Я не раз участвовала в аукционах: стоя на специально сделанном постаменте
с огромным тортом в руках, я выкрикивала: "Кто больше?". Мне удавалось
продать торт за большие деньги. Давались концерты с участием популярных
композиторов и поэтов: Соловьева-Седого, Яна Френкеля, Алексея
Фатьянова и других. На таких концертах проходили премьеры новых песен и
стихов. Все деньги, заработанные на таких мероприятиях, посылались в помощь фронту». Каждое представление было радостным событием для
жителей глубокого тыла. В августе 1944 г., во время последних выступлений
на чкаловской земле коллектив театра получил массу благодарственных
писем и напутственных слов.
Перед жителями городов Урала выступали артисты эвакуированного
Ленинградского Государственного театра имени Ленинского комсомола.
Были показаны спектакли «Фельдмаршал Кутузов» (по произведению В.А.
Соловьева), «Крылатое племя» (Л.Л. Первенце ва), «Русские люди» (К.М.
Симонова), «Бессмертный» (Л.А. Лрбузо ва), «Правда хорошо, а счастье
лучше» (А.Н. Островского) и др.
В глубоком тылу, в Новосибирске, давала представления группа
эвакуированного Ленинградского Академического театра драмы имени А.С.
Пушкина. Артисты и их семьи поселились в жилищ ном массиве на ул.
Романова, а для спектаклей было отдано помещение театра «Красный
факел». Коллектив подготовил и показал пьесы «Суворов» (по произведению
И.В. Бахтерева, А.В. Разумов ского), «Лес» (А.Н. Островского), «Платон
Кречет» (А.Е. Корнейчука) и др. Так как возникла необходимость в
постановках, со звучных действительности, театр изменил репертуар. В
спектаклях участвовала плеяда блестящих актеров: Ю.М. Юрьев, Н.К. Черкасов, Ю.В. Голубев, К.И. Кадашевский, Е.П. Корякина и др.
Новой формой работы среди почитателей театра стали выпуски радиопередачи «Огонь по врагу» (впервые прозвучала в Новосибирске в
сентябре 1941 г.). Артисты перебазированного театра им. А.С. Пушкина А.Ф.
Борисов и К.И. Кадашевский просто читали злободневные юмористические
рассказы. Основой для выпусков служили материалы фронтового юмора,
письма слушателей, международные события и жизнь на сибирской земле.
Передача имела огромный успех.
Зрителями ленинградского театра имени А.С. Пушкина были не только
жители областного центра — Новосибирска, но и рабочие, специалисты
фабрик, заводов и совхозов, а также бойцы на фронте, куда выезжали
бригады театра. За месяц пребывания в действующей армии они
организовали 63 концерта.
Ленинградский государственный академический театр имени Ленсовета
война застала на гастролях в Хабаровске. До конца войны театр работал на
Дальнем Востоке и в Сибири, радуя новыми спектаклями местных зрителей.
Живой интерес жителей Омска вызвала плодотворная работа Московского
театра имени Е.Б. Вахтангова. Первое выступление прибывшей в Сибирь
труппы состоялось 29 сентября 1941 г. Это был спектакль «Много шума из
ничего», который прошел очень успешно, как и вся последующая творческая
жизнь театра.
В Самарканде эвакуированная труппа Московского театра имени
Ленинского комсомола впервые 11 октября 1942 г. показала пьесу
Корнейчука «Фронт», которую вскоре увидели зрители многих театров
страны.
Радушный прием на новом месте встретили артисты других театров,
прибывших из Москвы, Ленинграда, Воронежа, Смоленска, Орла, Киева,
Днепропетровска, Мелитополя и других мест. Несколько лет эвакуированные
артисты дарили радость поклонникам театрального искусства в Восточном
регионе, союзных республиках, тем самым отвлекая людей от горя,
переживаний и тяжелых мыслей, помогая им пережить суровые времена.
Историк Н.М. Дружинин, эвакуированный с группой ученых Института
истории Академии наук СССР в Алма-Ату, вспоминал: «Мы имели
возможность лично познакомиться с местными историками и писателями,
посещали спектакли не только русского, но и казахского театра, читали
произведения выдающихся писателей республики. Это сближало русских и
казахов, взаимно обогащало и тех, и других <...> В часы досуга мы
поднимались в горы или уходили гулять в степь, проводили время в городском
саду, разбитом у подножия горных террас. Так переплетались между собой
систематический труд и изучение незнакомого края».
Важным явлением театральной жизни страны зимой 1943/44 г. стал смотр
русских классических пьес, на котором зрители увидели лучшие образцы
русской драматургии и оперных произведений. Участники смотра (свыше
100 театров страны) показали 200 оперных и драматических спектаклей. В
1943 г. из 283 пьес, демонстрировавшихся в театрах России, 69 являлись
произведениями русской классики. Лучшими были признаны спектакли
«Старик» и «Чудак» (Ярославский областной драматический театр), «Бесприданница» (Саратовский), «Волки и овцы» (Куйбышевский), «Ревизор»
(Казанский).
В Москве наибольший интерес жителей вызвали постановки: «Волки и
овцы» — в Малом театре (в главных ролях В.Н. Пашенная и А.А.
Яблочкина); «Бешеные деньги» — в театре имени М.Н. Ермоловой (Л.Р.
Орданская и B.C. Мкут), «Живой труп» — в Московском театре имени
Ленинскою комсомола (И.П. Берсенев и Н.И. Кутасина).
Наряду с творческими достижениями театральные коллективы пережили и
ряд неудач, связанных в основном с неверной, тенденциозной трактовкой
исторических тем и характером. И деятельности некоторых трупп заметно
обозначились склонность к развлекательности, облегченному толкованию
современных пьес , якобы необходимых для народа в годы суровых
испытаний. В результате появились и «халтурные» представления, и масса
«парольных коллективов», разъезжавших по тыловым городам с ни
зкопробными репертуарами.
Часто в спектакли искусственно вводили вставные номера песни, стихи.
Подобные новации зачастую нарушали художественную ткань произведения,
не давая зрителю возможности сосредоточиться на основной идее спектакля.
В 1943 г. началась основная реэвакуация театров и музыкальных
коллективов. Весной и летом в Москву вернулись Центральный театр
Красной армии, Театр имени Ленинскою комсомола, в сентябре—октябре из
Свердловска, Куйбышева, Омска, Иркут ска, Ташкента, Алма-Аты приехали
и начали работать остальные московские театральные труппы. Их спектакли
осенью зимой 1944 г. и весной 1945 г. неоднократно прерывались. Но теперь
это было связано только с радостными событиями. Взволнованно зачитывали
актеры очередные сообщения об освобождении от фашистов советских
городов, а за окнами вспыхивали разноцветные огни салютов.
Для молодежной аудитории начали выступать возвратившиеся в столицу
из эвакуации артисты Центрального детского театра и Московского театра
юного зрителя. Они с успехом осуществили постановку спектаклей «Грач,
птица весенняя» (по произведению С.Д. Мстиславского) и «Город мастеров»
(Т. Г. Габбе).
24 сентября 1943 г. в Сталинград вернулся и приступил к работе (в клубе
СтальГРЭС) Сталинградский областной драматический театр. Деятельность
Областного театра в Курске началась 9 октября того же года пьесой
«Нашествие». Одновременно открылись театры Ростова, Новочеркасска,
Краснодара, Майкопа, Армавира и других городов.
Этап восстановления театральных учреждений совпал с процессом
организации новых театральных коллективов. Например, в 1941—1945 гг.
открыли шесть новых театров драмы и два детских театра на Среднем Урале,
Кукольный театр — в Нижнем Тагиле; начали радовать зрителей новые
музыкальные театры. Однако тогда же возникли серьёзные трудности. В
частности, в г. Кургане в 1944 г. здание, выделенное труппе
драматических актеров, было занято Оборонным заводом. Для
разрешения
возникшего
конфликта
потребовалось
несколько
обращений руководства области в Москву, к Молотову, Маленкову и
даже к Берия. Только вмешательство этих представителей высшего
эшелона власти помогло разрешить проблему в пользу театра.
На подвергшейся оккупации территории РСФСР в 1943 г.
восстановили 39 театров. В конце того же года актеры 22 театров работали
в освобожденных от врага областях Украины. 4 декабря 1943 г. Комитет по
делам искусств при СНК СССР в письме в ГКО сообщал, что «для
художественного обслуживания трудящихся основных промышленных
районов (Урал, Кузбасс), а также районов, освобожденных от немецких
захватчиков, Комитет по делам искусств при СНК СССР систематически
направляет крупнейшие государственные музыкальные коллективы,
ансамбли и концертные бригады. В начале 1943 г. в распоряжении
коллективов и ансамблей находились на правах аренды до 25 пассажирских
вагонов <...> так как размещение артистов в гостиницах, в постоянных
переездах из одного города в другой практически невозможно».
Художественные, театральные коллективы снискали заслуженную любовь
зрителей, сыграли заметную роль в мобилизации населения на
самоотверженный труд во имя спасения Отечества. Патриотические
спектакли, шефские концерты для работников тыла (несмотря на
идеологическую конъюнктуру) в значительной мере способствовали
поднятию их морального духа, укреплению веры в Победу.
Популярным и любимым в народе по-прежнему было кино. С первых
дней вражеского нашествия население СССР с особым вниманием смотрело
кинохронику, документальные фильмы, в которых была запечатлена
героическая борьба советских людей с врагом («Разгром немецкофашистских войск иод Москвой», «Ленинград в борьбе», «Битва за Берлин»
и др.). Были сняты на пленку сражения под Севастополем и Сталинградом,
на Курской дуге, полное освобождение Отчизны и стран Восточной Европы.
Эти фильмы смотрели целыми семьями, ведь у многих из них в лих битвах
участвовали родные и близкие люди.
Большой общественно-политический резонанс имел полнометражный
фильм «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», вышедший в
начале 1942 г. и показавший первую победу нашей армии. После
демонстрации в США и Великобритании этого фильма, создавший его
творческий коллектив был удостоен премии Американской академии
киноискусства.
За период войны вышли 34 полнометражных документальных фильма, 67
короткометражек, 24 фронтовых выпуска и более 460 номеров
«Союзкиножурнала» и журнала «Новости дня».
Невероятный успех в тылу и на фронте имели (так как рассказывали
о жизни обыкновенных людей, а герои были узнаваемы)
художественные фильмы о войне — героические и трагические, а также
обращенные к историческому прошлому Родины. Вот лишь некоторые из
них: «Радуга» (режиссер М.С. Донской), «Машенька» (Ю.Я. Райзман, Е.И.
Габрилович), «Парень из нашего города» (А.Б. Столпер, К.М. Симонов),
«Зоя» (Л.О. Арнштам), «Кутузов» (В.М. Петров), «Иван Грозный» (С.М.
Эйзенштейн; первая серия, 1945 г.).
Кинематографисты работали в трудных условиях — на новых местах, с
ограниченными скромными финансами. Киностудии из Москвы, Ленинграда,
Киева были эвакуированы в Алма-Ату, Ташкент, Ашхабад и разместились в
неприспособленных для съемок помещениях (кинотеатрах, клубах), наспех
переделанных в павильоны.
Людей восхищали (а также вселяли в них надежность и уверенность)
демонстрировавшиеся в кинолентах примеры верности в любви,
преданной дружбы. Так, актеры Б.Ф. Андреев и М.Н. Бернес в фильме «Два
бойца» (1943 г.; режиссер Л.Л. Луков) создали яркие образы друзейфронтовиков, показали крепкую мужскую дружбу и взаимовыручку.
Исполненная в этом фильме Бернесом простая и сердечная песня «Темная
ночь» композитора Н.В. Богословского перешла с экраны в жизнь и стала
одной из характерных музыкальных примет быта военного времени. Эта
скромная лента оказалась долговечнее иных помпезных картин. То же можно
сказать и о фильме режиссера А. Б. Столпера «Жди меня» (по мотивам
произведений К.М. Симонова), вышедшем на экраны страны в 1943 г.
Но любимейшим жанром кино для советских зрителей в тылу и на фронте
оставался комедийный. Самыми популярными были музыкальная комедия
«Свинарка и пастух» (ноябрь 1941 г.; режиссер И.А. Пырьев) и
эксцентрическая — «Новые похождения Швейка» (1943 г.; С.И. Юткевич), а
также вышедшие на экран в 1944 г. чеховские водевили «Свадьба» (И.М.
Анненский) и «Юбилей» (В.М. Петров).
Для людей, по 12 часов работавших на производстве, практически
забывших про выходные дни, посещение кино иногда было единственной
возможностью на короткое время отвлечься от тягот и забот военного
времени, получить так необходимый заряд бодрости и оптимизма.
Кинотеатры подбирали и кинофильмы, рассчитанные на юного
зрителя; в некоторых из этих учреждений работали детские библиотеки
и игровые комнаты. Перед киносеансами устраивались музыкальные и
литературные викторины, встречи с фронтовиками. Для самой младшей
категории зрителей в годы войны были созданы мультипликационные
фильмы: «Лиса, заяц и петух», «Сказка о царе Салтане», «Слон и Моська»,
«Синица», «Орел и Крот» (по басням И.А. Крылова), «Телефон» (по
произведению К.И. Чуковского).
Кинофестивали, которые проводились под контролем партийногосударственных
структур,
преследовавших
главным
образом
мобилизационные цели, организовывали сотрудники ведущих стационарных
кинотеатров крупных городов. Репертуар этих культурных мероприятий
соответствовал военному времени — он должен был отражать проблемы
обороны государства, разоблачать преступления немецких оккупантов и
нацистскую идеологию, пропагандировать героическую борьбу советского
народа.
Часто в сельских районах, где не было стационарных кинотеатров,
фестивали проходили по несколько недель или месяцев (жители деревни с
нетерпением ожидали кинопередвижку, колесившую из одного конца района
в другой). Так, с 5 января по 5 апреля 1942 г. в Свердловской области под
непосредственным руководством обкома партии состоялся кинофестиваль,
охвативший 810 населенных пунктов. Здесь организовали 2400 киносеансов,
которые посетили 180 тыс. зрителей. Кроме демонстрации фильмов в рамках
этого мероприятия были проведены сотни лекций, бесед, докладов, выставок
фото и картин художников
Чтобы привлечь зрителей, в фойе кинотеатров проводили концерты,
встречи с актерами, режиссерами фильмов, устраивали обсуждения
просмотренных кинолент.
Препятствием в работе кинематографистов стали идеологический
контроль, жесткие пропагандистские cтереотипы, не дававшие возможности
говорить правду о происходивших на фронте и в тылу событиях. Например,
все этапы работы над фильмом «Оборона Ленинграда» — от написания
сценария до выхода на экран — находились в центре внимания руководства
города. Постоянно изымались фрагменты, свидетельствовавшие о глубине
ленинградской трагедии, голоде, холоде и проявившейся при этом слабости
власти. В обсуждении этой подготовленной к показу документальной
киноленты участвовало все городское начальство. Выступившие
председатель горисполкома П.С. Попков, секретарь Ленинградского обкома
и горкома партии А.А. Жданов, другие официальные лица выразили крайнее
недовольство фильмом (демонстрировавшиеся в нем многочисленные трупы,
масса трудностей производили удручающее впечатление).
В «перекроенном» и «вычищенном» виде картина вышла в прокат только в
июле 1942 г. В первые 11 дней ее посмотрели 115 300 человек. «По мнению
некоторых зрителей, — отмечалось в информационной сводке на имя
Жданова, Кузнецова и других лиц, — фильм все же недостаточно показал
подлинную жизнь в осажденном городе: почерневших от копоти и грязи
людей, дистрофиков, людей, умирающих на панелях, трупы, лежащие на
улицах и т.п. <...> Хотят видеть закопченные квартиры с печкамивремянками и умершими людьми, людей, закутанных в ватные одеяла,
выстраивающихся с 2 часов утра в очередях у магазинов». Зрители
критически отнеслись и к деятельности тех кинематографистов, которые не
отказались от шаблонов и штампов предвоенных лет.
Учитывая действенность и доступность кино широким массам населения,
власти всех уровней приняли меры по совершенствованию проката фильмов.
Изданный Комитетом по делам кинематографии при Совнаркоме СССР
приказ о расширении выпуска широкопленочной и передвижной аппаратуры
от 12 августа 1943 г. способствовал увеличению материальной базы
киносети. 9 сентября СНК РСФСР принял постановление «О мероприятиях
по восстановлению киносети в городах и районах, освобожденных от
немецкой оккупации». В 1944 г. советское правительство вынесло решение
«О мероприятиях по улучшению кинообслуживания населения». В том же
году вышли постановления ЦК ВКП(б) «О производстве киножурналов и
документальных фильмов» и «О работе кинотеатров и кинопередвижек в
Ульяновской области». В 1943 г. по решению СНК СССР в Свердловске
приступили к созданию новой студии по производству художественных
фильмов. Выбор города не случаен: Урал в годы Великой Отечественной
войны превратился в один из крупнейших индустриальных и культурных
центров страны.
В начале войны на тыловой территории страны резко сократи лось
количество кинотеатров (в них развертывались госпитали, эвакопункты, цеха
перебазированных предприятий) и кинопередвижек, стало меньше
механиков. В дальнейшем по мере стабили зации обстановки на фронтах,
укрепления материально-технической базы тыла ситуация изменилась. Так,
если в 1941 г. в РСФСР работали 9 200 стационарных и передвижных
киноустановок, то в 1942 г. - 3 512, в 1943 г. - 4 039, в 1944 г. - 5 059, в 1945 г.
- 6 039
В военное лихолетье разнообразные формы массово-политической работы
сочетались с показом кинофильмов, где звучали полюбившиеся населению
мелодии. Песня ободряла людей, помогала им переносить торе и тяготы
жизни, вселяла в них силы и уверенность в Победе. В первую неделю войны
в Москве было создано около 200 песен. Уже 24 июня в газетах «Известия» и
«Красная звезда» опубликовали текст «Священной войны» (слова В.И. Лебедева-Кумача, музыка А. В. Александрова), ставшей «музыкальной
эмблемой Великой Отечественной войны». Затем появились «До свидания,
города и села» (М.В. Исаковского, М.И. Блантера), «Песня защитников
Москвы» (А.А. Суркова, Б.А. Мокроусова), «Давай закурим» (И.Я. Френкеля,
М.Е. Табачникова), «Вася-Василек» (С.Я. Алымова, А. Г. Новикова) и др.
Очень часто исполнялись лирические песни на стихи М.В. Исаковского
«Огонек» (автор мелодии неизвестен) и «В лесу прифронтовом» (музыка
М.И. Блантера). Всенародной стала песня «В землянке» (А.А. Суркова, К.Я.
Листов) В 1943 г. большой мастер песни В.П. Соловьев-Седой написал
песню-шутку «На солнечной поляночке» (слова А.И. Фатьянова), а
композитор Н.П. Будашкин — лирическую песню «За дальнею околицей»
(слова Г.Г. Акулова).
К добру и радости всегда будут звать «Соловьи» (В.П. Соловьева-Седого,
А.И. Фатьянова). Алексей Иванович Фатьянов (прошагавший по военным
дорогам в шинели рядового) в одной из радиопередач рассказал о том, как
родились слова этой песни: «Помню фронт. В большой зеленой роще мы,
солдаты, после только что затихшего боя лежим, отряхиваясь от крупинок
засыпавшей нас земли, и вдруг слышим: вслед за растаявшим вдали рокотом
вражеских самолетов во все горло, как бы утверждая жизнь, защелкал
соловей!».
Любимыми исполнителями песен военных лет были Л.А. Русланова, К.И.
Шульженко, М.Н. Бернес, Л.О. Утесов. Песня «Синий платочек» (Я.М.
Гольденберг (Галицкий), Е. Петерсбурский) стала популярной после того,
как ее исполнила Клавдия Ивановна Шульженко (апрель 1942 г.;
доработанный текст М.А. Максимова). В годы Великой Отечественной
войны в порядке шефства для Красной армии и Военно-морского флота
артисты эстрады провели около 30 тыс. концертных мероприятий.
В тылу повышенный интерес у публики всегда вызывали эстрадные
концерты, которые, как правило, строились на основе современных
музыкальных произведений, а также песен как патриотического, так и
развлекательного характера. Это давало людям столь необходимую
психологическую разгрузку в минуты короткого отдыха.
Популярной формой общения музыкантов со слушателями стали рапортыотчеты композиторов. Это были своеобразные концерты перед широкой
аудиторией любителей музыки. В процессе приобщения к музыкальной
культуре больших групп общества существенную роль играли концерты
классической, народной и эстрадной музыки. Их количество возросло с 33,7
(1942) до 53 тыс. (1943), число зрителей — соответственно с 12 до 19 млн.
Такая посещаемость — уникальное достижение даже для мирного времени.
В ситуации, когда деятельность творческой интеллигенции контролировалась
и
направлялась соответствующими
партийно-государственными институтами, трудно было полностью избежать политизации
музыкальных произведений, хотя многие из них были уникальны и
отличались глубокой художественностью. К ним относится Седьмая
Ленинградская симфония Д.Д. Шостаковича. Композитор закончил ее в
осажденном городе в сентябрьские дни 1941 г., но впервые эту симфонию 5
марта 1942 г. в Куйбышеве исполнил оркестр Большого театра СССР. В
блокированном Ленинграде это произведение прозвучало 9 августа того же
года н Большом зале филармонии, где собрались защитники города. Немцы,
узнав об этом, пришли в бешенство. Площадь искусств (место нахождения
филармонии) очень часто обстреливалась. Симфонию исполняли под грохот
нашей артиллерии — к тому времени инициатива контрбатарейной стрельбы
прочно перешла к советским войскам. Звучавшая героическая симфония
вещала всей стране и миру о том, что Ленинград стойко и мужественно
борется и презирает своих врагов. Шостакович писал: «Мне хотелось
создать про изведение о наших днях, о нашей жизни, о наших людях,
которые становятся героями, которые борются во имя торжества нашего
дела над врагом <...> Работая над симфонией, я думал о величии нашего
народа, о его героизме, о лучших идеалах человечества, о прекрасной
природе, о гуманизме, о красоте <...> Нашей борьбе с фашизмом, нашей
грядущей победе над врагом, моему родному го роду — Ленинграду я
посвящаю свою 7-ю симфонию».
Когда в США приобрели ноты Седьмой симфонии, ее стали исполнять
американские оркестры (в Нью-Йорке — оркестр под управлением А.
Тосканини). Концерты заканчивались настоящими демонстрациями,
призывавшими Америку к открытию второго фронта. К концу 1942 г.
героическая симфония более 60 раз звучала в зарубежных странах.
Уже в начале войны были открыты выставки военных плакатов и «Окон
ТАСС». Не угасло искусство агитационного плаката времен Гражданской
войны. В работе «Окон ТАСС» участвовали 130 художников и 80 поэтов.
Экспонировались работы военных художников студии имени М.Б. Грекова.
С 1942 г. на тыловой территории регулярно устраивали городские,
республиканские, всесоюзные художественные выставки. Требования
военного времени значительно изменили содержание изобразительного
искусства, по-новому определили удельный вес его отдельных видов, а
внутри каждого из них — преимущественное развитие того или иного жанра.
Зрители знакомились с продукцией деятелей изобразительного искусства, в
первую очередь с самым массовым и оперативным его видом — плакатом.
Сочетая в себе качества агитационного оружия и художественного
произведения, он представлял образ, оставлявший глубокий след в сознании
людей. Миллионы граждан страны запомнили первый военный плакат —
«Беспощадно разгромим и уничтожим врага», написанный группой художников-графиков и живописцев «Кукрыниксы» (М.В. Куприянов, П.Н.
Крылов, Н.А. Соколов) через несколько часов после начала Великой
Отечественной войны, и сразу же воспроизведенный на страницах газет в 103
городах.
«Агитвитрина» оперативно откликалась на все, что происходило на фронте
и в тылу. Плакаты, которые вывешивались в цехах фабрик и заводов, в
учреждениях, витринах магазинов и т.д., всегда вызывали у рабочих,
служащих, военных живой отклик и патриотический настрой. Относительно
произведений наглядной агитации (крупных и малых форм),
демонстрировавшихся в местах наибольшего сосредоточения народа, часто
возникали оживленные дискуссии.
В 1942 г. состоялись приуроченные к 25-й годовщине Октябрьской
революции 1917 г. художественные выставки. В Третьяковской галерее была
представлена экспозиция «Великая Отечественная война», в которой
участвовали 250 работников изобразительного искусства.
В 1943 г. в честь 25-летия создания Вооруженных сил СССР в Москве
Ленинграде, Архангельске, Вологде, Горьком, Самарканде, Фрунзе и
Тбилиси прошли выставки «Красная армия в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками». В том же году Третьяковская галерея организовала
Всесоюзную художественную выставку «Героический фронт и тыл», где
зрители смогли увидеть свыше 700 произведений.
Одной из самых волнующих стала выставка «Ленинград в дни блокады»,
открывшаяся в непокоренном городе в январе 1942 г. (затем ее перевезли в
Москву). Экспозиция вызывала у посетителей чувство глубокого уважения к
художникам, которые, как и все ленинградцы, строили оборонительные
рубежи, гасили зажигательные бомбы и т.д., но смогли создать 400 картин,
рисунков и скульптур, отразивших бессмертный подвиг блокадников. А в
июле 1943 г. эту выставку разместили в восьми залах Молотовского художественного музея. За месяц ее посетили свыше II тыс. человек. Среди
представленных здесь произведений была картина «Встреча на Неве. Прорыв
блокады Ленинграда 18 января 1943 года» художников А.А. Казанцева, И.А.
Серебряного и В.А. Серова.
Межобластные выставки прошли в Горьком (каргип художников
Поволжья), Иркутске (Сибири и Дальнего Востока), в Новокузнецке
(«Сибирь фронту») и в других городах. Проблематика экспозиций отражала
доблесть фронтовиков, самоотверженность тружеников тыла, героическое
прошлое страны, преступления фашистских оккупантов. За период войны на
Урале, например, состоялось несколько выставок на тему «Урал — арсенал
Великой Отечественной войны», в Свердловске — «Защита Родины», «Художники Молотовской области в дни Великой Отечественной войны» и др.
Произведения художников экспонировались и в центрах автономных
республик. Все вернисажи художественных работ на оборонные, патриотические темы, проводившиеся в 1941—1945 гг. на востоке страны,
вызывали повышенный интерес зрителей и специалистов. Самой
примечательной стала выставка «Урал — кузница оружия», проходившая в
Свердловске в 1944 г. Ее участниками были деятели искусств Москвы,
Свердловской, Молотовской и Челябинской областей. Примечательно, что о
подготовке этого мероприятия знала вся страна, поэтому сам процесс
контролировался партийно-государственными органами; кандидатуры
участников утверждали отделы пропаганды и агитации областных комитетов
ВКП(б). Среди наиболее ярких произведений критика и зрители выделили
пейзажи пермских художников А.Н. Зеленина, Ф.И. Дорошевича, тематические картины автора из Свердловской области Ю.Р. Бершадского (например,
«У пресса», «Цех»), триптих челябинца А.П. Давыдова «Урал — кузница
оружия» и некоторые другие работы.
Творчество художников зависело от социального заказа партийных
властей и подвергалось цензуре. О последнем свидетельствует, например,
история выставки сталинградских художников, организованная в марте 1945
г. В открывшейся экспозиции в помещении Сталинградского драмтеатра
(одном из немногих сохранившихся в городе зданий) были представлены 38
живописных произведений пяти авторов (в настоящее время сохранившиеся
полотна этой выставки находятся в музее-панораме «Сталинградская битва»).
Разные жанры картин объединяло одно — изображение города-героя,
возрождавшегося из руин. Несмотря на вызвавший большой интерес
горожан, выставка подверглась резкой критике со стороны партийных
органов. Художников обвинили в «воспевании руин» и «смаковании
разрухи».
Однако, несмотря на жесткую цензуру, созданные во время войны
художественные и скульптурные произведения становились настоящими
шедеврами, которые отразили суровые тыловые и военные будни, а также
несгибаемое мужество советского человека. В этой связи уместно вспомнить
картины, до сих пор впечатляющие зрителей: «Окраина Москвы. Ноябрь
1941 года» (А.А. Дейнека); «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября
1941 года» (К.Ф. Юон); «Фашист пролетел», «Жатва» (А.А. Пластов); «Мать
партизана» (С.В. Герасимов) и др.
Одним из значимых культурных событий в жизни городов были выставки
взятого Красной армией в боях против Германии и ее сателлитов трофейного
вооружения (с успехом шли по всей стране вплоть до Победы, вызывая
позитивную реакцию посетителей). Первая такая выставка открылась в
Мурманске 25 июля 1941 г. Исторический музей артиллерии (ныне Военноисторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи) уже в
первый год войны подготовил экспозицию трофеев, которая в специальном
вагоне курсировала по Кузбассу, Западной Сибири и Казахстану. Сотрудники
этого музея, помимо профессиональной деятельности, еще помогали
местным военным гарнизонам готовить резервы для фронта (выезжая с
комплектами трофейного оружия в части Сибирского военного округа, консультировали бойцов при изучении вражеской техники).
22 июня 1943 г. в Москве в Парке культуры имени М. Горького по
решению ГКО открылась большая выставка трофейной немецкой техники. Ее
многочисленными посетителями были москвичи и гости столицы, в том
числе иностранцы. Крупногабаритная техника располагалась на набережной
Москвы-реки и и двух павильонах. Были представлены образцы новейшей
боевой техники Третьего рейха. К 9 мая 1945 г. выставили тяжелые танки
типа «Королевский тигр», самоходную установку «Ягдпантеру» и др. После
разгрома милитаристской Японии прибыли новые трофеи из Маньчжурии и
Кореи. Когда выставка закрылась, часть экспонатов передали Центральному
музею Вооруженных сил СССР'4.
Население также посещало художественные и краеведческие музеи, судьба
которых сложилась по-разному: часть эвакуировали, а в некоторые из них
прибыли экспонаты с оккупированной фашистами территории. Однако
посетителей музеев становилось все меньше, так как сократилось число
учреждений культуры. С июня 1941 г. по январь 1943 г. количество музеев,
например, в РСФСР уменьшилось с 592 до 390. В зоне оккупации пострадали
173 российских музея. Были украдены уникальные произведения и
памятники национальной культуры, хранившие в музеях. Сотрудники
музеев, оказавшись в труднейших условиях, помимо своей основной
деятельности с первых дней войны приступили к организации
экспозиционно-вставочной и культурно-просветительской работы с
населением.
Ленинградский Музей революции (ныне Государственный музей
политической истории России) в сжатые сроки создал и открыл выставки
«Великое прошлое русского народа» и «Оборона Петрограда в 1919 г.».
Осенью 1941 г. музей перешел к подготовке выездных фотовыставок. За
первые полгода войны состоялось 147 тематических выставок («Великая
Отечественная война и 24-я годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции», «Как русский народ бил и бьет немецких
захватчиков», «Великая Отечественная война в борьбе советского народа
против немецко-фашистских захватчиков» и др.).
В июле — начале августа 1941 г. в нескольких московских музеях были
созданы небольшие экспозиции на военно-патриотические темы.
Центральные и местные музеи открывали выставки на тему «Великая
Отечественная война советского народа». 19 сентября в Москве в здании
Государственного Исторического музея (ГИМ) открылась организованная
несколькими столичными музеями стационарная «Антифашистская
выставка» — «Великая Отечественная война советского народа против
германского фашизма». В том же году ГИМ организовал 38 выставокпередвижек в Доме Союзов, Центральном доме пионеров, Центральном
парке культуры и отдыха имени М. Горького и на заводах Москвы.
Передвижные выставки, посвященные Великой Отечественной войне,
партизанскому движению, великим русским полководцам, всенародной
помощи фронту, провели Литературный музей, Музей Л.Н. Толстого в
Москве, музеи Архангельска, Саратова, Вологды и других городов. При
создании экспозиций в 1941 г. — начале 1942 г. использовались сюжеты,
отражавшие события настоящего и прошлого нашей истории (последние
преобладали, подчеркивая тем самым преемственность традиций).
Но не все разделы указанных выше выставок были «вплетены» в
исторический контекст, имелись сложности с непосредственной
иллюстрацией событий. Например, на выставке в ГИМ, где была развернута
объединенная экспозиция нескольких московских музеев, возникли
трудности с описанием начального периода Великой Отечественной войны,
когда РККА под натиском вермахта отступала по всем фронтам.
Существовал запрет на использование карт общего хода вооруженной
борьбы (чтобы не было «паникерских настроений»). Следует отметить, что
именно на «Антифашистской выставке» появились стенды, раскрывавшие
суть гитлеризма: «Лицо германского фашизма», «Разоблачение расистской
теории фашизма», «Фашизм — враг науки и культуры», «Ограбление
оккупированных стран».
Здесь же в соответствии с установками Наркомпроса РСФСР
экспонировались и международные разделы: «Захватнические войны
германского фашизма на территории Западной Европы», «Движение
солидарности народных масс Англии, США и других стран с СССР».
Имелись стенды, содержание которых до 22 июня 1941 г. показалось бы
«контрреволюционным»:
посвященные
соглашениям,
заключенным
Советским
Союзом
с
Англией,
Польшей
и
Чехословакией.
«Антифашистскую выставку» в Москве посетили военные, учащиеся, члены
народного ополчения, куда входили рабочие и представители интеллигенции.
Вскоре подобные экспозиции открылись в разных регионах страны — от
Сталинграда до Владивостока.
23 февраля 1942 г. Государственный музей революции в Москве (ныне
Государственный центральный музей современной истории России) открыл
постоянную выставку «Героический путь Красной армии». Посетивший ее 29
августа фронтовик Филипенков отмечал: «Осмотрев экспонаты,
представленные здесь, я еще раз убедился в героическом прошлом армии.
Полным голосом хочется крикнуть всем товарищам по оружию,
оставшимся на передовой: "Никакая сила не победит нас, коричневая
гитлеровская чума будет уничтожена", — об этом говорят славные
экспонаты выставки. Скорее бы оправиться от ранения и снова туда —
множить и увеличивать славу нашего оружия на поле брани в жестокой
борьбе с врагом».
Открывшаяся 20 декабря 1942 г. в здании ГИМ экспозиция «Комсомол в
Великой Отечественной войне» представила на суд посетителей уникальные
материалы — документы, связанные с подвигами молодых Героев
Советского Союза, достижениями тружеников тыла и комсомольскомолодежных бригад.
Следует отметить, что по мере развития событий на фронтах выставки
оперативно обновлялись, например, создавались дополнительные разделы
(«Разгром немцев под Сталинградом», «Укрепление антигитлеровской
коалиции» и др.).
Реже проводились выставки художественных произведений разных эпох,
что было связано с консервацией ббльшей части музейных собраний и
нехваткой специалистов. Но музеи, эвакуированные в различные регионы
страны, и там устраивали показы. Государственная Третьяковская галерея,
перебазированная в Новосибирск, в 1942 г. открыла 12 художественных
выставок (этюдов и эскизов В.И. Сурикова, лучших произведений русского
изобразительного искусства, «Художники театра» и др.). Их посетили более
160 тыс. любителей прекрасного. Эвакуированный в Свердловск Эрмитаж
летом 1943 г. на основе своих фондов организовал выставку графики
«Военная доблесть русского народа». Чтобы привлечь к своей деятельности
широкие слои населения, музеи устраивали выездные художественнопросветительские лектории.
К 1 января 1944 г. в России работало 13 художественных музеев. Открытие
же в военное время картинной галереи в Нижнем Тагиле свидетельствует о
том, насколько активной тогда оказалась культурная жизнь страны. С 1944 г.
стали возвращаться в родные стены коллекции ведущих советских музеев:
Третьяковки (Москва), Русского, Эрмитажа (Ленинград). Торжественное
открытие новой экспозиции Третьяковской галереи состоялось 17 мая 1945
г., а сотрудники Эрмитажа во главе с директором И.А. Орбели встречали
своих первых посетителей — ленинградцев 4 ноября. В 1944 г. были
реэвакуированы Загорский историко-художественный музей, музей А.С.
Голубкиной в Москве, музеи Рязани, Горького и Феодосии.
Горьковский краеведческий музей (реэвакуирован в апреле 1943 г.) начал
восстановительные работы силами небольшого числа сотрудников. В течение
года было сделано все возможное, чтобы открыть залы для посетителей. С 1
августа 1944 г. заработали отделы природы и истории края, с 1 сентября —
отдел Великой Отечественной войны. Горьковчане охотно посещали и
другой музей — возвратившийся из эвакуации Литературный имени М.
Горького. В 1943—1944 гг. его посетители ознакомились с семью музейными
выставками, прослушали 105 лекций о жизни и творчестве A.M. Горького,
участвовали в 138 экскурсиях. В Муромском городском музее была
развернута экспозиция, посвященная подвигу уроженца этого города,
летчика Н.Ф. Гастелло. Плодотворную работу коллектива Муромского музея
неоднократно отмечал Наркомпрос РСФСР.
На освобожденной от оккупации территории восстановление музеев шло
непросто. Экспонаты в подавляющем большинстве были разграблены
фашистами. И все же уже в 1943 г. открылись некоторые музеи в Харькове,
Киеве, Днепропетровске и других городах. К 1 января 1945 г. работали 26 из
41 художественного музея, существовавшего там до вражеского нашествия.
Устраивались многочисленные выставки в Киеве, Минске, Кишиневе,
Таллине. Возросла и посещаемость музеев, проводивших значительную политико-просветительную и культурно-массовую работу. Крупнейшие
государственные музеи России посетили в 1943 г. 474 тыс. человек, в 1944 г.
— 632 тыс., а за первое полугодие 1945 г. 528 гыс.
Для населения наиболее доступными учреждениями культуры оставались
библиотеки. Книга давно вошла в жизнь и быт миллионов граждан,
поддерживала духовную жизнь советского общества. В период оккупации
фашисты разрушили почти все библиотеки. Ценные коллекции были
вывезены в Третий рейх. Несмотря на ущерб, расположенные в
прифронтовых районах и тылу библиотеки продолжали обслуживать
читателей, вести политико-просветительскую работу, оперативно
пропагандировать художественную и политическую литературу и
военно-технические знания.
Огромный спрос у читателей имела литература военно-политического и
исторического содержания. Так, в библиотеке имени А.С. Пушкина в Москве
читателей в основном интересовали книги и очерки о героях войны —
Николае Гастелло, Зое Космодемьянской, Лизе Чайкиной; военная
публицистика Б.Л. Горбатова, К.М. Симонова, А.Н. Толстого, И.Г.
Эренбурга, В.В. Вишневского; «История дипломатии» и труды Е.В. Тарле,
мемуары А.А. Брусилова, а также такие произведения художественной
литературы, как «Тихий Дон» М.А. Шолохова, «Чингисхан» В.Г. Яна,
«Чапаев» Д.А. Фурманова,«11олководец Кутузов» М.Г. Брагина и др.
Советская пропаганда активно использовала образы героев Отечественной
войны 1812 года и Гражданской войны (1918—1922) с целью мобилизации
населения для отпора врагу. Внимание руководителей страны и
пропагандистов — от журналистов до профессиональных историков и
писателей — привлекали различные аспекты борьбы с Наполеоном. Так, если
в 1941 г. особое внимание уделялось партизанской борьбе, народному
ополчению, то в 1942-м резко сократилось число публикаций на эту тему, а
вышло около десяти брошюр и статей о М.И. Кутузове в связи с 130-летием
Бородинского сражения и введением ордена Кутузова.
Тяжелая обстановка военного времени (особенно в начальный период
боевых действий) сказалась на количестве читателей библиотек. Вместе с
тем в некоторых тыловых регионах России число посетителей библиотек
возросло (особенно после возвращения эвакуированного населения). Прежде
всего это относится к Новосибирской, Куйбышевской и Пензенской
областям. Состав посетителей библиотек тоже менялся.
Как видно в 1943 г. 25% всех посетителей библиотек были
военнослужащими, но с 1944 г. их становилось все меньше. Из года в год
возрастал приток рабочих, студентов и учащихся средних школ.
Для библиотек военного времени характерны многообразные живые
формы связи с читателями. Тысячи передвижных книжных выставок
работали в госпиталях, заводских цехах и на полевых станах. Библиотеки
не отапливались. В прифронтовой полосе во время тревоги посетители
покидали читальные (алы, спускались в бомбоубежища, а библиотекари
поднимались на крышу тушить «зажигалки». В Москве Государственная
библиотека имени В.И. Ленина ни на один день не закрывала общий
читальный зал, даже в грозные октябрьские и ноябрьские дни 1941 г. В
мае 1942-го открылся новый читальный зал — детский, в 1944 г. текущей периодики, в 1945 г. — ранее временно закрытые научные залы.
Число читателей этой библиотеки к концу войны было боль ше, чем в
довоенный период (1940 г. — 826 тыс., 1945 г. - свыше 960 тыс.). По
инициативе Государственной публичной исторической библиотеки в столице
был открыт ее филиал на станции метро «Курская». Во время войны
библиотека снабжала литературой госпитали, проводила коллективные читки
среди раненых,
В осажденном Ленинграде, в самую тяжелую пору «книга шла» к
обессиленным людям: в стационары, организованные на предприятиях для
наиболее ослабевших рабочих, в убежища и укрытия. Изможденные от
голода библиотекари зимой на санках или в рюкзаках приносили людям
книги, читали их, проводили беседы. А порой литература вы давалась
горожанам прямо на улицах, при входе в библиотеки.
14 февраля 1942 г. Наркомпрос РСФСР принял постановление «О развитии
сети передвижных библиотек», закрепившее возникшую по народной
инициативе новую форму деятельности них учреждений и оправдавшую себя
в чрезвычайной ситуации. Такие библиотеки работали во всех российских
краях и областях. В конце 1942г. в Московской области работали 1 500, в
Куйбышевской 1 080, в Свердловской — 2 070, в Новосибирской — I 300,
в Омской — I 874 библиотек-передвижек.
В том же году в Москве библиотеки обслужили 330612 человек, а
«передвижки» — 148 081 (44% общего количества чи тателей), а в 1942 г..
этот показатель возрос до 50%. Массовым как в тылу, так и на фронте стало
«книгоношество».
Особым спросом у населения пользовались произведения, вышедшие в
период войны. Вместе с тем пополнить книгохранилища этими изданиями
оказалось не так просто. Наиболее востребованные тома, к сожалению,
поступали в одном — двух экземплярах. Нарасхват шли книги писателей —
участников войны, например, получившая всенародное признание поэма А.Т.
Твардовского «Василий Теркин». Это произведение покорило читателей
правдивостью, знанием военной жизни и народным характером главного
героя.
Самоотверженно работали в течение всех лет войны массовые библиотеки:
областная имени А.И. Герцена (Киров), областная имени В.И. Ленина
(Горький), районная библиотека имени А.С. Пушкина (Москва). Ни на один
день не прекращала работу Северо-Осетинская республиканская библиотека.
В 1943 г. ее посетили 111 669 человек, а за восемь месяцев 1944 г. — 103 938.
Нельзя забывать о том, что в тот период значительно сократилось число
обслуживавших библиотеки сотрудников. Например, в Горьковской
библиотеке осталось 59 человек, в Кировской (областной) — 43, но эти
работники культуры (под руководством соответственно Е.М. Томасовой и
К.М. Войханской) провели огромную работу среди населения, в том числе в
трудовых коллективах промышленных предприятий. В 1943 г. работники
Горьковской областной библиотеки организовали монтаж и показ свыше 100
выставок. Тесно сотрудничали с библиотеками Волго-Вятского региона
эвакуированные писатели: А.Н. Толстой (Горьковская область) Б.А. Лавренев, Н.Н. Никитин, Е.Е. Шварц, А.Б. Гребнев (Кировская); Б.С. Иринин, П.С.
Балаков (Марийская автономная республика).
Библиотеки начали восстанавливать еще в ходе войны. Инициативу
проявляли жители освобожденных городов. В Воронеже, например, были
созданы комсомольско-молодежные бригады по сбору литературы для
библиотек, пострадавших в период фашисткой оккупации. Сталинградская
областная библиотека, разрушенная во время уличных боев, начала работу в
ноябре 1943 г. благодаря активным усилиям горожан. Уже в первой половине
1944 г. она выдала читателям 49 тыс. книг. В Ростове-на-Дону областная
библиотека открылась в марте 1943 г., спустя 15 дней после освобождения
города. К концу того же года в РСФСР сеть городских библиотек была
восстановлена на 62%, районных — на 85%, а сельских— всего лини, на
47%.
9 февраля 1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о создании
четырехмиллионного государственного книжного фонда для восстановления
библиотек. 18 февраля при Наркомпросе РСФСР был учрежден
централизованный государственный фонд литературы, куда начали
поступать добровольные пожертвования. К 1945 г. удалось собрать свыше
10 млн книг, из которых были пополнены или укомплектованы 70
областных и республиканских, 302 городских, 1 690 районных, свыше 4
тыс. школьных библиотек.
Из тыловых регионов в освобожденные области поступили книги русских
классиков (А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого,
А.П. Чехова), зарубежных авторов (У. Шекспира, И.-Ф. Шиллера, И.-В. Гете,
Ч. Диккенса), современных советских писателей и поэтов. Только в 1943 г.
для пострадавших книгохранилищ Государственная библиотека имени В.И.
Ленина выделила 233 тыс. экземпляров печатных произведений. Районная
библиотека имени А.С. Пушкина в Москве собрала для г. Богучар
(Воронежская область) 5 тыс. книг. В короткий срок были собраны для
Сталинграда сотни тысяч книг (11 тыс. томов собрала молодежь г. Кирова, 5
тыс. — студенты Московского авиационного института). На освобожденные
территории отправляли книги жители Горьковской, Саратовской и
Ивановской областей. Благодаря всенародной поддержке уже к концу
войны удалось восстановить значительную часть российских районных
и городских библиотек.
Гораздо медленнее шел этот процесс на Украине и в Белоруссии. Это
объяснялось более поздним освобождением республик от фашизма и
крупными разрушениями. Помощь населения учреждениям культуры
выражалась не только в сборе литературы. Молодежные бригады
ремонтировали здания библиотек, занимались их обустройством. Однако
не хватало не только книг и соответствующих помещений, но и специалистов
библиотечного дела.
Пополнение советского книжного фонда осуществлялось и за счет
поступлений из-за рубежа. Например, крупной благотворительной акцией
стали сбор и отправка в Советский Союз англоязычной, преимущественно
художественной, литературы американским комитетом «Помощь России в
войне». Планировалось отправить в СССР 1 млн томов. В 1945 г. в кампании
по сбору книг участвовали школы, университеты, издательства, библиотеки и
частные лица (писатели, ученые, домохозяйки США). Полных данных о
количестве книг, отправленных в нашу страну, нет, но известно, что 150 тыс.
из них поступило во Всесоюзную государственную библиотеку иностранной
литературы в Москве (для читателей они стали доступны в 1946 г.).
В сельской местности наиболее массовыми очагами культуры были
избы-читальни. Там люди узнавали о последних событиях на фронте,
слушали сводки Совинформбюро и «Последние известия», читали газеты и
получали информацию о льготах семьям красноармейцев и пенсиях. Здесь же
им помогали составить заявления или написать жалобы, наладить переписку
с родными, находившимися на фронте. Среди разнообразных форм связи
изб-читален с населением был сбор денежных средств, продовольствия,
теплых вешей на нужды Вооруженных сил страны.
Десятки и сотни тысяч жителей деревень и сел были охвачены читками,
беседами, докладами, лекциями, которые проводились в избах-читальнях.
Здесь, а также при районных домах культуры во многих областях
действовали агитбригады для культурного обслуживания крестьян и
персонала МТС (к сожалению, нет полных статистических данных о
массовой работе сельских учреждений культуры).
В 1942 г. (после принятия постановления Комитета по делам искусств при
СНК СССР «О руководстве концертными организациями РСФСР») активно
развернулась работа «по художественному обслуживанию сельчан».
Массовый характер стали носить выезды артистических бригад в деревню в
период посевных и уборочных работ. Как правило, артисты посвящали свои
выступления местным проблемам, что хорошо воспринималось зрителями.
Количество работавших для сельских тружеников художественных
бригад постоянно росло. Они вели большую агитационно-массовую работу:
развертывали агитвитрины, выпускали стенные газеты, проводили лекции и
политинформации, оформляли избы-читальни.
В ряде областей не все местные организации выполняли указания
властных структур о широком развертывании в деревне работы культурнопросветительных учреждений. Их помещения использовались не по
назначению. В Саратовской области из 1 161 избы-читальни не работали 759,
из 59 домов культуры — 52, из 362 библиотек — 341. В Ивановской области
из 901 избы-читальни бездействовали 386, а в Ярославской —
соответственно из 831 — 107. В начале 1945 г. в Краснодарском крае в
выделенных сельсоветами местах работали лишь 212 изб-читалеп (до войны
— 530), 18 домов культуры арендовали помещения у других ведомств;
ощущалась нехватка инвентаря и оборудования.
По инициативе общественности в тыловых и освобожденных районах
началось усиленное строительство дворцов культуры, клубов и изб-читален.
В этом принимали активное участие комсомольские организации,
мобилизовавшие молодежь на выполнение поставленных задач. Так, в
сентябре 1943 г. Орловский обком ВЛКСМ принял специальное решение, в
соответствии с которым при райкомах и горкомах комсомола были созданы
комиссии по непосредственной организации молодежи для восстановления
культурно-просветительных учреждений. Повсеместно формировались
строительные бригады; развернулось движение по сбору среди жителей
культурного инвентаря.
После освобождения Ленинградской области на местах собрались активы
комсомольских организаций, определившие формы участия молодежи в
возрождении учреждений культуры. Создали свыше 40 восстановительных
бригад и отрядов, началась подготовка культурно-просветительских
работников. В Сталинградской области на восстановлении названных
объектов работали 4 тыс.членов ВЛКСМ. В Ставропольском крае только в
1943 г. молодежь восстановила 739 соответствующих учреждений.
Молодежь уделяла особое внимание подготовке необходимых кадров.
Например, только в течение 1944 г. местные комсомольские
организации сумели обеспечить подготовку 4,5 тыс. молодых
киномехаников, что имело большое значение для реализации постановления
СНК СССР от 4 февраля 1944 г. «О мероприятиях по улучшению
кинообслуживания населения».
Тем не менее в совместной деятельности государственных и общественных
организаций по восстановлению в 1943—1944 гг. культурных объектов
имелись недостатки. Одним из них стало незначительное включение
сельских жителей в этот процесс (в основном он осуществлялся в отношении
городских центров культуры). Кроме того, с одной стороны, в военное
время целенаправленно проводилось военно-патриотическое и трудовое
воспитание народа, с другой — такие важные направления его духовной
жизни, как эстетическое, правовое, экологическое и другие, были резко
ограничены.
В промышленных регионах вся массовая культурно-просветительная
работа в значительной степени переместилась на предприятия,
активизировалась в заводских домах культуры и клубах. Широкий
размах эта деятельность приобрела в промышленности вооружения,
боеприпасов,
а
также
авиационной,
станко-инструментальной,
автомобильной и на металлургических заводах на востоке страны. Прямо в
заводских корпусах люди слушали доклады, читали плакаты, стенные газеты
и боевые листки. Здесь рассказывали о передовом опыте лучших работников
предприятия, мобилизуя персонал на выполнение фронтовых заказов.
Важное значение имела производственно-техническая пропаганда в работе
клубов заводов. В них устраивали выставки, посвященные достижениям
тружеником тыла и и зобретателей, а передовики производства читали
лекции и доклады Все это содействовало росту творческих сил людей,
изготавливавших необходимую фронту и тылу продукцию.
Посетителей заводских клубов и дворцов культуры интересовал широкий
круг вопросов. Проводились встречи с Героями Советского Союза,
писателями, представителями творческих профессий. Чтобы удовлетворить
не ослабевавший интерес к культуре и знаниям, в феврале 1943 г. ЦК
партии вынес решение «О культурной работе профсоюзов». В марте 1945
г. XIII пленум ВЦСПС рассмотрел вопрос «Об улучшении культурномассовой работы профсоюзных организаций среди рабочих и служащих».
Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) обязало местные
парторганизации систематически контролировать деятельность клубов, что
способствовало развертыванию культурно-просветительной работы в
трудовых коллективах. Заводские комитеты восстанавливали красные
уголки в цехах и общежитиях, а также радиоузлы и кинопередвижки,
приводили в порядок книжные фонды, улучшали работу кружков
художественной самодеятельности.
Центральные комитеты профсоюзов, завкомы создали культкомиссии,
провели выборы правлений клубов, организовали библиотечные советы.
Освобожденные председатели комиссий по культурно-массовой работе
действовали на предприятиях, где трудились более 3 тыс. человек
В 1943 г. центральные комитеты профсоюзов провели совещания, на
которых обсуждались вопросы вышеназванной работы. Например,
президиум ЦК профсоюза рабочих среднего машиностроения рассмотрел ряд
направлений
деятельности
культурно-просветительных
учреждений
(проведение смотров художественной самодеятельности, подготовка
руководителей самодеятельности, соревнование библиотек и др.). В 83 из 106
завкомов данного ЦК были укреплены культкомисеии, избраны 15 советов
библиотек, открыты 84 красных уголка. Возросло число прочитанных для
рабочих и служащих лекций и докладов.
Решения партийных и профсоюзных органов привели к улучшению
деятельности культурно-просветительных центров. Вместе с тем заводских и
клубных помещений не хватало, хотя в 1945 г. работал 2 131 клуб
профсоюзных организаций.
По данным ЦК профсоюза рабочих тяжелого машиностроения, с апреля
1943 г. по июнь 1945 г. были восстановлены 25 дворцов культуры и
клубов, 184 красных уголка и 45 профсоюзных библиотек. Тогда же сеть
красных уголков на предприятиях ЦК союза рабочих автопромышленности
возросла в два раза и превысила довоенный уровень.
Сотрудники культкомиссий заводов автопромышленности в 1944 г.
провели 18,4 тыс. читок и бесед, 3 230 киносеансов. При этом, как и прежде,
людей интересовали общеполитические и военно-патриотические вопросы.
Одновременно возросло число лекций и бесед по истории нашей Родины, ее
культуре и технике.
В клубах большую аудиторию собирали просмотры таких художественных
фильмов, как «Секретарь райкома», «Зоя», «Радуга», «Она защищает
Родину», раскрывавших духовный мир советских людей в дни войны,
величие их подвига. На экранах шли также публицистические
документальные фильмы о войне и жизни страны в годы суровых испытаний.
В 1944 г. в 10 клубах и 42 красных уголках заводов тяжелого машиностроения были организованы 1 390 вечеров отдыха, 945 спектаклей и
концертов, 270 экскурсий в музеи.
Администрация предприятий и общественные организации стремились как
можно лучше организовать редкие часы отдыха людей, отдававших все силы
для создания прочного тыла. На Московский автозавод, например, были
приглашены участники Сталинградской битвы, защитники Одессы и
Севастополя, Герои Советского Союза Л.М. Павличенко, М.Т. Слепнев и др.
В гостях у автозаводцев были мать Зои Космодемьянской Л.Т. Космодемьянская, а также писатели Б.Л. Горбатов, И.Г. Эренбург.
На предприятиях, где здания клубов только еще восстанавливались, на
открытых площадках устраивались вечера отдыха, киносеансы, лекции и
беседы. Профсоюзные библиотеки устраивали все больше книжных
выставок, в том числе специальных — рекомендательной литературы для
рабочих и инженерно-технического персонала. Лучшим библиотекам —
вручали грамоты ВЦСПС и премии.
В начале мая 1942 г. на Московском автозаводе был открыт филиал
Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. Рабочие и служащие
из фонда филиала получали книги по всем отраслям знаний. В библиотеке
ГПЗ-1 проводились посвященные Великой Отечественной войне выставки по
темам: «Герои-партизаны», «Разгром немецких войск под Москвой», «Фронт
и тыл неотделимы» и др. Серьезное внимание уделяла библиотека работе с
молодыми читателями. Только за пять месяцев 1944 г. для них организовали
около 400 массовых мероприятий (беседы, читки, встречи с писателями), в
которых участвовали 11,5 тыс. человек. Для новых рабочих с помощью
отдела технической учебы были подготовлены необходимая литература по
всем специальностям и рекомендательные списки: «Что читать токарю»,
«Что читать шлифовщику» и т.д.
Библиотека регулярно проводила читки новинок художественной
литературы, а в заводском общежитии устраивались «литературные
пятницы». В то же время в выпуске разнообразной продукции, необходимой
сфере культуры, участвовали и трудовые коллективы. Так,в цехах
предприятий организовали производство радиол и киноустановок, которыми
снабжали клубы, общежития, красные уголки; иногда изготовляли
грампластинки, кинопленку и т.п. В результате в 1942—1944 гг.
посещаемость восстановленных помещений (где проходили спектакли и
концерты) возросла более чем в три раза, число присутствовавших на беседах
и читках в клубах — в шесть раз.
Наблюдался и такой феномен, как взлет самодеятельного народного
творчества, хотя свободного времени у работников тыла практически не
было. Программы были обширны и разнообразны: песни, стихи, отрывки из
постановок, народные пляски. По вечерам в плохо освещенных, а зимой и в
холодных, залах дворцов культуры и клубов собирались взрослые и
молодежь, чтобы разучить новую песню, провести репетицию предстоящего
спектакля или обсудить программу очередного вечера самодеятельности. Регулярно проводившиеся смотры, конкурсы, олимпиады танцоров, баянистов,
солистов, музыкальных групп и т.д. объединяли тысячи талантов.
Стали известны устойчивые самодеятельные коллективы крупных
предприятий. Накануне войны в столице было 186 клубов, домов и дворцов
культуры. Духовой оркестр автозаводцев считался лучшим самодеятельным
оркестром в стране. В работе 40 кружков в 1945 г. участвовали 1 270 человек.
Драматический кружок ставил пьесы, водевили, проводил тематические
концерты в цехах. Большую популярность снискала концертно-фронтовая
бригада автозаводцев, куда вошли наиболее одаренные участники художественной самодеятельности. Артисты выступали и в действующей армии
(под грохот зениток и при налетах вражеской авиации), и в госпиталях.
Артистка бригады А. Казакова записала в дневнике: «14.Х11.43. Даем три
концерта. В землянке и палатке, где идут концерты, холодно. На второй
концерт пришли лучшие люди батальона <...> Это орденоносцы. Третий
концерт для персонала госпиталя <...> 21.XII.43. Концерт для танкистов
Невельской бригады. Сцена —развернутые борта двух полуторатонок.
Наши почетные зрители расположились на елках, наваленных прямо на
снегу». Полны благодарности и пожеланий дальнейших встреч с артистами
отзывы бойцов, политработников и командиров. Вот один из них: «Концертно-фронтовая бригада с первых же дней приезда на фронт стала
пользоваться в наших частях заслуженным уважением и любовью.
Артистам пришлось работать в трудных условиях боевой обстановки: в
непогоду, под открытым небом, в только что освобожденных деревнях
<...> а иногда под артогнем противника. Несмотря на это, артисты
успешно справились с поставленной перед ними задачей. Они за короткий
срок дали 69 концертов» В 1944 г. заводская бригада провела 282 концерта,
зрителями которых стали 117 тыс. бойцов.
В Горьком прославился самодеятельный ансамбль песни и пляски дома
культуры Горьковского автозавода, павший 1 200 концертов на
предприятиях, в госпиталях, воинских подразделениях.
В
художественной
самодеятельности
участвовали
и
рабочие
ленинградских предприятий, несмотря на тяжелые условия блокады.
Развитию художественной самодеятельности всегда помогало тесное
содружество клубов с артистической и художественной интеллигенцией,
писателями. Большое значение в тылу придавалось шефской работе
театральных коллективов.. Поддержавшие инициативу этого коллектива
артисты Свердловского музыкального театра установили шефство над
предприятиями своего города, а также Нижнего Тагила. Бригады артистов
устраивали на заводах агитационные концерты-обозрения, основанные на
местном материале и в художественной форме отмечавшие как трудовой
героизм, так и имевшиеся на производстве недостатки.
За четыре года войны профессиональные артисты организовали в
профсоюзных клубах свыше 105,7 тыс. спектаклей и концертов, на которых
присутствовали свыше 50 млн человек.
Нельзя забывать и о работе различных кружков (драматических,
музыкальных, хоровых и т.д.). Если в 1943 г. в стране их было 2 527, а в 1944
г. — 6 151, то в 1945 г. — 11 505, и занимались в них — соответственно 46
554, 121 473 и 237 258 человек.
Не прекратили своей деятельности в военные годы и литературные
кружки, хотя число их участников сократилось по сравнению с довоенным
периодом. В начале 1943 г. в учтенных заводских клубах работали 34 таких
кружка (465 участников), в 1945 г. — 181 (2 627). В редакции заводских
многотиражек, вокруг которых объединялся литературный актив, присылали
свои произведения поэты-фронтовики. Так, газета Московского автозавода
опубликовала стихи ушедшего на фронт рабочего Г. Баранова. Вот одно из
них:
«Я ненависть пою, За кровь я кровь пролью, За смерть отвечу смертью. Я
ненависть пою, Вы ненависть мою Попробуйте, измерьте!».
Стихи, эпиграммы, фельетоны отражали думы и чаяния веривших в
Победу бойцов и тружеников тыла. Некоторые рабочие и инженеры вели
дневники. На основе таких материалов, например, были написаны «История
Московского автозаводе имени И.Л.Лихачева» (М., 1966) и «Эшелоны идут
на Восток» (М , 1966), а также воспоминания московских станкостроителей:
Опубликованы дневники инженеров Горьковского автозавода В.А. Лапшина,
И.А. Харкевича и других рабогни ков тыла.
Вовлечению рабочих и служащих в народное творчество способствовали
смотры самодеятельного искусства. I апрели 194.1 г. Президиум ВЦСПС
принял специальное постановление о про ведении смотра художественной
самодеятельности на (вводах и фабриках. В июне 1943 г. прошел первый
смотр коллективов, которые демонстрировали образцы народного творчества
В песнях, танцах, драматических выступлениях артисты выражали чувства и
мысли простых людей. Лучшие самодеятельные коллективы были
награждены почетными грамотами, денежными премиями и ценными
подарками. Значительный размах художественная самодеятельность
получила в Подмосковье, где на рубеже 1943 1944 гг. в областном смотре
участвовало более 3 тыс. коллективов (почт 30 тыс. человек). Лучших
исполнителей рекомендовали для выступлений на проходившем в Москве
Всесоюзном смотре.
10 ноября 1944 г. в Большом театре выступили победители Всесоюзного
смотра художественной самодеятельности и рабочей молодежи — около 1
тыс. учащихся ремесленных училищ и школ Ф И) из различных регионов
СССР.
Еще в одном Всесоюзном смотре — самодеятельных хоров и вокалистов
(конец 1944 — начало 1945 г.) — принимали участие рабочие и служащие
предприятий авиационной, сахарной, хлопчатобумажной, каменноугольной
промышленности, станкостроения и среднего машиностроения. В период
подготовки
и
проведения
смотра
коллективы
художественной
самодеятельности выступали перед своими товарищами в общежитиях и
цехах. Работники автопромышленности, например, в первой половине 1945 г.
дали 662 концерта для 296 тыс. зрителей. В Москве 20 августа — 6 сентября
1945 г. прошел итоговый смотр хоровой самодеятельности. Для лучших
самодеятельных коллективов были характерны высокий идейнохудожественный уровень выступлений и репертуары, включавшие новинки
литературы и искусства.
С досугом связаны (хотя и относительно) праздники — государственные,
религиозные, народные. В советское время празднование Рождества, Пасхи и
Масленицы отошло на задний план, но не сразу. В период, когда
существовали и старое, и новое культурные пространства (например, в 1930
г.), рабочие отказывались праздновать 1 Мая, требуя возврата Пасхи, а в
Сибири даже требовали: «Долой 1 Мая!».
Советские праздники стали доминировать в начале 1930-х гг.:
Международный праздник трудящихся (1 мая), годовщина Октябрьской
революции 1917 г. (7 ноября), День Красной армии и Военно-морского флота
(23 февраля), Международный женский день (8 марта). «Жизнь без них
казалась немыслимой, — вспоминал академик Ю.А. Поляков, — и чем
дальше, тем больше они становились неотъемлемой частью сознания и
быта». Но в годы войны эти праздники часто были рабочими днями и не
отмечались с большой помпезностью. В такие дни в трудовых коллективах
детям сотрудников вручались скромные праздничные подарки. Так, в
Институте истории АН СССР детский подарок к 7 ноября 1943 г. состоял
из 400 г меда и 7 яблок, а к 23 февраля 1944 г. — из 10 мандаринов и 4
конфет.
Устраивалось празднование Нового года. В Советском Союзе оно не
приветствовалось примерно с 1927 г. Наряжать елки запрещалось, но с 1936
г. вместо Рождества уже отмечали Новый год. Сталин «вернул детям
новогодние елки», но концепция праздника изменилась по причине
идеологизации жизни общества. И даже елочные игрушки стали
«политическими» (с изображением Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса), а
фабрики по их производству массово выпускали фигурки, изображавшие не
только звезды, героев сказок, но и красноармейцев, челюскинцев, детей всех
национальностей и представителей рабочих профессий. Игрушки изготовляли из ваты, тисненого картона, папье-маше, стекла. Были и куколки с
фарфоровыми головками. Елки в домах украшали лакомствами — печеньем,
конфетами, орехами в золотой фольге. У коллекционеров сохранились
стеклянные шары со «счастливой» надписью «С 1941 годом!».
В 1941 г. СНК СССР постановил перенести день отдыха с воскресенья 28
декабря на четверг 1 января 1942 г. В тех союзных и автономных
республиках, где в связи с национальными и бытовыми условиями пятница
являлась днем отдыха, считать таковым 1 января 1942 г. вместо 2 января. Для
детей организовывали новогодние мероприятия, в том числе «посещение
елок». Составляющими таких праздников были выступления Деда Мороза,
артистов, проведение викторин и даже выставок трофеев. Так, в
Свердловском Театре юного зрителя на новогодней елке 1942 г. самым
желанным из всех видов развлечений для детей дошкольного возраста
оказалась возможность влезть на лафеты вражеских пушек, потрогать гильзы
от снарядов, примерить шлем летчика люфтваффе и т.д. О наиболее ярких
впечатлениях детей писали местные газеты. Вот, например, трогательное
письмо восьмилетнего свердловчанина: «Дед Мороз, у меня папа на фронте
уже седьмой месяц. Я пишу папе про тебя и твою елку, она мне очень
понравилась. Дед Мороз, иди на фронт и морозь всех немецких гадов,
которые убивают мирных жителей».
Свой досуг население проводило в парках, где работали многочисленные
выставки. Только в 1943 г. в Москве Центральный парк культуры и отдыха
имени М. Горького посетили 2 млн 600 тыс., Сокольнический — 1 млн 90
тыс., Измайловский — 400 тыс. человек.
Во время войны в связи со стихийным процессом оживления
религиозности в стране люди стали чаще посещать храмы. Священнослужители в проповедях не только поддерживали верующих, но и
стремились укрепить дух армии в целом. Когда на Пасху 1942 г. в храмах
Москвы прошло богослужение, репортажи об этом удивленная
зарубежная пресса передала на весь мир.
Церковная жизнь в СССР находилась под пристальным вниманием
органов госбезопасности. О пасхальных службах, состоявшихся во многих
советских городах в 1943 г., Л.П. Берия направил 28 апреля сообщение в
ГКО. В нем указывалось, что в столице службы прошли в 35 церквях,
которые посетили свыше 100 тыс. человек, около 80% из них составили
женщины. До 11 тыс. граждан пришли в кафедральный Богоявленский собор
(Елоховская площадь), 8 тыс. — в Старообрядческий собор (Рогожское
кладбище), который посетили девять сотрудников посольства США, заранее
уведомив о своем приезде настоятеля церкви. В храмах зачитали пасхальное
послание митрополита Сергия (Страгородского), а в Старообрядческом
соборе — главы старообрядческой церкви архиепископа Московского и всея
Руси Иринарха (Парфенова).
На пасхальных службах в Московской области (126 храмов)
присутствовали почти 160 тыс. человек, в ленинградских церквях (семь) —
около 30 тыс., в Горьком — до 15 тыс., в Ростове-на-Дону — приблизительно
8 тыс., в Саратове — не менее 10 тыс., в Куйбышеве — почти 6 тыс., в Рязани
(и районах) — свыше 10 тыс., в Ульяновске — до 6 тыс., в Архангельске —
около 3 тыс., в Бийске (и районах) — более 22 тыс., в Ашхабаде — 3 тыс. В
Хабаровском крае (там не было действующих церквей) верующие
собирались в частных домах. По словам Берия, «массовых отрицательных
высказываний или антисоветских проявлений во время пасхальной
службы отмечено не было».
Из территориальных органов государственной безопасности в НКГБ
СССР поступали сведения и о реагировании населения на
организованный Сталиным в Кремле прием руководителей Русской
Православной Церкви 4 сентября 1943 г. (большинство верующих
одобрили такой шаг советского руководства).
С волнением встретили жители страны радостную весть об окончании
Великой Отечественной войны. «Девятое мая! Никогда не забудет этого дня
советский человек. Как никогда не забудет 22 июня 1941 г. Между этими
двумя датами прошло как бы столетие. И как в народном эпосе, за это время
сказочно вырос советский человек. Он вырос так, что красноармеец, стоящий
у развевающегося знамени в Берлине, виден всему миру»", — так писатель
Н.С. Тихонов выразил чувства, охватившие его и соотечественников в день
Победы.
Несколько дней ликовала Москва. Сотни тысяч горожан радовались в эти
дни на Красной, Арбатской, Пушкинской и Манежной площадях, на ул.
Горького, у московских вокзалов. В 18 ч 250 эстрадных артистов начали
выступать перед москвичами на служивших им сценами грузовиках. В 22 ч
«салют Победы» из 30 залпов люди встречали счастливыми возгласами
(праздничные салюты давали в Москве с 5 августа 1943 г. после
освобождения Орла и Белгорода).
24 июня 1945 г. на Красной площади состоялся парад Победы. Это была
демонстрация мощи Советского государства и его Вооруженных сил, рапорт
народу о том, что враг изгнан с нашей территории и повержен. Главным
дирижером парада был С.А. Чернецкий (автор почти 200 военных маршей), а
его помощником и руководителем одного из оркестров — полковник В.И.
Агапкин.
Итак, во время война в тылу продолжали работать библиотеки, театры,
кинотеатры, музеи, клубы, избы-читальни. Пропагандисты и агитаторы вели
разъяснительную работу среди населения, рассказывая о событиях на фонтах,
о международном положении, об истории страны, края, ратной славе
предков. Государственный пропагандистский аппарат работал на всех
направлениях, используя главный прием, - апелляцию к патриотизму,
причем впервые с 1917 г. в неразрывной связи с дореволюционной
историей.
Важно отметить, что работники творческих профессий (которые трудились
в холодных помещениях или за пределами учреждений, либо в эвакуации)
несли людям знания, организовывали выставки, встречи с писателями,
любимыми актерами столичных и местных театров, новаторами
производства, морально настраивая народ на самоотверженный труд во имя
Победы. Еще никогда в мировой истории театр военных действий и
театр игровой не соприкасались так плотно, как в период Великой
Отечественной войны. Помимо непосредственно театральных и
концертных выступлений в тылу и на фронте артисты активно участвовали в
сборе средств на создание танков и самолетов, в Фонд помощи детям.
Инициатором проведения благотворительного концерта, денежные
поступления от которого направлялись в пользу детей погибших солдат,
выступила артистка М.В. Миронова. В Фонд помощи детям погибших
воинов было собрано 25,5 млн руб. — денежные средства от 2 183 сыгранных
спектаклей.
В военное время и государство, и интеллигенция имели общую цель —
спасти страну и культуру. Одним из главных направлений политики в
сфере культуры стало обеспечение функционирования ее объектов как
демонстрация факта продолжения духовной жизни советского общества.
Великолепные актеры, писатели, художники, интенсивно работавшие в
Москве, Ленинграде и других городах, продолжали трудиться на том же
уровне в эвакуации и существенно разнообразили культурную жизнь Урала,
Сибири и Средней Азии.
Массовый патриотический подъем, героизм, жертвенность — эти
общественные настроения стали определяющими в 1941 — 1945 гг. Без
них не было бы и Победы. Но документы военной поры свидетельствуют,
что в обществе имелось и иное отношение к войне, не носившее массового
характера". Это было вызвано коллизиями предвоенного времени,
породившими в части общества недовольство властью большевиков.
Некоторые наивно полагали, что с приходом немецких войск произойдет
смена общественного строя, государственная власть и жизнь коренным об-
разом изменятся. Распространению антисоветских и панических настроений,
слухов способствовало сокрытие правдивых сведений о действиях Красной
армии, особенно в начальный период войны. Быстро менявшаяся обстановка
на фронтах зачастую вступала в противоречия с высказываниями Верховною
главнокомандующего И.В. Сталина, сообщениями СМИ. Народ не мог этого
не заметить. Недоумения и сомнения людей проявлялись во время собраний,
лекций в виде вопросов докладчикам, ответы которых, к сожалению, часто не
были объективными.
Однако, по мнению О.Г. Жуковой, «психологически верной была
тенденция Совинформбюро, прессы и радио обходить, в целях недопущения
паники и настроений пораженчества, "глухими" фразами и вовсе умолчанием
первые отступления Красной армии и сдачу городов, заостряя внимание на
примерах мужества и героизма бойцов и командиров, воинских частей и
гарнизонов, обнародуя факты фашистских зверств на оккупированных
советских территориях, истинную суть фашизма».
Между тем воспоминания современников свидетельствуют о том, что,
несмотря на имевшиеся негативные стороны официальной пропаганды,
ее основные идеи в целом совпадали с преобладавшими в народе
настроениями и убеждениями. Характерные высказывания рабочих,
интеллигенции зафиксированы, в частности, в докладных записках наркому
госбезопасности СССР В.Н. Меркулову. После 9 мая 1945 г. все же было
больше высказываний с положительной оценкой таких мероприятий, как
парад Победы и демонстрация (названы «историческим, радостным днем»):
«Скоро настанет долгожданный день демонстрации в честь исторической
победы над фашистской Германией. Сейчас в Москву каждый день
прибывают наши прославленные воины Красной армии, которые будут
принимать участие в параде. Наша столица должна оказать им достойную
встречу <...> Если мы такую великую войну выдержали, то теперь нам и
подавно нечего бояться предстоящих трудностей. Народ уверен, что в
недалеком будущем жизнь улучшится еще больше <...> Война закончилась
— теперь надо ожидать улучшения жизни рабочих. Возможно, скоро отменят
карточную систему и военный налог».
Но были представлены и другие мнения, связанные с трудностями
экономического состояния СССР, особым режимом работы, законами
военного времени: «Война закончилась на поле брани, а для нас —
тружеников тыла — она еще продолжается. Со дня окончания войны никаких
изменений не произошло. Как работали с 8 утра до 8 вечера, так и до сих пор
продолжаем <...> Многие ожидали, что с окончанием войны улучшится
положение трудящихся и, в первую очередь интеллигенции. Но этого не
произошло, и на ближайшее время нет перспективы на улучшение жизни.
Наше правительство опять стремится только восстанавливать тяжелую
промышленность, а о нуждах народа не заботится».
Преодолеть людям величайшие невзгоды и психологические
нагрузки, изменить их моральное состояние и была призвана деятельность работников творческих профессий и мастеров слова.
Народная помощь фронту
В период Великой Отечественной войны советские люди стремились
лично помочь сражавшейся с врагом армии в обеспечении ее вооружением,
снаряжением и продовольствием. По инициативе общества был создан Фонд
обороны страны, что свидетельствовало о единстве фронта и тыла. Фонд
складывался из добровольно вносимых денежных средств, облигаций
государственных займов, драгоценностей, продовольствия. Финансовые и
материальные ресурсы шли на нужды вооруженных сил государства.
Первые полтора месяца войны движение за создание Фонда обороны
только зарождалось; денежные пожертвования и ценности сначала
принимали различные организации и учреждения. 29 июля 1941 г. в газете
«Правда» был опубликован обзор писем «Трудящиеся предлагают создать
Фонд обороны». 31 июля на страницах того же издания коллектив
московского станкостроительного завода «Красный пролетарий» призвал
всех рабочих, инженерно-технических сотрудников, деятелей науки и
искусства Советского Союза «ежемесячно до конца войны производить отчисление однодневного заработка в Фонд обороны страны, за счет которого
можно дать новые тысячи самолетов, танков, сотни тысяч пулеметов,
винтовок и прочего боевого снаряжения для окончательного разгрома
злейшего врага человечества — фашизма». Сообщалось, что для
добровольных взносов открыт специальный счет в каждом отделении
Госбанка СССР.
С 1 августа 1941 г. сообщения о поступлениях в Фонд обороны
систематически публиковались в сводках Совинформбюро. В целях
пропаганды это движение широко освещалось в центральной и местной
печати. В связи с поступавшими в Наркомат финансов СССР, ВЦСПС
запросами от предприятий, учреждений и профсоюзных организаций о
порядке передачи взносов в Фонд обороны в конце июля 1941 г. на места
были разосланы специальные письма. В них указывалось, что рабочие и
служащие должны передавать соответствующие заявления в расчетные части
своих предприятий. Каждый человек ставил подпись под предоставленными
им же сведениями о том, в каком размере и когда он хотел бы сделать взносы
из собственной зарплаты.
Важно подчеркнуть, что создание Фонда обороны явилось инициативой самих народных масс, одобренной ЦК партии, местными
партийно-государственными структурами и общественными организациями.
Такого массового патриотического движения, охватившего все регионы,
страна прежде не знала. В Челябинском областном отделении Госбанка
пришлось, например, установить круглосуточное дежурство для приема
взносов от населения — так велик был поток пожелавших внести свой вклад
в народную помощь фронту.
Взносы делали коллективы промышленных предприятий, государственных
учреждений, колхозов, совхозов, творческие союзы и граждане. Особенно
крупные денежные суммы поступали от жителей больших городов,
промышленных центров. Так, москвичи только за полгода войны из своих
личных сбережений и заработков передали на оборону более 142 млн руб., на
которые можно было приобрести 1400 самолетов или 750 танков. А общий
вклад москвичей в Фонд обороны за период войны составил 2 млрд 618 млн
руб.
Всего по СССР за военные месяцы 1941 г. в этот фонд поступило 1 млрд
787 млн руб., за 1942 г. — 2 млрд 455 млн руб. По состоянию на 1 января
1943 г., кроме денежных средств, было сдано 12,6 кг платины, 110 кг золота,
9 тыс. 155 кг серебра, других драгоценных предметов — на 1 млн 409 тыс.
руб., иностранной валюты — на 9 млн 290 тыс. руб., облигаций — на 2 млрд
439 млн руб. Помимо этих взносов труженики тыла внесли в Фонд обороны
сотни тысяч тонн зерна, десятки тысяч тонн мяса, шерсти и других продуктов
и сырья.
С осени 1941 г. в стране стали засевать сверх плана «гектары обороны»,
урожай которых передавали на поддержку личного состава вооруженных сил
СССР (если в Казахстане, например, было засеяно 38 147 га, то в Киргизии
только комсомольцами — 1 917 га)
В создание Фонда обороны внесла свой вклад интеллигенция страны.
Писатели и ученые, артисты и художники, учителя и врачи перечисляли в
Госбанк значительные суммы, в том числе авторские гонорары и
Государственные премии, различные ценности. Одним из первых в фонд
передал Госпремию (100 тыс. руб.) писатель М.А. Шолохов, по 50 тыс. руб.
внесли поэты А.Т. Твардовский и В.И. Лебедев-Кумач, а известный русский
писатель В.В. Вересаев передал несколько золотых изделий весом 300 г.
Фонд обороны пополнялся средствами, перечисленными жителями
национальных республик Советского Союза (см. табл.).
Из таблицы видно, что основную сумму поступлений на укрепление
обороноспособности страны составили средства населения России.
По сведениям Наркомата финансов СССР, поступления в Фонд обороны
уменьшились в марте—апреле 1942 г. Одной из причин этого введение с 1
января 1942 г. военного налога. В результате НКО, НВМФ, НКВД запретили
своим местным организациям производить отчисления в Фонд обороны. В
той же записке Урюпин указал, что «отчисления в Фонд обороны должны
быть сугубо добровольными». Он, анализируя сложившуюся ситуацию и
ссылаясь на присланные из трудовых коллективов жалобы, назвал
недостатки в работе местных органов. Рабочие и служащие сообщили о
высоких размерах удержаний из их зарплат в Фонд обороны, о налогах на
другие мероприятия. Так, в Москве, в типографии «Красный пролетарий»,
удержания составили 46—56% месячной заработной платы, на фабрике
«Трехгорная мануфактура» — 64%, на заводе «Красный богатырь» — 51 %.
При сборе средств на оборону страны фиксировались злоупотребления и
беззакония со стороны руководителей районов, нарушался принцип
добровольности. В частности, 4 февраля 1942 г. прокурор В. Бочков
проинформировал секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Андреева: «В Егорлыкском
районе Ростовской области РК ВКП(б) производил сбор средств по колхозам
в Фонд обороны. Только по 10 колхозам было собрано 58 500 руб. Сколько
всего собрано этих средств и как они израсходованы неизвестно, так как
деньги сдавались непосредственно второму секретарю райкома. Учета
никакого не было и соответствующих документов не составлялось». На
письме имелась резолюция Андреева: «Тов. Бочкову. Надо привлечь к
ответственности виновных». Высшие государственные и партийные органы
осуждали подобные действия, расценивали их как грубую ошибку и вредную
практику.
Сегодня некоторые авторы отрицают пользу, которую принесли фронту
собранные населением денежные средства. Исследователи проблемы
народной помощи Красной армии, напротив, высоко оценивают вклад
граждан страны в создание Фонда обороны и роль добровольных
пожертвований.
Как свидетельствуют документы, в целом по стране поступления в Фонд
обороны к середине февраля 1943 г. составили около 6 млрд руб. В годы
войны производство одного самолета-истребителя обходилось государству
примерно в 100 тыс. руб., танка — 200 тыс. руб. Исходя из этого, нетрудно
представить себе значение добровольно собранных народных денег для
укомплектования боевой техникой и вооружением десятков частей и
соединений Красной армии.
Почти одновременно с созданием фонда деньги от населения стали
поступать и на строительство танковых колонн и эскадрилий самолетов,
катеров и бронепоездов. В этом проявилось стремление советских людей
помочь стране ускорить разгром фашистской Германии и ее союзников.
Однако это движение активизировалось только в конце 1942 — начале 1943
г., в связи с успехами Красной армии под Сталинградом.
Добровольные взносы на строительство танковых колонн, авиаэскадрилий,
артиллерийских установок поступали в Фонд Красной армии, который имел
в Государственном банке СССР самостоятельный счет.
В грозные осенние дни 1941 г., когда бронированные полчища вермахта
рвались к Москве, одними из первых с инициативой сбора средств на боевую
технику выступили комсомольцы Челябинского абразивного завода
Наркомстанкопрома. Их почин — создать танковую колонну имени
Челябинского комсомола — имел всесоюзное значение. «Комсомольская
правда» писала: «Челябинцы сделали заказ на танки! Кто следующий?». Уже
25 декабря 1941 г., по данным 44 обкомов, крайкомов, ЦК комсомола
союзных республик, на строительство танковой колонны имени ВЛКСМ
было собрано 62 690 тыс. руб.
К концу 1941 г. в Молотовской области внесли на создание танковой
колонны«Уральский комсомолец» внесли 4 356 тыс. руб., в Алтайском крае
на танковую колонну «Комсомолец Алтая» — 3 600 тыс. руб. Массовый сбор
средств проводился также на строительство танковых колонн и эскадрилий
самолетов с одинаковыми названиями: «Горьковский комсомолец»,
«Красноярский комсомолец», «Кировский комсомолец», «Иркутский
комсомолец», «Комсомолец Узбекистана», «Комсомолец Киргизии» и т.д.
Комсомольцы и молодежь Челябинской области собрали на создание
танковой колонны «Челябинские колхозники» 30 млн руб. и боевых кораблей
«Челябинский комсомолец» — 15 млн руб. На деньги, собранные молодежью
Свердловской области в 1941 г. (16,5 млн руб.), в свободное от работы время
изготовили первую танковую колонну («Свердловский колхозник»), а на
создание второй («Свердловский комсомолец») в 1942 г. было внесено 10
млн руб.137
В блокадном Ленинграде комсомольцы собрали на танковую колонну
«Защитник Ленинграда» 7,5 млн руб., а 15 июня 1943 г. на строительство
танков и самолетов молодые рабочие Ленинградской области внесли в
Госбанк СССР 25 млн руб.
Осенью 1942 г., когда враг наступал на Сталинград, комсомольцы и
молодежь Казахстана приобрели на личные средства 46 танков и передали их
войскам, сражавшимся на подступах к городу. Подобных примеров было
множество. На средства комсомольских и молодежных организаций в первый
период Великой Отечественной войны (до 19 ноября 1942 г.) в стране было
создано (и достраивалось) более 80 танковых колонн.
В разгар героических сражений советских войск на Волге, 9 декабря 1942
г., в печати появилось сообщение о том, что труженики села Тамбовской
области собрали на строительство танковой колонны «Тамбовский
колхозник» 40 млн руб., а через несколько дней в подарок Сталинградскому
фронту крестьяне Саратовской области передали на строительство
эскадрильи боевых самолетов 33,5 млн руб. личных сбережений. Колхозники
Новосибирской, Калининской, Куйбышевской, Горьковской, Рязанской
областей собранные средства внесли на создание танковых колонн. Сознательность крестьянства объяснима: не было ни одной сельской семьи, у
которой на фронте не воевали бы отцы, мужья и братья.
Саратовский колхозник Ф. Головатый дважды внес по 100 тыс. руб. на
постройку двух истребителей (декабрь 1942 г., май 1944 г.). Сохранились
фотоснимки, на которых изображен момент передачи (1942) одного из
самолетов летчику Сталинградского фронта гвардии майору Б.Н. Еремину.
Саратовские и тамбовские колхозники были первыми, кого лично
поблагодарил Верховный главнокомандующий Сталин. Позднее такие
благодарности стали поступать в адрес коллективов предприятий,
учреждений, колхозов и отдельных лиц.
Через СМИ советское общество, бойцы на передовой узнавали о
благородных поступках граждан своей страны. Солдатские письма
благодарности за построенную на народные деньги технику получали многие
коллективы. Сошлемся на одно письмо с фронта от 22 сентября 1943 г.:
«Дорогие товарищи! Этот привет Вам шлет личный состав части,
которую Вы вооружили боевыми машинами-танками "Тамбовский
колхозник", построенными на собранные Вами средства. В опытных руках
гвардейцев-танкистов танки "Тамбовский колхозник" во всех прошедших
боях были могучим и грозным оружием, при помощи которого мы
беспощадно мстили немецко-фашистским захватчикам за все их
преступления, совершенные против нашего народа. За время прошедших
боев гвардейцы на танках "Тамбовский колхозник" истребили до 6 000
фашистских солдат и офицеров, уничтожили 154 вражеских танка, 149
пулеметов разного калибра, 73 миномета, 184 пулемета и много другого
оружия <...> За прошедшие бои 348 гвардейцев-танкистов награждены
правительственными наградами, среди которых особенно отличились
гвардии старший лейтенант Федорчук, награжденный 4-м орденом, гв.
старший лейтенант Луганский, награжденный 5-м боевым орденом, гв.
старшина Гладышев, награжденный 3-м боевым орденом <...>
Гвардейцы-танкисты и весь наш советский народ никогда не забудут
замечательный патриотический почин трудящихся Тамбовской области, в
которой сказались единство и сплоченность нашего народа».
Крупные суммы денежных средств на приобретение боевой техники
поступали от жителей городов и рабочих поселков. Только население
осажденного Ленинграда к началу 1943 г. внесло около 75 млн руб., жители
Челябинска и Нижнего Тагила — по 27 млн, Магнитогорска — 18 млн,
Иркутска — свыше 14 млн руб.
Разнообразной была помощь москвичей фронту. На строительство танков
и самолетов они передали в военное время 409 млн руб. из личных
сбережений. На эти средства создавались авиационное соединение «Москва»,
танковая колонна «Москва», звено самолетов «Малый театр — фронту» и др.
На собранные деньги работники Московского железнодорожного узла
построили семь бронепоездов «Москва». «Ежедневно десятки самолетов с
надписями на фюзеляжах "Москва" и "Малый театр — фронту" наносят
чувствительные удары зверю в его собственной берлоге, — сообщали газеты
в начале 1945 г. — Только за три дня боевых действий эти самолеты
уничтожили до 30 танков, по 100 машин с техникой и боеприпасами. На
машинах москвичей наши летчики провели 16 воздушных боев, сбив при
этом девять "Фокке-Вульфов" и три "Мессершмитта-109"».
В больших размерах поступали средства на приобретение различного
вооружения от интеллигенции. В марте 1942 г. несколько академиков
обратились ко всем научным сотрудникам страны с предложением принять
участие в строительстве танковой колонны «За передовую науку». Они
призвали ученых сдавать в фонд строительства танков, помимо
индивидуальных взносов, все сборы от платных лекций, а также
четверть гонорара за каждую изданную работу.
В конце марта — начале апреля 1943 г. на приобретение боевой техники
для действующей армии передали свои Государственные премии академики
А.А. Байков, А.А. Борисяк, Б.Е. Веденеев, П.М. Жуковский, Н.В. Цицин, Е.А.
Чудаков, писатели B.J1. Василевская, А.Е. Корнейчук, Л.М. Леонов, А.Н.
Толстой, композитор И.
Хачатурян,
скульптор
М.Г.
Манизер,
заслуженный деятель искусств РСФСР Д.Ф. Ойстрах и др.
Работники искусств Челябинской области в августе 1942 г. начали сбор
средств на создание звена боевых самолетов «Челябинский артист». За
короткое время собрали 100 тыс. руб. и на них построили авиазвенья
«Ленинградский театр имени Кирова» (театр находился в Перми в
эвакуации), «Пермский художник». В Иркутской области создали
авиаэскадрильи «Учитель», «Советский артист». В 1942 г. наличные средства
С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, М. Гусева, художников Кукрыниксов был
изготовлен и передан в КА танк КВ-1. Известный артист В.Г. Мессинг в 1944
г. на свои личные накопления приобрел истребитель Як-7, на котором затем
воевал Герой Советского Союза К.Ф. Ковалев.
Народная забота о нуждах Красной армии не обошла стороной и Церковь.
30 декабря 1942 г. глава Русской Православной Церкви митрополит
Сергий обратился к прихожанам с призывом о сооружении на средства
верующих общецерковной танковой колонны имени Дмитрия Донского.
В телеграмме Сталину 5 января 1943 г. митрополит Сергий сообщил о
сборе денег на эти цели и получил ответ, где было дано разрешение
открыть специальный счет в Госбанке СССР. Это стало первым
утверждением юридического статуса РПЦ за годы советской власти.
Верховный главнокомандующий передал благодарность русскому
духовенству и верующим за заботу о бронетанковых силах Красной армии.
Всего было собрано более 8 млн руб. и большое количество золотых и
серебряных вещей.
Танковую колонну с надписями на боевых машинах «Дмитрий Донской»
составили 40 танков, построенных на Челябинском танковом заводе.
Грозную технику получили 38-й и 516-й отдельные танковые полки,
прошедшие к тому времени нелегкий боевой путь. Последующие их действия
на разных фронтах были не менее напряженными. О героических делах
воинов 38-го и 516-го танковых полков свидетельствуют их высокие
государственные награды. Так в борьбе за общие цели — освобождения и
возрождения Отечества — патриотические чаяния русских верующих и
духовенства воедино слились с доблестью солдат и офицеров, сражавшихся
на фронтах Великой Отечественной войны.
Многие люди не только в СССР, но и за рубежом делали личные вклады.
Например, композитор С.В. Рахманинов перечислил в Фонд Красной армии
денежный сбор от нескольких концертов, которые он дал в США. Известный
американский поэт К. Сэндберг в сентябре 1941 г. передал через
Внешторгбанк СССР письмо и 3 тыс. долл. для КА, ВМФ и советской
авиации.
По документам Наркомата финансов СССР можно проследить динамику
поступлений в этот фонд. Если на 10 января 1943 г. сумму составляла 3 млрд
412 млн 899 тыс. руб., то на 21 марта 1943 г. — 6 млрд 964 млн 315 тыс. руб.,
а на 26 марта — 7 млрд 23 млн 596 тыс. руб.
Большие денежные суммы на боевую технику и вооружение перечисляли
жители разных национальных республик, но их основная доля поступала от
населения России. Заметим, что в газетах отражалась лишь положительная
сторона патриотических движений в целях их пропаганды и широкого применения.
Нарком финансов А. Г. Зверев регулярно направлял сведения о
поступлении денежных средств в Фонд Красной армии (в целом по
СССР, республикам, краям и областям) первым лицам государства:
Сталину, Молотову, Маленкову, Андрееву и Вознесенскому. Верховному
главнокомандующему сообщались также данные о взносах колхозников.
Это свидетельствует о большой заинтересованности государства в
дополнительных доходах бюджета СССР и поддержке народом
внутриполитического курса.
Советское правительство, учитывая, что в июне 1943 г. планировался
выпуск второго государственного военного займа, в начале апреля через
газету «Правда» обратилось к гражданам страны с просьбой временно
прекратить денежные взносы на строительство вооружения. С 7 апреля
прием этих добровольных взносов был прекращен. Однако уже во второй
половине 1943 г. труженики тыла, воодушевленные успехами на советскогерманском фронте, снова приступили к сбору средств на строительство
танковых колонн, авиаэскадрилий, артиллерийских установок, бронепоездов.
Вскоре средства на боевую технику начали собирать и жители
освобождавшихся от оккупации районов. 10 февраля 1944 г. «Правда»
опубликовала статью «Демонстрация патриотизма украинского народа», в
которой сообщалось о начале нового патриотического движения в
освобожденной республике: вкладах в Фонд обороны и Фонд Красной армии.
Динамику поступлений средств в Фонд Красной армии по УССР отражают
следующие данные: на 16 февраля 1944 г. поступило 68 млн 266 тыс. руб.; на
17 февраля — 131 млн 233 тыс. руб.; на 18 февраля — более 156 млн. руб.151
Тем не менее нельзя не упомянуть и о негативных сторонах во
взаимоотношениях власти и населения в некоторых освобожденных
регионах, в том числе о фактах административного нажима на людей в ходе
сбора средств. В целом в годы войны в Фонд обороны и на приобретение
боевой техники и вооружения поступило от населения свыше 17 млрд
руб., 13 кг платины, 131 кг золота, 9 519 кг серебра (на 1,7 млрд руб.).
Эти средства были израсходованы на постройку 2,5 тыс. боевых
самолетов, нескольких тысяч танков, 8 подводных лодок, 16 военных
катеров и др.
Средства в Фонд обороны и Фонд Красной армии поступали как за счет
добровольных взносов людей, так и за счет заработанных ими на
субботниках и воскресниках, которые проходили на предприятиях и в
учреждениях различных регионов. Заработанные денежные суммы
перечисляли также на оказание помощи семьям фронтовиков, в Фонд
помощи детям, в фонды восстановления Сталинграда, других разрушенных
городов и т.д. 3 августа 1941 г. «Правда» сообщила, что состоялся массовый
воскресник железнодорожников, в котором участвовали свыше 1 млн
человек; весь заработок — 20 млн руб. — был передан в Фонд обороны.
Трудовой энтузиазм в период проведения воскресников, декадников,
месячников проявила молодежь. В 1941 г. состоялось три Всесоюзных
комсомольско-молодежных воскресника — 17 августа (свыше 9 млн
участников), 7 сентября в ознаменование Международного юношеского дня
(13 млн) и 23 ноября (4 млн).
В справке, направленной 22 августа 1941 г. секретарям ЦК партии А.А.
Андрееву, Г.М. Маленкову, А.С. Щербакову от секретаря ЦК ВЛКСМ Н.
Михайлова, указывалось, что на первом Всесоюзном воскреснике молодые
рабочие предприятий перевыполняли нормы в два — три раза. Сельская
молодежь трудилась на уборке урожая и заготовке кормов. Комсомольцы
учреждений, вузов работали на погрузке и разгрузке железнодорожных
составов, на торфозаготовках, ремонтировали дороги и мосты, заготавливали
дрова для школ, больниц, госпиталей.
Вместе с молодежью на работу вышли сотни тысяч добровольцев, в том
числе пенсионеры и домохозяйки. 17 августа 1941 г.только на железных
дорогах страны трудились 900 тыс. человек. Железнодорожники в течение
дня отремонтировали 533 паровоза, 2 812 товарных вагонов, 727 км
железнодорожных путей. Заработанные на первом Всесоюзном воскреснике
44 млн руб. передали в Фонд обороны.
В период проведения второго Всесоюзного воскресника (7 сентября 1941
г) перед коллективом Московского станкозавода имени С. Орджоникидзе
выступил Герой Советского Союза И.Д. Папанин. Он призвал работников к
новым
производственным
успехам,
и
сам
показал
пример
высокопроизводительного труда, выполнив сменное задание на 268%. В тот
день заводской коллектив изготовил большое количество сверхплановой
продукции и передал в Фонд обороны 24,5 тыс. руб. В Москве в
комсомольско-молодежных воскресниках 17 августа и 7 сентября 1941 г.
участвовали 1,45 млн человек, в Ленинграде — 348,5 тыс. Ленинградцы заработали и перечислили в Фонд обороны 2,5 млн руб. Участники двух первых
Всесоюзных воскресников в целом по СССР передали в Фонд обороны 104
млн руб.
23 ноября 1941 г. по инициативе комсомольской организации
Челябинского
тракторного
завода
провели
третий
Всесоюзный
комсомольско-молодежный воскресник, в котором массово участвовали
юноши и девушки разных национальностей. Например, на воскресниках 23
ноября и 7 декабря в Туркмении их число составило 280,5 тыс. человек,
заработанные же ими 1,4 млн руб. были переданы на дальнейшее укрепление
обороны СССР.
С августа 1941 г. по октябрь 1943 г. в стране прошли пять Всесоюзных
комсомольско-молодежных воскресников, в которых в общей сложности
участвовали 43 млн граждан. В целом по Советскому Союзу заработанные на
молодежных воскресниках средства в 1941—1945 гг. превысили сумму 460
млн руб. Кроме того, в регионах было организовано немало общесоюзных
воскресников, декадников, месячников по оказанию помощи фронту.
В экстремальной ситуации, когда финансовое напряжение в стране
усилилось, важным источником пополнения средств на оборону стали
дополнительные поступления денежных средств от граждан по подписке на
военные займы. В кредитовании государства участвовали городское и
сельское население, жители различных республик, краев и областей. За
период войны было выпущено четыре государственных займа, каждый в
двух выпусках на запланированную сумму — 72 млрд руб., не считая
государственного займа третьей пятилетки, который был принят 2 июня 1941
г. Но он размещался уже в период боевых действий. К середине июня 1941г.
подписка на государственный займ четвертого года третьей пятилетки дала
государству 10 млрд 530 млн. руб. В начале войны была успешно
осуществлена и дополнительная подписка на этот займ. К середине июля
1941 г. его облигации (почти на 300 млн руб.) распространили среди
населения страны.
Первый военный займ (подписная сумма — 10 млрд руб) был выпущен в
апреле 1942 г. Подписка проходила в атмосфере высокого патриотического
подъема. Труженики тыла, зная, что деньги, полученные от займа, пойдут на
строительство боевой техники, ежемесячно отчисляли на эти цели свои
оклады или полутора-двухмесячные заработки. Так, на митинге рабочих
третьего цеха завода № 356 Сталинского района Свердловска 13 апреля
1942г. старый кадровый рабочий Гаврилов просто и ясно рассказал, какую
роль советские займы сыграли в индустриализации страны, какое значение
они имели в военное время. Он призвал весь коллектив подписаться на
месячный заработок, что и было сделано к концу смены. К 17 ч 15 апреля
1942 г. среди жителей района было уже свыше 80% подписавшихся на займ
(20 млн 337 тыс. руб.).
Массовая подписка трудящихся на государственные займы была одной из
форм помощи фронту. Токарь Калининского железнодорожного депо
Андреев на митинге заявил: «Я подписываюсь на 150% месячной заработной
платы. Но срок рассрочки большой, а время не терпит, фронт не ждет. Вношу
сумму подписки наличными». Подписка везде прошла быстро. «Постепенные
вложения в хозяйство ряда небольших сумм, хотя бы и достаточно
значительных в совокупности, не шли ни в какое сравнение с той огромной
помощью делу обороны, которую оказали советские люди, под писавшиеся в
1942 году на десятимиллиардный военный займ», — подчеркивал в мемуарах
нарком финансов СССР А.Г. Зверев.
Второй военный займ выпустили в 1943 г., третий — в 1944 г., четвертый
— в 1945 г. Среди участников кредитования государства на первом месте
находилось население РСФСР, причем сумма подписки в указанный период
возросла с 8 млрд 505 млн (1942) до 17 млрд 473 млн руб. (1944). В первой
шеренге шли Москва и Ленинград. Блокада не сломила мужественного духа
и воли к победе жителей крепости на Неве. Они с пониманием встретили постановление правительства СССР от 12 апреля 1942 г. о выпуске
государственного военного займа. Большинство районов города раньше
срока полностью внесло сумму подписки. За военные годы значительные
средства дали взаймы государству трудящиеся Узбекистана, Казахстана,
Грузии, Азербайджана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана. Характерно,
что в военное время существенно увеличились суммы подписки на займы
среди сельского населения. На 24 апреля 1942 г. от колхозников уже
поступило свыше 1 млрд руб. Всего крестьянство страны дало взаймы
государству по этому займу 3 млрд руб. К 1943 г. сумма подписки на
военные займы среди сельских жителей возросла более чем в три раза.
Существенно пополнили доходную часть государственного бюджета
денежно-вещевые лотереи, которые были проведены в 1941—1944 гг. четыре
раза. Население приобрело лотерейных билетов на сумму 13 млрд руб.
Высокая сознательность, а также доверие граждан к проводимым
госкредитным операциям позволили мобилизовать за счет размещения
четырех военных займов и четырех денежно-вещевых лотерей в общей
сложности свыше 100 млрд руб. Эти средства обеспечили более 10%
бюджетных доходов военного времени. Ресурсы, мобилизованные с
помощью четырех военных займов, на 25% превысили первоначально
объявленную величину облигаций.
Одними принудительными методами получить столь значительные
средства было бы невозможно. Попытки подвергнуть сомнению патриотический порыв советских людей, опорочить военные займы как
якобы сугубо принудительную форму мобилизации денежных средств
исторически неверны. Подписка на займ была, как правило, осмысленная
гражданином, дополнительно взятая на свои плечи финансовая ноша.
Естественно, в стране проводилась соответствующая агитационная и
разъяснительная работа. Государственно-партийные структуры заведомо
готовились к займовым кампаниям: проводили совещания с директорами
предприятий, руководителями общественных организаций, читали доклады о
текущем моменте, выпускали тематические стенгазеты, плакаты и т.д. В
1941—1945 гг. по радио неоднократно выступал нарком финансов СССР А.Г.
Зверев на тему «Народная помощь фронту». Он же являлся инициатором
серьезных акций в области финансирования военных расходов.
К числу недостатков в работе с населением следует отнести нарушение
принципа добровольности при подписке на займы в некоторых областях.
Имел место административный нажим и на регионы, и на людей. Например,
в первую подписную военную кампанию служащий Шартамского дома
отдыха Свердловской области Чеботаревский при заработной плате 650 руб.
подписался на 500 руб. На замечание руководства о недостаточной сумме
подписки заявил: «Пусть больше подписываются те, кто получает в закрытых
распределителях молоко и белые булки».
В центральный партийный аппарат из регионов иногда поступали жалобы
на высокие суммы размещения займа, установленные Наркомфином СССР.
На подобный факт указывал в телеграмме на имя члена Политбюро
Маленкова 29 апреля 1944 г. секретарь Мо- лотовского обкома ВКП(б)
Гусаров. Как следует из ведомственной переписки, союзный Наркомат
финансов удовлетворил просьбу Молотовского обкома партии частично,
снизив сумму размещения займа в области с 205 до 190 млн руб.
На заседании Коллегии Наркомата финансов СССР 25 августа 1944 г.
анализировалось состояние сбора средств по подписке колхозников на
третий государственный займ. Было отмечено, что ряд областей (Омская,
Вологодская, Кемеровская, Курганская, Пензенская), а также Татарская
АССР и Удмуртская АССР резко отстали в сборе средств по займу на селе,
по сравнению с предыдущим годом. В материалах коллегии также
зафиксировано: «В Омской области имеет место большое количество
случаев неуплаты взносов по займу руководящим составом колхозов. В
Курганской области вследствие отсутствия контроля за работой налоговых
агентов резко возросли злоупотребления со стороны налоговых агентов».
Слабое поступление средств по займам в ряде областей объяснялось тем,
что колхозникам для расплаты по займу в 1944 г. необходимо было
реализовать значительно больше сельскохозяйственных товаров, чем в 1943
г., в связи со снижением рыночных цен на продукты. Вместе с тем
необходимо подчеркнуть, что в 1942—1945 гг. в сельской местности
количество подписчиков возросло в четыре раза, в то время как в городе
— в два. Как видим, произошли сдвиги в социальном составе участников
кредитования государства.
В годы Второй мировой войны займы на крупные суммы выпускались и в
других воевавших государствах. В США, например, выпустили восемь
долгосрочных займов на сумму 150 млрд долл. Реализация займов велась
главным образом среди банков и торгово-промышленных корпораций и лишь
частично — среди частных лиц. Союзники Германии распространяли
займы среди населения принудительно. В Румынии и Финляндии их
реализовать не удалось.
В целом с помощью военных займов советское правительство покрыло
около 15% всех прямых военных расходов. Поэтому, по мнению ряда
исследователей, добровольно-принудительный характер этих займов
позволяет отнести их к налоговым сборам. Сумма поступлений от военных
займов в два раза превысила размер доходов, полученных от активно
выпускавшихся до войны внутренних займов Советского Союза (займов
индустриализации, крестьянских, советских пятилеток и т.д.).
Следует выделить и материальную помощь, оказанную Красной армии
населением: сбор предметов обмундирования и теплой одежды, подарков для
бойцов и командиров воинских частей и соединений. Народную инициативу
поддержал ЦК ВКН(б), принявший 5 сентября 1941 г. специальное
постановление «О сборе среди населения теплых вещей и белья для Красной
армии». Для осуществления связи между фронтом и тылом была создана
Центральная комиссия, председателем которой стал секретарь ЦК ВКП(б)
А.А. Андреев. В сентябрьские дни 1941 г. соответствующие постановления
приняли ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. В патриотическое движение включились
люди разных возрастов и профессий из различных регионов страны. С
наступлением холодов это движение усилилось. Инициаторами отправки в
действующую армию теплых вещей выступили трудовые коллективы и
простые обыватели.
В сентябре—ноябре 1941 г. для защитников Родины были сданы: 1 млн
175 тыс. пар валенок, около 3 млн кг шерсти, свыше 500 тыс. полушубков,
миллионы пар шерстяных перчаток и варежек, меховых рукавиц, ватных
курток, шапок-ушанок и т.д.
Широкий размах это патриотическое движение получило в РСФСР.
Например, за годы войны население Вологодской области отправило
фронтовикам 540 тыс. теплых вещей, Хабаровского края — 1 млн 500 тыс.,
Ставропольского — более 1 млн. и т.д. Москвичи собрали и отправили в
действующую армию в 1942—1943 гг. свыше 1,5 млн комплектов теплого
обмундирования и более 1 млн подарков.
Что же касается других союзных республик, то к началу 1943 г.
трудящиеся Азербайджана отправили воинам более 1 млн 310 тыс.
различных теплых вещей (стоимостью свыше 20 млн 650 тыс. руб.),
Туркмении — 1 млн 200 тыс., Таджикистана — 650 тыс., Казахстана — 1 млн
760 тыс. Когда в ходе войны удалось наладить массовое изготовление такой
одежды на государственных предприятиях, размах этой работы постепенно
пошел на убыль. В целом же за счет теплого обмундирования, собранного в
военное время патриотами страны, можно было одеть, обуть несколько
миллионов бойцов. Такая существенная материальная помощь тыла
фронту — свидетельство дружбы советских народов.
Не менее массовым стало начавшееся с первых месяцев войны движение
по сбору и отправке фронтовикам подарков, как правило, к праздничным
датам. Получив посылку, боец находил там теплые вещи, туалетные и
канцелярские принадлежности, галантерею, табачные изделия, вино,
продукты питания и т.п. Были и необычные подарки. Жители Тувы,
например, в подарок действующей армии отправили 163 50 лошадей, 23 200
пар лыж, 18 автомашин, 2 132 велосипеда, а население Алтайского края
помимо других подарков — 12 золотых и 8 серебряных часов, которые
просили вручить воинам-героям. Оказывалась также помощь вещами и
продовольствием конкретным красноармейцам и командирам.
В ноябре 1941 г. — мае 1942 г. на фронт прибыло свыше 3,4 тыс. вагонов с
коллективными и индивидуальными посылками. Подарки направлялись
героическим защитникам Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Одессы и
других городов, за линию фронта, в партизанские отряды и соединения. Так,
в начале 1942 г. только защитникам Ленинграда трудящиеся Киргизии
собрали 10 вагонов мяса, 15 — муки, 2 — риса, 5 — сушеных фруктов, 6 —
орехов, 1 — спирта. Накануне и в период Сталинградской битвы подарки
воинам-героям поступали со всей страны: 20 вагонов — от населения
Таджикистана, 60 (мясные продукты, мед, сливочное масло, табак) — от
жителей Башкирии; с Амура прислали два вагона рыбы и два центнера
зернистой икры.
В ответ на подарки из действующей армии шли благодарственные письма
от фронтовиков в адрес партийных и советских организаций, учреждений,
коллективов предприятий и колхозов. Вот одно из посланий, написанное в
«Правду» в начале января 1942 г. и адресованное всем общественным
организациям и отдельным гражданам: «Бойцы, командиры и
политработники Западного фронта, горячо, от всего сердца благодарят вас
за присланные в наш адрес новогодние поздравления и подарки. Ваши
поздравления и подарки мы приняли как выражение братской любви всего
нашего великого народа к своей доблестной, героической Красной армии.
Слова вашего сердечного новогоднего привета вдохновляют нас на новые
подвиги, они звучат как призыв еще крепче бить фашистских извергов до
полного их уничтожения».
Многочисленные архивные документы свидетельствуют, что наиболее
массовым стало возникшее по инициативе «снизу» движение по сбору
средств в Фонд обороны. Миллионы людей считали, что от них зависит
судьба Отечества. Это новое гражданское чувство рождало сознательный
патриотизм. Отказываясь от собственного благополучия, народ старался
облегчить фронтовую жизнь бойцов и поддержать их моральный дух,
направляя на передовую снаряжение, обмундирование, подарки.
Огромное значение имели военные займы, позволившие в значительной
мере сбалансировать государственный бюджет и ассигновать крупные
денежные средства на оборону. Это было иное направление финансовой
помощи фронту: инициатором в проведении подписных кампаний выступало
государство, которое «сверху» устанавливало их сроки и контролировало
процесс в регионах.
Таким образом, в повседневной жизни общества в 1941—1945 гг. особое
место занимали вопросы помощи сражавшейся армии, бывшим фронтовикам,
семьям военнослужащих, сиротам. Инвалиды получали пенсии, семьи
военнослужащих — пособия, беспризорных детей устраивали в семьи и
детские дома. Для этих категорий населения имелись льготы по
продовольственному снабжению, при распределении жилья и его оплаты,
обучении в техникумах и вузах. Соответствующие постановления высших
государственных институтов и партийных структур отличались конкретностью и определяли жесткие сроки исполнения; контролировалось
предоставление адресной помощи.
Уделялось внимание медицинскому обслуживанию солдат и офицеров,
получивших в боях ранения. Для лечения использовались не только
специализированные учреждения, но и санатории. Для инвалидов 1 и II
групп, за которыми некому было ухаживать, создавались дома инвалидов,
часть которых преобразовали в интернаты.
Важным направлением деятельности по обслуживанию бывших
фронтовиков, родственников участников войны стало их трудоустройство и
производственное обучение. Но даже спустя два-три года после войны
значительное число инвалидов не могли найти работу. Многие из них
оказались на обочине жизни, занимались попрошайничеством. Помощь
людям, попавшим в группу риска, оказывали предприятия, колхозы,
общественные организации, Церковь и частные лица.
В зоне пристального внимания государства и общества находились дети.
Среди мер по их спасению — эвакуация, организация работы по охране
материнства и детства; борьба с беспризорностью и преступностью среди
несовершеннолетних с девиантным поведением; создание детских домов и
суворовских училищ; устройство подростков на производство и в школы
ФЗО; забота о сиротах.
Между тем по ходу реализации намеченных правительством мер
фиксировались недостатки работы соответствующих структур. Об этом
свидетельствовали многочисленные сигналы с мест, письма и жалобы,
направлявшиеся гражданами в вышестоящие органы власти. Высокий
уровень хищений и злоупотреблений в социальных учреждениях;
недостаточное питание и некачественное медицинское обслуживание
находившихся в них; бюрократизм чиновников и т.п. вызывали негативные
настроения населения страны.
Однако, несмотря ни на что, народная помощь Красной армии (создание
Фонда обороны, сбор средств на постройку боевой техники, отправление на
фронт подарков и теплых вещей для бойцов, подписка на государственные
займы и др.) в 1941—1945 гг. стала действительно массовым движением
«снизу». Это свидетельствовало о единстве фронта и тыла, являвшегося
одним из источников победы Советского Союза над фашистским
блоком.
Заключение
В грозную военную пору население выживало неодинаково. Его реакции
на великие испытания, решения насущных проблем по спасению близких и
семей были различны. Большинство обнаружило удивительную способность
к выживанию и приспособляемость, выработанные за время существования
советской власти. В период вооруженного противоборства с германским
блоком приоритетными стали задачи обороны страны, поэтому расходы на
социально-культурные мероприятия значительно сократились (в 1941 г. — до
31,4 млрд руб. против 40,9 млрд руб. в довоенное время; в 1942 г. — до 30,3
млрд руб.; с 1943 г. начался обратный процесс).
Для быта населения были характерны элементы «чрезвычайщины» времен
Гражданской войны. Это выражалось не только во введении карточного
снабжения, но и в сломе привычного ритма труда и отдыха. Был установлен
особый режим рабочего времени, введены обязательные сверхурочные
работы, отменены отпуска. По законам военного времени
целенаправленно вводились ограничения ряда прав и свобод граждан
(тайна переписки, неприкосновенность жилища, свобода передвижения и
др.).
В ходе войны изменилась система государственного управления
социально-экономическими, социокультурными и идейно-политическими
процессами. Деятельность властных институтов была подчинена генеральной
задаче — мобилизации народа и всех ресурсов СССР для оказания помощи
фронту и достижения Победы. Однако и в экстремальных условиях
проблемы социальной политики не остались без внимания органов
государственной власти. Повседневные вопросы быта в то тяжелое время
решались местными органами управления — Советами. В составе их исполкомов создавались новые отделы: государственного обеспечения и
устройства семей военнослужащих; назначения пособий многодетным и
одиноким матерям; эвакуации населения и др.
Влияние войны на будничную жизнь социума сказалось, прежде всего, на
потреблении материальных благ. В условиях острого дефицита
потребительских
ресурсов
функционировала
государственная
распределительная система. Жители городов имели гарантированное
снабжение по карточкам необходимыми продуктами питания с
дифференцированными нормами и условиями продажи для различных групп
населения. Преимущественным правом пользовались работники оборонного
комплекса. Учитывались также потребности детей, кормящих матерей,
инвалидов войны. Государственная распределительная политика, несмотря
на ее избирательность, позволила в первую очередь обеспечить население
хлебом,
использовать
наиболее
целесообразно
в
интересах
обороноспособности страны ограниченные сельскохозяйственные ресурсы.
Однако имели место нарушения в рамках снабженческо-распределительного
механизма, а в сфере потребления — нелегальные практики. Достаточно
частыми стали такие явления, как хищения, подлог документов, блат.
Пайковые нормы на многие продовольственные товары не покрывали
потребностей в питании, поэтому миллионы людей занимались
самоснабжением. В 1942—1945 гг. с индивидуальных и коллективных
огородов семьи получили дополнительно 26 млн т картофеля и овощей, доля
продукции подсобных хозяйств в общих ресурсах, поступивших для
снабжения рабочих и служащих предприятий, в 1945 г. составила: картофеля
— 38%, овощей — 59%. Это частично компенсировало скудный карточный
паек. Составной частью жизни и быта горожан была сеть общественного
питания. В сельской местности основным источником снабжения семей
продовольствием стало личное подсобное хозяйство, которое в среднем на
85—90% восполняло недостачу продуктов у крестьян. Продовольственную
помощь сражавшемуся народу оказывали союзники по антигитлеровской
коалиции. Общие поставки продовольствия по ленд-лизу в СССР разные
источники определяют в 4—5 млн т.
В военную пору население очень нуждалось в товарах широкого
потребления. Нехватка одежды, обуви, которые отпускались по карточкам,
зачастую являлась причиной невыхода на работу. Сокращение
государственных рыночных фондов промышленных изделий объяснялось
переключением предприятий легкой и местной промышленности на
выполнение заказов армии. Развитие получили самообеспечение, самопошив,
кустарное изготовление обуви и предметов повседневного спроса. В
завершающий период войны выпуск гражданской продукции для народа
возрос. На улицах городов увеличилось число добротно одетых людей, и, по
воспоминаниям современников, горожане стали стесняться своего вида в
заплатанной одежде и поношенной отремонтированной обуви.
Сельским жителям, которые снабжались промышленными товарами
через потребительскую кооперацию, исключительно трудно было
приобрести одежду, обувь, ткани. Их отсута вие вынуждало детей
бросать школу.
Для удовлетворения спроса населения в 1944 г. стали открываться
коммерческие торговые заведения. Функционирование системы этого вида
торговли повлияло на иерархию и культуру потребления в советском
обществе, что связано с понятием «привилегии номенклатуры». В 1945 г.
услугами коммерческих торговых заведений пользовались жители 86
советских городов.
Действовавшие в годы войны карточки были отменены постановлением
Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. «О проведении
денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и
промышленные товары».
В 1941—1945 гг. важнейшие проблемы повседневной жизни людей были
связаны и их медицинским обслуживанием и охватившим страну жилищным
кризисом, особенно в ее восточных регионах в связи с прибытием туда
эвакуированных, а также на разграбленной и разрушенной фашистами
освобожденной территории. Холод в помещениях, жизнь в землянках,
недоедание сказались на состоянии здоровья населения, что привело к
распространению различных, в том числе инфекционных, заболеваний. На
полноценное лечение граждан не хватало ни врачей, ни медицинских
средств. В то же время увеличилось количество как медсанчастей и
здравпунктов на предприятиях, так и военных госпиталей. Работники
здравоохранения и общественность сделали все возможное, чтобы
предотвратить развитие эпидемий. Принятые в военное время социальные
меры способствовали улучшению жилищных, санитарно-гигиенических
условий жизни народа и его медицинского обслуживания.
Советский Союз, получив посланный войной «социальный вызов» —
миллионы инвалидов, вдов, сирот, — для оказания им помощи мобилизовал
все имевшиеся ресурсы. Государство выплачивало пенсии военным
инвалидам, пособия семьям военнослужащих, предоставило льготы по
их продовольственному обеспечению, предоставлению и оплате жилья,
обучению их детей в учебных заведениях и др. В деревне социальная
помощь нуждавшимся осуществлялась через кассы общественной
взаимопомощи, которые и трудоустраивали инвалидов.
Только в России ассигнования на социальное обеспечение в 1944 г.
составили 3,8 млрд руб., в 1945 г. они увеличились на 13%.
Принимались меры по трудоустройству и социальной адаптации бывших
фронтовиков. В целом по стране число инвалидов, вернувшихся к трудовой
деятельности, возросло в конце 1944 г. до 907 тыс. человек (в начале — 562,4
тыс.).
Но не везде в полном объеме помогали инвалидам войны и семьям солдат
и офицеров Красной армии. Проверки деятельности местных
государственных и партийных органов свидетельствовали о многочисленных
фактах их формального отношения к условиям жизни данных групп граждан.
Даже спустя два три года после Победы значительное число инвалидов
оставалось нетрудоустроенным, а часть их оказалась на обочине жизни.
Жалобы, проблемы материально-финансового обеспечения и лечения
защитников Отечества занимали значительное место в корреспонденции
властных и партийных структур всех уровней. Поддержку инвалидам
войны, семьям фронтовиком, вдовам оказывали общественные
организации (профсоюзы, комсомол), граждане разных национальностей
и возрастов, гуманитарная адресная помощь нуждавшимся имела большое
значение для «пограничных» слоев общества, в частности, оказавшихся в
группе риска инвалидов.
К сожалению, не все вопросы, связанные с защитой прав и интересов
военных инвалидов, решены и сегодня. Российская общественность
озабочена фактами равнодушного отношения к судьбам ветеранов войны и
памяти погибших. Хотя действует закон «Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества», но останки миллионов солдат Великой
Отечественной войны до сих пор остаются не найденными и не
захороненными. Кроме того, при проведении земляных работ на вновь
выделенных в собственность гражданам участках часто обнаруживают нигде
не учтенные захоронения останков воинов Красной армии и немецких
солдат. Поэтому при получении разрешений на строительство в районах,
охваченных боевыми действиями во время Великой Отечественной войны,
обязательным стал документ о проведении предварительной военноисторической экспертизы и поиске солдатских останков. Впервые такую
практику внедрили в Воронежской и Калининградской областях.
Принятие же мер по увековечению памяти погибших за пределами нашей
страны предусмотрены межправительственными соглашениями (например,
российско-германское «Об уходе за военными могилами»).
Следует отметить, что жертвами войны в первую очередь становились
дети. Тысячи их жизней погубили боевые действия и неблагополучие
социальной среды. Особое внимание государство обратило на положение
сирот и безнадзорных детей, стратегии их выживания. Ответственность за
судьбу подрастающего поколения распределялась между семьей и
государством, обществом и властью. Велась борьба с детской
беспризорностью
и
безнадзорностью,
правонарушениями
в
подростковой среде. Высокий показатель девиантного поведения детей имел
место во всех регионах Советского Союза.
В соответствии с принятым в январе 1942 г. постановлением СНК СССР
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей», по всей стране были
образованы соответствующие областные, краевые и республиканские
комиссии. В 1942 г. создали централизованную структуру — Центральный
адресно-справочный детский стол, а также открыли в областях адресно-
справочные детские столы (собирали сведения об оставшихся без родителей
детях, формировали картотеки).
В 1944 г. органы милиции задержали 1 173 668 беспризорных и
безнадзорных детей, в 1945 г. — 1 207 286. Детей-сирот, подлежавших
учету в Центральном адресно-справочном столе, по оценке МВД СССР, в
1948 г. насчитывалось 2,5 млн. Сирот устраивали в детские дома,
суворовские училища, школы ФЗО и ремесленные училища. О повседневной
жизни воспитанников известно мало. Беспризорники, чтобы выжить,
занимались нищенским промыслом, а также искали другие источники
пропитания. И не только сироты, а порой и дети из многодетных семей шли
на это по решению родителей, чтобы прокормить семью.
Одновременно в военные годы, согласно существовавшей со стороны
Советского государства охране материнства и детства, были приняты
законодательные акты, направленные на повышение рождаемости,
решение проблемы одиноких матерей и сирот, а также на увеличение
предоставлявшейся им помощи. Государственная защита осиротевших
детей представляла собой их устройство в детские учреждения и приемные
семьи (патронат, опека, усыновление). Воспитание в приемной семье
инициировалось как властными институтами, так и гражданами.
Партийно-государственный аппарат контролировал реализацию политики
адресной помощи. Существовали и разные формы участия трудовых
коллективов и отдельных лиц в судьбе обездоленных детей (Фонд
помощи детям, шефство над детскими домами, эвакуированными
детьми, организация их досуга и т.д.).
Органы и учреждения социальной защиты детей-сирот работают и сегодня.
Для разработки эффективных программ, нацеленных на решение социальных
проблем в целом и, в частности, проблем детства, необходим тщательный
анализ как положительных, так и отрицательных сторон детской и
молодежной политики СССР, рассмотренной в динамике; а также советских
социальных практик. К сожалению, в 2013 г. Государственная дума не
поддержала предложенный фракцией КПРФ законопроект «О внесении
изменений в статьи 2 и 20 Федерального закона "О ветеранах", которым
предлагалось предоставление "детям войны" льгот, обеспечивающих право
на достойный уровень жизни. Не помогла широкая поддержка Общероссийской общественной организации "Дети войны"».
Реалии военного времени по-разному отражались на духовном состоянии
людей. Хотя имели место вызванные разными причинами негативные
настроения населения (их фиксировали органы НКГБ), все же простой
обыватель стойко преодолевал выпавшие на его долю испытания. В целом в
критических ситуациях люди стремились сохранить нормы
человеческого поведения.
Изучение фактов социокультурного развития общества способствует
расширению представлений о гражданской жизни в тылу в 1941—1945 гг.
Отвлечься от тягот и забот военного времени, получить заряд бодрости и
оптимизма помогали посещения работавших в годы войны учреждений
культуры. Библиотеки, музеи, кинотеатры, театры, музыкальные коллективы
и клубы поддерживали духовную жизнь общества, став средством
просвещения, пропаганды и источником кратковременного отдыха.
Произошла перестройка работы культурно-просветительных учреждений и
представителей творческой интеллигенции. Война пробудила у людей и
высокое чувство гражданственности, и интерес к культуре.
Возникли новации в художественной, театральной и кинематографической
среде: создание фронтовых концертных бригад, передвижных выставок,
библиотек и театров; проведение кинофестивалей; взлет народного
творчества. Важными формами общения народа с художественными
коллективами были творческие вечера писателей, артистов, композиторов, а
также собиравшие многочисленные аудитории зрительские конференции.
Эти мероприятия поднимали моральных дух защитников Родины и
работников тыла, укрепляли их веру в Победу, расширяли духовный мир
людей и помогали воспитывать в них высокие нравственные качества.
Особое значение при этом имело чтение книг, давно вошедшее в жизнь и
быт миллионов советских граждан. В Москве городские библиотеки
обслужили (работая и в заводских цехах, и в госпиталях) 330 612 человек, из
них передвижки — 148 081, а в 1943 г. этот показатель возрос до 50%.
Наиболее доступным широким массам видом искусства являлось кино. В
стране, несмотря на жесткие пропагандистские стереотипы, были созданы
правдивые фильмы о событиях, происходивших на фронте и в тылу, а также
кинокартины лдя детей и молодежи.
Невероятную популярность в духовной жизни сражавшейся страны
приобрела песня. Она ободряла и согревала людей, вселяла в них силы и
уверенность в Победе. Любимые народом мелодии, прозвучавшие в кино и
по радио, подхватывали миллионы советских граждан в тылу и на фронте.
Одним из значимых культурных событий в жизни городов в период
Великой Отечественной войны были выставки. О тяге к культуре
свидетельствовал рост посещаемости музеев В РСФСР в 1943 г. их посетили
474 тыс., в 1944 г. — 632 тыс., в первой половине 1945 г. — 528 тыс. человек.
В сельской местности культурное обслуживание жителей осуществляли
работники изб-читален, клубов, районных домов культуры, хотя ощущалась
острая нехватка помещений, культурного инвентаря и оборудования.
Большую агитационно массовую работу в деревнях и селах проводили
выездные артистические бригады.
Большое общественно-художественное значение имела творческая
деятельность эвакуированных на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию
театральных трупп и художественных коллективов. В результате возрос
творческий потенциал восточных регионов страны, а их жители (время от
времени отвлекаясь от горя и тяжких мыслей) приобщились к достижениям
отечественной и мировой культуры.
Современные исследователи, не отрицая огромного положительного
воздействия на духовную жизнь провинции прибывшей из центра
артистической, художественной интеллигенции, высказывают и другие
суждения, отличные от прежних упрощенных представлений о характере
культурного диалога между «пришлыми» и местными (в частности, что
между ними имели место конфликты).
Во время войны широкое распространение получило и развитие
самодеятельного народного творчества, хотя свободного времени у
работников тыла практически не было.
.
Литература
Кино на войне [Текст]: документы и свидетельства. М.: Материк. 2005. 994 с.
Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа |'1ексг|: сб. документов, 1917—1973. М.: Педагогика, 1974.650 с.
О патронировании, опеке и усыновлении детей, оставшихся без родителей
|Текст]: инструкция СНК РСФСР от 8 апреля 1943 г. // Сборник not
ыиовлений и инструкций СНК РСФСР. 1943. № 3. Ст. 24.
Охрана детства в СССР [Текст]: сб. нормативных актов / отв. ред. И.Н
Гонкунона. М.: Юрид. лит., 1979.288с.
Служили верой и правдой [Текст): воспоминания о войне членов Отделения
наук о Земле РАН. М.: РАН. Отделение наук о Земле, 2010. 264 е.: ил.
Советские профсоюзы в Великой Отечественной войне, 1941 1945 |Гскст|:' сб.
воспоминаний. М.: Профиздат, 1975.239 с.
Батьковский, A.M. Военные займы России [Текст]: миражи и реалии / A.M.
Бать- ковский. Н.Ю. Павлушов// Военно-исторический журнал. 1997. № 6. С.
2—13.
Васильева, О.Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского
государства в 1943—1948 гг. [Текст]. М.: Ин-т рос. истории РАН, 1999. 214 с.
Васильева, Т. В. Позывные мужества [Текст]: опыт Ленинградского
блокадного радио/ Т.В. Васильева, В.Г. Ковтун, В.Г. Осинский. СПб.:
Специальная литература, 2009. 160 с.
Выставки советского изобразительного искусства [Текст]: справочник. М.:
Советский художник, 1972. Т. 111. 544 с.
Голубева, К В. Драматический театр Ленинграда во время блокады |Текст] //
Великой Победе - 70 лет: сборник статей. М.: АИРО-ХХ1, 2015. С 196 -203.
Гракина, Э.И. Ученые - фронту, 1941-1945 [Текст]. М.: Наука, 19X9. 253 с.
Дорошева, О.А. Материально-бытовое положение учителей Южного Урала в
годы Великой Отечественной войны [Текст] // Россия в Отечественных
войнах: сб. статей. Оренбург: ОГПУ, 2012. С. 81-83.
Дружинин, Н.М. Труд и быт эвакуированных историков в 1941—1943 гг.
[Текст] // В годы войны: статьи и очерки. М.: Наука, 1985. С. 25—30.
Жукова, О.Г. Социокультурная политика СССР в годы Великой
Отечественной войны // Власть. 2011. № 8. С. 142-144.
Жукова, О.Г. Творцы и потребители в историческом контексте войны и мира
[Текст] // Народное образование. 2012. № 4. С. 275-282.
Жукова, О. Г. Становление новых советских элит в годы Великой
Отечественной войны [Текст| // Элита России в прошлом и настоящем:
социально-психологи- ческие и исторические аспекты. М.: Национальный
ин-т бизнеса, 2012. Вып. 2.
B. 245-253.
Жукова, О. Г. Индустрия моды в годы Великой Отечественной войны
|Текст[: нонсенс или необходимость? // Научные труды МосГУ. М.: Изд-во
МосГУ, 2010. Вып. 126. С. 3-13.
Жукова, О.Г. Культурная жизнь СССР как феномен повседневности Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. [Текст]. М.: Изд-во МосГУ, 2016. 227 с.
Журавлев, С.В. Мода по плану [Текст]: история моды и моделирование
одежды в СССР, 1917-1991 / С.В. Журавлев, Ю. Гронов. М.: Ин-т рос.
истории РАН, 2013. 496 е.: ил.
Загурский, Б.И. Искусство суровых лет (Текст]. Л.: Искусство, 1970. 96 с.
Земское ВМ. Народ и война [Текст]. М.: Красногорская тип., 2014. 287 с.
Зинич, М.С. Испытание и величие народа [Текст] // Великая Отечественная
война, 1941-1945: воен.-ист. очерки: в 4 кн. М.: Наука, 1999. Кн. 3. С. 348362.
Зинич Повседневная жизнь народа в годы Великой Отечественной войны
[Текст]; Институт российской истории Российской академии наук . - М. :
Институт российской истории РАН : Центр гуманитарных инициатив, 2019 .
— 349 с.
Зинич, М.С. Похищенные сокровища |Текст]: вывоз нацистами российских
культурных ценностей. М.: ИРИ РАН, 2003. 277 с.
Зинич, М.С. И наши девочки оделись [Текст] // Живая история. 2015. № 1 (1).
С. 36-39.
История и культура страны-победительницы [Текст]: труды междунар. науч.
конф. (Самара. 28-29 апр. 2010). Самара: ФГОУ ВПО «СГАКИ»; Поволж.
филиал Ин-та рос. истории РАН, 2010. 576 с.
История русского советского драматического театра [Текст). М.:
Просвещение, 1984. Кн. 1.335 с.
История Русской Православной Церкви [Текст]. СПб.: Воскресение, 1997. Т.
1. 1020 с.
Кабирова, А.Ш. «Ходатайствуем о награждении наших родителей,
воспитавших десять детей» [Текст]: (Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 8 июля 1944 г. об охране материнства и детства и его исполнение в
ТАССР) /А.Ш. Кабирова, Э.З. Багманова//Эхо веков. 2012. № 1/2. С. 82-89.
Кантор, Ю.З. Агитпром в блокадном Ленинграде [Текст] // Россия в
Отечественных войнах: сб. ст. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2012. С. 136—139.
Кантор, Ю.З. Музеефикация и мемориализация событий Великой
Отечественной войны в РСФСР, 1941-1945 гг. [Текст] // Великая
Отечественная война. 1945 год: исследования, документы, комментарии. М.:
Изд-во «ЦГА Москвы», 2015. С. 375-404.
Караваева, И.В. Вклад населения в формирование бюджетных доходов в годы
войны и послевоенного восстановительного периода (1941 1950 гг.) | Тс кет |
// Экономика Победы: к 65-летию Победы СССР в Великой Отечественной
войне. М.: Ин-тэкономики РАН, 2010. С. 153-171.
Кондакова, Н.И. Интеллигенция России, 1941 1945 | Текст | / Н.И. Кондакова,
В.Н. Майн. М.: Луч. 1995. 249 с.
Левыкин, К. Г. Перестройка работы исторических и историко-краеведческих
музеев в годы Великой Отечественной войны [Текст] // Вопросы истории.
1985. № 4. С. 148-151.
Ленинградские театры в годы Великой Отечественной войны [Текст). М.; Л.:
Искусство, 1948. 552 с.
JМазурицкий, A.M. Массовые учреждения культуры в период Великой
Отечественной войны [Текст]. М.: Изд-во МГУК, 1992. 120 с.
Мазурицкий, A.M. Очерки истории библиотечного дела периода Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. [Текст]. М.: тип. Моск. гос. ун-та
культуры, 1995.210 с.
Македонская, В.А. Актуальные проблемы восстановления системы
образования и учреждений культуры в годы Великой Отечественной войны
[Текст] // Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.: сб. ст. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2015. С. 258-262.
Максакова, Л.В. Состояние научной разработки вопросов культурного
строительства в годы войны |Текст| // Историография советского тыла
периода Великой Отечественной войны. М.: Наука, 1976. С. 184—203.
Советская интеллигенция [Текст]: (история формирования и роста, 1917—
1965 гг.). М.: Мысль, 1968. 432 с.
Тонким, В. Польза фронту от сдачи рублей. URL: http://www.proza.
ru/2011/07/24/1399
Сибирское отделение Академии военных наук РФ
Министерство культуры Омской области
Кафедра автоматизированных систем и цифровых технологий СибАДИ
Общественная палата Омской области
.
Зырянов С.А. ,Поступинских Л.А., Рожков А.Г., Хамов И.В., Цуркан Д.А
под редакцией профессора Соловьева А.А.
Культурная жизнь Советского народа и помощь фронту
в годы Великой Отечественной Войны
Учебное пособие
Верстка и оформление Егорова Н.Н.
Подписано к печати 23.01.2020
Формат 60901/16, тираж 100 экз.
Бумага писчая, печать оперативная
3.8 печ. листа. Издательский центр «Ан 2».