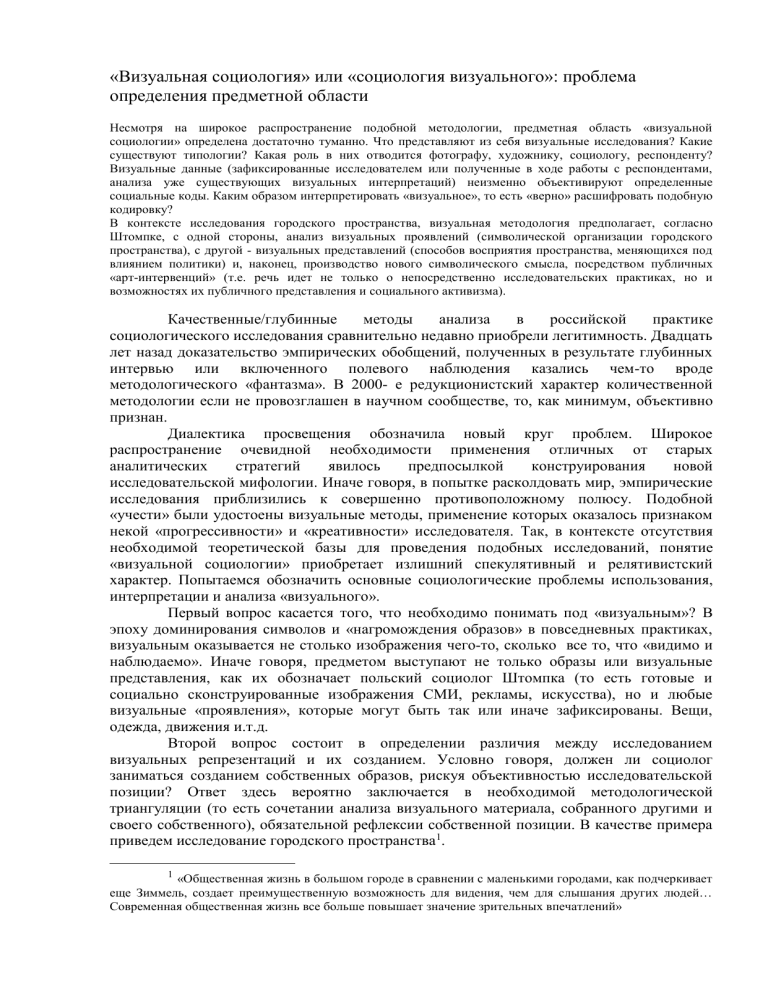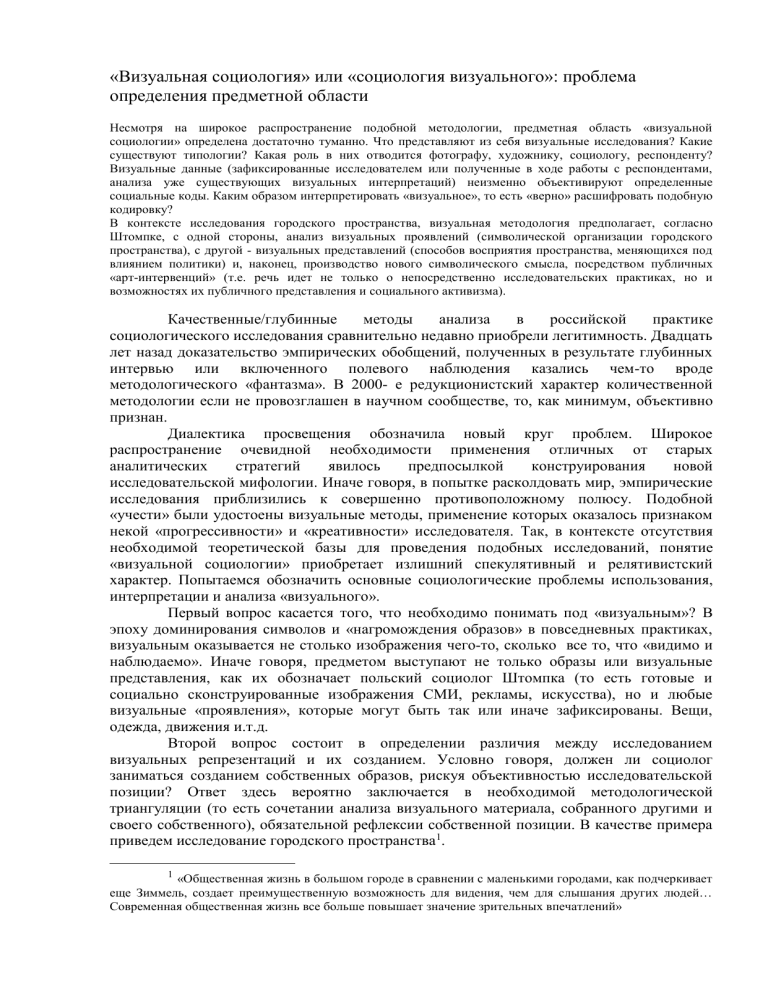
«Визуальная социология» или «социология визуального»: проблема
определения предметной области
Несмотря на широкое распространение подобной методологии, предметная область «визуальной
социологии» определена достаточно туманно. Что представляют из себя визуальные исследования? Какие
существуют типологии? Какая роль в них отводится фотографу, художнику, социологу, респонденту?
Визуальные данные (зафиксированные исследователем или полученные в ходе работы с респондентами,
анализа уже существующих визуальных интерпретаций) неизменно объективируют определенные
социальные коды. Каким образом интерпретировать «визуальное», то есть «верно» расшифровать подобную
кодировку?
В контексте исследования городского пространства, визуальная методология предполагает, согласно
Штомпке, с одной стороны, анализ визуальных проявлений (символической организации городского
пространства), с другой - визуальных представлений (способов восприятия пространства, меняющихся под
влиянием политики) и, наконец, производство нового символического смысла, посредством публичных
«арт-интервенций» (т.е. речь идет не только о непосредственно исследовательских практиках, но и
возможностях их публичного представления и социального активизма).
Качественные/глубинные
методы
анализа
в
российской
практике
социологического исследования сравнительно недавно приобрели легитимность. Двадцать
лет назад доказательство эмпирических обобщений, полученных в результате глубинных
интервью или включенного полевого наблюдения казались чем-то вроде
методологического «фантазма». В 2000- е редукционистский характер количественной
методологии если не провозглашен в научном сообществе, то, как минимум, объективно
признан.
Диалектика просвещения обозначила новый круг проблем. Широкое
распространение очевидной необходимости применения отличных от старых
аналитических
стратегий
явилось
предпосылкой
конструирования
новой
исследовательской мифологии. Иначе говоря, в попытке расколдовать мир, эмпирические
исследования приблизились к совершенно противоположному полюсу. Подобной
«учести» были удостоены визуальные методы, применение которых оказалось признаком
некой «прогрессивности» и «креативности» исследователя. Так, в контексте отсутствия
необходимой теоретической базы для проведения подобных исследований, понятие
«визуальной социологии» приобретает излишний спекулятивный и релятивистский
характер. Попытаемся обозначить основные социологические проблемы использования,
интерпретации и анализа «визуального».
Первый вопрос касается того, что необходимо понимать под «визуальным»? В
эпоху доминирования символов и «нагромождения образов» в повседневных практиках,
визуальным оказывается не столько изображения чего-то, сколько все то, что «видимо и
наблюдаемо». Иначе говоря, предметом выступают не только образы или визуальные
представления, как их обозначает польский социолог Штомпка (то есть готовые и
социально сконструированные изображения СМИ, рекламы, искусства), но и любые
визуальные «проявления», которые могут быть так или иначе зафиксированы. Вещи,
одежда, движения и.т.д.
Второй вопрос состоит в определении различия между исследованием
визуальных репрезентаций и их созданием. Условно говоря, должен ли социолог
заниматься созданием собственных образов, рискуя объективностью исследовательской
позиции? Ответ здесь вероятно заключается в необходимой методологической
триангуляции (то есть сочетании анализа визуального материала, собранного другими и
своего собственного), обязательной рефлексии собственной позиции. В качестве примера
приведем исследование городского пространства1.
1
«Общественная жизнь в большом городе в сравнении с маленькими городами, как подчеркивает
еще Зиммель, создает преимущественную возможность для видения, чем для слышания других людей…
Современная общественная жизнь все больше повышает значение зрительных впечатлений»
Предположим, что объектом изучения является некий объект А (некоторая улица,
здание, торговый центр и.т.д.). Мы хотим ответить на вопрос: Что представляет собой
социальная структура А, какие социальные практики и социальные группы «легитимны» в
данном пространстве, то есть соответствуют «принятым» коллективным представлениям
об А? Для того чтобы выяснить коллективные представления, социальную мифологию А
недостаточно будет, к примеру, серии фотографий сделанных исследователем в ходе
полевого наблюдения. Важно проанализировать фотографии, собранные об А
(зафиксированные фотографами, жителями, покупателями и.т.д), поскольку сам факт
выбора того или иного объекта в качестве «достойного» быть зафиксированным есть не
что иное как объективация определенной социальной позиции, габитуса. Так, мы сможем
проследить повторяемость тех или иных визуальных репрезентаций пространства. В
результате глубинных интервью с «фотографами», мы обнаружим связь между этими
объектами – визуальной репрезентацией и социальной позицией фиксирующего, его
представлением об А, как представлением детерминированным социально.
Подчеркнем здесь, что единичный рисунок или фотография не означает для
социолога ничего кроме объекта для исследовательской «фантазии» и «домысла». Только
параллельно с глубинным биографическим или структурированным интервью,
поставленный в один классифицируемый ряд (в серии) с другими подобными «образами»
он приобретает некую объяснительную функцию.
А.Бикбов в работе «Социальные неравенства и справедливость: реальность
воображаемого» анализирует проективные (визуальные) методы, ссылаясь на их
принципиальное отличие от исследования посредством навязанного, ограниченного
текущим заказом списка вариантов. Именно подобная методика позволяет зафиксировать
некоторый произвольный выбор респондента, т.е. обеспечить необходимую
исследовательскую ангажированность, но не безусловность и «произвольность»
объективированного в рисунке. В этом отношении, пишет А.Бикбов, проективные методы
демонстрируют свою продуктивность одновременно с неутешительной истиной
социального мира: «даже наиболее спонтанные и по видимости необязательные реакции
являются продуктом сложного детерминирующего механизма. Его работа не сводится к
простым линейным последовательностям причин и следствий. Но игра воображения в ее
наименее контролируемых проявлениях захвачена той же механикой социальной позиции,
которая придает направление и форму гораздо более конвенциональным и рутинным
фигурам мысли».
Следующий вопрос – вопрос интерпретации визуальных данных. Представитель
чикагской школы А. Смол в начале 20 века запретил исследователям использовать
фотографии в своих публикациях, определяя их как необъективный и случайный
материал для исследователя. Выше мы показали, каким образом именно субъективность
снимков, рисунков оказывается важной для получения «объективного» знания о
социальном порядке. Необходимо помнить также, что любые «визуальные репрезентации
производятся и потребляются в социальном контексте». Иначе говоря, интерпретация
визуального материала неотделима от анализа того социально-исторического и
политического контекста в который он оказывается включен. «Каким образом
меняющиеся социокультурный, политико-экономический контексты влияют на
производство образов? Как производятся и распространяются эти репрезентации, и как
они влияют на общество, меняя его социальную структуру?»
Джон Вагнер в работе «Представление информации: Фотография в социальных
науках» (1979) выделил 5 типов визуальных исследований. 1)использование фотографий
(рисунков) в дополнение к интервью (как некий «стимул»). 2) использование фотографий
для систематической фиксации действия. Исследования невербальных проявлений, потока
людей и.т.д. 3) контент-анализ фотографий, сделанных респондентами без какой-либо
поставленной исследователем задачи. Речь идет как о любительских фотографиях (данные
снимки «не являются только механической регистрацией неких «реальных» событий, а
прежде всего это старательно отобранное и общественно регулируемое представление
различных сторон общественной жизни» так и о профессиональных и коммерческих (к
примеру, исследование конструирования мужского/ женского в глянцевых журналах2). 4)
Антропологический и социологический анализ фотографий, полученных респондентами
по «заказу» исследователя. 5) Документальная фотография снятая самим исследователем.
Фотография в данном случае выступает в роли иллюстрации доступных для наблюдений
фактов социальной жизни (Вагнер рассматривает данный тип как основной в визуальной
социологии)
И, наконец, последний вопрос, так или иначе возникающий перед теми, кто
пытается определить категорию «визуальной социологии» - вопрос презентации
результатов визуального исследования. Безусловно «Визуальное» не только выступает
некоторым дополнением к нарративной части научной работы, но и оказывается
достаточно самостоятельной ее частью. «Визуальная восприимчивость заменяет или
дополняет восприимчивость текстовую». Л.Воронкова отмечает, что «ученые нередко
забывают, что в современную - визуальную – эпоху необходимо использование
визуальных образов не только в процессе исследования, но и для презентации результатов
самого проекта». В этом случае, результаты исследования, приобретают публичный
характер, становятся особой формой социального активизма, создают необходимое
пространство коммуникации.
Итак, «визуальное» полученное «специально» или созданное и существующее независимо
от исследовательского проекта в любом случае содержит внутренний нарратив о
социальной структуре, отношениях и.т.д. изучаемого объекта (в частности, городского
пространства). «Визуальное» опосредуют некий опыт, передавая нам символически
закодированную информацию о нем. Город можно читать как текст, благодаря хорошо
читаемым – видимым, заметным, опознаваемым – объектам». Соответственно, основной
задачей визуальной социологии оказывается поиск определенных правил, механизмов,
закономерностей для подобной де-шифровки. «Визуальные исследования города – это шаг
в лабиринт живой калейдоскопической текстуры социальных практик (где иногда нужно
«потеряться, чтобы увидеть»), с обманчиво знакомыми и постоянно меняющимися
стилями, многими возможностями и границами, их образами, бросающимися в глаза и
скрытыми в структуре потребления, в статусной иерархии городского пространства. Это
возможность исторических экскурсов и когнитивная реконструкция повседневного
опыта»
Первым в своих исследованиях использовал рекламные и семейные снимки, изображающие женщин и
мужчин И.Гофман.
2