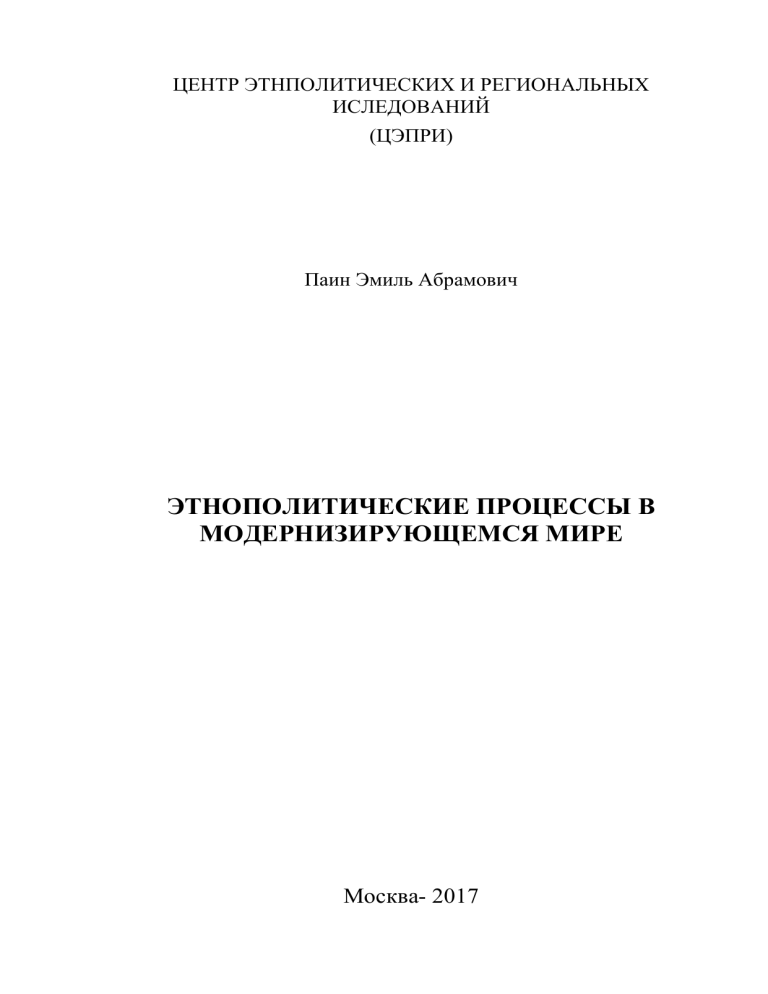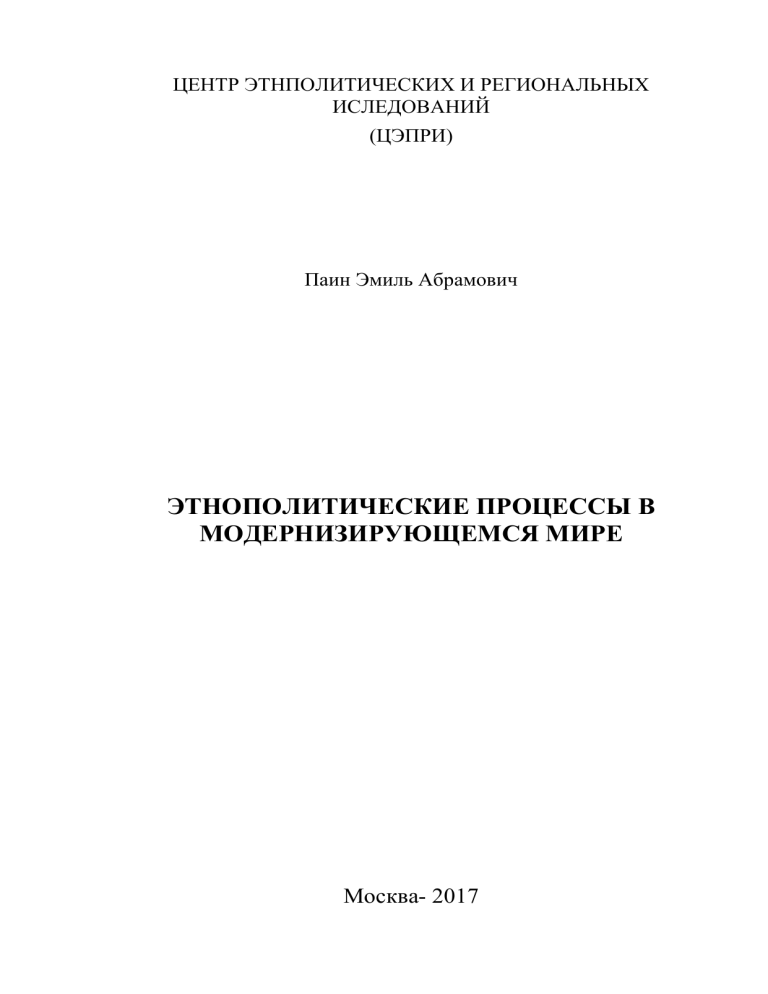
ЦЕНТР ЭТНПОЛИТИЧЕСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИСЛЕДОВАНИЙ
(ЦЭПРИ)
Паин Эмиль Абрамович
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
МОДЕРНИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ
Москва- 2017
Содержание
Стр.
ВВЕДЕНИЕ
4
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
19
Параграф 1. Исторические истоки современной
этнополитической мысли
19
Параграф 2. Этнополитические концепции эпохи модерна
30
Параграф 3 Этнополитические процессы в концепциях
модернизации и транзитологии
58
2 СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИИ В РОССИИ:
ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ДИНАМИКИ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
86
Параграф 1. Процессы социальной стандартизации.
86
Параграф 2 Процессы межэтнической кооперации.
93
Параграф 3 Процессы этнополитической дивергенции
106
Параграф 4. Нелинейные этнополитические процессы:
основные этапы развития федеративных и межнациональных отношений
122
3. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ:
«ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ» И «ЭПОХА СТАБИЛИЗАЦИИ»
131
Параграф 1. Цикличность модернизации и этнополитических процессов:
интерпретация взаимосвязи исследуемых явлений
131
2
Параграф 2. Маятник активности этнических общностей
137
Параграф 3. Механизмы действия этнополитического маятника
в условиях модернизации
151
4. ФАКТОРЫ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ
154
Параграф 1. Политические факторы.
Маятник этнополитических стратегий
154
Параграф 2. Идеологические факторы.
Маятник этнополитических идей
172
Параграф 3. Особенности и дефекты российской модернизации
как факторы этнополитической динамики.
Маятник общественных настроений
207
5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
222
Параграф 1Традиционалистский проект и его последствия.
222
Параграф 2 Контуры модернистского проекта
236
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
265
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
271
ПРИЛОЖЕНИЯ
291
3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
темы исследования.
Радикальные исторические
перемены,
переживаемые Россией на рубеже XX-XXI веков, обусловили высокую актуальность
проблем политического транзита и модернизации. При этом год от года растет интерес
исследователей
к
наполнению
теоретических
схем
модернизации,
во
многом
заимствованных, конкретным содержанием, основанном на анализе специфики российских
политических преобразований в различных сферах жизни. В этой связи представляется
естественной и неизбежной постановка вопроса об особенностях взаимосвязи процессов
модернизации и этнополитического развития постсоветской России. Актуальность
подобной темы определяется совокупностью факторов:
- важностью роли этнополитических процессов в таком многонациональном
государстве как Россия, устойчивое развитие и сохранение целостности которого, во
многом, зависит от состояния и характера межнациональных отношений;
- своеобразием этнополитической истории России по сравнению со странами, на
примере которых вырабатывались классические концепции модернизации и политического
транзита;
- высокой динамичностью этнополитических процессов, требующих постоянного
внимания и новых объяснений происходящих перемен, проявляющихся
не только в
сравнении постсоветской России с советским временем, но и при сопоставлении еще более
коротких исторических периодов, например, «эпохи Ельцина» («эпохи революций») и
«эпохи Путина» («эпохи стабилизации»);
- необходимостью использования научного анализа для совершенствования
национальной политики, корректировки ее целей, адекватного определения ее ресурсов и
механизмов. Это самая сложная из задач рассматриваемой темы, поскольку трудности
начинаются уже в попытках осознания самого термина «национальная политика», которая
может трактоваться чрезвычайно широко как синоним всей государственной политики или
весьма узко, например, только как регулирование межэтнических отношений или
поддержка этнокультурного развития народов.
4
Если принять в качестве основной цели национальной политики - формирование
гражданской нации, (“nation-building”),1 предполагающее, прежде всего, разработку и
реализацию государственных программ интеграции этнических общностей в рамках
федеративного государства и гражданского общества, то можно сказать, что в таком
понимании национальная политика России еще не сложилась, по крайней мере, в реальной
практике.
Необходимость
соответствующим
наполнения
задачам
национальной
политической
политики
модернизации
новым
содержанием,
российского
общества,
значительно повышает практическую и теоретическую актуальность исследований
современных этнополитических процессов.
Степень научной разработанности проблемы
Содержание и динамика современных переходных процессов рассматривались, с
середины XX века, в основном в рамках теории модернизации.
На основе теории модернизации развивается и большинство современных западных
исследований национального строительства, понимаемого, прежде всего, как процесс
развития горизонтальных связей между этническими общностями и формирования у них
определенных форм ценностного единства в рамках мультикультурных обществ.
В понятийном аппарате модернистских концепций национальной политики обычно
различают понятия «этничность» и «нация». Первое из них рассматривается как продукт
социально-культурных отношений между этническими общностями и, главным образом,
отношений основанных на антитезе «мы» - «они».2 Подобный подход отразил Т. Эриксен
в своем определении: «Этничность – аспект социального взаимодействия между людьми,
считающими себя культурно отличными от других групп». 3
Нация же рассматривается как результат социально-политических отношений между
обществом и государством. Весьма характерно для такого подхода определение К. Дейча:
«Нация - это народ, овладевший государством». 4 При этом под термином «народ»
понимается не этническая общность, а гражданское общество. В этом определении звучит
один из основных мотивов модернистского подхода к осмыслению нации как продукта
исторической эволюции и изменения форм организации социума: от имперского типа - к
национальному. В первом случае человек является подданным государя и государства, во
Такая цель признается ведущей в мировой практике национальной политики, а сам термин «нациестроительство» («Nation-Building») - широко распространен в англоязычной литературе см,
например, Connor, W. Nation-Building or Nation-Destroying? // World Politics. Vol. 24. 1972.
2
См , Ваrth F.(ed.) Ethnic Groups and Boundaries. Bergen, 1969; См также Бромлей Ю.В. Очерки теории
этноса . М., 1983 . С. 56.
3
Eriksen Т. Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. L., 1993.P.12
4
Deutsch К. Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality, Cambridge
(Mass.), 1953 (второе издание 1966).
1
5
втором - государство служит обществу-нации, объединяющей граждан, осознающих свои
права. Подобная трансформация рассматривается не только в качестве одной из
детерминант исторического развития, но и как стратегическая цель национальной
политики.
Модернистская трактовка нации как
надэтнического гражданского общества и
источника легитимности государственной власти - является наиболее распространенной в
современной западной этнополитологии. В России же исследования в этой области редко
опираются на теории модернизации. Такие исследования чаще группируются по
предметным зонам. Можно выделить три основные сферы изучения взаимосвязи
этнических и политических процессов.
Исследования этничности, ее социально-культурной динамики и политического
контекста. В работах российских ученых различные методологические подходы чаще
всего переплетаются, и исследования в этой области поддаются классификации не столько
по теоретическим направлениям, сколько по своим дисциплинарным подходам.
Выделяется несколько основных направлений: этнологическое - успешно развиваемое в
трудах С. А.. Арутюнова, В.А.Тишкова, М.Н. Губогло, А. Г. Осипова, В.А Шнирельмана,
Я.В. Чеснова, С.В. Чешко и др.;5 этносоциологическое и этнопсихологическое, - лидерами
которого являются Ю.В. Арутюнян., Л.Д. Гудков, Л.М Дробижева, З. В. Сикевич, Г.У
Солдатова, А.А. Сусоколов и др.;6 этнополитологическому - продвинутому трудами Р. Г.
Абдулатипова, В.В. Амелина, В.Ю. Зорина, К.В.Калининой, В.Н. Лысенко, В.А Михайлова,
Л.В. Хоперской, А.А. Чичановского и др. 7
Арутюнов С.А., Чебоксаров Н.Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных и
биологических групп человечества.- Расы и народы. т.2. М., 1972; Тишков В.А. Очерки теории и политики
этничности в России. М., 1997; Губогло М.Н. Переломные годы.Т.1. Мобилизованный лингвицизм. М., 1993;
Осипов А.Г. Идеологический фактор в процессе формирования самосознания малых этнических групп//
Права и статус национальных меньшинств в бывшем СССР.М., 1993; Шнирельман В. А.. Страсти по Аркаиму:
арийская идея и национализм // Олкотт М. Б., Семенов И. (ред.). Язык и этнический конфликт. М.: Гендальф.
2001; Чеснов Я.В. Социально-экономические уклады и этнические традиции // «Советская этнография» 1972,
№4.
6
Арутюнян Ю.В, Дробижева Л.М. Сусоколов А.А. Этносоциология М., 1998. Гудков Л.Д. Русский
неотрадиционализм и сопротивление переменам// Мультикультурализм и трансформация постсоветских
обществ. Под ред. В.С.Малахова и В.А.Тишкова. РАН. Институт этнологии и антропологии. Институт
философии. М., 2002; Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постовоетской
России.М., 2003; Сикевич З.В. Этническая неприязнь в массовом сознании россиян // Г.Витковская. А.
Малашенко ( ред) Нетерпимость в России : старые и новые фобии. М., 1999; Солдатова Г.У. Психология
межэтнической напряженности. М., 1998.
7
Абдулатипов Р Управление этнополитическими процессами: вопросы теории и практики. М., 2001; Амелин
В.В. Вызовы мобилизованной этничности. М., 1997. Зорин. Ю.В.. Паин Э. А. Активизация гражданского
общества как основной фактор противодействия этнополитическому экстремизму в России // Век
толерантности, 2003, №6, с.51-60; Калинина К.В. Институты государственной власти – регулятор
межнациональных отношений. М., 1995; Хоперская Л.В. Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе.
Ростов-на-Дону. 1998. Чичановский А.А. Средства массовой информации и терпимость: проблемы
реализации конструктивного идейно-политического потенциала общества// Этнополитический вестник
1995.№5.С 99.
5
6
Исследование наций, национальной и федеративной политики. В трудах современных
российских исследователей: Р. Г Абдулатипова,. Э. А. Баграмова, И. М. Бусыгиной, Л. М.
.Дробижевой, В. Ю. Зорина, К.В.Калининой, А.А. Кара-Мурзы, В.Н. Лысенко, В.А.
Михайлова, Н.П. Медведева, А.М. Салмина, М.В. Столярова, В.А.Тишкова, теоретический
вопрос о природе и сущности нации, как правило, соединен с актуальными практическими
проблемами национальной этнической политики, развития современных политических
институтов и, особенно часто, с проблемами федерализма.8
Эти исследования заложили основу нового научного направления – этнической
политологии, которое в перспективе может развиться в самостоятельную отрасль
политической науки. Так или иначе отмеченные исследования панорамно отражают
современную картину представлений о нациях, национальных и федеративных отношениях
как основном предмете этнической политологии и национальной политики.
Исследование
этнополитических
дезинтеграциионных).
В 1980-х годах
процессов
(интеграционных
и
Ю. В. Бромлей разработал детальную
классификацию этнических и этносоциальных (в действительности их с не меньшими
основаниями можно назвать «этнополитическими») процессов, как разделительных, так и
интеграционных. Однако после распада СССР, в силу известных исторических причин,
исследователи в России и других странах СНГ сосредоточились, в основном, на изучении
лишь одной из разновидности этих процессов – дезинтеграционных, пытаясь понять и
объяснить причины распада СССР, возникновения этнополитических конфликтов и роста
этнополитического экстремизма, терроризма. В этой сфере, свое слово сказали почти все
выше перечисленные российские этнологи, этносоциологи и этнополитологи. Кроме того,
сформировалась
когорта
специалистов,
внесших
особый
вклад
в
исследование
экстремальных этнополитических процессов и, предложивших новые методологические
подходы к их изучению. Среди них: В.А. Авксентьев, А С.Ахиезер, М. С. Джунусов, А. Г.
Здравомыслов, В.Н. Иванов, Э. А. Паин, А.А. Попов, Е.И. Степанов, Э.Н. Скакунов, Э.Н.
Ожиганов, А.А. Язькова и многие другие.9
Абдулатипов Р.Г. Сущность нации – этноса: ответ сторонникам безнациональности. М., 1999; Баграмов Э.А.
Нация, национальная идея и национальная политики// Евразия. 1997.№ 1-2; Зорин В.Ю Национальная
политика в России: история проблемы, перспективы. М., 2003; Лысенко В.Н. От Татарстана до Чечни (
становление нового российского федерализма). М., 1995. Михайлов В.А. Национальная политика России как
фактор государственного строительства. М., 1995; Тишков В.А. Забыть про нацию // Этнографическое
обозрение. 1998. № 5. Его же, Этнология и политика. М., 2001
9
Авксентьев. В. Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы. Ставрополь 2001; Ахиезер А.С.
Культурные основы этнических конфликтов// Общественные науки и современность 1994 №4; Джунусов
М.С. Методологическое введение к изучению социально-политических и межнациональных конфликтов. М.,
1991; Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М., 1997; Иванов В.Н.
Межнациональная напряженность в региональном аспекте. СОЦИС. 1993. № 7;. Паин Э.А. Этнические
конфликты и пограничные споры на южных рубежах России // Безопасность России XXI век. Отв. Ред. А
Загорский. М., 2000 Его же Э.А Социальная природа экстремизма и терроризма. // Общественные науки и
8
7
Концентрация внимания на проблеме конфликтов и дезинтеграции, реально отражает
общественный спрос на объяснение болезненных этнополитических проблем, возникших,
в основном, как следствие распада СССР. Однако со временем в условиях политической
стабилизации все больше возникает общественная потребность в развитии теории
этнополитической интеграции. Кроме того концепции конфликтов, возникающих в
отдельных регионах, остаются мало информативными, если не получают объяснений в
общем контексте современной этнополитической ситуации в России. Без этого, например,
трудно понять, случайны или закономерны те или иные всплески этнической активности,
тревожности
представителей
разных
этнических
общностей
в
разные
периоды
постсоветского периода.
Сегодня многих занимают вопрос сравнения двух периодов постсоветской истории:
эпохи Ельцина и эпохи Путина или как их еще называют «эпохи революций» и «эпохи
стабилизации», с точки зрения оценки изменений стратегии государственной политики в
сфере межэтнических отношений. Однако сравнительных исследований такого рода почти
не было и работы диссертанта, а также его совместные исследования с Л.М. Дробижевой
были одними из первых в этой области.10
Недостаток научных объяснений этнополитических перемен, которые происходят в
постсоветской России и дефицит (или неадекватность) оценок возможных направлений
национального развития - несомненно, ослабляют концептуальный потенциал не только
политической науки, но и государственной политики. Данная диссертация - это попытка
уменьшить зону непознанного или необъясненного при изучении этнополитических
процессов в современной России.
Целью
диссертационной
работы
является
исследование
этнополитических
процессов в современной России в контексте ее модернизации и выявление механизмов
трансформации общества в сторону роста этнополитической интеграции.
Задачи исследования:
современность № 4, 2002; Попов. А.А. Причины возникновения и динамика развития конфликтов. // М.
Олкот., В. Тишков (Ред) Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. М.,1997;Ожиганов Э.Н.
Сумерки России. М.,1996. Степанов Е.И. Конфликтология переходного периода. М.,1996; Червяков В.,
Шапиро В., Шереги Ф. Межнациональные конфликты и проблемы беженцев. Части 1, 2. М., 1991. Язькова
А.А. Национально-этнические проблемы (российский и мировой опыт их регулирования) М., 2003
10
Дробижева Л.М., Паин Э.А. Особенности этнополитических процессов и становления этнической политики
в современной России//Политические и экономические преобразования в России и Украине. Отв. ред.
В.Смирнов. М., 2003; Паин Э.А. Этнополитический маятник: цикличность этнополитических процессов в
постсоветской России.// Общественные науки и современность (ОНС) 2003 №5-6
8
проанализировать состояние мировой теоретической базы исследований
модернизации и этнополитических процессов и на этой основе сформулировать
теоретические подходы к изучению трансформационных процессов в современной
России;
классифицировать этнополитические процессы по характеру их динамики и
определить степень их соответствия
теоретическим моделям модернизации,
предсказывавших рост этнокультурной унификации и этнополитической интеграции;
выявить особенности этнополитических процессов в разные периоды
истории России на основе сравнения а) современной России с советским периодом, б)
двух эпох постсоветского периода: «эпохи революций» и «эпохи стабилизации»;
охарактеризовать социально-политические факторы этнополитических
процессов; сравнить особенности проявления этих факторов в «эпоху революций» и в
«эпоху стабилизации»; выявить влияние совокупности политических, идеологических
и социальных факторов на процессы этнополитической мобилизации и интеграции;
определить влияние реформ 1990-х на этнополитические процессы, выявить
«дефекты» российской модернизации 90-х годов с точки зрения их воздействия и
влияния на рост этнической интолерантности;
оценить меру влияния на изменения массовых этнополитических
настроений, факторов этнополитического конструирования (манипулирования
массовым сознанием) - с одной стороны и факторов, вытекающих из инерции
этнополитических процессов - с другой;
сформировать альтернативные проекты национальной политики, приняв в
качестве а) «традиционного проекта» - модель, основанную на усилении
государственно-административных форм регулирования межэтнических и
федеративных отношений; б) «модернистского проекта» - модель, предполагающую,
прежде всего, развитие гражданской самоорганизации и горизонтальной интеграции
общества;
сравнить две целевые модели национальной политики с точки зрения их
влияния на сохранение и укрепление целостности страны;
определить контуры целевого (желаемого) проекта «нациестроительства», а
также технологические этапы его конструирования в контексте модернизации России.
Объектом исследования выступают межэтнические отношения в постсоветской
России. В аналитических целях автор выделяет два тип общностей как субъектов таких
отношений: этническое большинство (русские) и прочие этнические общности, которые
автор условно именует этническими меньшинствами.
Предметом исследования являются
процессы взаимодействия этнических
общностей в контексте модернизации и других социально-экономических, политических и
культурных изменений в России.
В
качестве
свойств
этнических
общностей
рассматриваются
-
динамика
общественных настроений в межэтнической сфере и различные поведенческие
характеристики.
Теоретико-методологические основы исследования базируются на так называемом
«полипарадигмальном подходе» в рамках методологии системных исследований. Его
9
основу составляет концепция «неомодернизма»
изложенная в трудах Э.Тирякияна,
Р.Дарендорфа, П.Штомки, Ш.Эйзенштада и др.11 Эта концепция признает многообразие
форм и траекторий политической трансформации, что позволяет выйти за рамки
классических теорий и полнее отразить специфику российской модернизации. С теорией
«неомодернизма», хорошо согласуются - модернистские концепции этничности (Ф. Барта,
Т. Эриксена, В. Соллорса, Дж. Гааса и В. Шафира), синтетическая концепция нации
Э.Смита и коммуникативная теория этнополитической интеграции К. Дейча. Все эти
концепции, а также многие новации российских исследователей национальных процессов
были использованы в диссертации в качестве ее теоретического основания.
Методология исследования включает
-системный анализ, предусматривающий рассмотрение этнических общностей в
контексте современных политических и идеологических отношений в России, а также
оценку вариантов целевых моделей национальной политики;
-компаративистский
анализ
особенностей
этнополитических
процессов
в
современной России по сравнению с советским периодом, а также в рамках двух эпох
постсоветской истории;
- анализ динамики общественного сознания в сфере межэтнических отношений за 1015 лет социологических наблюдений
временной динамики
политических стратегий,
идеологем и общественных настроений;
-историко-генетический анализ эволюции этнополитической мысли.
Основными научными источниками для диссертации послужили:
- материалы социологических исследований, прежде всего, мониторинговые опросы
общественного мнения ВЦИОМ (1989-2002 гг.) и полевых исследований коллектива,
руководимого
Л.М
Дробижевой,
по
трем
научным
проектам,
последовательно
осуществляемых с 1994 по 1999 г;
- материалы экспертных опросов и полевых экспериментальных исследований
(ЦЭПРИ), возглавляемого автором, в рамках проекта финансируемого Фондом Дж. Д. и К.
Т.
Макартуров.
12
Эти
исследования
дополняют
социологические
наблюдения
Tiryakian, Edward А.. 'On the significance of de-differentiation' //in: Shmuel N. Eisenstadt and Н. J. Heckle (eds),
Macro-sociological Theory, Beverly Hills: Sage 1985; Dahrendorf, Ralf 1990. Reflections on the Revolution и
Europe. London: Chatto & Windus,1990 ; Sztompka, Piotr. 'Agency and progress; the idea of progress and changing
theories of change'// J. Alexander and P. Sztompka (eds), Rethinking Progress. London: Unwin Hyman, 1990,
12
Исследования проводились Центром этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ),
руководимого автором в 2001-2003 гг. К 2002 году завершены исследования в пяти южных приграничных
регионах России: в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях и
собраны статистические материалы примерно по 20 регионам России. Основные результаты первого этапа
исследования опубликованы в книге: Национальные меньшинства. Правовые основы и практика обеспечения
11
10
общественного
мнения
анализом
реального
поведения
населения
в
сфере
межнациональных отношений;
материалы опытной проверки дискриминации представителей национальных
-
меньшинств в сфере найма на работу13, методика которой подробно описана в работе, а
также контент-анализ свыше 8,2 тысяч объявлений в газетах бесплатных объявлений типа
«Из рук в руки», "Все для всех" и др. за 2002 г.
материалы серии семинаров, являвшихся частью, руководимого автором
-
исследования по теме: «Национальная политика: модернистский проект», как раздела более
широкой исследовательской программы: «Модернистский проект» в фонде «Либеральная
миссия»;14
-
документы федерального и регионального законодательства, федеральной и
региональной статистики.
В диссертации широко использовались официальные документы, характеризующие
национальную политику федеральных и региональных органов власти, предложения из
регионов о направлениях корректировки «Концепции государственной национальной
политики», отечественная и зарубежная научная литература, а также материалы
периодической печати.
Научная новизна диссертации определяется введением в научный оборот
концепции нелинейного развития этнополитической интеграции в контексте российской
модернизации, а также построением и обоснованием механизмов действия имитационной
модели
«этнополитического
маятника»,
описывающей
цикличность
процессов
этнополитической мобилизации различных типов этнических общностей.
Новизна диссертации и личный вклад автора в научную разработку этнополитической
проблематики проявились также в следующем:
-в
определении
в
таких,
впервые
отмеченных,
особенностей
этнополитического транзита в России как: а) изменение основного субъекта
этнополитической
этническому
мобилизованности
большинству);
б)
(от
этнических
перемещение
зон
меньшинств
к
этнополитической
прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в субъектах юга Российской Федерации.// Под. ред.
В. Мукомеля. - М.: Центр этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ). 2003.
Указанный проект ЦЭПРИ 2001-2003 гг.
Эта работа продолжалась с января по август 2003 г., при участии многих известных российских экспертов,
выступавших на семинарах (ситуационных анализах), организованных фондом: Дробижевой Л. М,
Гришановой А. Г, Гудкова Л.Д, Зайончковской Ж. А, Зубаревич Н. В, Клямкина И.М, Кузнецова И.М,
Лебедевой Н.М, Мукомеля В.И, Полосковой Т. В, Расторгуева В.Н, Смирнягина Л. В, Филипповой Е. И,
Е.Г.Ясина. См. обсуждение этого проекта на сайте фонда «Либеральная миссия» от 01.10.2002
http://www.liberal.ru/issue.asp
13
14
11
напряженности - из республик в великорусские регионы юга России; в)
трансформация форм
этнополитической активности - от открытого
противостояния к латентным формам напряженности, например, к росту
ксенофобии;
-
в выделении различных стратегий федеральной национальной (этнической)
политики и основных региональных моделей этой политики в постсоветский
период;
-
в определении основных дефектов реформ 1990-х годов применительно к их
влиянию на национальную политику;
-
в классификации факторов, обусловливающих перемены в этнополитических
настроениях российского общества в разные отрезки постсоветской истории;
-
в определении особенностей межэтнических установок представителей
этнического
большинства
по
сравнению
с
представителями
других
национальностей России;
-
в построении и введении в научный оборот шкалы этнофобий, сложившейся в
массовом сознании россиян в постсоветский период;
-
в обосновании целесообразной последовательности, а также в выделении
этапов этнополитической интеграции в условиях России.
Исследовательская гипотеза
Автор развивает концепцию, сформировавшуюся в рамках теории модернизации и
используемую в современных теориях нации о трех стадиальных типах социальной
организации: "этнократической", основанной на принципе "крови" и этнического родства
(а также на мифологических представлениях о кровном родстве); "имперской",
базирующиейся
на
универсальном,
надэтническом
принципе
"подданства"
и
"национальной", формируемой во взаимодействии государства и гражданского общества на
основе территориально-политического единства свободных граждан.15
На каждой из этих исторических стадий преобладал особый тип этно-политических
процессов. В условиях этнократии, в период формирования ранних государств
господствовали ассимиляционные процессы. Имперские государства не ставили своей
задачей ассимиляцию всех покоренных ими народов, они устанавливали социально-
См, например, А. Кара-Мурза “Этнократия - империя - нация” // Как возможна Россия? Библиотека
либерального консерватизма. М., 1999 с.92-107
15
12
статусные
и
политико-иерархические
границы
между
ними,
выделяя
государствоообразующий народ «цемент империи» и прочие «старшие» и «младшие»
народы. В государствах-нациях, развивающиеся в условиях модернизации, доминируют
процессы ослабления жесткости этнических границ, унификации культурных норм и
развития
этнополитической
интеграции
народов
на
принципах
равноправия
и
мультикультурализма.
Принимая отмеченные стадиальные тенденции в качестве отправной точки и
исторического ориентира, автор в то же время считает необходимым внести в указанную
теоретическую модель уточнения и дополнения, характеризующие специфику российской
модернизации, обусловливающую более сложный характер этнополитических процессов.
Суть исследовательской гипотезы состоит в следующем:
во-первых, процессы нациестроительства в условиях российской модернизации могут
носить нелинейный характер, сопровождаясь эффектом «этнополитического маятника»,
т.е. волнообразным подъемом этнической активности и временным усилением в
политической жизни традиционных тенденций (т. е. не модернистских - имперских
этатистских или доимперских этнократических);
во-вторых, влияние модернизации на этнополитические процессы неоднозначно, и
процессы социально-культурной стандартизации могут сочетаться с возрождением
этнокультурной самобытности, а процессы сглаживания этнических барьеров в одних
сферах жизни могут сочетаться с ростом этнического размежевания - в других;
в-третьих, модернизация как инерционный процесс сама по себе не гарантирует
развития в обществе этнополитической интеграции. Напротив, периодические колебания
«этнополитического маятника», отражающие рост протестной активности или ксенофобий
различных групп этнических сообществ, противоречит интересам большинства россиян,
угрожают целостности страны и единству российского общества. Следовательно, в целях
предотвращения этих угроз необходимо целенаправленное развитие этнополитической
интеграции, создание предпосылок которой должно составлять одну из основных задач
национальной политики России;
в-пятых, при выборе средств и инструментов такой политики преимущество должно
быть отдано не командно-административным, а так называемым косвенным методам
управления, основанным на поощрении самоорганизации и развитии заинтересованности
в кооперации контактирующих народов. Таким образом, под этнополитической
интеграцией понимается добровольное, основанное на взаимном интересе развитие
культурных, социально-экономических и политических связей между народами России,
при сохранении их этнокультурного своеобразия и обеспечения реального равноправия
13
носителей различных культур. Интеграция также предполагает рост общегражданского
самосознания представителей разных этнических общностей и уменьшение
их
политизации за счет перевода групповой политической активности на уровень
мультикультурного гражданского общества
Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту.
1.Модернизация оказала противоречивое воздействие на этнополитические процессы
в постсоветской России.
Процессы социальной стандартизации, такие как сближение социальной структуры
этнических общностей, не привели к сглаживанию этнокультурных различий и, тем более,
к затуханию этнического самосознания. Напротив, на протяжении всего постсоветского
периода, этническое самосознание возрастало у большинства этнических общностей.
Процессы межэтнической кооперации были ограничены в основном сферой рыночной
экономики и не во всем их можно признать позитивными как, например, рост кооперации
в сфере преступности. На протяжении всего постсоветского периода в России преобладали
процессы
этнополитической
дивергенции,
проявившейся
в
сферах
культуры,
этнодемографического развития, расселения и самосознания народов. Большинство форм
такой дивергенции осложняли межэтнические отношения.
Вместе с тем, острота и угрозы межнациональных конфликтов и дезинтеграции
России существенно ослабли уже к концу 1990-х годов.
2. Если в советское время этническое самосознание, в основном, реализовывалось в
сфере бытовой культуры, то в постсоветский период оно стало быстро перемещаться в
политическую сферу. Политизация этничности в ряде случаев приводила к формированию
идеологии этноцентризма, которая препятствовала и продолжает препятствовать развитию
единой гражданской самоидентификации россиян. Гражданское самосознание не стало
всеобщим и преобладающим, поскольку помимо этноцентризма его сдерживает также
традиционный этатизм или психология «пассивного подданничества».
3. Проблемы нациестроительства в России осложняются непоследовательностью и
незавершенностью концептуальных основ национальной политики. Выраженная в
российской Конституции идея о «многонациональном народе» России как источнике
власти,
соответствующая
по
духу
модернистской
идее
о
полиэтнической,
мультикультурной «гражданской нации», не получила развитие в политической практике.
Более того, в последние годы это конституционное положение подвергается все более
настойчивой ревизии со стороны влиятельных политических сил, исповедующих
традиционалистские идеи (неоимперские либо этнократические).
14
Рост ксенофобий также выступает одним из проявлений массового деструктивного
традиционализма, который не получает адекватного противодействия
со стороны
государства и общества.
4. Федеральные власти и респектабельные политические силы пока слабо влияют на
этнополитические процессы, которые развиваются
преимущественно в инерционном
режиме.
5. Инерционные процессы в постсоветской России могут быть описаны в терминах
модели «этнополитического маятника». Его первый цикл - активизация этнических
меньшинств – наблюдался в 1990- 1993 гг. Второй цикл – этнополитическая активизация
русского большинства, стал проявляться с середины 1990-х годов и усилился к началу
2000-х годов. При этом быстрее всего выросли наиболее эмоциональные формы
этнического самосознания, выразившиеся в ответах "любые средства хороши для
отстаивания благополучия моего народа". Этот цикл проявляется также в более высокой
тревожности этнического большинства в сравнении с представителями других групп
населения в отношении реальных или мнимых угроз.
Вероятным следствием роста
тревожности, ксенофобии у представителей этнического большинства может стать
ответная реакция этнических меньшинств. В этом случае этнополитический маятник
совершит третий заключительный цикл колебаний, который может завершиться
разрушительным кризисом государственности.
6. В «эпоху политической стабилизации» заметно уменьшились острота и угрозы
этнического сепаратизма. Зона проявления его, в открытых формах, ограничилась лишь
отдельными участками территории Чеченской республики. Вместе с тем, латентные формы
межэтнической напряженности сохранились. Они лишь трансформировались по сравнению
с предшествующим периодом, «эпохой революции». Во-первых, сменилось главное
действующее лицо этнополитической активности - им стали представители этнического
большинства. Во-вторых, переместились зоны напряженности – из республик (за
исключением Чеченской и прилегающих к ней территорий) в края и области, прежде всего
юга России. В-третьих, изменился характер территориальной межэтнической дивергенции.
Если в «эпоху революции» происходило активное этническое перераспределение
населения между субъектами федерации, наблюдался процесс «стягивания этнических
общностей» к своим национальным очагам, то в эпоху стабилизации этот процесс
затормозился. Зато этнотерриториальная дивергенция проявилась на микро уровне, внутри
субъектов федерации. Здесь возросло количество
замкнутых анклавов расселения
мигрантских этнических групп, в виде обособленных кварталов или группы домов в
городах и очаговых форм расселения в сельских районах. Различные формы
15
этнотерриториального обособления не только усиливают маркированность этнических
границ, но и создают предпосылки для обострения межэтнических отношений.
7.Исходный толчок для всплеска активности как этнических меньшинств, так и
русского большинства был связан с радикальными историческими переменами,
связанными с распадом СССР. Такие перемены всегда порождают так называемый «кризис
идентичности» и стимулируют сплочение людей в рамках традиционных общностей этнических, клановых, конфессиональных. Небольшие по численности общности, особенно
территориально локализованные, быстрее консолидируются, чем большие, расселенные на
обширных пространствах такой страны как Россия.
Пока большинство оставалось относительно инертным в этнополитическом
отношении, меньшинства самоопределялись по отношению друг к другу и это
самоопределение, зачастую, носило конфликтный характер. Когда же начался рост
этнического самосознания большинства, стала изменяться и конфигурация межэтнических
отношений: ее основной осью стали взаимоотношения русского большинства и этнических
меньшинств. Так начал формироваться «этнополитический маятник», основанный на смене
циклов тревожности, неудовлетворенности двух основных типов этнических общностей.
8. Этническая политика обоих российских президентов была и остается реактивной,
т.е. формируемой непосредственно как ответ на некие актуальные вызовы. В «эпоху
Ельцина» – они исходили от меньшинств (точнее от национальных движений республик
России), поэтому его политика, во многом, определялась формулой: «Берите суверенитета,
сколько сможете», а в «эпоху Путина» – от этнического большинства и ответом на этот
вызов стала политика ограничения прав региональной и особенно национальной элиты.
Односторонняя ориентация власти на поддержку или ограничение той или иной группы
этнических сообществ, усиливает амплитуду колебания этнополитического маятника,
вызывая негативный ответ и консолидацию групп, которые считают себя «обделенными»
вниманием власти.
9. Этнополитический маятник запускается инерционными этнополитическими
процессами, однако амплитуда его колебаний, в конечном счете, зависит от эксплуатации
этнополитических
проблем
представителями
элитарных
групп.
Материалы
социологических исследований, используемые в диссертации, указывают на значительную
роль таких элит («этнических антрепренеров») в негативной этнической мобилизации.
Вместе с тем, когда подобные массовые настроения уже сложились и приобрели некоторую
устойчивость, они сами начинают оказывать влияние на поведение этнических элит, на их
социальный состав, скажем, через механизмы выборов, обусловливая спрос на типаж
популярных политических деятелей, на продукцию массовой печати и массовой культуры.
16
Для современного политического анализа характерно преувеличение роли этнических
элит, особенно, в рамках так называемого «инструменталистского подхода», сводящего
чуть ли не всю совокупность причин возникновения этнополитических проблем к
действиям указанных элит, оцениваемых инструменталистами односторонне и только
негативно.
10.Инерционные процессы представляют особый интерес для политической практики,
поскольку именно они ставят политиков перед выбором: опереться ли на сложившиеся
стереотипы, подстроиться под них или попытаться их переломить. Однако может быть и
третий подход - не только общество должно адаптироваться к модернизации, но и
модернизация должна приспособиться к обществу к его особенностям, в том числе и к
специфике этнополитической истории России и сложившейся ныне этнополитической
ситуации.
11.Совмещение задач модернизации и учета этнических традиций в мировой практике
обычно достигается за счет эшелонирования различных реформ во времени, поэтому
диссертант предлагает поэтапную модель развития этнополитической интеграции народов
России, с учетом особенностей характера и темпов ее модернизации.
12. Большинство россиян кровно заинтересовано в межнациональном согласии,
рассматривает его в качестве одной из важнейших человеческих ценностей. В месте с тем
процесс этнополитической интеграции, соответствующий этим ценностям и целям,
протекает медленно. В сложившихся условиях переход от традиционных форм
самоидентификации россиян к новым, национально-гражданским, займет сравнительно
продолжительное
время.
Этот
процесс,
вероятно,
будет
носить
нелинейный
(волнообразный, маятниковый) характер, сопровождаясь попятными движениями, и может
успешно завершиться лишь при условии целенаправленных усилий государства и
гражданского общества.
Научно-теоретическая и практическая значимость работы.
Диссертационное исследование вносит определенный вклад
в развитие теории
этнополитических процессов и, прежде всего, в оценку неоднозначного влияния на них
модернизации и других факторов политической трансформации общества. Диссертация
также
помогает
точнее
определить
соотношение
инерционных
факторов
этнополитического развития и целенаправленной политики. Исследование позволит
глубже понять роль этнических элит, так называемых «этнических антрепренеров», в
процессе мобилизации этнических общностей. Представленная в работе имитационная
модель этнополитического маятника может быть использована для прогнозирования
17
возможных траекторий этнополитического развития, а также для определения возможной
реакции различных типов этнических общностей на те или иные управленческие решения.
Обоснованные в диссертации идеи и выдвинутые гипотезы могут служить отправной
точкой для новых конкретных исследований современной этнополитической ситуации и
направлений ее трансформации в условиях модернизации.
Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе, при
подготовке нового учебного курса: «этническая политология» и ряда спецкурсов,
например, в рамках федеральной программы: «Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе»,
Выводы автора могут быть полезны для
политической практики и найдут
применение в законодательной деятельности, при подготовке нормативных документов,
например, при корректировке концепции национальной политики России и частично уже
учитываются Рабочей группой, созданной для этой цели при министре Российской
Федерации Зорине В.Ю.
Апробация работы и реализация результатов диссертационного исследования
По теме диссертации опубликовано 70 научных работ, включая 14 монографий
(авторских и коллективных) и сборников под редакцией автора. Личный вклад автора в эти
работы составил свыше 90 п.л. В печати находятся две монографии объемом более 30 п.л.
Помимо России, труды автора опубликованы в Англии, Венгрии, Германии, Италии,
Испании, Канаде, Польше, США, Швеции, Японии и в ряде других стран.
Полученные в ходе работы над диссертацией научные результаты были представлены
на многочисленных научных конференциях, как российских, так и международных, в том
числе, лишь за два последних года на следующих: VII Liechtenstein Colloquium on “The
Future of the Russian State” Liechtenstein March 14-17, 2002; International Conference:
“Nationalism, Identity and Regional Cooperatin: Compatibilities and Incompatibilities. Special
Convention CECOB/ASN Forli, Italy, June, 4-9 2002; International Conference: “The European
Union: Its Internal, Regional, and International Roles” Dublin, Ireland 19-22 September 2002;
Международная конференция: «Федеративные отношения, региональное развитие и
федеральные округа». Казань, 28-29 ноября 2002; Десятый ежегодный международный
симпозиум «Куда пришла Россия». Итоги социетальной трансформации». Москва 16-18
января 2003 г. Международная конференция: "Национальные меньшинства в Российской
Федерации". Москва 2-3 июня 2003; Третий всероссийский политологический конгресс,
Москва 28-29 апреля 2003 г.
Ряд идей автора, развиваемых в диссертации, был использован им при подготовке
главы: «Этническое измерение человеческого развития», доклад о развитии человеческого
18
потенциала в Российской Федерации Программы Развития ООН (1997). Они нашли также
отражение при подготовке под руководством и при участии диссертанта научного доклада
«Анализ и разработка изменений и дополнений к
нормативно-правовой базе
противодействия экстремизму» в рамках федеральной программы: «Формирование
установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе»
(Госконтракт 1737 Институт социологии РАН, 2002 - 2003 гг.)
Реализация исследовательских разработок диссертанта проводилась также в форме
подготовки аналитических материалов для президента Российской Федерации (включая его
законодательные инициативы, выступления и ежегодные послания Федеральному
собранию), Правительства и Совета Безопасности России в процессе деятельности
диссертанта как члена Президентского совета (1993- 1996 гг.), советника Президента РФ
(1996-1999 гг.), члена Межведомственной комиссии Совета Безопасности по проблемам
Северного Кавказа (1997-1998. гг.).
Диссертационный материал использован в преподавательской деятельности автора,
при чтении спецкурса: «Межнациональные отношения в Российской Федерации» на
факультете государственного управления МГУ, лекционного курса
по программе:
«Этносоциология. Социология конфликтов» в Федеральном центре переподготовки
преподавателей по социологии, а также в лекционной деятельности диссертанта в ряде
зарубежных университетов – в Варшавском, Гарвардском, Колумбийском, Стенфордском,
и в некоторых других.
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой политического анализа
Факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова 30 октября 2003 г.
Глава 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Параграф 1. Исторические истоки современной этнополитической мысли
В мировой науке не существует единой точки зрения на предмет и содержание
этнополитологии, по этому поводу, можно выделить, как минимум, три наиболее
обобщенных точек зрения: 1) этнополитология изучает историю зарождения и развития
этнополитической мысли; 2) этнополитология формирует теории, модели и концептуальное
разъяснение для этнической политики; 3) этнополитология изучает современные
этнополитические явления и процессы.
19
На мой взгляд, представленные здесь точки зрения не противоречат друг другу и лишь
характеризует разные и взаимодополняющие стороны предмета.
Сложнее ответить на вопрос о содержании тех самых явлений и процессов, которые
составляют предмет этнополитологии. При попытках ответа на этот вопрос возникает, по
крайней мере, две теоретические преграды. Прежде всего,
многое зависит от тех
теоретических установок относительно сущности этничности и нации, которыми
руководствуется исследователь. Взгляды на роль политических факторов заведомо будут
разными у сторонников природной (геобиологической, расово-генетической), мистической
и социально-культурной теорий этничности. Они будут различаться также у приверженцев
этнической, общественно-гражданской, государственнической и синтетической теорий
нации. Поэтому, предваряя детальное рассмотрение этого сюжета, скажу, что диссертант
рассматривает понятия «этничность» и «нация» как различные по своей природе, но
пересекающиеся явления. Как уже отмечалось, этничность имеет преимущественно
социально-культурную природу, а нации и национализм - социально-политическую. Оба
явления могут и должны быть предметом этнополитологического изучения.
Далее определение содержания этнополитологии зависит от устанавливаемых
исследователем рамок предметной области, а они варьируются от крайне узких, до
безмерно широких.
Например, к узким трактовкам
его содержания можно отнести
концепцию М. Паренти, который сводит функции этнополитологии лишь к исследованиям
связей между этнической принадлежностью людей и их политическими ориентациями,
позициями. 16 К сторонникам узкой трактовки можно отнести и одного из наиболее
известных современных этнополитологов, профессора Колумбийского университета Д.
Ротшильда. В своей фундаментальной монографии «Этнополитика: концептуальные
рамки», он определил цели этой науки, только как анализ процессов этнополитического
ренессанса и роли политизированных этнических групп в политической жизни страны и
мира в целом.17 Другой известный ученый Пьер ван ден Берг сводит основной смысл
этнополитологии
только к изучению отношений между государством и этническими
меньшинствами.18 Большая группа известных ученых (среди них К. Дейч, Э. Смит, Г.
16
Parenti M. Ethnic Politics and Persistence of Ethnic Identification .// American Political Science Review
(APSR)/-1967. Vol.61.#3.
17
Rotshild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework. N.Y. 1981
18
Van den Berghe. P Protection of Ethnic Minorities: A Critical Appraisal // Protection of Ethnic Minorities.- N.Y.
1981
20
Сетон-Уотсон и др.) ограничивают предмет этнополитилогии изучением различных форм
национализма, а также нации в их взаимоотношениях с государством.19
Однако узкие трактовки господствовали преимущественно в 1960-х – 1970х годах.
Позднее предметная зона этнополитологии стала расширяться и углубляться. Это заметно
по публикациям: чем ближе год их выпуска к нашему времени, тем шире представленная
в них трактовка предмета исследований. Начиная с 1990-х годов, большинство авторов
включают в предмет этнополитологии
национализма, но и
не только проблемы меньшинств, наций
и
всевозможные разновидности социальных, культурных и
политических процессов, субъектами которых выступают
этнические сообщества
различного таксономического уровня, включая и метаэтнические сообщества. Активность
разнообразных этнополитических акторов рассматривается как на национальном, так и
международном уровнях, во взаимоотношениях с различными типами политических
систем.20
Диссертант также придерживается широкой трактовки предмета этнополитологии и
применительно к теме диссертации определяет его как сочетание двух взаимосвязанных и
комплиментарных подходов. Первый - «от этничности к политике» - подразумевает
исследование этнических особенностей социальных и политических субъектов и их
влияния на политику (например, особенностей политической активности разных
этнических групп, своеобразие восприятия представителями разных национальностей
государственных политических стратегий и др.) Второй - «от политики к этничности»предполагает изучение влияния политических явлений и процессов на этническое развитие
и межэтнические отношения. В последнем случае речь идет, прежде всего, о трех видах
отношений: 1) между этническими общностями и политическими институтами
государства, 2) между разными этническими общностями и, наконец, 3) между индивидом
и этнической общностью, в той мере, в какой эти отношения опосредованы социальнополитическими факторами.
Этнополитология сегодня представляет междисциплинарное научное направление,
предметная зона которого лежит на пересечении нескольких наук и, прежде всего,
политологии, социологии и этнологии.
Это направление сложилось сравнительно недавно и, возможно, уже сама новизна
предмета, отсутствие устоявшихся взглядов, обусловили огромное разнообразие мнений
относительно природы и содержания этнополитических явлений. Даже сама классификация
Deutsch К. Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality, Cambridge
(Mass.) 1953 (второе издание 1966); Seton-Watson H. Nations and States. L., 1977; Smith А. Theories of
Nationalism. L., 1971.
20
Kellas J. The Politics of Nationalism and Ethnicity. – L., 1991; Esman Ethnic Politics.- Ithaca,1994.
19
21
подходов к этой проблеме представляет не малую сложность, поскольку многочисленные
авторы
предлагают
различные
основания
для
классификации.
Одни
авторы
классифицируют этнополитические течения и школы: по принципу универсализма и
релятивизма их исторического подхода; другие - выделяют объективизм или субъективизм
концепций, третьи классифицируют этнополитические концепции по их отношению к
феномену этничности и к его моно- или многофакторной природе.21
На мой взгляд, для анализа всего многообразия подходов к рассматриваемой
проблеме,
полезно
воспользоваться
историко-генетическим
различные концепции на исторической шкале, можно
методом.
Располагая
не только проследить истоки
возникновения основных этнополитических доктрин, но и, зачастую, увидеть взаимосвязь
и, по большей части, комплиментарность идей, многие из которых рассматривались
современниками как антагонистические. Историко-генетический анализ показывает, что
развитие этнополитических знаний шло не линейно, оно сопровождалось спадами и
подъемами. Исследователи разных эпох периодически возвращались к идеям, казалось бы,
давно забытым или отвергнутым, но иногда оказывавшимися удивительно актуальными на
новом витке исторического развития.
Трудно определить, когда и кем были впервые предложены сами термины «этническая
политика» и «этнополитология» Некоторые специалисты в области изучения истории
этнополитической мысли, высказывают предположение, что первые упоминания термина
«этническая политика» могут быть датированы двадцатыми годами XX века и связаны, так
или иначе, с именем профессора Берлинской высшей школы М. Бема. Именно он основал
первый в своем роде журнал «Этнополитический альманах», регулярно издававшийся в
Берлине вплоть до начала второй мировой войны.22 Другие авторы открещиваются от
такого «прародителя», опасаясь запятнать новорожденную этнополитологию связью с
расистскими теориями «третьего рейха».
Однако, на самом деле, не столь уж важно, кто первым ввел в оборот термин
«этническая политика» и производный от него - «этнополитология». Более значимым
является определение времени, когда исследования в этом направлении приобрели
систематический характер и самими авторами стали трактоваться как этнополитические.
Можно с уверенность сказать, что это произошло в конце 1950-х – в начале 1960 годов и,
в значительной мере, было связано с процессами деколонизации, становлением новых
Об этом подробнее см., например Марченко Г.И. Методологические подходы к исследованию
этнополитических явлений// Вестник Московского ун-та. Сер 12. Политические науки. 1995. №1 с 5-15.
22
Картунов О. В. Вступ до Етнополитологii. Киiв Iнститут экономiки та господарского права. 1999. С. 21
21
22
государств и национальным строительством в них, породившим настоящий взрыв
этнического возрождения.
В. А Тишков называет несколько причин
«глобального явления этнического
возрождения» Первую он связывает со стремлением «устранить исторические, социальнополитические
несправедливости,
накопившиеся
за
долгие
годы
существования
колониальных империй и неоколониалистской политики в отношении многих народов,
дискриминации
иммигрантских,
расовых
и
этнорелигиозных
групп
населения
многонациональных государств»23. Другая причина обрисована В. Тишковым в терминах
глобальных модернизационных трансформаций и «заключается в реакции этнокультурных
общностей на некоторые объективные процессы, связанные с научно-техническим
прогрессом, урбанизацией, распространением нивелирующих тенденций массовой
культуры и быта. Этническая специфика, культурное своеобразие, перейдя из сферы
материальной (жилище, одежда, хозяйственная деятельность) в сферу духовную, стали все
чаще служить своего рода охранительной реакцией на отчуждение и дегуманизирующее
воздействие некоторых сторон современной цивилизации. Не следует сбрасывать со счетов
и усиливающуюся в мире напряженность на почве конкурирующей деятельности
человеческих сообществ по использованию ресурсов жизнеобеспечения в условиях
обостряющихся экологических проблем».24
Признавая важность постколониального периода для формирования современных
воззрений политической науки к изучению этнических и национальных процессов, не
стоит, на мой взгляд, жестко привязывать к нему исторические истоки этнополитологии.
Если собственно политологическое изучение этнических и национальных отношений
началось сравнительно недавно, то зарождение этнополитической мысли восходит
к
глубокой древности.
Определенные высказывания по вопросу о взаимоотношениях государства и
различных нардов, а также о причинах различий народных традиций можно найти еще в
трудах Аристотеля, Платона, Сенеки и др. Тогда же впервые были предприняты попытки
научных объяснений этих особенностей. Много веков спустя, и даже тысячелетий, эти идеи
античных авторов в чем-то повторились в концепциях современных школ и направлений
изучения этничности и национальных отношений. Например, истоки идей географического
детерминизма Ф. Ратцеля, Л. Фробениуса, Л.Гумилева можно найти еще у Геродота и
Аристотеля; мысли, которые можно определить как предтечу такого направления
23
В.А. Тишков. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. С. 13
24
В. Тишков . Указ. Соч. С.13.
23
этносоциологии и этнополитологии как «примордиализм», (абсолютизирующего фактор
кровно-родственных связей в механизме сохранения этничности), прослеживаются еще у
Платона и Тацита, а идеи культурологического объяснения особенностей народов и
государств мы находим у Демокрита и Лукреция, предложившего первую классификацию
ступеней культурного развития народов.
Уже в античности появились идеи, которые можно считать предтечей последующего
этнического национализма. К ним, прежде всего, относятся представления об избранности
своего народа, мессианские чувства по отношению к другим и, конечно же, идея своего
«национального очага» - государства, создание, защита и укрепление которого является
высшим предназначением члена общности- народа.25
В период раннего средневековья происходит частичная утрата интереса к
теоретическим построениям в указанной области и даже на какое-то время забвение
достижений античности. Вместе с тем, укрепляются те зачатки этнополитических знаний,
которые были связаны с потребностями практической политики. Первоначально они
проявлялись как описания и осмысления "политических" действий и намерений других
"чужих" народов по отношению к собственному. По большей части такое практическое
назначение с позиций интересов Византии, имели
описания народов, сделанные
византийскими авторами VI-X вв. (Иорданом, Маврикием, Константином и др.).
Практическими побуждениями поиска военного союза христианских государств с
монголами против различных мусульманских движений были обусловлены путешествия на
Восток европейских монахов - Плано Карпини и Рубрука (XIII в.). В тот же период, не
только торговые интересы побуждали к путешествиям венецианского купца Марко Поло,
во всяком случае, его описания народов и государств Востока сопровождаются и
рассуждениями об особенностях их управления и характеристикой того, что в современном
политическом лексиконе называют «политическими интересами». Поиски и захваты новых
заморских земель дали толчок для нового этапа в развитии этнополитических знаний в
эпоху "великих географических открытий" (с середины XV в.).26
Общество, как и отдельный человек, прежде, чем осознать свои особенности,
фиксирует своеобразие других. Поэтому не случайно интерес к жизни других народов у
исследователей предшествовал изучению собственного, а внешнеполитические задачи
(говоря
современным
языком)
первоначально
в
большей
мере
стимулировали
этнополитические изыскания, чем задачи и проблемы внутренней политики. Однако
наибольший толчок этнополитическим знаниям давали размышления, продиктованные
25
26
Кон Г. Азбука национализма (1). Проблемы Восточной Европы. 1989.
Токарев С.А. История зарубежной этнографии. // Москва.: «Высшая школа» 1978.С. 19-21.
24
глубокой личной заинтересованностью людей судьбой своего народа и своей родины.
Именно этим были мотивированы размышления Николо Макиавелли (1469-1527 гг.),
выдающегося мыслителя эпохи Возрождения, человека страстно озабоченного идеей
объединения Италии. Макиавелли считал себя не только жителем Флоренции и подданным
ее герцога, но и представителем итальянского народа, хотя при этом с сожалением отмечал,
что Италии как таковой нет. На мой взгляд, в его трудах содержатся не только зачатки
этнополитических знаний, как в предшествующие периоды, но и первые этнополитические
концепции.27
В своем наиболее известном труде «Государь» Макиавелли одним из первых
поставил
вопрос
о
целях
объединения
этнических
общностей,
разделенных
государственными границами. Макиавелли, пожалуй, первым обосновал «технологию»
этнополитической интеграции, точнее национально-объединительных движений. Можно
выделить, по крайней мере, четыре основных условия национальной интеграции по
Макиавелли:
1.
«Сильный лидер» Для объединения нужен мудрый и доблестный государь,
который знает свой народ, его потребности, его прошлое и настоящее и
болеет за будущее. Вместе с тем, с врагами он должен быть хитрым, а при
необходимости даже и жестоким. Важнейшим качеством государя он считал
его умение выбирать верных и разумных советников.
2.
«Сильная армия». Борьба за объединение Италии требует сильной армии и не
наемников, и не союзных войск разных княжеств, а постоянной народной
армии.
3.
«Единые символы». Макиавелли говорит об общем знамени, но из работы
вытекает, что речь не только о национальных символах, но, по сути, он имеет
в виду то, что в последствии назовут «национальной идеей», т.е.
совокупностью приоритетов и ценностей, мобилизующих народ на
национально-освободительную борьбу и национальное объединение
4.
«Психологическое единство». Ряд идей Макиавелли, в частности о
готовности народа на борьбу, впоследствии исследователи толковали как
предтечу идеи патриотизма, как основного фактора, определяющего
психологическую готовность людей к объединению различных, но этнически
однородных территорий, в единое государство. Вместе с тем, если такая
27
Макиавелли. Н Государь. М., 1990.
25
готовность людей (патриотизм) исчезает, то государь должен принудить
народ к объединению силой.
Из мыслителей эпохи Возрождения, определенный вклад в последующее развитие
этнополитической теории внес Жан Боден (1520-1596 гг.). Он одним из первых обосновал
понятие суверенитета. Если в средневековом праве государственная власть трактовалась
как соглашение между королем и его вассалами, то, начиная с XYI, суверенитет стал
трактоваться как
отношение господства и подчинения, связывающие монарха с
подданными.28 Естественно это было представление о суверенитете в рамках абсолютной
монархии. Вместе с тем, Ж. Боден дал классификацию народов как «хороших» и «плохих»
подданных. Сама эта классификация наивна и отражает предрассудки того времени по
отношению к народам, живущим за пределами Франции. Интерес здесь представляет лишь
сама попытка (одна из первых) выявления связи между политикой и этническими
свойствами или, как говорил Боден «нравами народа».29
В эпоху Просвещения XVI – XVII вв. наблюдался небывалый ранее подъем интереса,
как к антропологической, так и к этнополитической тематикам, которые, так или иначе,
затрагивались большинством мыслителей той эпохи.
Получила новое осмысление идея географического детерминизма, известная еще с
античного времени. При этом представления о воздействии окружающей природной среды
на народы, их обычаи, а также на их социально-политическую организацию впервые
получили теоретическое оформление в трудах Монтескье. Разработана была и новая,
значительно более развернутая и рациональная, чем в античные времена, схема
общеисторических стадий культурного развития (Тюрго, Вольтер, Фергюссон, Кондорсе).
Все эти общественно - исторические теории сыграли свою роль в идейной подготовке
концепций, которые можно определить как непосредственную предтечу современной
этнополитологии.
Из мыслителей названой эпохи первым подошел к
тому, что ныне включено в
проблематику этнополитологии и, прежде всего, к вопросу о нации - Томас Гоббс (15881679 гг.) Он впервые поставил вопрос об «общественном договоре», который английский
мыслитель трактовал, как формальную легитимизацию права монарха выступать от имени
государства. Он же одним из первых повел речь о соотношении таких понятий, как «народ»
и «население». В терминологии Гоббса народ по сути совпадает с тем, что в- последствии
современные специалисты будут определять как нация. Гоббс исходил из того, что все
Боден Ж. Шесть книг о государстве.// Антология мировой философии в 4-х т. Т2. М,, 1965.
Боден Д. Метод легкого изучения истории.// Антология мировой филисофии6 В 4-х т. Т2. М,, 1965. С.141144.
28
29
26
люди, проживающие в одной стране, могут быть названы народом: народ – это нечто
единое, он имеет единую волю и ему может быть продиктовано единое действие. Почти
через сто лет после его смерти (в 1755 г.), был издан толковый «Словарь английского
языка», в котором впервые появилось понятие «нация», 30 трактовавшаяся в терминах
сходных с теми, в которых Гоббс определял народ, т. е. «жители одной страны, подданные
одной власти». Гоббс, пожалуй, одним из первых, подошел к понятию народного
суверенитета, хотя он еще не говорил о соотношении суверенитета народа и государя.
Вместе с тем, оно уже определил, что объединенный единой волей народ может стать
источником власти. Гоббс в значительной мере развил политический подход Макиавелли
к установлению целей консолидации народа в единое государство и сделал попытку
очертить границы нового феномена, который позднее получил называние «государствонация».31
Важный вклад в последующие теории этнополитологии внес Джон Локк (1632-1704
гг.), прежде всего, в тех аспектах этого научного направления, которые связаны с
проблемой распределения власти и наиболее фундаментального ныне принципа - прав
человека.32
И все же, по мнению многих современных этнополитологов, из мыслителей эпохи
Просвещения, наибольшее влияние на развитие современных концепций нации внес Жан
Жак Руссо (1712-1778). В своем знаменитом труде «Об общественном договоре или
принципах политического права» Жан Жак Руссо обосновал три фундаментальных идеи: 1)
свободы и равенства людей и народов как высшей ценности 2) народного суверенитета,
противоположного суверенитету государя, 3) народа не как этнической общности, а как
граждан республики.33 По мнению Л. Снайдера, автора широко известной и авторитетной
«Энциклопедии
национализма»,
современные
общественно-гражданские
(т.е.
не
этнические) концепции нации и национализма являются прямыми наследниками идей Ж.Ж.
Руссо и последующих идей, рожденных Великой французской революцией.34
Период, который в историографии получил название «новое время», середина XVIIIXIX вв. дал новое продвижение к формированию современных этнополитических
концепций.
Творчество Иммануила Канта (1724-1804), оказало влияние как на развитие теории
нации, так и на развитие этнографии и антропологии. При этом, если в антропологии Кант
См. Картунов. О. Указ. Соч. С. 132.
Гоббс. Т. Левиафан.// Изб. Произв. В 2 т.Т.2. М., 1965. С.334-346.
32
Локк Дж. Сочинения: В3 т. - М., 1988.
33
Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. //Антология
мировой философии: В 4 т. Т.2. М., 1965. С. 562-563.
34
Snyder L. Encyclopedia of Nationalism. N.Y., 1990.- P.131.
30
31
27
находился в плену идеи о природных свойствах этничности, господствующей с древнейших
времен и до конца XIX века, то в своих социально-политических взглядах он в
значительной мере опережал свое время и стимулировал развитие современных
представлений о сущности общества и нации. Под термином «народ» Кант понимал не
просто население определенной местности, а объединение людей, связанных идеей общего
происхождения (в последствии эту идею или «миф о единстве происхождения»
антропологи будут оценивать как важнейший элемент теории этничности), а также общим
подданством. Такое объединение он называл нацией.35 Кант первым выдвинул идею,
которую можно считать актуальной и сегодня - идею мирового союза независимых
государств. Такой союз по мысли немецкого мыслителя должен был бы стать гарантом
свободы, независимости суверенных государств и хранителем вечного мира между ними.36
В какой-то мере эту идею можно считать прообразом концепции мирового сообщества,
международной организации объединенных наций.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831гг.) безусловно, оказал огромное
воздействие на обществоведение (того времени и нынешнее), в том числе и на процесс
продвижения мировой науки к пониманию сущности нации и этничности.
Идеи Гегеля о сущности нации в чем-то оказались дальше от нынешних
представлений, чем многие концепции его предшественников, мыслителей эпохи
Просвещения. Речь идет, прежде всего, об отказе Гегеля, который абсолютизировал и даже
обожествлял самодержавное государство как высшую духовную ценность от идеи
«народного суверенитета». Вместе с тем, именно в работах Гегеля нашли отражение многие
термины, которые сейчас стали общепризнанными, в том числе, «государство- нация».
Гегель понимал нацию как общность, у которой два родителя, с одной стороны – это род,
племя, в последствии трансформировавшиеся в этнические общности, а с другой стороны
– это общественные институты, возникающие с появлением государств. 37 Эта идея о двух
источниках происхождения нации до сих пор находится в центре дискуссий о сущности
этого феномена, и на мой взгляд она чрезвычайно плодотворна, хотя обычно современные
авторы не ссылаются на приоритет Гегеля как пионера такого подхода. На это впервые
обратил внимание Ш. Авинери.38
Первая половина XIX в. - ознаменовались появлением новых интересов и новых точек
зрения в интересующей нас области. Самой понятной причиной роста интереса к
этнической политике стал рост национально–освободительных движений в империях. В
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения.// Сочинения в 6 т. Т.6. М., 1966 С. 562
Кант И.К вечному миру // Сочинения в 6 т. Т.6. М., 1966 С 271-279
37
Гегель. Философия права. // СочиненияюТ.7. М.-Л., 1933.С.356-357.
38
См. Avineri. S. Hegel’s Theory of the Modern State. - Cambridge 1972
35
36
28
это время такие движения особенно сильно сотрясали Австро-Венгерскую и Османскую
империи на Балканах и Российскую – на Кавказе и в Польше. Интерес к этнологии
усиливался и в связи с
ослаблением позиций абсолютистских форм управления и
нарастанием влияния конституционных форм правления. Под влиянием революций во
Франции, Англии, Нидерландах, нарастания конституционализма в скандинавских странах,
потребовались дополнительные ресурсы легитимизации имперской власти, которая в связи
с
этим
заинтересовалась
своими
народными
корнями.
Тогда
появилась
«фольклоризированая» политика, выражением которой в России была уваровская
концепция народности (о ней мы еще поговорим подробнее в других главах диссертации).
Разумеется, стимулировали интерес к этнологии и национально-объединительные
процессы. Так, в элитарных кругах немецких государств все чаще стали говорить о единой
немецкой этнической общности, разделенной множеством государственных границ.
Именно в это время идеи объединения народа стали чрезвычайно популярны в Прусском
королевстве, претендовавшем (в споре с Австрией) на роль лидера объединения немецких
земель. Все это стимулировало интерес к прошлому немцев и германских народов в целом.
Отсюда родиноведение ("Volkskunde"), собирание и публикация памятников поэтического
народного творчества, а иногда их сознательная подделка. Поиск общих истоков и
исторических корней немецкого народа стимулировал интерес к мифам, легендам о
происхождении немцев, об их героической истории. В это время в германских государствах
сложилась
так называемая "мифологическая" школа (Гримм, Кун, Шварц, Мюллер),
объяснявшая особенности народных традиций отражением в них древних германских
мифов.39 Эта мифологическая теория, иногда приобретавшая мистические очертания,
оказалась чрезвычайно популярной и, впоследствии, нашла отражения в идеологических
доктринах «третьего рейха».
Иначе
развивалась
социально-политическая
мысль
во
Франции.
Здесь,
в
противоположность германскому мифологизму и мистицизму, преобладали сугубо
рационалистические теории позитивизма (Огюст Конт) и универсализма всемирного
исторического развития, в которых не было место этнической специфике. Эти схемы
универсального всемирно- исторического развития были намного беднее по содержанию,
чем идеи прогресса у мыслителей XVIII вв.
Несмотря на волнообразный характер
развития этнополитических знаний, при
котором периоды подъема теоретических исследований, сменялись временами застоя и
даже некоторого концептуального регресса, все же исторически происходило продвижение
39
Токарев С.А. История зарубежной этнографии. С.22-23.
29
к
более
полному
понимаю
сути
этнических
и
национальных
проблем.
Оно
подготавливалось не только накоплением фактического материала, но и кристаллизацией
предмета исследований.
Во второй половине XIX в. произошли важные, на мой взгляд, революционные
перемены во взглядах на указанные проблемы. Во-первых, в 60-70-гг XIX в. исследования
проблем этничности и наций отпочковываются от общих философских рассуждений о
развитии общества и становятся самостоятельной отраслью знания. Разумеется, это, была
еще не этнополитология, а некое междисциплинарное научное направление, включающее
элементы этнологии (антропологии), социологии, психологии, а также политических
знаний. Во-вторых, внутри нового комплекса знаний, началось размежевание предметных
зон, связанных с изучением этничности и проблем наций, как взаимосвязанные, но
специфичные предметные области.
Параграф 2. Этнополитические концепции эпохи модерна
К числу заметных событий в
комплексе наук, предшествовавших современной
этнополитологии, следует отнести и перемены во взглядах на этничность. В середине XIX
в. она впервые перестала рассматриваться как застывшее явление, навсегда прикрепленное
к какой-либо этнической группе и к человеку. На смену этим представлениям,
сохранявшимся у мыслителей многих эпох (от Платона до Канта и Гегеля), пришли новые,
рассматривающие этничность в развитии - как феномен изменяющейся культуры. Первыми
к такому пониманию пришли исследователи, являющиеся сторонниками доминирующего
в то время эволюционисткого подхода к истории человечества.
Эволюционистское направление в антропологии. Появившаяся еще в 1830-х –
1840-х годах наука, которую в Германии называли «этнографией», во Франции
«этнологией», а в Англии, «антропологией», восприняла эволюционизм как основу своей
методологии.40 Важнейшие идеи, на которых построена эта концепция, сводятся к
следующим постулатам: во-первых, единство человеческого рода, обусловливает и
единообразие
развития
культуры;
во-вторых,
развитие
носит
исключительно
прогрессивный характер и имеет лишь один (однолинейный) вектор - от простого к
сложному; в-третьих, законы развития культурных явлений могут быть выведены путем
редукции, на основе изучения психических свойств индивида, поэтому динамика явлений
общественного строя и культуры имела в рамках этой концепции только психологическое
40
Токарев С.А. История зарубежной этнографии. // Москва.: «Высшая школа» С. 24.
30
обоснование. Эти общие постулаты могли иметь неодинаковую трактовку и наполнялись
разным фактическим содержанием у различных представителей этого направления, таких
как Герберт Спенсер, Джон Леббок, Эдуард Тейлор, Джемс Фрэзер; Адольф Бастиан,
Теодор Вайц, Юлиус Липперт, Генрих Шурц; Шарль Летурно; Люис Генри Морган.41
Пожалуй, самый известный в этнологии представитель этого направления - Эдуард
Тэйлор
-
пытался
применить
к
изучению
явлений
этнической
культуры
естественнонаучный метод. Первой задачей в этой области он считал естественнонаучную
систематику, поэтому все явления культуры Тейлор уподоблял видам растений и
животных, изучаемых натуралистами. Он твердо стоял на точке зрения имманентного
развития явлений культуры и считал, что однонаправленный, прогрессивный вектор этого
развития самоочевиден. Тэйлор, как и другие эволюционисты, представлял себе прогресс
как постепенное усовершенствование, развитие одних явлений из других. 42
В свое время В. Ленин назвал эту концепцию «мертвой, бедной и сухой» и
противопоставил ей жизненную диалектическую концепцию развития.43 С тех пор
подобные оценки эволюционистов стали общепринятыми для советского обществоведения
и по наследству перешли и российскому. На мой взгляд, такого рода оценки не корректны,
поскольку они осовременивают историю. Ведь для своего времени эволюционизм был
безусловным шагом вперед, по сравнению с предшествующими представлениями об
этничности. Упрощения реальности в трудах эволюционистов антропологов, были не
большими, чем, скажем у эволюционистов естествоведов того времени, вклад которых в
развитие современного естествознания, тем не менее, не оспаривается. Без первых и,
разумеется, весьма упрощенных подходов к систематике научных знаний не могла бы
возникнуть современная наука. Другое дело, что уже современники эволюционистов
отмечали, что некоторые их выводы вступают в противоречие с известными уже тогда
фактами реальности. Эти противоречия были особенно заметными в той предметной зоне,
которая выходила за переделы сюжетов, которые можно назвать приоритетными для
эволюционистов.
Три таких сюжета преобладали в работах эволюционной антропологии. Во-первых,
развитие брачно-семейных отношений от широких групповых форм половых связей до
современного моногамного брака и от
матриархальной семьи - к современной
патрилинейной. Во-вторых, развитие предтеч современной социально-политической
организации, а именно родоплеменных структур, моделирование перехода которых к
См. Токарев С.А. История зарубежной этнографии. // Москва.: «Высшая школа» С. 30.
Тейлор Э. Первобытная культура СПб, 1872 ( М., 1939)
43
Цит по Токарев С.А. Указ соч., С. 43.
41
42
31
современному государству, было среди эволюционистов антропологов не менее
популярным, чем у биологов того времени выдвижение гипотез перехода от обезьяны к
человеку. В-третьих, развитие духовной культуры, прежде всего верований от
первобытного анимизма и фетишизма - к современным монотеистическим религиям.
Эти сюжеты и сегодня составляют основной предмет исследований этнологов и
антропологов, прежде всего тех, кто тяготеет к так называемому примордиалистскому
направлению в изучении этничности.
Реже эволюционисты исследовали явления, так называемой материальной культуры.
Как раз в этой области однолинейная концепция развития и сосредоточение внимания
исследователей только на внутренних факторах (в пределах изучаемой ими общности)
эволюции почти сразу же обнаруживала свои несовершенства в объяснении множества
известных уже тогда явлений. Прежде всего, никак не укладывались в эволюционную
концепцию замкнутых культур многочисленные факты, свидетельствовавшие, что даже
народы, отставшие в своем культурном развитии, зачастую использовали предметы,
которые заведомо не могли быть изобретены и изготовлены ими самими и являлись
очевидным заимствованием у других народов,
достигших более высокого уровня
экономического, социального и культурного развития. Это доказывалось как полевыми
исследованиями, так и историческими источниками, указывающими, например, на то, что
кочевники скифы использовали ювелирные изделия, изготовленные греческими мастерами,
а затем позаимствовали и саму технологию этих ремесел.
Подобные, очевидные пробелы в теории эволюционизма стимулировали появление
оппозиционных им теорий.
Диффузионистское направление. Само понятие "диффузия" (буквально
"рассеяние", "растекание") взято из естествознания: диффузия газов, жидкостей и в
антропологии (этнологии) означает распространение культурных явлений в неком
географическом ареале, от культур «доноров» к культурам «реципиентам», посредством
различных видов контактов между представителями этнических общностей, а именно:
миграций, торговли, завоеваний, путешествий, брачных отношений и др.
Предтечей этого направления обычно считают Фридриха Ратцеля (1844 –1904 гг.),
который в своих трудах - "Антропогеография" (1882 - 1891), "Народоведение" (1885 - 1888
гг.), "Земля и жизнь" (1901 - 1902 гг.) и др. - попытался нарисовать, как общую картину
расселения человечества, так и развития особенностей культуры,
в зависимости от
географических условий. Эти идеи были подхвачены и развиты плеядой немецких и
австрийских этнографов и философов неокантианского направления, которые и составили
32
школу диффузионизма: Л. Фробениусом, Ф. Гребнером, В. Шмидтом, В. Виндельбандом,
Г. Риккертом и др.44
Наибольший интерес для темы диссертации, на мой взгляд, представляют
исследования Лео Фробениуса. Этот блестящий знаток культуры африканских народов
именно в Африке выделил два базовых типа культур. Он
различал “теллурическо -
эфиопско - патриархальную” культуру и “хтоническо - хамитическо - матриархальную”
культуру. Термины “теллурический”, в трактовке Фробениуса, означает - растущий из
земли вверх , а “хтонический” - углубляющийся корнями в землю.45 Замечу, что в своей
персональной практике полевого этносоциолога, я имел возможность убедиться в
эвристичности выделения двух названных типов культур. В 1985 г., проводя исследования
в Грузии, наша группа также выделила два типа жилищ и поселений: во-первых,
«теллурический»,
относящийся
к
башенным
постройкам,
возвышающимися
на
непреступных горных вершинах (так в прошлом защищали себя сваны, рачинцы и
некоторые
другие
описывающий
этнографические
террасные
жилища
групп
грузин),
во-вторых,
«хтонический»,
месхов,
буквально
вдавленные
в
ландшафт,
сливающиеся с ним.46 Разумеется, наш пример использования идей Фробениуса, лишь один
из многих в мировой этнографической практике. Им намечены многие классификации
предметов материальной культуры, которые и поныне используют исследователи,
особенно африканисты. Фрабениус справедливо настаивал на изучении не столько
внешнего сходства предметов, сколько их конструктивных особенностей, например, в
отношении конструкции жилищ.
Еще важнее то, что идеи Фробениуса, как и всей диффузионистской школы дали
толчок современным исследованиям географического распространения культурных
инноваций и более, чем на четверть века, опередили современные модернистские
концепции о роли так называемого «демонстрационного эффекта» как механизма и стимула
обновления, модернизации современных обществ.
Диффузионизм не опроверг идеи эволюционистов, он лишь дополнил их. Только
рассматриваемые вместе эволюционистские и диффузионисткие воззрения позволяют в
некоторых, пусть в весьма размытых очертаниях, представить себе картину развития
этнической культуры. Эволюционизм сделал попытку описать внутренние (эндогенные)
факторы ее развития, а диффузионизм внешние (экзогенные). К сожалению, в- последствии,
См. Кон И.С. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М.: «Мысль» 1959 . с 7187.
45
Frobenius L. Erlebte Erdteile. B. 1. Frankfurt-am- Main 1925.
46
Зарандия Н.Г. Паин Э.А. К проблеме сохранения наследия народного зодчества (на примере грузинского
сельского жилища) // Советская этнография, 1986, № 4, с. 14-25
44
33
когда диффузионизм стал развиваться, в основном религиозными функционерами ,
например, такими как патер В. Шмидт,
он сделал шаг назад по сравнению с
эволюционизмом. В это время «клерикальный диффузионизм» подменил попытки
рациональных
объяснений
природы
этничности,
мистикой,
мифами,
сугубо
умозрительными, почти фантастическим построениями.
Необходимость
рационального объяснения механизмов развития этнической
культуры в значительной мере стимулировала появление двух социологических теорий,
являющихся классическими и базовыми для многих современных концепций этничности
Функционалисткое направление. Его зарождение связывают, прежде всего, с
именем Бронислава Малиновского, который
и дал название этой концепции,
сохранившейся и развиваемой до настоящего времени. Излагая свое понимание задач
"антропологии", Малиновский попутно критикует прежние концепции, как эволюционизм,
так и диффузионизм. Особенно резкой критике подвергает он метод "пережитков",
введенный Э. Тейлором. Само понятие "пережитка" принесло, по мнению Малиновского,
большой вред науке: исследователи вместо того, чтобы стараться понять реальную,
жизненную функцию изучаемых явлений, искали всюду "пережитки" и вполне
удовлетворялись, когда их находили. По мнению ученого в действительности никаких
"пережитков" вообще не существует, а есть явления культуры, которые приобрели новую
функцию. Этнолог приводит несколько наглядных примеров. На улицах Лондона среди
множества автомашин появляется конный экипаж. Что это - пережиток? Нет, говорит
Малиновский,
это
"романтическая
езда
в
прошлое",
удовлетворяющая
чью-то
эмоциональную потребность. На тех же улицах мы встречаем автомобиль устаревшей
марки. Пережиток? Нет, чисто экономическое явление - владелец не имеет средств купить
себе новую машину. Камин в современном английском доме при наличии центрального
отопления есть пережиток? Нет, он удовлетворяет потребность в домашнем уюте. 47
Не менее остро критикует Малиновский диффузионистское направление с его
главным понятием "заимствованные черты" культуры. Основная ошибка диффузионистов
в том, что они понимают культуру как совокупность мертвых вещей, а не как живое
органическое целое48.
Уже из критики предшествующих взглядов вытекает и его конструктивная доктрина
о том, что устойчивость культурных традиций, в том числе и этнических, определяется их
включенностью в функционирование конкретного общества и, напрямую зависит от
Это выводы из исследований 20-30-х годов, однако здесь и далее я буду ссылаться на наиболее полное
издание работ Малиновского, вышедшее почти через 20 лет после его смерти. Malinowski B. A Scientific
Theory of Culture. New York. 1960 PP. 27-31
48
Ibid., pp 32-34.
47
34
формируемой им системы потребностей и интересов людей. Изменения потребностей и
интересов определяют и динамику ценностей.49 Правда, сам Малиновский не различал
потребности и интересы, он лишь выделял разные виды потребностей: помимо "основных
потребностей" (basic needs), еще и "производные потребности" (derived needs),
порождаемые самой культурной средой.50 Однако впоследствии его идеи были развиты как
Т. Парсонсом51 в рамках общей социологической теории, так и неофункционалистами,
прежде всего Э. Гаазом, уделившим значительное внимание как раз этносоциологическим
аспектам функционализма, в том числе взаимосвязи функций, потребностей, интересов и
традиционных этнических ценностей.52
Как всякое научное течение, функционализм имеет свои границы и врожденные
пороки. Обычно
в этом качестве отмечают его историческую статичность или даже
антиисторизм.53 Однако, на мой взгляд, функционализм сам по себе не противоречит
историческому анализу, а излишне резкие нападки и не всегда обоснованные обобщения
Малиновского на эту тему, скорее относятся к личным взглядам выдающегося ученого, чем
к его методу. Да и Малиновский, рассматривая культуру как более или менее статическую
и устойчивую систему, в то же время не отрицает происходящих в ней изменений,
эволюции, не отрицает и заимствований новых культурных черт. Он лишь связывает
процессы эволюции и заимствований с изменениями "институтов". Любая инновация
"инкорпорируется" в систему организованного поведения людей и постепенно преобразует
институты.
Большую проблему представляет крайне слабое отражение в функционализме
феномена массовой психологии, играющей необычайно важную роль в развитии
этничности.
Именно эту лакуну в познании природы этничности пыталось заполнить другое
социологическое направление, также внесшее заметный (если не сказать, наибольший)
вклад в изучение рассматриваемого феномена.
Социально-психологические и культурно-ценностные теории этничности. Оно
развивалось параллельно с функционализмом и изначально не являлось конкурентом его,
поскольку было направленно
на другие стороны проблемы. Возможно, взаимная
отстраненность двух социологических школ обусловлена еще и тем, что социально-
49
Ibid., pp 75-78..
Malinowski B. A Scientific Theory of Culture. New York. 1960 P. 77
51
Parsons T. The Social System. New York 1951.
52
Haas E. The Unating of Urope. Staford ( Calif) 1961
53
См. Артановский Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. Ленинград.1967 г.
50
35
психологическое направление развивалось первоначально во Франции, тогда как
функционализм - в Англии.
Важнейшую роль в становлении социально-психологической теории этничности
сыграли исследования Эмиля Дюркгейма (1858-1917). Именно он ввел в научный оборот
очень важное понятие, которое в дальнейшем нашло широкое применение и в социологии
и в этнологии: понятие “коллективного сознания” (conscience collective). Позже Дюркгейм
заменил его понятием “коллективные представления” (representations collectives). Это
совокупность верований и чувств, присущих членам одного и того же общества,
образующих определенную систему, которую можно назвать коллективным, или общим,
сознанием.
Чрезвычайно
важно
то
обстоятельство,
что
под
коллективными
представлениями Дюркгейм понимал не сумму индивидуальных представлений, а только
те, которые не заимствуются человеком из его непосредственного опыта, а как бы
навязываются человеку общественной средой.54 Этнические чувства как раз и являются, по
мнению Дюргейма, разновидностью коллективных представлений. Вокруг идеи о
коллективных представлениях вообще и этнических, в частности, сплотилась группа
ученых, вошедших в науку под общим названием «школа Дюркгейма», включавшей в себя
таких выдающихся исследователей как М. Мосс и Л. Леви-Брюль. Однако еще важнее, что
идеи этой школы вдохновили других выдающихся мыслителей, которые развили ее
применительно к проблеме этничности.
Макс Вебер неоднократно обращался к проблеме этничности, хотя его взгляды в этой
области не стали широко известными. Наиболее подробно эта тема затрагивается в его
книге «Хозяйство и общество», появившейся в свет после смерти автора в 1921. Именно
М. Вебер, пожалуй, раньше других дал определение понятия «этнические группы», которое
еще не вошло в язык науки того времени. Вебер, под влиянием Дюркгейма или независимо
от него, пришел к выводу, что важнейшим конституирующим фактором при формировании
и устойчивом развитии «этнических групп» являются коллективные представления (в
терминологии Вебера – массовые «субъективные убеждения» или «субъективная вера»).
При этом такое убеждение, по мнению Вебера, важнее, чем реальное родство людей, более
того, он полагал, что «не имеет значения, существует или не существует реальная общность
по крови»55. Эти массовые субъективные представления о единстве происхождения
возникают из-за сходства во внешних чертах или обычаях членов группы или благодаря
памяти о колонизации и миграции. С этим переплетается одна из центральных идей Вебера
Durkheim E. Representation individuelles et representgtions cjllectives. // “ Revue de Metafysique et de Morale”
London. 1898.
55
Weber М.Economy and Society. New York . 1968. Vol 1. P 389.
54
36
– его учение о ценностях, разновидностью которых он считал чувства этнической гордости
и чести. Такие чувства – явление массовое, доступное любому из тех, кто принадлежит к
субъективно понимаемой общности по происхождению.56
Примерно в те же годы (всего пятью годами позже книги Вебера), сходные идеи
изложил и опубликовал в другой части мира американский историк Карлтон Хэйес. Он
также рассуждал о соотношении «субъективных» и «объективных» факторов в развитии
«национальности», под которой он понимал то, что в последствии стали определять как
«этничность» (такой термин в те годы наукой еще не был введен в научный оборот) и
пришел к следующему выводу: «Возможно, то, что каждая группа думает о себе, так же
важно, как и то, что она есть на самом деле»57
Однако в двадцатые годы как идеи Вебера, так и идеи Хэйса об этничности
(национальности) остались почти незамеченными и потребовалось более полувека, для того
чтобы наука пришла к тем же идеям ( как правило без ссылок на приоритет ученых начала
XX в и, возможно, даже не зная об их открытиях). Так или иначе, но лишь в 1970- х годах
стал серьезно обсуждаться вопрос о роли реального кровного родства и коллективных
представлений об единстве происхождения в формировании этничности и лишь в 1990-х
годах
идея
о
преобладающей
роли
самоидентификации
в
этничности
стали
доминирующими в мировом научном сообществе.
Почему же
столь долго оставались незамеченными, невостребованными идеи
М.Вебера и К. Хэйса? На мой взгляд, это обусловлено целым рядов факторов, весьма
характерных для освоения научных инноваций в этнологии. Во-первых, новизной взглядов
обоих ученых, покусившихся на святая святых антропологии – принцип кровной связи, как
якобы, доминирующий в формировании этноса. Во-вторых, их невключенностью в
корпорацию антропологов, (оба ученых тогда были для антропологов, этнологов
неофитами, пришельцами из других наук). В-третьих, и, возможно, это самое главное отсутствием политического спроса на идеи такого рода.
Если в конце XIX – начале XX в. наблюдался бурных рост национальных движений в
преддверии и в процессе распада крупнейших европейских империй, то уже к 1920 годам
ситуация стабилизировалась и интерес политиков и общественности к этнической и
этнополитической проблематике снизился.
Этот интерес снова вспыхнул, когда
политическая практика в очередной раз столкнулась с заметным несоответствием
устоявшихся теоретических концепций реальным политическим процессам.
В середине 1970-х годов и особенно в 1980-х 1990-х гг. стало очевидным, что
56
Weber М. From Мах Weber: Essays in Sociology; Genh Н., Wright Mills С. (eds.). L., 1948.P.35
57
Hayes С. Essays on Nationalism. New York, 1966. P. 18 (впервые напечатано в 1926 г.)
37
-
распад колониальной системы не привел к консолидации родственных
национальностей в рамках новых независимых государств Азии и Африки, а напротив
усилил трайбализм, дробления сравнительно больших и консолидированных
этнических групп на племенные общества «трайбы».
-
распад СССР и Югославии также не привел к национальной консолидации
новых независимых государств и породил инерцию дезинтеграционных процессов
уже внутри них;
-
в Западной Европе обострилась проблема как традиционных меньшинств
(таких как валоны в Бельгии, корсиканцы и бретонцы во Франции, ирландские
католики в Северной Ирланди), так и новых диаспоральных групп, выходцев из стран
Азии и Африки.
-
поднялись невиданные ранее волны эмиграции: к концу 1980-х годов за
пределами стран своего рождения проживало более 200 миллионов человек, и
масштабы эмиграции постоянно нарастали.58
Все вышеназванные процессы заставили говорить об ошибочности теорий о
неизбежном,
исторически
этнокультурных
различий
последовательном
процессе
под
индустриализации,
воздействием
стирания,
сглаживания
урбанизации
и
глобализации. Не оправдали себя ни американская теория создания американской нации
“как плавильного котла”, ни советская теория создания единой исторической общности
“советский народ”. Это привело к радикальной смене исследовательских ориентаций, что
имело своим результатом появление многочисленных новых теорий этничности, которые
были предложены для объяснения таких разнородных феноменов, как этносоциальные и
этнополитические изменения в мире, особенно, в новых независимых государствах;
процессы формирования этнической идентичности; этнические конфликты и межрасовые
отношения; этнические ассимиляции и мультикультурализм.
Появившиеся в 1970-е годы новые теории укладываются в рамки трех подходов к
исследованию
этничности,
трех
способов
ее
понимания:
примордиалисткого,
конструктивистского и инструменталистского. Рассмотрим содержание
и основные
положения этих подходов.
Примордиалистские концепции.
Существует множество версий относительно
времени возникновения этого научного направления и личностей исследователей, которые
Дробижева Л. Интеллигенция и национализм: опыт постсоветского пространства. // Этничность и власть
в полиэтнических государствах Отв. Ред. В.А.Тишков. Москва.: «Наука» С. 105
58
38
впервые использовали этот термин.59 Вместе с тем известно, и никем не оспаривается, что
термин «примордиализм» использовался многими социологами с середины 1950-х годов.
Так Эдвард Шилз применил его в качестве центрального в своей концепции
примордиальной (т. е. естественной) близости и затем неоднократно употреблял его в своих
исследованиях этнической и расовой идентификации.60 Примерно в эти же годы
социологическую теорию примордиализма развивал и С. Гиртц.61 Именно широко
известные работы Шилза и Гиртца сделали популярным и сам термин, о котором идет речь.
Более того, только указанных авторов, строго говоря, можно называть примордиалистами,
поскольку они сами себя считали теоретиками этого направления. В большинстве же
случаев исследователей относят к этому направлению достаточно произвольно.
Сегодня зачастую к примордиалистам относят всех, кто определяет
этнические
общности как реально существующие, а этничность как естественное свойство этих общностей.
В этом случае, примордиалистами нужно считать подавляющее большинство полевых
исследователей этнологов и этносоциологов, которые изучают реальные проявления
этничности. На мой взгляд, в аналитических целях стоит ограничить круг исследователей
которых можно отнести к числу примордиалистов, включив в это понятие лишь тех из них, кто
рассматривает этнические общности как естественно сложившиеся группы, основанные прежде
всего на "кровных связях". Однако и в этом случае, возникает необходимость в дополнительных
классификациях этого научного направления, хотя бы потому, что понятия «естественности» и
«кровных связей» понимаются учеными по-разному. В этой связи можно выделить, по крайней
мере,
два направления
примордиализма, внутри которых, в свою очередь, существует
множество подвидов.
Так,
биосоциальное
направление
примордиализма
тоже
внутренне
весьма
неоднородно. Часть исследователей, которых обычно относят к этому направлению, делает
акцент на жесткой детерминированности этничности географическими и биологическими
факторами, что само по себе предполагает слабую изменчивость этого феномена. По сути,
здесь мы сталкиваемся с одним из древнейших представлений, (если не сказать более
жестко – предрассудков) об этничности, оно сложилось еще до возникновения этнологии
59
См, например, Картунов О. Указ соч. Авксентьев В. Этническая конфликтология: в поисках научной
парадигмы. Ставрополь 2001. Коротеева В.В. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? //
Pro et contra. 1997. # 3. Она же. Теории национализма в зарубежных социальных науках М., 1999
60
Shils, Edward Tradition. Chicago: University of Chicago Press. 1981.
61
Geertz С. The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States // Geertz С. (ed.)
Old Societies and New States. New York, 1963.
39
как особой науки, и таких воззрений придерживались мыслители на протяжении
нескольких тысячелетий (от Платона до Канта). Развивалось оно и в трудах неокантианцев
начала прошлого века, например, неокантианец Бруно Баух считал, что «общность крови
является связкой, закрепляющей естественную прочность нации». 62 Из этого подвида
примордиализма непосредственно вытекают расистские теории (от Ж. Габино до
А.Гитлера).
Вместе с тем в эту же группу придется отнести и теорию нашего соотечественника
Л. Гумилева, которую, разумеется, нельзя назвать расистской. Его подход можно
охарактеризовать как жесткий социально-биологический вариант объективистской
концепции этноса, определяемого автором в качестве "биосоциального организма".63
Значительное внимание в концепции Гумилева уделяется исследованию проблем
возникновения
этносов,
то есть тому,
наименование
этногенетических
исследователем как процесс,
что в отечественной этнографии получило
исследований.
Этногенез
понимался
этим
детерминированный преимущественно совокупным
воздействием космических энергий и особенностей ландшафта ("место развития"), в
котором протекал
этногенетический процесс. По его мнению, этногенез – это
четырехфазный процесс, включающий возникновение, подъем, упадок и умирание этноса.
Гумилев считал этнос явлением географическим и биофизическим, лишь обрамленным в
социальную оболочку. Этнос – это коллектив, который отличается от других этносов
стереотипом поведения. При этом Гумилев полагал, что эти стереотипы практически
неизменны на протяжении всего времени этнической общности, время существования
которого исследователь определял в пределах 1200 – 1500 лет. Это абсолютно не
доказанное время существования по Гумилеву обозначало период этногенеза любого
народа64
Зачастую в одну группу с Гумилевым включают и известного американского
этносоциолга Пьера ван ден Берга и даже именуют его социобиологом.65 Между тем, этот
ученый - социолог (профессор социологии Вашингтонского университета им. Дж.
Вашингтона)
и
уже поэтому представляет совершенно иной, чем Гумилев, подвид
примордиализма. Чаще всего это направление называют – социально-историческим. Для
него этнос, этническая общность - это социально-историческое явление, выросшее из
родоплеменных общностей. Ван ден Берг признает, что в архаичных обществах важную
Цит по Марченко Г.И. Указ соч., С.8.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989. С.18-22.
64
Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990. С. 45.; Гумилев. Л.Н. Иванов К.П.
Этнические процессы: два подхода к изучению// СОЦИС. 1992. №1. С .53.
65
См. Марченко. Указ. соч. С.10
62
63
40
роль играют не только реальные родственные связи, но и мифология, например, мифы об
общих предках. Этот тезис, казалось бы, роднит идеи ван ден Берга с «конкурирующим»
научным напрвлением – конструктивизмом. Однако, этот исследователь доказывает ( на
мой взгляд не без оснований), что сама устойчивость единой и специфичной в пределах
этнических
общностей
мифологии,
обеспечивается,
во
многом,
благодаря
предрасположенности людей к так называемому «родственному отбору» или этнической
эндогамии. В отличие от биосоциальной ветви примордиализма, ван ден Берг считает
такую ориентацию социально-психологической (а вовсе не генетической).66 Здесь следует
подчеркнуть, что ван ден Берг в основном изучал этнические меньшинства, для которых
внутриэтнические браки действительно на протяжении многих веков были
весьма
значимыми и обеспечивающими устойчивость подобных этнических сообществ. Отличие
социально-исторического примордиализма от социо-биологического состоит еще и в том,
что последователи первого из названных направлений опираются на реальные факты,
многократно подтвержденные исследованиями, тогда как вторые исходят из сугубо
умозрительных представлений или даже вымыслов.
Явления
этнической
эндогамии
многократно
подтверждено
исследованиями
этнодемографов. О нем много писал и размышлял Ю.В. Бромлей, которого также
произвольно «заталкивают» в число примордиалистов, хотя он был сторонником более
общей синтетической концепции этноса, к сожалению недооцененной и даже опошляемой
в настоящее время.67 Академик Бромлей отмечал, что человечество построено по принципу
иерархии популяций, отличающихся друг от друга степенью проницаемости генетических
барьеров. Основание этой популяции составляет «дем» - наименьшая группа людей,
заключающая браки на протяжении нескольких поколений между собой. Этнические
общности включают в себя несколько демов, частично перекрывающих друг друга. В силу
этого образуется брачная непрерывность.68 У подавляющего большинство современных
этнических общностей доля браков с представителями той же национальности составляет
свыше половины, а чаще свыше 85% от общего числа браков.69 Сам по себе этот факт не
подлежит политической оценке. Проблемы идеологического и политического характера
возникают лишь тогда, когда
представители элитарных националистических групп,
пытаются вывести некую «норму» этнической брачности, которая должна, якобы,
обеспечить воспроизводство этноса и его «чистоту». Ю. Бромлей с осуждением относился
к подобным идеям и настаивал на том, что свобода выбора брачных партнеров является
66
Van den Berg P.L. The Ethnic Phenomenon. - N.Y. 1987
Бромлей. Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983
68
Там же. С. 41-42.
69
Там же. С. 354 -356.
67
41
самостоятельной ценностью, хотя общую тенденцию в развитии народов России он видел
не в ассимиляции, а в интеграции народов, в сближении их культур. 70
Конструктивистские теории этничности. Они стали доминирующими в западной
науке с конца 1980-х годов, а в академической науке России с середины 1990-х годов.
Конструктивизм, также как и другие концепции этничности, распадается на множество
разновидностей.
Можно выделить наиболее радикальное его течение, которое отрицает сам факт
реального существования этничности. Это направление, во многом, развивает известное
высказывание К. Поппера: «Мысль о том, что существуют такие естественные элементы,
как нации, лингвистические или расовые группы - чистый вымысел».71 Большая же часть
«конструктивистов» признает существование этничности, однако вслед за Максом Вебером
полагают, что не кровные связи, а общественное сознание задает, «конструирует»
этничность.
Т. Эриксен, автор, одной из лучших, на мой взгляд, работы по теории этничности
пишет: «Этничность – аспект социального взаимодействия между людьми, считающими
себя культурно отличными от других групп, с которыми у них поддерживается минимум
регулярных контактов. Это социальная идентичность, характеризующаяся
метафорой
родства или фиктивным родством» 72 Представление об общности культуры и о фиктивном
родстве присутствует уже у Вебера, хотя он еще и не говорил о взаимодействии с другими
группами, как о решающем факторе в развитии этничности. Такая идея стала одной из
ключевых в конструктивизме после исследований норвежского социолога
Фредерика
Барта. Именно он пришел к выводу, что взаимодействие между группами по принципу «мы»
не «они» является первичным в формировании этничности, а культурные свойства
вторичны. Их первоначальная функция была
лишь
символической, они служили
опознавательными знаками для идентификации людей в данной группе и маркерами
социальных границ между группами.73
Чрезвычайно важно, что идеи социолога Барта нашли подтверждение в этнологии, в
частности, в том факте, что значительная часть самоназваний народов (этнонимов),
особенно тех, которые возникали в период так называемой «военной демократии». Слова
«люди», «человек», «мужчина» до сих пор удерживаются в таких этнонимах как славяне,
кеты, тюрки, в самоназвании немцев Deutshe и во многих других. т.п.74 Все они отражают
70
71
Там же. С. 357.
Поппер К. Открытое общество и его враги. М.. 1992. Т.1. С.357.
Eriksen Т. Ethnicity and Nationalism. Anthropoiogical Perspectives. L., 1993.P.12
Ваrth F.(ed.) Ethnic Groups and Boundaries. Bergen, 1969.
74
Чеснов Я.В. Название народа: откуда оно?// Этнографы рассказывают. Отв. ред. Ю. В. Бромлей. М., 1987
72
73
42
то время, когда этнонимы служили маркерами, помогающим народам (племенам) отличать
«своих» от «чужих», людей от «варваров», «дикарей» и т.п. Такие же символические
функции маркеров выполняли в прошлом и другие элементы этнической культуры (одежда,
прически, бороды и др.)
Новое понимание этничности позволило рассматривать этот феномен как ситуативный,
создаваемый средствами символического различения и исследовать ее зависимость от
различных социально-политических контекстов, а также четче определять политические
измерения этничности, как одно из оснований политической стратификации.
Конструктивизм ныне – это общая парадигма современных социальных наук, в той или
иной мере разделяемая большинством современных этнологов и этнополитологов. Это
часть философии и методологии модернизма.75 Последователи этого научного направления
полагают, что этничность и нации, как и многие другие формы социальной реальности,
воспринимаемые
большинством
людей
как
внешняя
данность,
на
самом
деле
сконструированы людьми. В российской этнологии этот подход утвердился, прежде всего,
благодаря усилиям В.А. Тишкова.76 Вслед за ним эту концепцию развивают, прежде всего,
М.Н. Губогло, А.Г. Осипов, В.С. Малахов и др.77
Одним из ответвлений конструктивизма являются инструменталистские трактовки
этничности. Это направление сложилось в политологии и связано, прежде всего, с именами
Дж. Ротшилда и П. Брасса, которые рассматривают этничность
как
идеологию,
создаваемая элитой для мобилизации масс и достижения собственных интересов в борьбе
за власть.78 Инструментализм нередко опирается на социально-психологические теории, в
которых этничность трактуется как эффективное средство для преодоления отчуждения,
восстановления попранной национальной гордости как социальная терапия и т. п. Такие
трактовки прослеживаются, например у Д. Хоровица.79
Существенной чертой всех инструменталистских теорий является их опора на
функционализм и утилитаристские ценности. В этой группе концепций существование
О сути классической идеи конструктивизма см.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование
действительности, М.,1995.
76
Тишков В.А. Забыть про нацию // Этнографическое обозрение. 1998. # 5. Его же Очерки теории и
политики этничности в России. М., 1997
77
Губогло М.Н. Переломные годы.Т.1. Мобилизованный лингвицизм. М., 1993. Малахов. В. Зачем России
мультикультурализм? // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. Под ред.
В.С.Малахова и В.А.Тишкова. РАН. Институт этнологии и антропологии. Институт философии.
Москва.2002. Осипов А.Г. Идеологический фактор в процессе формирования самосознания малых
этнических групп// Права и статус национальных меньшинств в бывшем СССР.М., 1993
75
78
Brass P. Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison. New Delhi, 1991. Bhabha H(ed.) Nation and
Narration. L., 1990. Rotshild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework. N.Y. 1981
79
Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict.- Berkley, Cal., etc. 1985
43
этнических общностей нередко объясняется с позиций социологического функционализма:
этнические группы существуют и служат определенным целям, соответствуют конкретным
интересам, создавая определенный психологический комфорт для человека. Например,
позволяют справиться с проблемой отчуждения, порождаемой индустриальным обществом
с его массовой культурой, и, таким образом выстроить "свой дом" и "свой" мир, сделать этот
мир комфортным, подчинить его власти своих традиций, где окружающие тебя «другие»,
которые вместе с тобой переживают кризис отчуждения, претворяются в результате этой
сопричастности в "своих", участников строительства "своего дома". Эта концепция
этничности как способа преодоления отчуждения
социологами,
отстаивается психологами и теми
методы которых предполагают знание и использование социально-
психологической теорий.
В эту же группу можно включить и тех исследователей, которые полагают, что
этничность позволяет справиться с информационной сложностью современной жизни.
"разгрузить" психику от разнотипных информационно-избыточных "сигналов", каким-то
образом упорядочив их. Классифицируя
людей по их этнической принадлежности,
индивид получает возможность "упростить" получаемую информацию, разделив всех на
"своих" и
"чужих", а "чужих" – на известные ему этнические группы, восприятие
которых стереотипизировано в культуре "своих". Это позволяет существенно упростить
взаимодействие, сводя его к известному репертуару стереотипных "ролей" и "ситуаций".
Социальный мир здесь осваивается через
культуру "своих" и из чуждого и опасного
превращается в комфортно безопасный и освоенный.
По мнению Вернера Соллорса этничность – это всего лишь процесс постоянного
определения и подтверждения индивидуальной и групповой идентичности.80 Этничности
как процессу уделяет основное внимание современная западная политология и социология,
при этом одним из основных содержаний этого процесса признается так называемый
«дрейф этничности», т.е. смена этничности или ее ослабление, например, в соответствии с
моделями, которые еще в середине 1970-х годов выстроил известный английским
этносоциолог Абрамсон.81 Он выделил четыре типа социальных групп, в разной степени
освоивших этничность.
К первому типу – «традиционалистам» - принадлежат люди, которые полностью
разделяют ценности данной этнической группы и интегрированы в ее структуры.
80
Sollors W. Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. - N.Y. 1986. P. 206.
Abramson Y. On Sociology of Ethnicity and Social Change: A Model of Rootedness and Rootedlessness//
Economic and Social Review .- 1976.Vol. 8.#1.P.43-59.
81
44
Второй тип «пришельцы-неофиты» - составляют люди, которые включены в структуру
этнических связей, но не имеют унаследованных корней, соответственно их культурно
ценностное единство с группой носит неглубокий внешний характер. Чаще всего это
представители ассимилированных групп или люди, вошедшие в «чужую» этническую
культуру вследствие заключения межэтнических браков, реже – это
представители
диаспоральной части этноса, культурная этнизация которых происходила за пределами
зоны проживания основного этноса, а реальная социализация - после возвращения на
родину. Все они постоянно ощущают подозрение и недоверие со стороны основного ядра
этноса, вследствие этого какая-то часть
«неофитов» становится агрессивными
традиционалистами, чтобы доказать истинность своей этничности, другие - пассивными
традиционалистами. Но немало и тех, кто не выдерживает психологического состояния
вечного подозрения соплеменников и меняет этничность, хотя в этом случае они могут
снова попасть в ситуацию неофитов.
Третий тип: «изгнанники» – составляют диаспоральные группы, проживающие в
иноэтнической среде и сохраняющие свою «исконную» этническую идентичность. Этот тип
прямая противоположность «неофитам», поскольку в чужой среде этнические группы, как
правило, стойко защищают свою этничность, хотя с поколениями она почти неизбежно
ослабевает. Разумеется, степень сохранности традиционных этнических свойств зависит от
уровня «агрессивности» и «чужеродности» внешней
среды. Скажем, украинцы на
территории иноэтнического венгерского окружения дольше хранили свою этническую
специфику, чем на территориях с преобладанием родственного русского населения, где они
в исторически короткие сроки русифицировались.82
Четвертый тип: «евнухи» - это люди или небольшие группы, которые утратили
этническую память, не хранят этно-культурного наследия и одновременно не входят ни в
какую другую этническую группу, т.е. полностью лишенные этнической идентичности.
На мой взгляд, среди множества концепций устойчивости этничности наибольшего
внимания заслуживает подход Дж. Гааса и В. Шафира, которые полагают, что устойчивость
этничности обусловлена, как внутренними характеристиками этнической группы, так и
внешними обстоятельствами. К внутренним, можно отнести следующие характеристики:
степень групповой солидарности, меру интегрированности человека в группу, меру
сохранения им культурного наследия, а к внешним - готовность среды, в которой живет
данная группа, к ее интеграции на условиях равенства с другими. Часто бывает так, что
ощущение негативного отношения к себе со стороны окружающей среды в большой мере
См. Новые диаспоры. Государственная политика по отношению к соотечественникам и национальным
меньшинствам в Венгрии, Украине и России. / Под ред. В. Мукомеля и Э. Паина - М.: ЦЭПРИ. 2002
82
45
способствует сохранению внутренней замкнутости группы и традиционных черт ее образа
жизни, чем некие внутри групповые обстоятельства.83
Итак уже в течение нескольких десятилетий в науке идет спор между сторонниками
так называемой «примордиальной» концепции, рассматривающей этничность как
природное, естественное (примордиальное) свойство
людей и «конструктивистской»,
определяющей этнические свойства как преимущественно социально обусловленные и уже
поэтому исторически конструируемые и перестраиваемые. Многие теоретики вполне
обоснованно считают противопоставление этих парадигм искусственным и даже
схоластическим, поскольку они вполне совместимы друг с другом. 84 Так, примордиализм
описывает относительно устойчивые свойства этнических общностей: этническое
самосознание, солидарность и предрасположенность к взаимному общению, например в
сфере брачных отношений, тогда как конструктивизм, напротив, акцентирует внимание на
относительно
подвижных
элементах
этноса,
сформированных
в
результате
целенаправленной деятельности этнической элиты (это направление развивается и
инструментализмом и, прежде всего, исследованиями роли, так называемых «этнических
антрепренеров»). Примордиализм сосредотачивается на характеристике диахронных (
межпоколенных) механизмов передачи культурной информации, а конструктивизм
дополняет эти исследования анализом влияния на этничность совокупности так называемой
синхронной информации, вытекающей из включенности представителей этнических
общностей в систему социальных. экономических и культурных отношений.
На мой взгляд, убедительную концепцию взаимосвязи примордилиазма и
конструктивизма ( не используя сами эти термины) дал Ю.В. Бромлей. Он отмечал, что на
протяжении своего существования каждый этнос практически перманентно подвергается
изменениям. «Воспроизводство такого рода изменений обеспечивается внутриэтническими
информационными связями. Первоначально активная роль здесь принадлежит синхронным
связям, осуществляющим «горизонтальное» распространение инноваций внутри этноса и
придающим им тем самым массовый характер. По сути, здесь Бромлей говорит о
«конструировании» этнической культуры (во всяком случае, о ее «перестройке») под
влиянием инноваций. Однако, в конечном счете, «решающая роль остается за диахронными
связями, ибо только межпоколенная передача инноваций придает им традиционность и
83
Haas J.,Shffir W.Symbolic Interaction Theory //Shaping Identity in Canadien Society.-Scarborough,1979.P. 3-53
См., например: Коротеева В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М.: РГГУ, 1999. С.
11–14.
84
46
относительную устойчивость, которая необходима для выполнения любым компонентом
этноса своих функций»85.
Итак, примордиализм и конструктивизм не только могут уживаться друг с другом, но
и должны были бы использоваться как взаимодополняющие подходы. Только в этом случае
наука способна приблизиться к пониманию реального соотношения объективных и
субъективных факторов развития этносов, устойчивых и изменчивых его сторон,
диахронных и синхронных механизмов его развития. Однако в современной России каждая
из концепций чаще всего применяется в отрыве от других, что порождает горячие и
зачастую бесплодные полемики.
К сожалению, существует и идеологическая предрасположенность к научным
концепциям как инструмент в борьбе определенных политических сил. Одни из них могут
быть более предрасположены к конструктивизму, только потому, что им удобнее объяснять
реальные проблемы происками или заговором неких этнических предпринимателей
(особенно зарубежных), чем признаваться в собственных просчетах в сфере внутренней
политики. Другие, например, лидеры сепаратистских движений, напротив, чаще
обращаются к примордиализму. При этом в спорах с центральными властями их устраивает
его социально-историческая версия, помогающая отстаивать «историческое право народа
на территорию», а в спорах с лидерами национальных движений соседних народов – его
биосоциальная разновидность.
Казалось бы, сугубо академический диспут о природе этничности имеет прямое
отношение и к современным идеологическим дискуссиям в России между «модернистами»,
которые преимущественно стоят на конструктивистских позициях, и традиционалистами,
опирающимися чаще всего стихийно, на примордиалистские установки.86
Как всегда, идеологические споры лежат за пределами науки. Идеологизированный
«примордиализм» лишь облекает в наукообразные формы бытовые этнические стереотипы,
а иногда и расовые предрассудки.
Вместе с тем, и радикальный конструктивизм не
адекватно
поскольку
отражает
реальность,
не
учитывает
пределов,
границ
в
конструировании этничности, обусловленных, в частности, инерционностью массового
сознания вообще и этнического в особенности. Именно она может ограничивать
результативность неких управленческих решений,
даже косвенно связанных с
этничностью, например, в сфере национально-государственного устройства.
Бромлей .Ю.В. Очерки теории этноса. М.: «Наука» 1983. С. 234. См. также. АрутюновС.А., Чебоксаров
Н.Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп
человечества.- Расы и народы.М., 1972. т.2. С. 8-30.
86
Западники и националисты: возможен ли диалог? Материалы дискуссии фонда «Либеральная миссия». М.: ОГИ. 2003.
85
47
При всей оживленности дискуссий о природе этничности, они не идут ни в какое
сравнение с научной и идеологической полемикой о сущности такого феномена как «нации»
Теории нации. Существует множество разновидностей таких теорий и даже сама
классификация их является весьма трудоемкой и сложной работой, являющейся предметом
специальных исследований.87
Многие известные авторы, видя малые сдвиги в сближении позиций специалистов в
этом диспуте, предлагают вообще обходить это понятие. Так Э.Хобсбаум предложил
сделать это понятие предельно конвенциональным и называть нацией любую группу,
претендующую на такое название.88 В. Тишков как-то в сердцах заявил, что «нация - это
политический лозунг и средство мобилизации, а вовсе не научная категория», поэтому «это
понятие как таковое не имеет права на существование и должно быть исключено из языка
науки»89 Впрочем, в той же книге (буквально на следующих страницах) и в последующих
публикациях он активно использует понятие нация и особенно часто - «многонародная
нация» как наиболее адекватная ее форма.
Многообразие подходов к теории нации обусловлено множеством причин. Во-первых,
реальной сложностью предмета, в котором переплелись политические, социальные и
этнические свойства и функции. Во-вторых, многообразием исторических моделей
формирования наций. В-третьих, неодинаковым смыслом самого термина «нация»,
сложившимся и закрепившимся в языках разных народов. Так, во французском и
английском языках он связан с гражданством людей, в русском и в некоторых других - с
этничностью
Помимо двух основных смыслов нации как гражданского общества и как синонима
этничности в XX в. в политическом лексиконе возникло еще и третье – нация как синоним
государства. Такой смысл заложен в терминах: Организация Объединенных Наций,
Национальная армия, Совет национальной безопасности и др.
Можно себе представить, какая путаница возникает в головах людей, если к этому еще
добавить, что о нации толкуют представители разных наук и научных школ, у которых
сложились свои традиции и свои представления о нации.
В России дискуссии о природе нации подстегиваются постоянным переосмыслением
причин и последствий распада СССР и периодически взрывающимися этническими
конфликтами на постсоветском пространстве. При этом научные дискуссии часто
приобретают политический подтекст. Само
определение нации (или отказ от него),
См, например, обзор таких теорий: Коротеева В.В Теории национализма в зарубежных социальных.
науках.// М.: РГГУ. 1999.
88
Hobsawm E. Nations and Nationalism. Since 1780: Program, Myth, Reality// Cambridge. 1990. P.17
89
Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности. // М.: «Русский мир». 1997. с.85.
87
48
зачастую трактуется как предрасположенность автора не только к некой теоретической
концепции, но и к политической доктрине. Скажем, позиция В. Тишкова, как наиболее
последовательного сторонника деэтнизации понятия «нация», встречает критику не только
сугубо теоретическую, поскольку в
условиях России высока подозрительность
представителей малочисленных народов к любым проявлениям этнического нигилизма со
стороны федеральных властей и московских элитарных кругов. На это обратил внимание
Р. Абдулатипов в письме президенту Б.Н. Ельцину: «Народы, - писал Абдулатипов в апреле
1994 года, - угадывают скрытую логику подобных рассуждений: России нужны Чечня,
Тыва, Калмыкия и не нужны чеченцы, тувинцы, калмыки»90. Подобные опасения
подкрепляются советской историей, когда под шум деклараций о равноправии народов
многие этнические общности, в том числе и упомянутые чеченцы и калмыки, были изгнаны
со своих территорий.
Итак,
проблема определения сущности и природы наций отличается не только
неординарной теоретической сложностью, но и повышенным риском возбуждения
политических страстей в процессе ее обсуждения. Поэтому диссертант не ставит перед
собой задачу дать некое новое определение этого понятия в дополнение к огромному
множеству уже существующих,
наша задача иная -
определить отношение к
существующим направлениям исследований в этой области.
Политические теории нации. При существенных различиях их отдельных версий,
все они, так или иначе, связаны с определением нации как социально-политической
общности, которая либо развивается в границах государства, либо стремится к ее созданию.
Иным словами в политической теории, нации определяются как продукт отношений
общности и государства. Содержание же самой общности трактуется по-разному, то, как
население страны, или часть его – граждане, либо не все граждане, а лишь наиболее
активная их часть, та, которая осознает себя членами единого общества, т. е. нации как
гражданского общества.
Предтечей политических теорий наций можно назвать уже упоминавшиеся
размышления Гоббса об «общественном договоре». Еще ближе к современным
представлениям о нации стоял Руссо, который понимал общественный договор не как
отношение между монархом и подданными, а как отношения между гражданами, которые
сами создают законы и им же подчиняются. Эта идея примата общества над государством,
Абдулатипов Р. Россия на пороге XXI века. Состояние и перспективы федеративного устройства. М.,
1996. С. 232–233.
90
49
являющимся всего лишь главным управляющим, действующим от имени и по поручению
общества-нации, развивалась на протяжении многих веков от Руссо до Хабермаса. 91
Сама идея гражданской политической нации исторически возникла, как рефлексия по
поводу роли
общества по отношению к государству и тесно связана с доктриной
«народного суверенитета». Суть ее хорошо известна, напомню лишь некоторые ее
положения о том, что не государь, а народ (общество) является источником власти,
суверенитета; не народ служит государству, а государство является «слугой народа»,
проводником его коллективного национального интереса. Из этого вытекает также и то, что
не отдельная группа (династическая, корпоративная или этническая), а все общество,
выполняет
государствообразующую
функцию,
оно
вырабатывает
современные
политические механизмы делегирования, разделения полномочий и другие, которые
должны предотвращать возможность узурпации власти.
Итак в политической теории нации этот феномен рассматривается как результат
социально-политических отношений между обществом и государством. Весьма характерно
для такого подхода определение К. Дейча: «Нация - это народ, овладевший
государством».92 При этом, под народом понимается не этническая общность, а граждане
или гражданское общество Похожую точку зрения выражал и Г. Сетон-Утсон:
«Политическая нация, - писал он, - эта такая общность, которая в дополнение к культурным
узам, имеет правовую и государственную структуру». Сейчас политические теории,
бесспорно,
доминируют
в
комплексе
этнополитологических
исследований.
приверженцы подчеркивают, что политическая нация - это не просто
Их
население
государства или согражданство и даже не просто гражданское общество – это еще и
общность,
объединенная
едиными
культурно-ценностными
узами.
Последнее
обстоятельство связывает политические теории нации с другим научным направлением.
Психолого-культурологические теории наций. Это направление появилось одним
из первых еще в начале XIX века и развивается в современных условиях. Его связывают с
именем французского историка Эрнеста Ренана и с его знаменитой лекцией: «Что такое
нация?», прочитанной в Сорбонне в 1812 г.93
Эрнест Ренан старался определить, что делает группу людей нацией. Последовательно
перебирая расу, религию, язык, общность интересов, географию, историк показал, что ни
Habermas J. L’espace public: archeologie de la publicite comme dimension constitutive dela socite boudeois.
Paris, 1986.
92
Deutsch К. Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality, Cambridge
(Mass.), 1953 (второе издание 1966).
93
Renan Е. Qu'est-ce qu'une Nation? Discours et conferences par Ernest Renan. Paris, 1887.
91
50
один из этих признаков сам по себе не обеспечивает единство нации. Различие между
нацией и государством было для него очевидным. Австрийскому государству, несмотря на
все его усилия, не удалось сплотить населяющие его народы в единую нацию, чего
добилось французское государство. Это объясняется тем, что в полиэтнических империях
не может быть наций, поскольку там не возникает духовного объединения людей. Для
Ренана же нация – это, прежде всего объединение народа (населения страны) духовными
принципами или как выражался французский мыслитель - «великой солидарностью» по
отношению к общему прошлому и моральной ответственностью за совместное будущее.
Эти идеи положили начало психолого-культурологическим теориям нации.
Некоторые же из идей Ренана стали общепризнанными и не оспариваются представителями
многих других теоретических школ «нациеведов». Так, общепризнанным стало
утверждение французского историка о том, что в «империях не может быть наций»,
основанное на его размышлениях о народах Австрийской империи. Еще большую
популярность получила известная формула Ренана: «нация – это повседневный плебисцит»,
подчеркивающая, что принадлежность к нации не является предопределенной, поскольку
она связана с добровольным самоопределением людей, их коллективным сознанием.
После Ренана психологическая теория нации развивалась в двух противоположных
направлениях. Одно из них возглавил один из лидеров австрийской социал-демократии О.
Бауэр, который придал психологической теории Ренана, отсутствовавший в ней этнический
привкус. По Бауэру нация «это ничто иное, как культурная общность», но под культурой
имелся в виду так называемый «национальных характер» в явно этнической его трактовке,
к тому же переполненный бытовыми предрассудками. Так, например, быструю смену
конституций во Франции Бауэр объясняет органически присущем французам лекомыслием.
94
Впрочем, как мы уже говорили, подобного рода оценки этничности, больше похожие на
анекдоты, были присущи в свое время даже великим мыслителям, например, Монтескье,
который объяснял, отсутствие тирании, в современной ему
Англии,
всего лишь -
«нетерпеливостью» англичан.
Развитие иного направления психолого-культурологической ветви исследований
нации может быть связано с именем Макса Вебера, который в своих рассуждениях о
нациях, развивая идеи Ренана и Э.Дюргейма, анализировал политические аспекты
коллективной идентичности.
Вебер полагая, что если конкретное сообщество называют нацией, то от его членов
можно ожидать специфического чувства солидарности, т.е. определенного ценностного
94
Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия. Спб. 1909.С 117-118
51
единства. Выдающийся социолог утверждал, что понятие нация не идентично понятию
«население государства», поскольку идея нации подразумевает представление о некоем
общем происхождении и существенной, хоть и трудно определимой, культурной
однородности. В этом отношении она близка к идее этничности, но тождественна ей. В
качестве примера Вебер приводит поляков Силезии, ясно воспринимавших свои этнические
отличия от немцев, но до некоторого времени не считавших себя и членами польской нации,
ориентируясь больше на свое немецкое подданство. Вебер близко подошел к политической
трактовке нации в своих рассуждениях о том, что общая цель, объединяющая людей в
нацию, лежит не в сфере культуры, а в сфере политики и цель эта выражается в стремлении
создать собственное государство.95
Развитие идей Вебера о нации можно найти в работах
Ханса Кона, одного из
классиков в исследованиях этой проблемы. Х. Кон, еще в 1940х годах, одним из первых
рассматривает вопрос о нации в так называемой «модернистской проекции». По его
утверждению, нации и национализм – не естественное явление, не результат действия
«вечных» законов, а продукт роста социальных и интеллектуальных факторов на некоторой
стадии истории». Нации, в отличие от этнических общностей, сложились сравнительно
недавно, не раньше второй половины XVIII века, хотя условия, сделавшие их появление
возможным, созревали в течение столетий.96 Кон
выделяет комплекс конкретных
исторических предпосылок появления наций, среди них: идея народного суверенитета,
секуляризация сознания, подрыв традиционализма экономической жизни и подъем
третьего сословия.97
Исследование Карла Дейча «Национализм и социальная коммуникация» - первая
попытка приложить методы точных наук (прежде всего кибернетики и информатики) к
изучению национализма, а точнее формированию национальных общностей.98
К. Дейч ценит работы своих предшественников, в том числе цитирует Х. Кона, но не
находит в них ответа на вопрос, почему национальная идеология встречала живой отклик в
одних местах и в некоторые периоды времени, а в других обстоятельствах оказывалась
неэффективной. Недостаток этих работ он видит в отсутствии количественных измерений
и попыток предсказаний на их основе. Суть «социальных наук» Дейч видит в оперировании
объективными данными, в противоположность рассуждениям о «состоянии ума». В 1950-х
г. образцом передовой науки была кибернетика, и именно она дает автору аналогии для
Weber М. From Мах Weber: Essays in Sociology; Genh Н., Wright Mills С. (eds.). L 1948, PP. 171-179
Kahn Н. The Idea of Nationalism. New York, 1944. PP.3-6
97
Ibid. P.6.
98
Deutsch К. Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality, Cambridge
(Mass.), 1953 (второе издание 1966).
95
96
52
описания общественных процессов Ключевые понятия теории Дейча – «общество» и
«культура». Общество – это группа индивидов, связанных интенсивным разделением труда.
На границе с другими обществами, интенсивность экономических контактов резко падает.
Культура – конфигурация предпочтений и ценностей людей. Общества производят товары,
культуры – информацию. Под информацией понимается то общее, что объединяет знания,
ценности, традиции, новости, сплетни. Внутри определенных групп обмен информацией
происходит с наибольшей интенсивностью, вне ее он затруднен. Отсюда и определение
Дейчем понятия «народ» не с содержательной (путем перечисления объективных
признаков), а с функциональной точки зрения. По его мнению, имеет значение не наличие
какого-либо из признаков, а возможность осуществлять эффективную коммуникацию
между людьми. Измерением такой эффективности является скорость и адекватность
распространения информации. Народы отделены друг от друга «коммуникационным
барьером», разрывом в информационном потоке. «Нации», по К. Дейчу,
это
информационные и, в какой-то мере воображаемые сообщества: «Нация – это группа
людей, объединенных общим мифологическим представлением о своем происхождении и
общей нелюбовью к своим соседям.»99
Историко-экономические теории нации. В постсоветской и российской литературе
такие теории чаше всего связывают с марксистским подходом, в котором нация
определяется набором характеристик, включающих
как социально-экономические
«единство территории и экономической жизни», так и некоторые общие культурные
свойства - единый язык и такую весьма туманную характеристику,
как общность
«психического склада» ( используемую марксистами со времен О. Бауэра). 100
В современных же подходах к проблеме нации в качестве историко-экономических
выделяют теории Т. Нэирина и Э.Геллнера.101
Эрнест Геллнер – практически единственный ученый, который заявил, что построил
целостную теорию национализма, имеющую универсальную значимость и разрешил
загадку национализма. Его теорию
можно назвать экономико–культурологической,
Геллнер, приверженец идей модернизации, выводит неизбежность появления гражданского
национализма и политических (гражданских) наций из новой роли культуры в
индустриальном обществе в отличие от традиционных аграрных обществ. В традиционном
обществе
сосуществуют
малые,
народные
культуры,
замкнутые
в
пределах
Deutsch К. Nationalism and its Alternatives. – N.Y.1969. P.3
См, например О.Картунов . Указ. Соч. С 137-139; Марченко
101
Nairn T. The Break-Up of Britain: Crisis and Neo-Nationalism. L., 1977 (второе из- дание 1990); Faces of
99
100
Nationalism: Janus Revisited. L., 1997; Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991; Gellner
53
самодостаточных общин. Стоящие у власти административные и духовные элиты
заинтересованы в сохранении и даже в углублении культурных различий, отсюда крайне
редкое совпадение между политическими границами и сферой распространения отдельных
культур. Мобильное
же по своей природе индустриальное производство требует
культурной однородности общества. Базисное образование должно быть одинаковым для
всех, чтобы в течение жизни человек мог переходить к другим видам деятельности,
приобретая лишь минимальные дополнительные навыки. К тому же само индустриальное
производство имеет дело с манипуляцией значениями посредством манипуляции вещами,
и в этом случае необходимо общение, свободное от контекста – через стандартизованный
язык и разделяемые культурные смыслы. Единообразие культуры может быть обеспечено
лишь централизованной системой образования, за которой стоит современное государство.
Поэтому совпадение политического сообщества и поддерживаемой им культуры
становится нормой, предстающей на поверхности как националистический императив. По
Геллнеру, национализм – политический принцип, требующий совпадения национальной
общности и государства.102
Теория Геллнера
стала одной из самых популярных и авторитетных, но,
одновременно, одной из самых спорных. Многие ее положения стали рассматриваться как
аксиоматические, однако основной вывод, к которому сегодня приходят исследователи,
оценивающие роль теории Геллнера, чаще всего сводится к признанию того, что даже такой
выдающийся мыслитель современности не смог построить завершенную единую теорию
нации и национализма.103 В то же время, он далеко продвинулся в понимании механизмов
взаимовлияния
экономической и культурной модернизации с одной стороны и
этнополитических, национальных процессов – с другой
Этнические теории нации. К ним относят различные концепции, объединяемые
представлением о том, что субъектом прав или притязаний на национальногосударственное оформление выступают этнические общности, точнее их представители
(легитимные или не легитимные).
Подобные теории стали зарождаться в Германии в конце XYIII - начале XIX вв., как
прямое продолжение идей немецкой классической философии, и как рефлексия по поводу
запоздавшей этнополитической консолидации немцев в единое государство. Как известно,
процесс этот завершился лишь во второй половине XIX в. после создания так называемой
Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. С. 23. Gellner Е. Thought and Change. L., 1964; Nations аnd
Nationalism. Oxford, 1983; Encouters with Nationalism. Oxford, 1994; Introduction // Periwal Х(ed.) Notions of
Nationalism. Budapest, 1995.
103
О полемике Э.Геллнера с другими выдающимися исследователями рассматриваемых проблем см.
Коротеева В. Указ. Соч. С. 35-44, 73-83.
102
54
«второй германской империи» под эгидой Пруссии. Именно из Германии, как справедливо
отмечает О. Картунов, эти идеи стали распространяться на восток Европы и сравнительно
быстро достигли России.104
В самой Германии этнические концепции отчасти нашли
отражение в психологической теории О.Бауэра, по крайней мере, в уже упомянутой идее
национального характера, а в 1920-х- 1930-х годах стали одной из основ этнорасовой теории
национал-социалистов.
Неоднозначно было отношение к этнической теории нации в Советском Союзе. С
одной стороны, марксизм рассматривал этничность как пережиток, который рано или
поздно будет преодолен в процессе стирания национальных различий, как политически
ошибочное, вредное сознание, препятствующее развитию классовой солидарности, но с
другой - национальная политика фактически была этнизированна и так называемый «пятый
пункт» (графа национальности)
в различных анкетах играл немалую роль в судьбах
советских людей.
В сталинской теории, «нация», как историческая общность, до известной меры,
противопоставлялась собственно этническим общностям («племени» и «народности»).
Вместе с тем, фактическое право называться «нацией» представлялось именно этническим
общностям, (правда, не всем, а лишь некоторым, которые по набору достаточно спорных
критериев достигали порога национальной зрелости) Скажем такое право предоставлялось,
например, армянам и эстонцам, а не более многочисленным татарам, или чеченцам.
Этносы, достигшие по мнению властей уровня нации, получали право на создание
республики высшего уровня (советской), а достигшие лишь уровня народности – право на
автономии низших рангов. Иногда национальный уровень этничности властями
пересматривался в течении весьма короткого времени. Так, карелы, то признавались нацией
и получали право на создание республики, то вновь опускались до уровня – народности.
В поздний советский период, под влиянием трудов академика Ю. В. Бромлея в
Советском Союзе утвердилось представление о различии между этнической общностью,
как сугубо культурном феномене, который может одновременно существовать в различных
государственно-политических образованиях и нациях (или как их называл академик
«этносоциальных организмов, ЭСО), находящихся в неразрывном единстве с государством,
в том числе и полиэтническом.105
По сути, Ю. Бромлей был близок к признанию
современных политических теорий нации. Тем удивительней, что в постсоветской России
вдруг появляются приверженцы архаичных этнических теорий наций, далеких не только от
современных мировых тенденций в осмыслении этого феномена, но и от поздней советской
104
105
Картунов . О. Указ. Соч. С. 139
Бромлей . Ю.В. Очерки теории этноса. Москва: «Наука». 1983. С. 70
55
научной традиции. И даже те исследователи, которые вступают в дискуссию с этническими
концепциями, противопоставляют им не столько современные, гражданские концепции
наций, сколько этатистские модели, отождествляющие нацию с государством. Так, В.А.
Тишков противопоставляет понятию нации «утвердившемуся в советском обществознании
как некоего архетипа, как "этно-социального организма"…» свое понимание этого термина,
соответствующего, как он выражается «этатистскому значению слова "нация" …». 106
По причинам, которые мне трудно объяснить, некоторые российские исследователи
истории
этнополитической
мысли,
считают
этнические
теории
нации
глубоко
укорененными и популярными в мировой науке. Так, Г. Марченко пишет: «В современной
зарубежной науке под нацией обычно (?) подразумевается политически осознающая себя
и требующая политического самоопределения этническая общность». 107 Однако при этом
ссылается только на две фамилии ( П.Ван ден Берг и Д.Котце). И это не случайность,
поскольку среди известных этнополитологов трудно найти других сторонников этнической
концепции нации. Более того, эта концепция в мировой науке сегодня в основном
связывается с одним именем Ван ден Берга, которому и принадлежит то самое, слегка
перефразированное Г. Марченко, определение нации, как «политически сознательной
этничности, которая добивается права на государственность».108 Однако при этом стоит
иметь в виду, что Ван ден Берг всегда подчеркивал, что занимается проблемой этнических
меньшинств, поэтому и его определение нации является не универсальным, а исторически
ограниченным случаями, когда этнические меньшинства,
ущемленные в своих
политических правах, добиваются национального самоопределения. Так или иначе, но ни
примордиализм Ван ден Берга, ни его специфический подход к проблеме наций, не только
не являются общепризнанными, но и не имеют сейчас большого числа сторонников. Об
этом можно судить на основе анализа трактовок нации, отраженных в подавляющем
большинстве современных энциклопедических, справочных изданиях и учебниках,
издаваемых в Западной Европе и в Америке, а также по уже упоминавшейся не раз,
авторитетной «Энциклопедии национализма» Л. Снайдера. 109 Автор похожего издания
энциклопедического типа (кстати, первого и пока единственного в странах СНГ) профессор
О. Картунов,
оценивая современное (по состоянию на середину 1990-х гг.)
распространение теорий наций, признает, как мне показалось, с некоторым сожалением,
В.А. Тишков. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. С. 37
Марченко .Г.И. Вестник Московского ун-та. Сер. 12. Политические науки. 1995. №2.С.57
108
Van den Berghe. P.L. The Ethnic Phenomenon. - N.Y. 1987
109
Snyder L. Encyclopedia of Nationalism. N.Y., 1990.- P.131.
106
107
56
что в мировой науке, «безусловно, господствующее положение занимает политическая
теория нации».110
Вместе с тем растет и понимание особого места этничности в национальной
проблематике. Так, Энтони Смит (идеи которого диссертанту особенно близки) отмечает,
что даже если под нацией понимать политически сознательную часть граждан, т. е.
гражданское общество, то и в этом случае в нации будут присутствовать как этнические,
так и гражданские компоненты, хотя бы потому, что большинство современных обществ
полиэтничны, при этом этническая история, так или иначе, отражается в современных
нациях. Одна из его работ так и называется: «Этническое происхождение нации», и в ней
Э. Смит определяет нацию как синтетическое явление, соединяющее гражданство,
этничность и территорию.111 При этом совершенно не верно причислять Э. Смита к
сторонникам этнической теории нации, поскольку он лишь вносит некоторые уточнения в
господствующую политическую теорию нации. На мой взгляд, концепцию Э. Смита можно
назвать «синтетической» или в полном смысле этого слова - «этнополитической».
Именно с учетом того, что политическая концепция нации стала доминирующей,
исследователи специально выделяют маргинальные понятия, соединяющие определения
этничности, нации и национализма
- «этнический
национализм»
как
идеология,
связанная
с
претензиями
на
государственное самоопределение от имени этнических движений;
- «этно-национальная группа»; как форма политической мобилизации этнической
группы, ставящей своей целью обретение государственности;112
- «этнонация», этот термин используется в двух значениях - во-первых, как желаемая
модель политической нации,
к которой стремиться «этно-национальная группа»,
мобилизованная для борьбы за «собственную» государственность;113 во-вторых, для
обозначения особых и редких разновидностей существующих политических наций,
складывавшейся в границах государств из одной этнической общности, например, как
армянская, японская или исландская нации. 114
Картунов . О. Указ. Соч. С. 139.
Smith A. The Ethnic Origins of Nations. Oxford 1991.-P155-156
112
Nielsson. G. States and “Nation-Group//Tirikian E.,Rogowski R. (Ed) New Nationalisms of the Developed
West. – L., 1985. P.27-28.
113
Krejci J.Velimsky V. Ethnic and Politic Nations in Europe. – N.Y, 1981.
114
Kellas J. The Politics of Nationalism and Ethnicity. - L.-1991. P.3
110
111
57
Параграф 3 Этнополитические процессы в концепциях модернизации и
транзитологии
Усилиями многих ученых неполнота знаний о современных этнополитических
проблемах уменьшается, хотя зона непознанного и необъясненного (точнее неадекватно
объясненного) все еще велика. Так, остается дискуссионным и мало изученным вопрос о
стратегическом направлении развития этнополитических процессов и о целях этнической
политики.
Неоднозначность ответов на эти вопросы, во многом обусловлена как его высокой
политической и идеологической окрашенностью, так и неопределенностью позиций многих
экспертов в области теории развития.
С тех пор как марксизм перестал быть обязательной методологической рамкой для
любых общественных исследований в России, многие эксперты вообще лишились какихлибо концептуально-мировозренчеких основ для своих размышлений на эту тему. Отчасти
это можно объяснить тем, что концепции политического транзита пока слабо взяты на
вооружение этнологами - основным отрядом исследователей национальных процессов.
Научные основы этих исследований были заложены еще в 1960-х – 1970-х годах. В
это время были опубликованы работы исследователей, признанных ныне классиками
изучения модернизации, такие как А. Алмонд, П Бурдье, С. Липсет, Б.Мур, Л.Пай,
Д.Ростоу, Ш.Эйзенштадт, С.Хантингтон, и др.115
В конце 1980-х годов, после революционных политических перемен в Центральной
и Восточной Европе, в мировой политической науке закономерно возникли новые
концепции модернизации так называемых «переходных обществ». Центральной проблемой
таких работ стал анализ механизмов политического транзита посткоммунистических
государств. Большой вклад в транзитологию, как особое направление модернизационных
концепций внесли - Ш. Эйзенштадт, Х.Линц, А. Степан, Г.О'Доннелл, и др.116
Первоначально транзитология базировались на материалах исследований стран так
называемой «успешной модернизации», т. е. преимущественно центрально-европейских.
115
Pye L. Communication and Political Development. Princeton, 1963; Eisenstadt, S. N. Tradition, Change and
Modernity. New York. 1973; Eisenstadt, S. N. 'Studies of Modernization and Sociological Theory // History and
Theory, 1974; Hantington, S. Political Order in Chenging Societies. New Haven: Yall University Press, 1968; В.
Moore Jr. Social Origins of Democracy and Dictatorship// Lord and Peasant in the Marking Modern World, Boston:
Beacon Press, 1966; Rostow D.А. Transitions to Democracy - Toward а Dynamic Model.-" Comparative Ро1itics",
1970, vol. 2, # 3;
116
Eisenstadt, S. N. 'The Breakdown of Communist Regimes and the Vicissitudes of Modernity// “Daedalus” (Spring
1992). О'Donnell G. Delegative Democracy. — Journal of Democracy vol 5, по 1,1994.;. Linz J and Stepan А.
Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-Communist Europe.
Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press. 1996;Di Palma G..То Craft Democracies Reflections on
Democratic Transitions and Beyond. Berkeley: University of California Press. 1990; Hantington S.. How Countries
Democratize. — Political Science/ Quarterly, vol 53, nо 1,1991.
58
Распад СССР и появление на геополитической карте мира новых независимых государств
Евразии, вызывали к жизни и особую разновидность транзитологии, связанную с изучением
политических преобразований в странах СНГ. При этом, особый интерес вызывали
процессы российской трансформации, а также сравнение развития постосоветской России
с политической модернизаций в других странах. (В.Банс, 3.Бжезинский, М. Макфол,
Т.Карл, Ф.Шмитгер, А Пшеворский, и др.)117
В это же время стали разрабатывать проблемы российской трансформации,
модернизации и отечественные исследователи. Среди работ российских авторов в этой
области большой интерес представляют труды А. С Ахиезера, И. В.Бестужева-Лады, Г.И
Вайнштейна, А.А. Галкина, В.Я. Гельмана, Л.А. Гордона, В.В. Ильина. А.А. Кара-Мурзы,
Ю.А.Красина, А. Ю Мельвиля, Р.Т. Мухаева, А.С. Панарина, А.М. Салмина, Л.В.Шевцовой
и других исследователей. 118
Об идее модернизации можно говорить в трех смыслах. В первом – это синоним всех
прогрессивных
социальных
изменений.
Второе
значение
тождественно
термину
«современности». Третье – подразумевает под модернизацией определенный комплекс
трансформаций, социальных, экономических, политических и культурных, происходивших
в мире с конца XYIII по XXI вв.119
Модернизация в последней из перечисленных трактовок означает процесс
превращения традиционного или дотехнологического общества в индустриальное (для
которого характерны машинные технологии) и рациональные и секулярные отношения, а
также высоко дифференцированные социальные структуры.
117
Bunce V. Should Transitologists be Grounded? -Slavic Review,1995. Vol 54, # 1; Regional Differences in
Democratization; The East Versus the South.- Post- Soviet Affairs.1998. Vol 14. # 3; McFaul М.State Power
Institution Change and the Politics оf Privatization in Russia. World Politics,1995, vol 47, # 2. Schmitter Ph. with
Karl Т,. The Conceptual Travels оf Tranzitologists and Consolidologists: How Far to the East Should. They Attempt
to Go? — Slavic Review, vol 53, по 1, 1994; Przeworski А. Democracy the Market. Political and Economic Reforms
in Easten Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press,1991
118
Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Новосибирск, 1997. Бестужев-Лада. И.В. Перспективы
трансформации России. М.1998; Вайнштейн Г.И. Российский транзит: уточнение координат. //Россия в
условиях трансформаций. Материалы историко-политологического семинара.М.,2000.; Галкин А.Я. Красин.
Ю.А Россия на перепутье. Авторитаризм или демократия: варианты развития. М, 1998; Гельман В.Я.
"Transition" по-русски: концепции переходного периода и политическая трансформация в России (1989 1996). //ОНС, 1997, № 4.; Гордон Л.А., Плискевич Н.М. Развилки и ловушки переходного времени.//Полис,
1994,№ 4,5.; Ильин В.В. Панарин А.С. Крамурза А.А. Советская цивилизация. М., 2001.Красин Ю.А. Долгий
путь к демократии и гражданскому обществу.// Полис, 1992, # 5 - 6.; Мельвиль А.Ю. Опьт теоретикометодологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам.//
Полис,1998, № 2.; Демократические транзиты (теоретико-методологические и прикладные аспекты) М. 1999.;
Мухаев Р.Т. Модернизация посткоммунистических режимов: ее специфика и возможности в России (опыт
сравнительного анализа).// Вестник Московского ун-та, сер. 12, социально-политические исследования, 1993,
№ 3; Шевцова Л. Политические зигзаги посткоммунистической России.-М., 1997 и др.
119
O' Connell, J. The concept of modernization': Black 1976, рр. 13-24
59
Существует и такое значение термина «модернизация», которое распространяет этот
процесс только на страны, отстающие в своем развитии и, предпринимающие усилия
догнать ведущие государства мира.120
Под модернизацией понимается также совокупность инноваций в сферах,
направленных на достижение более высоких, желаемых жизненных стандартов. В
экономике - индустриализация, в расселении и поселениях - урбанизация, в политике демократизация, в сфере духовных отношений – секуляризация, в сфере брачных
отношений – эмансипация; в сфере становления современного типа личности – изменение
ценностных ориентаций и, прежде всего следующих:
независимость от традиционных авторитетов, антидогматизм в мышлении
инновационность- способность перенимать новый опыт
рациональность – вера в разум, в науку
достижительность – высокий уровень образовательных, профессиональных и
культурных притязаний
гражданственность- внимание к общественным проблемам.
На основе теории модернизации развивается и большинство современных западных
исследований нациестроительства, понимаемого, прежде всего, как процесс развития
горизонтальных связей между этническими общностями и формирования у них
определенных форм ценностного единства в рамках мультикультурных обществ.
Концепция
«государства-нации»
в
модернистском
дискурсе.
Одной
из
фундаментальных целевых установок большинства концепций модернизации является
движение обществ в направлении к созданию государства-нации, в котором сочетаются
демократический тип государственного устройства и гражданский тип нации. Это, такой
же знаковый признак
модернизма, как индустриализация, урбанизация, развитие
свободных рыночных отношений и демократизация
политической жизни.121 Весьма
любопытную интерпретацию этой концепции дал А.Кара-Мурза. Он полагает, что «история
знает три интегративные формы, в которых возможно социальное сосуществование
индивидов. Во-первых, "этнократии" - основанные на принципе "крови", этнического
родства… Во-вторых, "империи" - базирующиеся на универсальном, надэтническом
принципе
"подданства".
И,
в-третьих,
"нации"
-
основанные
на
гражданско-
территориальном принципе. Нация, в отличие от Империи, формируется в той мере, в какой
в универсализирующем плавильном котле межэтнического взаимодействия участвует не
120
Ibed.
Eisenstadt, S. N. Tradition, Change and Modernity. New York. 1973; Tilly Ch.(ed.) The Formation of National
States in Western Europe. Princeton, 1975; Emerson, R. From Empire to Nation The Rise of Self Assertion of Asian
and African Peoples. Cambridge: Harvard University Press, 1960
121
60
только имперское государство, но и гражданское общество. Нация, таким образом,
отличается от Империи тем, что Империя объединяет людей через "службу себе" (через
"государево дело"), а Нация - через взаимозависимость "каждого с каждым", через
взаимосвязь всех автономных, приватных "дел".122
В понятийном аппарате модернистских концепций национальной политики обычно
различают понятия «этничность» и «нация». Первое из них рассматривается как продукт
социально-культурных отношений между этническими общностями и, главным образом,
отношений, основанных на антитезе «мы» - «они».123
Нация же рассматривается как результат социально-политических отношений между
обществом и государством. Весьма характерно для такого подхода определение К. Дойча:
«Нация - это народ, овладевший государством».124 Примерно такую же трактовку этому
феномену дает и Р. Эмерсон: «Нация (общество), - пишет он, - стремится овладеть
государством как политическим инструментом, с помощью которого она может защитить
и утвердить себя».125 В обоих случаях под терминами «народ» и «нация» понимается не
этническая общность, а гражданское общество. В этих определениях звучит один из
основных мотивов модернистского подхода к осмыслению нации как продукта
исторической эволюции и изменения форм организации социума: от имперского типа - к
национальному.
Модернистская трактовка нации как
надэтнического гражданского общества и
источника легитимности государственной власти - является наиболее распространенной в
современной западной этнополитологии. В России же исследования в этой области редко
опираются на теории модернизации и слабо связаны с концепциями политического
транзита. Здесь ему противостоят традиционные представления: с одной стороны этноцентристские модели, основанные на представлении о нации, как государственно
оформленной этнической общности, а с другой - этатистские (государственнические)
модели, отождествляющие нацию с государством. Мы уже говорили об этноцентристских
А. Кара-Мурза “Этнократия - империя - нация” // Как возможна Россия? Библиотека либерального
консерватизма. М., 1999 с.92-107
122
См , Ваrth F.(ed.) Ethnic Groups and Boundaries. Bergen, 1969; См также Бромлей Ю.В. Очерки теории
этноса . М., 1983 . С. 56.
124
Deutsch К. Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality, Cambridge
(Mass.), 1953 (второе издание 1966).
123
125
Emerson, R. From Empire to Nation The Rise of Self Assertion of Asian and African Peoples. Cambridge: Harvard
University Press 1960 P. 96
61
трактовках нации, упоминали и этатистские модели в изложении самого
известного
российского этнолога В.Тишкова.
Хочу отметить, что диссертант разделяет взгляды этого выдающегося ученого по
вопросам этничности и соглашается со многими его конкретными оценками современной
этнополитической ситуации в России, но одновременно не согласен с его трактовкой
понятия «нация». В частности Тишков определяет нацию как «государственную общность
(коалицию), жестко оформленную территориальными границами и фиксированным
гражданством».126 В этом случае граждане России могут рассматриваться как нация (в
терминологии В. Тишкова «многонародная нация»), а задача нациестроительства, по сути,
сводится лишь к тому, чтобы назвать российское согражданство – нацией и приучить
людей к употреблению такого термина. На взгляд же диссертанта, проблема формирования
политической нации в России не сводится к переосмыслению терминов и к привыканию
людей к их употреблению, она связана с созданием комплекса социально-культурных
предпосылок развития гражданского общества в России, которое сможет стать
политической нацией, «овладевающей государством, как своим орудием».
В российском обществоведении преобладает крайне узкая трактовка понятия
«империя» и производных от него понятий: «имперская политика», «имперское мышление»
и др. Обычно последние связываются только с внешнеполитической экспансией, с
ориентацией на захват новых земель. Однако функции империи никогда не сводились
только к захвату территорий, еще важнее была функция их удержания, колонизации. И все
же главным признаком империи всегда считался тип государственного устройства,
основанный на принципах авторитарной самодержавной власти. Не всякое государство,
ведущее экспансионистскую политику и владеющее колониями, называют империей.
Республики,
которые
проводили
колониальную
политику,
будь
то
феодальная
Венецианская или капиталистическая Французская, удерживавшая свои колонии до
середины 1950-х годов, не определяются в науке как империи. Римское государство
захватывало и владело колониями задолго, до того, как стало империей, однако историки
различают республиканский и имперский периоды жизни этого государства. Сегодня
многими забыт первоначальный смысл латинского слова imperator – повелитель,
самодержец, вдумавшись в который становится понятно, что
имперская политика
начинается не с колоний, а с метрополии, в которых демократия (в своих ранних формах),
заменяется автократией, где устанавливается имперский принцип подданичества,
противоположный принципу гражданства. Подданные не могут оказывать влияние на
126
См Национальная политика история и современность. М.: Изд-во «Русский мир» 1997 С.642.
62
формирование власти, они слуги царевы (напомню, что русское слово «царь», как и
немецкое «кайзер» производно от caesar – император) поэтому даже население метрополии,
народ, выполняющий функции («цемента империи»), является государствообразующим
только по отношению к еще более бесправным жителям колоний. Конечно же, колониализм
и экспансионизм не случайно связаны с имперским типом государственного устройства,
они чаще всего и побуждают к большей концентрации власти, вплоть до ее сосредоточения
в одних руках, однако именно самодержавная власть и генетически и функционально
является стержнем имперской политики. Ведь и в России она появилась не сразу, а,
вероятнее всего, во времена Петра 1, хотя завоевания и удержания обширных земель
происходили и до него, например, в правление Ивана Грозного. И дело здесь не только в
юридическом определении России как империи, которое ей дал Петр, но и в фактическом
устранении остатков феодального управления.
Современные историки выделяют систему признаков классической империи нового
времени, отличающих ее как от феодальных государств, так и от последующих
конституционных, демократических форм государства. Все они связаны с двумя базовыми
понятиями – с централизацией и иерархизацией. Назову лишь некоторые из них:
централизация и иерархизация самодержавного аппарата, связанная с диверсификацией
функций государственного управления и введения в ней многоярусного табеля о рангах;
иерархизация пространственного тела империи с четким разделением центра и
иноэтнической периферии (провинций, колоний); иерархизация этнических общностей с
выделением главного государствообразующего народа, государствообразующей религии и
титульного языка; иерархизация сословий, в которых не просто отделяется плебс от
аристократии, но и устанавливаются ранги самой аристократии; иерархизация культуры, в
которой народная (простонародная) культура отделена от высокой, призванной, к тому же,
обеспечивать функцию возвеличивания империи. Во внешней политике империи нового
времени отличались от феодальных государств тем, что добивались легитимизации статуса
великих держав и, претендовали на роль блокообразующего лидера на международной
арене.
127
Таким образом, и внешнеполитическая среда имперского мира была
иерархизирована, в ней появились державы с признанным статусом разного ранга, да и
завоевания в ней перестали носить сугубо прагматический смысл и, зачастую, в большей
мере играли роль символов, доказывающих право на определенный статус в мировой
политике.
См. Филюшкин А. Начало Российской империи (к постановке проблемы)// Новая имперская история
России и Евразии. Сборник работ в честь С. Беккера. Под ред. И. Герасимова, С. Глебова, А. Каплуновского,
М. Могильнер и А. Семёнова. Москва, издательство НЛО
план 2003 года ( в печати)
127
63
Для своего времени классическая империя была передовой формой государственной
организации, которая стала изживать себя лишь к середине XIX
с появлением и
утверждением новых более жизнеспособных образцов государственного устройства.
Однако, в двадцатом веке появились «вторичные империи». Это особые (диктаторские),
модификации империй, сохранившие их главную сущность - авторитаризм, и производные
от него свойства политики -
экспансионизм и колониализм как стремление
насильственного удержания территории. Два таких государства сыграли наибольшую роль
в истории XX в. Одно из них официально именовалось империей (германский третий рейх),
второе называлось союзом советских республик, хотя фактически они мало отличались, как
друг от друга, так и от классических империй. И это сходство не ограничивалось только
тоталитарным подавлением всех форм самоорганизации общества. Оно проявлялось также
и в утрированном, даже по сравнению с классическими империями, уровнем централизации
и иерархизации не только власти, но и всей жизни общества, включая культуру и науку, в
которых устанавливалась многоярусная вертикаль рангов, а также во внешних символах
власти, например, в склонности к имперской помпезности архитектуры, музыки,
литературы и т.д.
В силу разного понимания одних и тех же терминов, часто возникают идеологические
споры даже среди людей, которые, по сути, являются идейными единомышленниками, но
говорят на разных научных и этнических языках. Например, историк А. Янов, спорит с
западными учеными Р. Пайпсом, А.Туминез, Д.Дэнлопом и Д.Хоскингом, отмечающими,
что в научном мире существует консенсус относительно следующих утверждений: вопервых, что исторически Россия никогда не была «государством-нацией», во-вторых, что
создание такого государства ставит заслон на пути возвращения России к состоянию
империи.128 Не буду приводить довольно длинных возражений на это российского
историка, сопровождающихся историческими ссылками, скажу лишь, что они сводятся к
мысли: России нужна федерация, а вовсе не государство-нация.129 Думаю, что эта полемика
результат недоразумения. Уверен, что и Янов поддержал бы отвергаемый им консенсус,
если бы осознал, что все перечисленные им ученые трактуют термин: «государство-нация»
в гражданском смысле, как такое государственное устройство, в котором власть находится
у граждан, а не у самодержца, а нация представляет собой ипостась гражданского общества.
Янов А. Отделим овец от козлищ // Западники и националисты: возможен ли диалог? Материалы
дискуссии фонда «Либеральная миссия». - М.: ОГИ. 2003. С.365-367.
129
Там же. С. 368.
128
64
Многие известные этнополитологи специально
отмечают постоянную путаницу,
которая возникает при смешении понятий нации и государства-нации, но в то же время
полагают целесообразным сохранять оба понятия.130
Политическая (гражданская) нация выполняет множество функций по отношению к
государству. “Нация, - пишет Эмерсон,- стремится овладеть государством как
политическим инструментом, с помощью которого она может защитить и утвердить себя ...
нация фактически стала тем, что придает легитимность государству. Если в основу
государства заложен любой другой принцип, а не национальный, как это имеет место в
каждой имперской системе, то его основы в век национализма немедленно ставятся под
сомнение”131 Нация не только легитимизирует государство, но и формирует национальные
интересы, которые должны переплавляться государством в политические стратегии.
Главное же, что нация, как общество, объединенное единством гражданских ценностей,
только одна и способна предотвратить перерождение демократического государства в
тоталитарное.
Как известно, Гитлер пришел к власти демократическим путем, но не встречая
сопротивления гражданской нации, не сложившейся в то время в Германии, быстро
превратил республику в рейх, а ее население в мобилизационное общество. После распада
СССР многие новые независимые государства, например Туркмения и Белоруссия, приняли
конституции, вполне соответствующие международным нормам, но совершенно
неосвоенные национальным сознанием и не опиравшиеся на национальную гражданскую
идею, и это позволило и «вождю всех туркмен» и «батьке белорусского народа» со
временем перешить их под свой размер. России в этом отношении больше повезло: в
заслугу Б. Ельцину можно поставить уже то, что он избирался по Конституции, а главное
- ушел со своего поста конституционно, а В. Путину, что он объявил о своем намерении не
пересматривать тот раздел Конституции, в котором определены сроки исполнения
полномочий президента. Однако предложения о ревизии практически всего корпуса
демократических преобразований раздаются из уст весьма высокопоставленных деятелей
нашего демократического государства и часто встречают поддержку у значительной части
населения. И до тех пор, пока демократия во всем своем объеме не станет нормой для
общества, его основным национальным интересом, не будет и уверенности в том, что
Nielsson. G. States and “Nation-Group//Tirikian E.,Rogowski R. (Ed) New Nationalisms of the Developed
West. – L., 1985. P.27-28.
131
Emerson, R. From Empire to Nation The Rise of Self Assertion of Asian and African Peoples. Cambridge: Harvard
University Press 1960 P. 96
130
65
Россия в очередной раз не вернется назад в империю или не распадется. Поэтому для России
двуглавая формула государство-нация важна не менее, чем двуглавый орел на ее гербе.
Этнополитические процессы в концепциях этнической политики. Каждое
мультикультурное сообщество в условиях перехода к правовому государству озабочено
тем, как представить интересы этнических групп в политическом пространстве. Наиболее
известная избирательная система – «один человек – один голос» – не всегда учитывает
интересы меньшинств. Начинаются конфликты, сепаратизм, этнические чистки, что,
разумеется, не способствует демократизации общества.
Некоторые ученые вообще считают, что «этнически плюральные общества не
благоприятствуют развитию демократии»132. Однако реально большинство государств,
исповедующих демократию, полиэтничны и нашли способы в той или иной мере сочетать
необходимость унифицированных норм с созданием неких особых условий для
национальных меньшинств и специфических этнотерриториальных районов. По мнению Т.
Сиска, такие способы заключаются, например, в создании предвыборных коалиций между
этническими общинами и полиэтническими партиями, основанных на интересах, которые
выходят «за границы этнической принадлежности», в стимулировании межэтнического
сотрудничества133. Скажем, бывший и нынешний президенты США – Б. Клинтон и Д. Буш
– стремились отразить в составе своей администрации многообразие этнических,
религиозных и расовых групп современного американского общества, разумеется, без
ущерба квалификации высших чиновников.
Другой подход – консоциональная демократия (consociational democracy). Эта
концепция, по мысли ее автора А. Лейпхарта, как правило, используют в расколотых
обществах, где межэтнические противоречия зашли уже глубоко и специальные процедуры
снятия противоречий сводятся к созданию коалиционных правительств с участием партий,
представляющих основные сегменты общества134, соблюдению интересов групп при
назначении на ключевые посты и распределении ресурсов; максимальной автономии в
решении внутренних вопросов в делах каждой из групп; взаимному праву вето или
квалифицированному большинству при принятии важных решений, касающихся
общностей, которое позволяет системе действовать при высоком уровне взаимного
недоверия.
132
Rabushka A., Shepsle K. Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability. Columbus, 1972, p.
186.
133
Сиск Т. Распределение власти в полиэтнических государствах: принципиальные подходы и используемые
практики // Доклад на международном семинаре «Предотвращение смертоносных конфликтов; стратегии и
институты». М., 14–16 августа 1996 г. С. 57.
134
Примечание: представительство не обязательно должно быть соответствующим численности групп.
Главное, чтобы квоты были согласованы, то есть допускается передача полномочий.
66
Эта модель обобщает политический опыт Швейцарии, Бельгии, Нидерландов,
Австрии135, но, по мнению автора, применима и в других государствах, в том числе
«третьего мира». При этом решающую роль в достижении соглашений играют элиты,
причем лидеры должны быть относительно независимыми от давления масс и иметь
свободу маневрирования.
Все рассматриваемые концепции являются весьма интересными, прежде всего, как
необычные, в чем-то даже экзотические, дополнения основного направления этнической и
национальной политики. Во всем мире, в том числе и в России, таким направлением
признается этнополитическая интеграция. Правда, если в Советском Союзе политическая
установка на интеграцию как сближение народов была выражена вполне определенно и
формулировалась в виде стратегической задачи формирования «единой исторической
общности - советский народ», то в постсоветской России в официальных документах
установка на некие обеъединительные процессы скорее угадывается, чем прочитывается.
Так в Концепции государственной национальной политики говорится: «Национальная
политика может стать консолидирующим фактором лишь в том случае, если она будет
отражать все многообразие интересов народов России, иметь в своем арсенале четкие
механизмы их согласования».136 Так или иначе, но ориентация на те или иные формы
объединительных этнополитических процессов в российской национальной политике
присутствует, хотя и сохраняеся неопределенность интерпретации этих процессов. Взять
хотя бы трактовку таких понятий как «консолидация» и «интеграция». Оба термина
отражают процесс объединения, однако и в советской этнографии и в современной
западной их различали. Термин «консолидация» - обычно обозначает укрепление единства
однородных родственных групп, тогда как «интеграция» предполагает сближение или
объединение представителей разных, не родственных, самостоятельных этнических групп
внутри государств или в рамках межгосударственных образований. В результате
интеграции участники получают некое новое системное качество, при сохранении их
культурной самобытности. 137
На мой взгляд, наиболее полную классификацию этнических и этнополитических
процессов
и наиболее удачные индикаторы для различения их многочисленных
разновидностей, дал в свое время академик Ю.В. Бромлей. Показательно, что советский
ученый, так же как большинство зарубежных исследователей, использовал в качестве
наиболее общей формы классификации этнических и этнополитических (национальных)
Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1997. С. 36.
Концепция Государственной Национальной политики Российской Федерации. (Приложение 2)
137
Deutsch K. Analysis of International Relations N.Y. 1968. P. 158
135
136
67
процессов, их отнесение к двум основным классам – объединительным (интеграционным)
и разделительным (дезинтеграционным или дивергентным).138
Разделительные
(дивергентные)
процессы,
в
свою
очередь,
могут
быть
классифицированы. В них различают два основных подвида:
во-первых, - это этническая парциация, при которой единый прежде этнос делится
на несколько более или менее равных частей, причем ни один из новых этносов не
отождествляет себя полностью со старым этносом;
во-вторых - этническая сепарация, подразумевающая случаи, когда от какого-то
народа отделяется его часть.139
На этнополитическом, национальном уровне также проявляется такой вид
дивергенции как сепарация (сепаратизм), выражающийся в формировании национальнополитических движений, выступающих за отделение некой этнополитической территории
из состава полиэтнического государства
Этнообъединительные процессы также неоднородны и включают в себя:
этническую (точнее сказать внутриэтническую) консолидацию как процесс слияния
нескольких родственных по языку и культуре этнических единиц в одну новую,
более крупную этническую общность;
этническую ассимиляцию, т.е. процесс растворения небольших групп (или
отдельных представителей) одного народа в среде другого и полную или почти
полную утрату такой группой исконных этнических свойств и столь же полное
усвоение новых;
межэтническую интеграцию
- появление новой этнокультурной и социально-
политической общности, при сохранении основных этнических черт у основных
этнических единиц взаимодействия. С такого рода процессами и связано
формирование в рамках многонациональных (полиэтнических)
государств
межэтнических или метаэтнических национальных общностей.140
Именно интеграционные процессы, обеспечивающие, как сохранение основных
черт культурной этнической самобытности народов, так и социокультурное и социальнополитическое сближение народов, стали основным направлением национальной политики
(«нациестроительства») в современном мире. Интеграционные процессы не являются чисто
этническими, поскольку связаны, прежде всего, с политическим сближением народов
внутри государств или на межгосударственнном уровне, и в западной науке уже с конца
Бромлей Ю.В.Очерки теории этнорса. Москва: «Наука». 1983. С. 235.
Там же.С.236.
140
Там же С. 237-238.
138
139
68
1970-х годов подобные процессы стали именовать «этнополитическими». 141 В Советском
Союзе этот термин не прижился во времена Ю. Бромлея, который оперировал понятием
«межэтническая интеграция».
Вместе с
разновидности
зависимости
(подвиды)
в
тем академик
от
типа
предлагал
различать
политических
ее
отношений,
складывающихся между этническими общностями в процессе их сближения. Он выделял
следующие типы интеграции:
а) консоциационный, описывающий взаимодействие равноправных и независмых в
политическом отношении этносов;
б) симбиозный - имеет место взаимодополняющая ассоциация зависимых друг от
друга этнических единиц;
в) сегрегационный, относящийся к случаям взаимодействия народов находящихся в
условиях политического неравноправия, этнической дискриминации.142
Предложенная Бромлем классификация этнических и этнополитических процессов, в
том числе и детальная классификация этнополитической интеграции, до сих пор, в целом
благожелательно принимается большинством этнополитологов, по крайней мере, не
встречает серьезной критики. Ее основной недостаток лишь в том, что она слабо описывает
механизмы интеграции. Бромлей, который и сам осознавал, что такая интеграция является
преимущественно
социально-политическим
процессом
(отсюда
и
его
сугубо
политологическая классификация подвидов межэтнической интеграции), тем не менее
смог обозначить лишь сугубо культурологические компоненты этого процесса. Так, он
выделил
стадии
- первичного культурного сближения- (аккультурацию), более
продвинутой стадии, на которой может происходить освоение второго этнического языка
(культурную адаптацию), и наконец заключительная стадия, связанная с изменением
этнического самосознания .143
Понятно,
что
возможности
Ю.
Бромлея
вскрыть
глубинные
механизмы
этнополитической интеграции были ограничены множеством обстоятельств и, прежде
всего, рамками официальной советской идеологии - марксизма-ленинизма. В его время ( в
1970-х-1980-х годах) тематика этнополитической интеграции в основном разрабатывалась
в западной социологии и политологии.
К концу 1990-х годов
в зарубежной науке сложилось
уже несколько десятков
концепций этнополитической интеграции как в масштабе государств, так и на уровне
международных сообществ типа Европейского Сообщества.144 Основные различия между
141
Rotshild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework. N.Y. 1981
Бромлей. Ю.В. Указ. Соч. С. 239-240.
Там же. С. 241.
144
Наиболее удачный их обзор см., например, Кортунов О. Указ соч. С 217-227.
142
143
69
этими концепциями состоят в особенностях интерпретации авторами движущих сил и
механизмов интеграции. Назову лишь некоторые наиболее фундаментальные концепции.
Коммуникативная концепция - ее зачинатель Карл Дейч основное внимание уделил
изучению динамики коммуникации. Он полагал, что рост объемов и увеличение
разнообразия контактов, связей и обменов между группами больше, чем другие факторы
стимулирует их объединение, как на международном, так и на национальном уровнях.145
Нормативно-ценностная концепция, восходящая к М. Веберу, акцентирует основное
внимание на аккультурации групп, сближении их ценностей и выработке единых норм
поведения.
Функциональная (или неофункциональная) концепция - развивается многими
современными исследователями, например Д. Митрени и Э.Гаазом, но основана на
постулатах, которые заложили в 1920-1930-х годах Б.Малиновский и А.Редклиф-Браун и,
позднее (в 1950-х) развил Т. Парсонс. Функциональная концепция выводит основные
предпосылки интеграции из места и роли этнополитических акторов в системе социального
взаимодействия. Из тех функций, которые в решающей мере определяют интересы
участников интеграции и их ценностные предпочтения в этом процессе.146
Концепции этнополитической интеграции, при всем их различии не являются
конкурирующими и дополняют друг друга в некоторых аспектах. Вместе с тем остается
немало теоретических проблем интеграции, которые вызывают оживленные научные и
политические дискуссии, поэтому, предлагая модель этнополитической интеграции в
качестве ключевого методологического звена диссертации, нам еще не раз придется
возвращаться к дискуссионным вопросам этой концепции в процессе обсуждения
конкретных вопросов национальной политики России.
Концепции этнических конфликтов как этнополитического процесса. При всей
важности решения теоретических вопросов о сущности и природе этничности и нации, и об
общих механизмах этнополитической интеграции, не они сегодня лидируют по числу
публикаций и остроте интереса различных направлений этнической политологии (равно как
и этнологии и этносоциологии). Бесспорным лидером во всей этнополитической тематике
является проблема этнополитических конфликтов. И это вполне объяснимо.
Минувший век, особенно его вторая половина, был удивительно противоречивым с
точки зрения как развития этнополитических процессов, так и их осмысления учеными и
политиками.
С одной стороны, это был век дальнейшего развития либеральных и
145
Deutsch .K. Political Community at the International Level. Problems of Definition and Measurement.-N.Y.,
1954.
146
Parsons T. The Social System. New York 1951.
70
гуманистических ценностей, демонтажа почти всех колониальных образований, признания
мировым сообществом проблемы меньшинств как одной из важнейших в мировой
политике, проведения конституционных реформ с учётом этнокультурного фактора во
многих государствах (Бельгия, Канада, Испания и др.). С другой стороны, это был век
неслыханной жестокости в отношении этнических общностей. Речь идет не только об
ужасах Второй мировой войны, но и о кровавых конфликтах конца столетия. По подсчётам
директора Института мира в Осло Дена Смита, две трети войн только за вторую половину
90-х гг. связаны с этническими конфликтами, три четверти их жертв – мирное население147.
В условиях всё новых этнополитических вызовов учёные выдвигают разнообразные
концепции природы и динамики этнополитических конфликтов. Эти концепции не менее
противоречивы, чем рассматриваемые ранее концепции этничности и наций, поскольку в
них отражаются те же дискуссии, о которых уже шла речь в предыдущих параграфах.
Чтобы не повторяться, диссертант выделил в этом параграфе лишь те дискуссионные
вопросы, которые
в наибольшей мере связаны со специфическими проблемами
этнополитической конфликтологии.
Вопрос о специфике этой области знания сам по себе является предметом дискуссий,
поскольку одни авторы полагают, что ничего специфического в
этнической
конфликтологии нет, тогда как другие, напротив, считают этнические конфликты настолько
специфичными, что отрицают даже саму возможность рассмотрения их в рамках единых
конфликтологических теорий.148
Сторонники универсальности конфликтологической теории
подход тем, что по предмету спора все конфликты
аргументируют свой
полифункциональны и в них
переплетаются различные факторы (экономические, политические, этнические и др.),
поэтому известнейший американский конфликтолог Д. Хоровиц полагает, что об
этнических конфликтах в полном смысле этого слова можно говорить, лишь
применительно к традиционным обществам Азии, Африки и Латинской Америки149.
Примерно такой же точки зрения придерживается и известный американский политолог М.
Маршал, который говорит о том, что "термин этнический конфликт стал эвфемизмом для
внутригосударственных конфликтов, которые мы не можем объяснить и понять"150 С
такими взглядами трудно не согласиться, вместе с тем, переплетенность функций не
147
148
Smith D. with Sandberg K.I., Baev P. and Hauge W. The State of War and Peace. Atlas. L.: Penguin, 1997, p. 13.
См. подробнее обзор этих дисскусий Авксентьев В. Этническая конфликтология: в поисках научной
парадигмы. Ставрополь 2001
149
Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict.- Berkley, Cal., etc. 1985.P.18-21
Marshall M.G. Systems at risk: Violence, Diffusion, and Disintegration in the Middle East // Wars in the Midst of
Peace: The International Politics of Ethnic Conflict / Ed. By Carment D,James P. - Pitsburg, PA, 1997. P.82.
150
71
означает, что одна из них, этническая, полностью лишена смысла. Так, Дж Ротман отметил,
такую особенность этнических и религиозных конфликтов, как их
высокую
субъективность и, по выражению исследователя, «неуловимость». 151
Действительно, такие конфликты глубоко субъективизированы, они опираются на
аргументы истории, мифологии, которые воспринимаются сторонами конфликта поразному. Такие конфликты «идеалистичны», обращены к сакральному началу, поэтому
стороны конфликта зачастую воспринимают, скажем, этническую территорию как явление
священное, а их представители иногда отказываются даже обсуждать вопрос о
территориальных уступках как форме достижения компромисса на переговорах,
рассматривая такую постановку вопроса как «святотатство».
Сторонники
выделения
этнических
конфликтов
как
особой
отрасли
этноконфликтологии полагают, что для нетрадициолнных обществ, где этничность и
политика переплетены, не следует использовать понятие «этнические конфликты», здесь
более адекватным сложившимся реальностям является понятие
“этнополитические
конфликты”. Однако и это определение пораждает новый виток дискуссий.
Чаще всего этнополитические конфликты определяют по сторонам участникам. Так,
исходя
из
широко
известного
определения
В.
Тишкова,
этническим
(или
этнополитическим) можно считать такой конфликт, в котором, по крайней мере, одна из
сторон сформирована по этническому принципу. 152 При кажущейся убедительности такого
определения оно имеет свои недостатки, особенно заметные при сопоставлении дефиниции
с реальной действительностью.
Во-первых, даже одну из сторон конфликта, как правило, трудно определить в
качестве гомогенной этнической общности. Например, в приднестровском конфликте не
только на стороне жителей Приднестровской народной республики, но и в рядах
молдавской армии, сражались представители разных национальностей (хотя бы потому, что
не могли уклониться от призыва в армию, являющегося на территории Молдовы
обязательным). Также многоэтническим был состав участников грузино-абхазского
конфликта. На стороне абхазов выступали армяне, русские, представители народов
Северного Кавказа, но и на стороне грузинских сил, воевали представители разных народов,
например, отряды украинских националистов из группировки УНА УНСО.
Во-вторых, ни в одном из известных этнополитических конфликтов, ни одна из
сторон не представляла интересов всей этнической общности. Практически всегда были
RothmanJ.Resolving Identity-Based Conflicts. – San Francisco.1997. P35
Тишков В.А. Этнический конфликт в контексте обществоведческих теорий // Социальные конфликты:
экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. Часть I. М., 1992.
151
152
72
люди,
которые
отказывались
от
поддержки
конфликтных
действий
«своих»
соплеменников, а некоторые даже могли поддерживать противоположную сторону
конфликта и, уж во всяком случае могли принципиально осуждать насилие как способ
разрешения межэтнических или политических противоречий. Таким образом, не одна из
сторон конфликта не формируется по этническому признаку, если под ним понимать
всеобщую этническую мобилизацию. В связи с этим, на мой взгляд, ближе к истине те
исследователи конфликтов, которые, определяет «этнополитические конфликты» не по
составу их учатсников, а по целям конфликтных действий.153 Поэтому диссертант
предлагает следующее определение: этнополитическими можно считать такие конфликты,
которые ведутся от имени этнических общностей, вне зависимости от того, насколько
участники конфликта полномочны представлять интересы всей общности или этнической
группы,
и мотивируются целями «борьбы за интересы народа (нации, этнической
общности), хотя в реальности могут стимулироваться иными целями и, прежде всего,
борьбой за распределение или монопольное владение ресурсами и властью на некоторой
территории.
Для темы диссертации чрезвычайно важен вопрос о причинах возникновения
основной полосы конфликтов именно на южном фланге бывшего СССР, где сформировался
полюс политической нестабильности, образовались очаги и обширные зоны самых
ожесточенных вооруженных столкновений представителей разных этнополитических сил.
В современной литературе
по этническим и территориальным конфликтам
сложилось несколько точек зрения на эту проблему, различающихся приверженностью
исследователей тем или иным универсальным концепциям возникновения конфликтов.154
Так, в соответствии с концепцией Сэмюэля Хантингтона, одной из самых известных в этой
области, все объясняется культурной несовместимостью народов, принадлежащих к
разным цивилизационным группам,
прежде всего к евро-христианской и азиатско-
мусульманской. Граница соприкосновения этих цивилизаций как раз совпадает с южной
границей России, что и обусловливает, по мнению последователей этого ученого,
возникновение здесь цепи этнических и конфессиональных конфликтов, а время
обострения противоречий (конец 1980-х - начало 1990-х годов) совпадает с началом
Стрелецкий В. Этнотерриториалные конфликты: сущность, генезис типы.// Идентичность и конфликт в
постсоветских государствах. Под ред. М. Олкот, В. Тишкова и А Малошенко Московский Центр Карнеги.
1997; Попов А. Причины возникновения и динамика развития конфликтов.// Идентичность и конфликт в
постсоветских государствах. Московский Центр Карнеги. 1997.
154
Обзор основных концепций по данному вопросу см. например, А.Г. Здравомыслов. Межнациональные
конфликты в постсоветском пространстве.- М.: Аспект-пресс. 1996, с.3-9.
153
73
прогнозируемого гарвардским профессором
нового глобального цивилизационного
кризиса155.
Эта концепция, которая на первый взгляд, кажется хорошо объясняющей
этнополитическую ситуацию на юге СНГ, при попытке ее применения на практике
оказывается непригодной даже для простого эмпирического обобщения большинства
конфликтных случаев. Если армяно-азербайджанский, осетино-ингушский и русскочеченский
конфликты,
хоть
в
какой-то
мере
могут
служить
иллюстрацией
цивилизационного столкновения, то уже абхазо-грузинский к этой категории
трудно
отнести (грузины, как и большая часть абхазов - христиане, на стороне абхазов воевали
представители, как радикальных исламских организаций, так и христиане - русские казаки
и армяне). Совершенно неприменима данная концепция к среднеазиатским вооруженным
конфликтам, поскольку все они развивались только внутри одной конфессиональной
общности (мусульман). Так, сторонами ферганского и ошского конфликтов были
тюркоязычные мусульмане-суниты, а таджикского
- мусульмане-суниты, да еще и
представители одного и того же таджикского этноса.
Ближе к реальности концепции, пытающиеся увязать объяснения всплеска
конфликтов в постсоветском пространстве с глобальным процессом распада колониальной
системы и борьбой “малых” народов за национальное самоопределение.
Советская национальная политика и особенно в период сталинизма (1930-1953 гг.)
была буквально пронизана духом насилия. Насильственный характер носила политика
иерархического разделения территорий и народов на своеобразные ранги в зависимости от
типа национально-государственного образования (союзная или автономная республика,
автономная область, национальный округ). Порожденные этой иерархией противоречия
между так называемыми “титульными нациями”, имевшими
свои государственные
образования и “нетитульными”, а также народами разного статуса (союзного, автономного,
окружного) до сих пор проявляются в многочисленных конфликтах в СНГ, особенно на
Кавказе. Столь же негативные последствия породила и советская политика насильственной
перекройки границ национально-государственных образований. Кавказ был как бы
лабораторией для экспериментов с этническими границами, когда единые этнические
массивы (лезгин, ногайцев, аварцев, азербайджанцев, армян и др.) рассекались
административной межой, в то время как различные народы принудительно объединялись
для проживания в единых административных ячейках (кабардинцы и балкарцы; карачаевцы
и черкесы; грузины и абхазы и др.). Похожие процессы происходили и в Центральной Азии.
155
Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // The International System after the Colapse of the East-West Order.
1994. См. также. Хантингтон. С. Столкновение цивилизаций // Полис. - 1994. №1
74
Так, в 1929г. от Таджикистана были отторгнуты и переданы Узбекистану два крупнейших
и древнейших таджикских города Бухара и Самарканд, с прилегающими к ним,
заселенными преимущественно таджиками, сельскими районами, а из Узбекистана в состав
Таджикистана перевели Ленинабадскую (Ходжентскую) область, в которой значительную
часть населения и сейчас еще составляют узбеки. Эти преобразования, не только усилили
давние таджикско-узбекские противоречия, но и заложили одну из линий регионального
противостояния (между проузбекским севером и проафганским югом), драматически
проявившегося в ходе гражданской войны в Таджикистане 1992-1993гг.
Насильственной была сталинская политика депортации в 1937-1944 гг. многих
народов со своих исконных территорий в восточные районы СССР. Больше всего народов
было депортировано с территории Кавказа, а основным местом их ссылки стала
Центральная Азия, и в обоих регионах депортация заложила очаги конфликтов.
То,
что
насильственная
политика
государства
постоянно
провоцировала
представителей национальных окраин на ответные действия, не вызывает сомнений и
хорошо вписывается в концепцию национально-освободительной борьбы. Однако
названная теория не объясняет, почему эта борьба начала разгораться не в период, когда
советская империя в наибольшей мере проявляла свой репрессивный характер, а как раз
тогда, когда она стала либерализироваться, развивать федеративные отношения и
расширять полномочия национальных автономий. Трудно понять, оперируя этой теорией,
почему примерно равный и тягостный исторический опыт подвигает одни народы
(например, чеченцев) на восстания, а другие (скажем, ингушей, этноса родственного
чеченцам и разделившего с ним тяготы депортации) настраивает на
относительно
спокойную адаптацию к изменяющимся условиям. Совершенно необъясним теорией
национально-освободительной борьбы феномен Казахстана. Российская колонизация этого
края с XIX в. дала множество поводов для потенциальных конфликтов. Она привела: к
превращению казахов в относительное меньшинство в составе населения на своей
исторической территории; к концентрации здесь в 1941-1956 гг. депортированных народов,
многие представители которых рассматривали республику как место ссылки; к
соприкосновению на этой территории самых больших на всем постсоветском пространстве
совокупностей этнических общностей, принадлежащих к исламо-азиатской и к еврохристианской цивилизационным группам; к насильственному отторжению от Казахстана
территории с преобладанием казахского населения и приращению районов в основном
населенных русскими. Несмотря на все это, здесь ни разу не возникали такие этнические и
территориальные конфликты, которые хоть в малой мере были бы сопоставимы по своей
ожесточенности и длительности с таджикским или кавказскими.
75
Некоторое объяснение этому феномену можно найти с помощью еще одной
концепции, которая часто используется при интерпретации причин возникновения
этнических конфликтов на территории бывшего СССР. Условно ее обозначают как
“концепцию идеологического обруча”, а суть сводят к тому, что социалистическое
тоталитарное государство сдерживает (сжимает как обруч) развитие национальных
движений. Однако как только под напором внутренних и внешних обстоятельств
репрессивная мощь и идеологические оковы тоталитарного государства слабеют, из
разомкнутого обруча вырывается накопленный годами национализм.156 Процесс этот
происходил неравномерно в разных регионах и республиках бывшего Советского Союза.
Так, в Центральной Азии, и после распада СССР, ведущую роль в политической жизни
республик сохранила коммунистическая партия (исключения и, то на очень короткий
период, составили лишь Таджикистан и Киргизия). Эта партия претерпела
лишь
незначительные внешние изменения, например, была переименована (в Казахстане - в
социалистическую, в Узбекистане - в народно-демократическую, в Туркмении демократическую), а ее лидеры Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов и Сапормурад
Ниязов сохранили за собой функции руководителей соответствующих республик, ставших
независимыми государствами. Сходство в их политике состояло в том, что они опираясь на
умеренный,
лояльный
правящему
режиму
национализм,
решительно
деятельность радикальных националистических и исламских организаций.157
пресекали
Иначе
развивались события в Закавказье и в Чечне. Здесь в 1990-1991 гг. к власти пришли лидеры
национальных движений в своих республиках: Звиад Гамсахурдия в Грузии, Абульфаз
Эльчебей в Азербайджане, Джохар Дудаев в Чечне. Нечто похожее произошло и в
Таджикистане. Так, Каддридина Аслонова, пришедшим к власти в этой республике сразу
после провала августовского 1991 путча в Москве, роднит с перечисленными лидерами
кавказских республик не только то, что он также в числе первых законодательных актов
подписал запрет деятельности коммунистической партии158, но и сомнительная слава
человека, приход которого к власти вызвал, пусть косвенно, бурный всплеск радикального
национализма. К. Аслонов, будучи первым представителем южных кланов таджиков,
возглавившим Таджикистан, способствовал развитию особой формы национализма кланового. Между тем национализм во всех его формах как раз и явился в эти годы
См. А.Г. Здравомыслов. Указ соч.,с.5.
См. подробнее. Э. Паин. Центральная Азия: модели национальной политики новых независимых
государств. // Российский монитор. - 1995.№5, с.20-33.
158
Примечание: Все названные политики правили в своих республиках недолго, были насильственно
отстранены от власти и на их место вернулись бывшие руководители местных коммунистических партий:
Эдуард Шеварднадзе в Грузии, Гейдар Алиев - в Азербайджане, Доку Завгаев - в Чечне, Рахмон Набиев - в
Таджикистане.
156
157
76
основным фактором возникновения вооруженных этнических конфликтов и перерастания
их в полномасштабные войны.
Существуют
убедительные
доказательства
того,
что
эскалация
этнических
конфликтов больше зависит не от тяжести исторических невзгод и обид пережитых тем или
иным народом, а от способности узкой группы людей, действующей от имени нации
(зачастую самозванно), манипулировать массовым сознанием, актуализируя реальные и
мнимые обиды народов, превращая их в политические лозунги, мобилизующие
соплеменников с целью захвата власти или ее удержания. А. Попов, описывая механизмы
манипуляции массовым сознанием при подготовке к конфликту, выделил три стадии в
процессе этнической мобилизации. 159
Первая стадия «эмоциональной актуализации», при которой все прошлые и
настоящие, действительные и мнимые обиды должны быть выведены на поверхность
общественного сознания и поданы в болезненно-заостренной форме как свидетельства и
символы национального унижения и оскорбления, затрагивающие честь и личное
достоинство каждого представителя данного этноса (если, конечно, он хочет сохранить за
собой право считаться “истинным сыном своего народа”, “своего отечества”).
Вторая стадия «операциональной ориентации», когда конфронтационные импульсы
претворяются в мобилизующую соплеменников (“соотечественников”) программу
привлекательных политических целей и практических шагов.
Наконец, третья стадия «моральной легитимизации» завершает процесс этнического
манипулирования. На ней намеченные к реализации цели и конкретные программные
установки, практические шаги должны быть морально санкционированы господствующим
в данной этнической среде общественным мнением. После этого любые акции данного
национального движения, даже если они сопряжены с неминуемыми беспорядками и
кровопролитием, заведомо будут восприниматься как нравственно оправданные,
отвечающие высшим национальным интересам.
Так называемые «инструменталистские концепции этнических конфликтов»,
описывающие механизмы манипуляции массовым сознанием и роль манипуляторов, так
называемых «этнических и религиозных предпринимателей», приоткрывают завесу тайны
о причинах возникновения конфликтов, но и они не объясняют их полностью. В частности
если «этнические антрепренеры» или экстремистские политические организации столь
влиятельны, то почему в одних районах они появляются и укореняются, а в других нет?
Почему, формируясь во многих районах, они добиваются своих целей лишь в некоторых?
Попов А. Причины возникновения и динамика развития конфликтов.// Идентичность и конфликт в
постсоветских государствах. Московский Центр Карнеги. 1997, с. 273-297.
159
77
В числе факторов развития этнических и территориальных конфликтов на юге
постсоветского пространства не последнее место занимают и экономические, особенно в
1990-е годы, когда многие государства Закавказья и Центральной Азии становятся местом
добычи транспортировки нефти и газа, следовательно, и жесткой конкуренции различных
экономических и политических сил. В то же время не стоит и преувеличивать роль сугубо
экономических интересов, в том числе
и
нефтяных, в развитии
конфликтов
рассматриваемого типа. Так, во времена зарождения карабахского, абхазского и югоосетинского конфликтов, какая-либо связь между ними и нефтяными интересами какихлибо групп совершенно не просматривалась. Чечня, бесспорно, представляет интерес и как
место добычи нефти и, особенно как район ее транзита. Но интерес так называемого
нефтяного лобби России, состоял в том, чтобы не допустить войны в Чечне,
замораживающей нефтедобычу, ее переработку и транспортировку, а главное чрезвычайно
выгодные спекулятивные операции с нефтью на территории Чечни. Однако война все равно
началась, и все ее участники несли огромные убытки. Кроме того, возможности нефтяного
или какого-либо иного экономического лобби диктовать свои решения высшему
руководству страны, скажем России, сильно ограничены другими влиятельными группами,
преследующими свои собственные интересы. Более того, даже внутри одной отрасли
нефтяной и газовой промышленности различные группировки не могут договориться об
единой политике160
О том, что влияние экономических интересов не является решающим в развитии
этнических конфликтов, свидетельствует и то, что лидеры национальных движений, роль
которых в возникновении и эскалации конфликтов чрезвычайно велика, насколько мне
известно, ничего от этого не выиграли экономически, поскольку больше всего были
заинтересованы в удовлетворении своих политических амбиций. Другое дело, что вокруг
всех сторон конфликта всегда вращаются представители нелегального и откровенно
криминального бизнеса, и они то действительно наживаются на конфликтах. Вместе с тем,
было бы большим преувеличением считать криминальный бизнес главным виновником
развития конфликтов на юге СНГ. На роль “главного виновника” в развязывании подобных
конфликтов не могут претендовать, как уже отмечалось, и силы, заинтересованные в
продвижении нефтяных интересов. Вместе с тем, не вызывает сомнений факт
использования уже развившихся конфликтов и их последствий в нефтяной политике
многих государств (в том числе и России), например, в Прикаспийском регионе161.
Паппэ Яков Нефтяная и газовая дипломатия России. // Pro et contra. №2, том 3, 1997, с.3.
См., например, Юрий Федоров. Каспийская политика России: к консенсусу элит.// Pro et contra. №2, том 3,
лето 1997, с.77-78.
160
161
78
Примерно также я бы оценил и влияние внешнеполитического фактора на развитие
конфликтов. Мне неизвестны сколько-нибудь убедительные аргументы в пользу того, что
некое иностранное государство стало виновником зарождения этнического или
территориального конфликта на Кавказе или в Центральной Азии, в то время как, исходя
из внутренних обстоятельств причины конфликтов обычно бывают хорошо объяснимы.
Вместе с тем, очевидно, что государства, претендующие на лидирующую роль в
рассматриваемых регионах - Россия, Турция, Иран, а в последние годы и США - учитывают
(зачастую используют) в своей политике фактор конфликтности на территории государств
Кавказа и Центральной Азии для усиления своего влияния в регионе.
Наибольшие расхождения во мнениях аналитиков вызывает вопрос о роли России в
возникновении, эскалации и урегулировании подобных конфликтов.
Эти споры вызваны, прежде всего, бросающейся в глаза противоречивостью ее
геополитических интересов. Так, не вызывает сомнений заинтересованность России в
стабилизации и смягчении политического климата на территории прилегающих к ней стран
юга СНГ, хотя бы потому, что ее северокавказские республики, являющиеся самыми
нестабильными в Федерации, подвержены тем же политическим болезням, что и
закавказские государства, а над поволжскими республиками постоянно витает угроза
заражения нестабильностью, исходящей из горячих точек Средней Азии. Вместе с тем, и
провоцирование конфликтов, внутренних междоусобиц в духе политики “разделяй и
властвуй” не раз использовалось Россией для укрепления своего влияния за полтора века ее
присутствия в обоих регионах.
Хочу прояснить некоторые аспекты своей позиции по данному вопросу. Прежде
всего, я рассматриваю как предельно упрощенные и неадекватные реальности суждения тех
авторов, которые пытаются объяснить природу обострения территориальных споров в
постсоветском пространстве исключительно “имперскими происками Кремля”. Ничто, на
мой взгляд, так не удалено от истины так, как предположение, что внешняя политика
постсоветской России планировалась и осуществляется в духе сакраментальной “теории
заговоров”.162 Непродуктивно описывать эту политику и в терминах “теории хаоса”, то есть
как совокупности абсолютно спонтанных действий, необусловленных государственными
интересами. При оценке политики России в конфликтных зонах автор исходит из теории
“переходного” характера такой политики, отражающей незавершенность процесса
национально-государственной консолидации России, начального этапа становления новых
См. подробнее по этому вопросу, - Паин, Э. Попов. А. Принятие политических решений в вопросах
использования силы в США и России. Силовая политика России. В кн.: Как делается политика в США и
России М,.1996
162
79
экономических
отношений
и
системы
демократического
функционирования
посткоммунистических институтов государства и общества. Также находится в стадии
становления и процесс геополитической самоидентификации России.
Осознание и формулирование российских интересов в сфере
безопасности,
геополитической
стратегии
и
развития
внутренних
международной
федеративных
отношений происходит в борьбе различных политических сил. Поэтому политика России
характеризуется причудливыми сочетаниями и чередованиями противоречивых тенденций,
как по отношению к новым независимым государствам, так и к регионам самой Российской
Федерации.
Обзор основных концепций развития конфликтов должен был, на наш взгляд,
показать, прежде всего, ограниченность возможностей всех известных концепций в
объяснении причин, обусловивших взрыв конфликтов в рассматриваемых регионах в 1990х гг.
Вместе с тем, если рассматривать эти концепции по принципу их взаимной
дополнительности, то в совокупности они дают некоторое представление об общей картине
эскалации конфликтов в постсоветском пространстве и о сложности причин, обусловивших
изучаемый феномен.
Новые
тенденции
в
теории
модернизации.
Классический
модернизм
представленный такими известными теоретиками как Л. Пай, С. Хантингтон, У. Ростоу и
другие, по сути, вырос из традиционного эволюционизма спенсеровского или
тейлоровского
толка
и
сохранил
унаследованные
от
«прародителей»
черты
механистичности и прямолинейности своих построений.
Все
прогрессивные
изменения,
такие
как
структурная
и
функциональная
дифференциация общества, эмансипация и секуляризация общественных отношений и
другие рассматривались как неизбежный «естественный» процесс, который может быть
замедлен или даже временно приостановлен, но, в конце концов, продолжится вновь. Если
принять данную точку зрения, то главной задачей становится выявление факторов,
тормозящих дифференциацию слаборазвитых обществ. Собственно, задача политиков и
заключается в устранении подобных препятствий. Считалось, что модернизация подобна
поезду, который непременно будет подан и существует лишь та опасность, что на него
можно не успеть. Политической элите остается лишь устранить барьеры на пути прогресса
и подгонять традиционные, отсталые структуры, институты, которые тормозят движение
общества на пути к неизбежному прогрессу, предопределенному некими внешними силами.
Предполагалось, что технология имеет собственную, имманентную логику развития,
которая приводится в действие последовательностью открытий и инноваций. Новейшие
технологии рано или поздно влекут за собой появление синдрома современности, что
80
выражается во все большем сходстве и даже единообразии
различных культур. Как
отмечает Джон Голдторп, «диапазон жизнеспособных институциональных структур и
столь же жизнеспособных систем ценностей и верований неизбежно сокращается». 163
Для классического модернизма характерны гипотезы в духе социал-дарвинизма, а
именно идеи социального отбора и выживания наиболее приспособленных.
Важной, и непосредственно затрагивающей этническую сферу чертой классического
модернизма, унаследованной от эволюционизма, является представление о культурных
традициях, как о преимущественно негативном факторе, тормозящем историческое
развитие. Традиции в этой парадигме, по-прежнему считали «пережитками прошлого».
Классический модернизм преувеличивал универсализирующее влияния модернизации,
которая, казалось бы, неизбежно должна была привести к стиранию региональных и
этнических различий. В этом отношении любопытна позиция С. Хантингтона, который
сегодня столь же жестко абсолютизирует культурные цивилизационные различия, как еще
недавно абсолютизировал стандартизирующее влияние модернизации, которая по его
словам конца 1970-х, неизбежно «порождает тенденцию к сходству обществ»164
Концепция модернизации подвергалась серьезной критике, которая все нарастала на
протяжении 1970-х - 1980-х годов. Классической версии модернизма ставилось в вину
эмпирическое несоответствие ее постулатов с реальностью наблюдаемой в странах
«третьего мира», особенно африканских, попытки модернизации которых, зачастую, не
приводили к ожидаемым результатам. Критики указывали на ошибочность прямого
противопоставления традиции и современности и приводили примеры преимуществ
традиционализма в некоторых областях. Дж. Гусфельд отмечал ошибочность огульного
неприятия радикальными модернистами традиций еще в середине 1960-х годов. При этом
американский социолог показывал, что «традиционные символы и формы лидерства могут
оказаться жизненно важной частью ценностной системы, на которой основывается
модернизация».165
Была поставлена под сомнение и строгая последовательность стадий модернизации, а
также односторонняя ориентированная на Запад концепция целей модернизации,
поскольку многие новые современные государства успешно развиваются не по пути
европейских национальных государств.
Цит. по.: Штомка П. Социология социальных изменений// Пер. с английского. Под ред. В.А.Ядова –
Москва.: Аспект Пресс, 1996. С. 172-173.
164
Hantington, S.P. Political Order in Chenging Societies. New Haven: Yall University Press, 1968.P.31.
165
Gusfield, Joseph R. 'Tradition and modernity: misplaced polarities in the study of social change', American
Journal of Sociology, 1966(January).#72P. 352
163
81
В начале 1980-х гг. многим казалось, что модернизм будет похоронен и его вытеснит
постмодернизм, по сути, отказавшийся от самого принципа прогрессивного развития,
однако уже в середине 1980-х годов характер научных дискуссий круто изменился началось возрождение модернизма. Это было связано, прежде всего, с переменами мировой
геополитической обстановки, вызванной появлением посткоммунистических обществ и их
стремлением «войти», или «вернуться», в Европу (т.е. в современный западный мир).166 И
дело не только в том, что вновь возник политический спрос на идеи модернизации, свою
роль в
обновлении его идей сыграла теоретическая критика, а, главное, появилась
эмпирическая база для выводов о специфических и универсальных закономерностях
модернизации. Открылся континуум обществ (с давними историческими традициями
модернизации, обществ, переживших
социалистическую модернизацию, а также не
модернизированных, архаичных обществ), на основе его сравнительного анализа стал
формироваться «неомодернизм», к сторонникам которого себя относит и автор.
Сам термин «неомодернизм» впервые встречается в трудах Э.Терикяна,
однако
сегодня к числу последователей этого течения включают и таких известных исследователей
проблем модернизма как Р.Дарндорф, П.Штомка. Ш.Эйзенштад и др.167
«Неомодернизм» освободился от многих недостатков классического эволюционизма.
Социологи выделяют семь основных постулатов неомодернизма.168
1.В качестве движущей силы модернизации уже не рассматривается политическая
элита, действующая «сверху». В центр внимания ставится мобилизация масс, т.е.
деятельность «снизу», которая часто противостоит инертному и консервативному
правительству. Главными агентами модернизации ныне признаются спонтанные
общественные движения и харизматические лидеры. Модернизация больше не трактуется
как решение, принятое образованной элитой и навязанное сопротивляющемуся населению,
которое цепляется за традиционные ценности и уклад жизни (так было в большинстве стран
«третьего мира»). Речь идет теперь о массовом стремлении граждан изменить условия
существования в соответствии с западными стандартами под влиянием средств массовой
коммуникации или личных контактов.
2.На смену акцентирования эндогенных, имманентных факторов модернизации
приходит сознание роли экзогенных факторов, включая мировую геополитическую
Штомка Петр. Социология социальных изменений// Пер. с англ. Под ред. В.А.Ядова – Москва.: Аспект
Пресс, 1996.С.179.
167
Tiryakian, Edward А.. 'On the significance of de-differentiation', in: Shmuel N. Eisenstadt and Н. J. Heckle (eds),
Macro-sociological Theory, Beverly Hills: Sage 1985; Dahrendorf, Ralf 1990. Reflections on the Revolution и
Europe. London: Chatto & Windus ; Sztompka, Piotr. 'Agency and progress; the idea of progress and changing
theories of change', in: J. Alexander and P. Sztompka (eds), Rethinking Progress, 1990, London: Unwin Hyman
168
Штомка Петр Указ Соч. С. 181-182
166
82
расстановку сил, внешнюю экономическую и финансовую поддержку, открытость
международных рынков и, последнее по месту, но не по важности – доступность
убедительных идеологических средств: политических, социальных доктрин и теорий,
обосновывающих и поддерживающих современные ценности (например, индивидуализм,
дисциплину, трудовую этику, способность полагаться на себя, ответственность, разум,
науку, прогресс, свободу).
3.Вместо единой, универсальной модели современности, которую в качестве
образца должны были бы брать на вооружение отсталые общества (в классической теории
это чаще всего модель США), вводится идея «движущихся эпицентров современности».
В такой редакции модернизм избавился и от привкуса сугубо западнической модели, хотя
и не отрицает значения «демонстрационного эффекта» как важнейшего стимула к
обновлению, но вместо единого образца для подражания выдвигает принцип «движущихся
эпицентров современности». Например, для Украины образцом в каких-то одних сферах
модернизации может быть не Америка, а, скажем, Польша или Венгрия, а в других - Россия
или Япония.
4.Унифицированный процесс модернизации заменяется ее более разнообразным,
многоликим процессом. Все яснее осознается, что темпы, ритм и последствия
модернизации в различных областях социальной жизни различны и что в действительности
наблюдается отсутствие синхронности в усилиях по модернизации. Ральф Дарендорф
предостерегает
против
«дилеммы
трех
часов»,
обращенных
циферблатом
к
посткоммунистическим странам. Если для осуществления конституционной реформы
может быть достаточно шести месяцев, то в экономической сфере может не хватить и шести
лет. На уровне глубинных пластов жизни, отношений и ценностей, составляющих
современное «гражданское общество», обновление затронет несколько поколений.169
5.Если раньше эффективность модернизации выводилась почти исключительно
из экономического роста, то теперь признается важная роль ценностей, культурных
отношений и символических смыслов. Классическое понятие «современная личность»
не рассматривается более как символ желаемого эффекта процесса модернизации, а
признается, скорее, непременным условием экономического старта.
6.Антитрадиционалистские рефлексии ранних теорий корректируются теперь
указанием на то, что местные традиции могут таить в себе важные модернизационные
потенции. Поскольку отказ от традиций может спровоцировать мощное сопротивление,
169
Dahrendorf, Ralf 1990. Reflections on the Revolution и Europe. London: Chatto & Windus
83
постольку предлагается использовать их. Необходимо выявлять «традиции модернизации»
и брать их на вооружение для дальнейших преобразований.
7.В неомодернистической трактовке
картина модернизации становится менее
оптимистичной, однако такой подход позволяет избегать наивного волюнтаризма
некоторых
ранних
теорий.
Опыт
посткоммунистических
обществ
однозначно
свидетельствует о том, что не все возможно и достижимо и не все зависит от простой
политической воли. В связи с этим гораздо больше внимания обращается на преграды,
барьеры, «трения» а также на неизбежные отступления, попятные ходы и даже
провалы на пути модернизации.
Диссертант полагает, что рассмотрение
этнополитических задач в контексте
модернизации может стать методологическим ключом
к решению ряда проблем
этнической политики, рассматриваемых в работе. «Неомодернизм» в данной диссертации
берется в основу полипарадигмального подхода в рамках методологии системных
исследований.170
Неомодернизм, не отказываясь от идеи развития, обновления (модернизации)
общества, однако признает возможность различных траекторий движения в зависимости
от достигнутого уровня модернизации регионов, что чрезвычайно важно именно для
российских
условий,
характеризующейся
чрезвычайно
пестрым
разнообразием
региональных и этнокультурных условий.
Существенную методологическую роль в диссертации отводится неомодернистской
идее о «позитивном потенциале традиций», что прямо применимо и к этнокультурным
традициям.
Сама модернизация рассматривается как исторически ограниченный процесс,
узаконивающий универсальную целесообразность лишь ограниченного набора институтов
и ценностей современности. В числе таких ценностей современности является и
возрастание этнополитической интеграции общества, развитие и укрепление политической,
гражданской нации. По отношению к целевой модели гражданской интеграции, этническая
интолерантность
выступает как фактор «трения» или в крайних своих проявлениях
(экстремизма, вооруженных конфликтов) как угроза срыва гражданской консолидации
общества в определенный исторический период и, наконец, как угроза существованию
общества в границах некого государства, т. е. как угроза целостности страны. Угрозы могут
возрастать или убывать в зависимости от принимаемых политиками стратегий движения к
принятой цели и еще в большей мере при смене целевых ориентиров. Динамика «угроз»
См. Ладенко И.О. Методологические проблемы разработки и применения программно-целевого подхода.
М., 1985.
170
84
предполагает необходимость для властей и общества постоянной сверки политического
курса, его корректировки, включая даже и переосмысление некоторых целевых ориентиров.
В этом отношении, происходящая ныне в России ревизия ценностей и корректировка курса
первого постсоветского периода «эпохи Ельцина», в рамках данной концепции может
рассматриваться как теоретически закономерный, хотя и не во всем позитивный процесс.
Весь комплекс постулатов этой концепции, позволяет использовать ее
как
методологическую основу имитационного моделирования этнополитических процессов. В
диссертации для сравнения и оценки альтернативных вариантов этнополитического
развития используются два потенциально возможных проекта, названные, с известной
долей условности, «традиционалистским» и «модернистским». Автор отталкивается от
известной дискуссии между западниками и националистами171 и пытается представить
себе, как она могла бы развиваться, если бы ее участники сосредоточилась на обсуждении
этнополитических проблем. В такой воображаемой дискуссии базовым принципам
традиционалистского,
«неоимперского» проекта,
основанного на
механизмах
административного принуждения, иерархичности и унитаризма, противопоставлены
модернистские идеи – политической (гражданской) нации, мультикультурализма и
федерализма. Автор делает попытку определить,
каким может ответ различных
этнополитических сил на традиционалистский
имперский проект и насколько
модернистский проект соответствует интересам различных этнических групп России.
Хорошо согласуются с идей модернизма частные концепции, такие как:
«синтетическая» концепция этничности, базирующаяся на идеях конструктивизма, но
включающая и элементы примордиализма (В. Соллорс, Дж. Гаас и В. Шафир);
этнополитическая теория нации Э.Смита и коммуникативная теория этнополитической
интеграции К. Дейча. Все эти теории и составляют корпус полипарадигмального подхода,
примененного в диссертации.
Глава 2 СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ:
ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ДИНАМИКИ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
Последнее десятилетие ХХ века и начало XXI доказало несостоятельность как
советской
марксистской,
так
и
многих
западных
этнополитических
доктрин,
постулировавших стирание этнических различий и затухание этнического самосознания
Западники и националисты: возможен ли диалог? Материалы дискуссии фонда «Либеральная миссия». М.: ОГИ. 2003.
171
85
народов
под
воздействием
модернизационных
процессов
и,
прежде
всего,
индустриализации, урбанизации и глобализации. Напротив, этническое самосознание лишь
усилилось в результате сопротивления указанным унифицирующим тенденциям. В
Америке специалисты в области этнической политики отказались от концепции
этнического «плавильного котла» (“melting pot”) и пришли к выводу, что этнические
различия не переплавляются в культурно однородную массу, поэтому американская нация
это политически единое сообщество с культурно разнородными (с заметно своеобразными
компонентами). Такое сообщество иногда называют «этническим салатом» (“ethnic
salad’).172
В
постоветской
России
сопротивление
универсализации
было
еще
более
значительным, поскольку модернизация сопровождается процессами, порожденными
распадом СССР и становлением новых независимых государств. В таких условиях
неизбежно усиливается этническая консолидация, обостряется этническое самосознание.
Возрастает и разнообразие этнополитических процессов. В диссертации автор выделяет
четыре типа таких процессов: 1) процессы унификационные по своей социальной
направленности, которые однако не вызвали заметного сглаживания этнокультурных
различий; 2) процессы межэтнической кооперации; 3) процессы этнической дивергенции;
4) нелинейные процессы, характер которых может изменяться на разных временных этапах.
Параграф 1.Процессы социальной стандартизации
Новая Россия унаследовала от СССР высокую динамику процессов сближения
социальной структуры контактирующих народов. В 1960-е гг. лишь 4 из 15 народов
титульных национальностей союзных республик сравнялись с русскими по доле
специалистов с высшим образованием, в конце 70-х гг. – их было уже 9, а к концу 80-х –
все титульные национальности сравнялись с русскими по указанным показателям.
Аналогичные тенденции наблюдались и в России. Если к концу 80-х гг. 11 из 21 народа
титульных национальностей автономий РФ имели
равные с русскими показатели в
рассматриваемой сфере, то к концу 90-х все титульные национальности сравнялись с
русскими или даже стали опережать их173.
Вместе с тем, несмотря на сближение социального статуса народов, на протяжении
1990-х и в начале 2000-х годов сохранялись и существенные различия между ними.
См., например, Язькова А. А. Национально- этнические проблемы ( российский и мировой опыт их
регулирования).
173
Дробижева Л.М. Паин Э.А. Особенности этнополитических процессов и становления этнической политики
172
в Современной России // Политические и экономические преобразования в России и Украине.
Ред
В.Смирнов.Woodrow Wilson International Center for Scholars. Kennan Institute. Москва.: «Три квадрата». 2003.
86
Так высокая доля сельского населения у многих титульных народов затрудняла, а в
ряде республик и до сих пор затрудняет возможности социальной мобильности. Сельские
жители республик, как правило, слабо владеют русским языком, на котором до недавнего
времени была построена вся система образования в городах. Только со второй половины
90-х гг. в Татарстане, Башкортостане, в Саха (Якутии) и в ряде других республик появилась
возможность сдавать экзамены на родном языке, и то лишь в некоторые вузы.
Разные соотношения долей интеллигенции и работников квалифицированного и
неквалифицированного труда создавали неравные шансы народов для вхождения их в
рыночную экономику, участия в приватизации и формировании новых социальных групп.
Так, для включения в трансформационные процессы существенное значение имеет
специфика отраслевой занятости национальностей. На старте экономических реформ 1990х годов наиболее крупные индустриальные кадры имели татары, удмурты, башкиры,
карелы, хакасы, чуваши. В городах соответствующих автономий их доля достигала 55-60%
занятого населения этих национальностей. Наименьшая же занятость в промышленности
характерна для алтайцев, калмыков, якутов, национальностей Дагестана, что отражалось на
вхождении в рыночные отношения.
России в наследство от СССР досталось два типа социального взаимодействия
русского и нерусского населения. Первый - можно условно назвать сегрегационным;
второй
-
конкурирующим.
В
первом
случае
четко
выражена
разделенность
национальностей, как, например, в республике Саха (Якутии). Здесь этнические саха
(якуты) в наибольшей мере представлены в сфере управления, здравоохранения,
просвещения, науки, культуры и искусства. Русские же заняты преимущественно в сфере
индустрии, добывающей промышленности, имеют значительно большую долю рабочих и
меньшую – управленцев. Аналогичная ситуация сложилась в Туве, Дагестане, в КарачаевоЧеркесской и в ряде других республик.
Другой тип социального взаимодействия – конкурирующий – характерен для более
или менее сходных структур занятий у титульных народов республик и русских, когда они
в одинаковой мере претендуют на одни и те же рабочие места. Это в наибольшей степени
проявилось в Татарстане. Здесь в большинстве отраслей, за исключением сельского
хозяйства, где преобладают специалисты-татары, примерно поровну представлены обе
основные национальности. В 1989 г. среди специалистов и руководителей производства
татар было 45, русских – 50%; работников партийно-государственного управления – 47,6 и
47%; учителей и врачей – 43 и 49%; художественно-творческой интеллигенции – 44 и 47%,
соответственно. Русские преобладали (53% против 38%) только среди работников
87
хозяйственного управления, но по последним выборочным исследованиям и здесь татары
представлены практически вровень с русскими174.
О перспективах обеих моделей спорят ученые и в России, и в мире. При
сегрегационной модели, с одной стороны, этнические группы занимают «свои ниши»,
взаимно дополняют друг друга и заинтересованы во взаимодействии, а с другой – различия
в отраслевой занятости связаны с неравенством в оплате труда, условий трудовой
деятельности, получении материальных благ и социального престижа, доступе к власти.
Поэтому не исключено, что конкурирующая модель оказывается нередко более
перспективной и позитивной. Во всяком случае, при этом в социальной сфере люди разных
национальностей переживают общие трудности и радости, могут лучше понять другого. Не
потому ли татарстанская модель выдержала испытание экономическим кризисом 1998 г. и
ни разу не сопровождалась групповыми столкновениями или другими проявлениями
насилия?
Ко времени, которым мы датируем начало «эпохи стабилизации» (1999 г.) - русские
в республиках оценивали свое материальное положение хуже, чем представители
титульных национальностей. Они чаще давали такую оценку своему положению, как
«денег хватает только на еду» и это несмотря на то, что за 10 лет русские не понизили своего
реального социально-профессионального статуса ни в русских областях, ни в автономиях.
175
В частности, исследования в Саха (Якутии), Татарстане, Башкортостане и в
Оренбургской области показали, что среди русских доля перешедших из руководителей и
специалистов высшего звена в низшие страты составила в республиках 20–23%, а в области
– 25%. В Татарстане у татар эта доля была даже выше, чем у русских – 28%., следовательно,
ни у русских, ни у татар нет реальных оснований связывать понижение своего социального
статуса с этническим ущемлением. Тем не менее, в обследованных регионах русские чаще,
чем представители других национальностей, отмечали, что они испытывали ущемление
по национальному признаку в трудовой сфере, хотя и среди них доля подобных оценок была
не высока и колебалась по регионам в пределах 8–15% от опрошенных русских.
В целом уровень психологического самочувствия и удовлетворенности своим
статусом у большинства народов России был выше, чем у русских. Объясняется это
174
Данные за 1989 г. приводятся по расчетам Л. Остапенко; за 1999 г. – по результатам исследования в рамках
проекта «Социально-экономическое неравенство этнических групп и проблемы интеграции в России». См.
«Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность// Автор проекта и отв. ред. Л. М.
Дробижева.- М.: «Academia» 2002.
175
.«Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность» М., 2002. .
88
многими причинами, в частности тем, что у башкир, татар, якутов доля повысивших статус
по сравнению со своими отцами (межпоколенная мобильность) больше, чем у русских.
В 1960-е годы среди башкир и якутов более 40% трудящихся составляли работники
мало- и неквалифицированного труда, татар – более 30%, а русских – около 20%176. К концу
же 90-х по доле работников физического труда низшей и средней квалификации этнические
различия практически исчезли. Естественно, что у титульных национальностей республик
это вызывает чувство удовлетворения, гордости, тогда как русские далеко не всегда и не
везде готовы воспринимать их равными партнерами.
Довольно четко прослеживаются три типа динамики социального взаимодействия
русского и нерусского населения республик. Первый – догоняющий тип, когда отстававшие
в прошлом народы постепенно выравниваются с русскими (например, башкиры, калмыки,
кабардинцы, некоторые другие народы). Второй – равно статусный тип, когда уже в 70-е и
80-е гг. в основном сложился сходный социальный состав с русскими в республиках
(Татарстан, Северная Осетия – Алания). Третий – обгоняющий тип – в прошлом
отстававшие народы обогнали русских по доле лиц с высоким социальным статусом. (СахаЯкутия, Бурятия).
Конечно, сами по себе эти типы еще не означают оптимального развития народов. Тем
не менее, на статусной самооценке этнической группы и социальном самочувствии эти
процессы, конечно, сказываются. Например, среди опрошенных горожан вдвое больше
якутов, чем русских, ответили, что за последние пять лет у них улучшилось положение на
работе, башкир – на одну треть больше, чем русских.
В Татарстане же, в условиях равностатусного взаимодействия татар и русских,
практически одинаковыми были и пропорции респондентов, ответивших, что у них
улучшилось положение на работе (29 и 28%, соответственно) и повысился социальный
статус (22 и 21%). Хотя здесь, как и в других республиках России, равенство статусов
русских и представителей титульных национальностей не проявляется на уровне
политических элит.
Наибольшие социальные различия проявляются в регионах России на «верхних»
этажах социальной лестницы, определяющих возможности доступа представителей разных
национальностей к собственности и власти, т.е. на уровне социальных и политических элит.
Проблема элитных групп стала обсуждаться практически одновременно с развитием
национальных движений в союзных республиках СССР. Уже в конце 80-х – начале 90-х гг.
Расчеты Л. Остапенко по материалам Всесоюзных переписей населения 1959, 1979, 1989 гг. РГАЭ, фонд
1562, опись 336, ед. хр. 5512-5514, 4845-4847, 7505-7508, 7331-7336. «Социальное неравенство этнических
групп: представления и реальность» М., 2002. .
176
89
было ясно, что от того, кто лидирует в республиках, зависит политическая и социальноэкономическая направленность трансформации общества. Однако теперь, по истечении
более, чем десятилетия, можно сказать, что некоторые сложившиеся тогда и бытующие по
сей день представления о роли элит оказались сильно упрощенными.
Скажем, несмотря на предубеждения в отношении бывших коммунистических
функционеров, оказалось, что в ряде стран СНГ они проявили большую приспособленность
и к развитию национальной экономики, и к относительной толерантности в отношении к
этническим
меньшинствам,
чем
их
предшественники
–
лидеры
радикальной
антикоммунистической направленности. Во всяком случае, это было заметно по сравнению
с эпохой правления таких лидеров как З. Гамсахурдия в Грузии и А. Эльчибей в
Азербайджане.
Неоднозначно может быть оценена политическая роль национальной элиты и в
России. Лидеры Татарстана, хотя и именовались в московской демократической прессе
«партократами» и «красными баронами», однако первыми в регионах допустили частную
собственность на землю и в целом активно стимулируют частное предпринимательство.
Некоторые бывшие коммунистические руководители, например М. Шаймиев и Ф.
Мухаметшин,
сумели
привлечь
к
сотрудничеству
наиболее
способных
людей
(экономистов, политологов, социологов) из антикоммунистической оппозиции и
эффективно включить их во властные структуры.
Неоднозначно влияет на транзитарные условия регионов и такой фактор, как внешняя
конфронтационность региональной элиты с федеральным центром. Например, в
республиках и областях, демонстрирующих полную лояльность Москве, на местных
выборах зачастую побеждали коммунисты, и реформы шли очень медленно (Северная
Осетия, Кабардино-Балкария, Алтай). В то же время в некоторых регионах, казалось бы,
конфликтующих с центром (Татарстан, Новгородская и Свердловская области), были
созданы более благоприятные условия для реформ, а роль коммунистов была наименьшей.
Наибольшее влияние на общеполитическую ситуацию в регионах, особенно на их
взаимоотношения с федеральным центром, оказала ориентация этнических элит на
конвенциональную или конфронтационную модели решения спорных вопросов. В СССР в
этом отношении выделялись балтийская модель, ориентированная на использование
политических и правовых механизмов для завоевания большей самостоятельности, и
кавказская, отражавшая насильственный путь достижения целей.
В России такие полюса занимают конвенциональная модель Татарстана и
конфронтационная – Чечни. В начале 90-х гг. обе республики находились примерно в
равной оппозиции центру, отказавшись от подписания Федеративного договора. Однако
90
впоследствии представители татарской элиты продемонстрировали способность мирного
урегулирования путем переговоров конституционного конфликта с центром. М. Шаймиев
неоднократно повторял, что для него «главное – не втянуть народ в войну»177. Иначе вели
себя и иные цели декларировали чеченские лидеры. Именно они своей неуступчивой,
негибкой политикой во многом способствовали началу войны как в 1994, так и в 1999 г.
Разумеется, нельзя только этим объяснить причины возникновения ни первой, ни второй
чеченских войн – значительная ответственность лежит и на политическом руководстве
России.
В целом неадекватная оценка роли этнических элит весьма характерна для
современного политического анализа. Чаще всего имеет место ее преувеличение, прежде
всего в рамках так называемого инструменталистского подхода, сводящего чуть ли не всю
совокупность
причин
возникновения
этнополитических
проблем
к
действиям
национальных элит, именуемых инструменталистами исключительно в негативных тонах
как «этнических антрепренеров». При этом совершенно не учитывается множество
объективных обстоятельств, определяющих степень их радикализма. Это и неодинаковая
актуальность этнической консолидации у этнических групп, и разный потенциал
протестного поведения в разных регионах и, конечно же, неодинаковые действия
центрального правительства в разных ситуациях, а также конкретные особенности
международных связей разных этнических общностей и многое другое.
В то же время нельзя недооценивать роль региональной, в том числе и этнической,
элиты в России. В предшествующие периоды власть играла слишком большую роль в
стране. Это было приемлемо для тоталитарного общества. Однако в условиях
демократического транзита неразвитых институтов демократии и гражданского общества,
неопределенности распределения компетенций центральной и региональных властей, от
таких элит стало зависеть намного больше, чем прежде, особенно когда они
сконцентрировали в своих руках власть в регионах.
В
ряде
республик
заметны
и
порождают
недовольство
диспропорции
в
представительстве различных национальностей в органах власти. В следующих разделах (в
главе 5) мы еще остановимся на проблеме недостаточного представительства титульных
национальностей в органах власти многих республик (это может показаться неожиданным,
но такие диспропорции носят все еще массовый характер). Пока же мы остановимся на
диспропорциях иного рода – чрезмерном представительстве титульных национальностей.
Например, башкиры (22% населения Республики Башкортостан) имеют в нижней палате
Дробижева Л. Говорит элита республик Российской Федерации. 110 интервью Леокадии Дробижевой. М.,
1996.
177
91
(палата представителей) Государственного собрания автономии 43,7% депутатских мест, а
в верхней (законодательная палата) – 55%. Таким образом, башкир-депутатов в два раза
больше, чем их доля в населении, а русских – почти в два раза меньше. В Татарии, при
соотношении русских и татар примерно 6 к 4, они представлены в парламенте в
противоположных пропорциях. В Государственном совете Татарстана татары после
выборов 1999 г. составляют 75% депутатского корпуса, а русские – менее четверти. В
Государственном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) после выборов 1997 г.
саха составляли 73,1% (при 39% всего населения). Подобные несоответствия были и в
большинстве других автономий России178.
Трудно объяснить столь заметные диспропорции в депутатском корпусе республик
какими-то случайными обстоятельствами или только личностными качествами конкретных
депутатов. О том, что это отражает определенную политику этнических элит,
свидетельствует и состав исполнительной власти. В том же Башкортостане все ключевые
посты вертикали власти – президент, глава его администрации, премьер-министр,
государственный секретарь – заняты башкирами. Они же преобладают в кабинете
министров (60%) и в составе глав администраций (55%)179. Аналогичная ситуация в Саха
(Якутии), где 70% министров – якуты.
В то же время федеральный центр, вместо того чтобы противостоять концентрации
власти в руках отдельных этнических групп, проводя демократические реформы
управления, напротив, еще более усиливает этнически сегрегационный принцип подбора
кадров. Назначая на руководящие должности преимущественно русских и представителей
других национальностей в тех сферах регионального управления, которые находятся в ее
исключительной
компетенции
(правоохранительные
органы,
федеральная
служба
безопасности, таможня и др.), Москва тем самым как бы задает норму поведения и для
республиканских лидеров.
С 2000 г. эта тенденция особенно усилилась, когда такими назначениями, часто из
числа военнослужащих и офицеров секретных служб, стали заполняться практически все
высшие посты федеральных чиновников в регионах, начиная с полномочных
представителей президента в федеральных административных округах.
Между тем, участие во власти воспринимается людьми как индикатор равенства или
неравенства
этнических
непосредственный
доступ
групп.
к
Особенно
использованию
важно
для
ресурсов,
населения,
бюджета,
кто
имеет
собственности,
Выборы в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации 1995–1997 гг. Электоральная статистика. М., 1998. С. 129.
179
Галлямов Р.Р. Постперестроечная эволюция политических элит российских республик: этнический
аспект // Этнопанорама. 2000. № 1. С. 20–27.
178
92
назначениям на руководящие должности, т.е. причастен к исполнительной власти. В
российских республиках, например в Карачаево-Черкессии, были прецеденты, когда
именно из-за назначений на ключевые посты разгорались острые межгрупповые этнические
конфликты. Постоянно делятся посты ключевых фигур во власти с учетом национальной
принадлежности в Дагестане (как элемент консоциональной демократии).
Когда же реальная власть в полиэтнических регионах сосредоточивается в руках лиц
одной национальности, то все промахи, недостатки приписываются уже не просто какомуто одному лицу, а этой национальности в целом. Вот почему доминирование русских в
органах федеральной власти все больше будет приводить к тому, что любые недовольства
властью будут ассоциироваться не только с Москвой, но и с русскими вообще. Точно так
же доминирование представителей титульных национальностей в республиках может
развить у проживающих там русских фобии к нерусским народам.
Параграф 2 Процессы межэтнической кооперации
Кооперация в различных сферах является неизбежным следствием взаимоотношений
контактирующих народов, однако влияние модернизации лучше всего проявляется в сфере
экономики. В этой связи весьма нетривиальные и важные результаты получены
исследовательским коллективом под руководством Л. М. Дробижевой. Эти исследования
показали, что далеко не всякие формы экономической деятельности стимулируют
межэтническую кооперацию. Так, люди, ориентированные на деятельность в сферах,
которые
можно отнести к так называемой «распределительной» экономике, весьма
заинтересованы в этнической маркированности и этнической сплоченности («работать со
своими»). Сами распределительные отношения являются питательной средой для
воспроизводства латентных этнических иерархий, как следствия этого, этнического
неравенства — воображаемого или реального. Совершенно иные отношения складываются
в рыночных сферах экономики. Условия взаимодействия в этой сфере либо полностью
нейтрализуют, либо значительно снижают потребность (или привычку) в этнической
маркированности трудовых отношений и таким образом служат реальной почвой для
межэтнической интеграции в полиэтнических средах.180 Весьма существенно и то, что
рыночные отношения стимулируют межэтническую кооперацию как в легальной, так и в
Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность// Автор проекта и отв. ред. Л. М.
Дробижева.- М.: «Academia» 2002. С. 177-178.
180
93
«теневой» экономике. Исследования автора показывают, что межэтническая кооперация
расширяется и углубляется даже в такой сфере как торговля наркотиками, условия
деятельности в которой, казалось бы, требуют конспирации и, следовательно, замкнутости
в пределах семейно-родственных, региональных и этнических групп.181
Динамика этнической преступности как индикатор социальных перемен. Еще
Эмиль Дюркгейм обратил внимание на то, что феномен преступности является одним из
лучших объектов для изучения общественных процессов, поскольку он «оказывается тесно
связанным с условиями всей коллективной жизни»182 С тех пор, почти все
макросоциологические теории так или иначе предпринимали попытки объяснить с единых
позиций феномен преступности как неизбежный продукт общественного развития.
Питирим Сорокин
рассматривал преступления как «акты, противоречащие
‘дозволенно-должному‘ шаблону поведения». 183
Т.Парсонс иначе трактует природу
преступности, определяя ее на основе теории социального равновесия, а именно, как
отклонение от модели равновесия, открытых социальных систем.184
Обобщая свой обзор теорий, затрагивающих проблему преступности, И. Герасимов
приходит к обоснованному выводу о том, что «вне зависимости от подхода
(конструктивистского,
функционального,
ярлыкового
[labeling]),
доминирующие
социологические системы описывают преступление негативно как девиацию от принятой в
обществе нормы или достигнутого состояния равновесия социальной системы». 185 В этой
связи я солидаризируюсь с мнением цитируемого автора и ряда других, которые
утверждают, что доминирующий в современной социологии и политологии релятивизм и
позитивизм в оценке феномена преступности имеет несомненные недостатки. Например,
при таком подходе действия, нарушающие нормы как диктаторских режимов, так и
демократических государств, выступают как равноценные. Чрезмерный релятивизм
современных теорий преступности сильно затрудняет возможности компаративных
исследований, как международных, так и межэтнических.186
Вместе с тем, феномен преступности остается прекрасным индикатором социальных
перемен, в том числе и тех, которые связаны с модернизационными процессами.
Паин. Э.А. Этнические особенности контрабанды наркотиков: мифы и реальность // Этнопанорама. 2003,
Emil Durkheim.The Rules of the Sociological Method//Georrge Simpson. Selections From His Work. New York.
1963.P.62
183
П.А. Сорокин. Человек Цивилизация. Общество. Москва, 1992.С. 76.
184
Talcott Parsons. The Social System. New York? Landon, 1964 . Pp. 249-257
185
И.Герасимов. «Мы убиваем только своих»: преступность как маркер межэтнических границ в Одессе
начала ХХ века( 1907-1917 гг.) //Ab Imperio.Теория и история национализма и империи в постсоветском
пространстве. - №1, 2003. С.217
186
И Герасимов, «Мы убиваем только своих»…С.218; См. также Michel Tonry. Ethnicity, Crime and
Immigration.// Comparative and Cross-Naional Perspectives. Chicago.1997.Pp.4-5.
181
182
94
Исследователи этого феномена выявили ряд универсальных проявлений модернизации в
исторической эволюции преступности и, прежде всего, в эпоху модерна.
Мишель Фуко
В частности
выводит в качестве одного из законов модернизации, неоднократно
подтверждаемого криминалистами, тенденцию «перехода от криминальности крови к
криминальности мошенничества».187
В сфере межэтнических отношений влияние модернизации на преступность
проявляется в неуклонном росте интернационализации криминального бизнеса, который в
этом отношении не отличается от легального. Мы попытаемся обосновать этот тезис на
примере
развития специализации и кооперации в сфере нелегальной контрабанды и
торговли наркотиками.
Один
из
существенных
недостатков
подавляющего
большинства
работ,
затрагивающих рассматриваемую нами тему, состоит в том, что их авторы говорят о
«таджикской», «цыганской», «азербайджанской» или другой этнической преступности в
целом, не определяя в ней специализации представителей разных этнических групп или
отдельных личностей. Между тем, такая специализация неизбежно все рельефнее
проступает на первый план, по мере прояснения организационных основ контрабанды
наркотиков на пути из Афганистана в регионы России, через Центральную Азию.
Схематично
можно говорить о трех основных моделях организации этого
незаконного бизнеса: 1) внесистемная, спонтанная контрабанда наркотиков одиночками и
разрозненными группами; 2) контрабанда и последующая реализация наркотиков,
осуществляемая
автономно
действующими
организованными
преступными
группировками; 3) выполнение полного цикла незаконного оборота наркотиков,
осуществляемого
многоуровневыми
иерархически
организованными
преступными
сообществами.188
Разумеется, названия этих моделей весьма условны. Первая из названных моделей
отнюдь не предполагает полной спонтанности. Вторая подчеркивает лишь относительную
автономность преступных группировок, которые почти всегда сотрудничают с другими
группами. И, наконец, третья модель подчеркивает лишь, что полный цикл оборота
наркотиков осуществляется разными группами, специализирующимися на некой частной
Речь идет об исторически изменяющемся соотношении видов преступлений, при котором доля
преступлений связанных с убийством человека , несмотря на периодические колебания показателей, в целом
уменьшается вследствии глобального роста ценности человеческой жизни, повышении значимости
отношений собственности, а также технологических перемен в сфере получения информации и в
правоохранительной деятельности. См . Michel Foucault . Discipline. And Punish. The Birth of the Prison.
Harmondsworth.1977. P. 77
188
Reuter, Greenfield and Pain. The Effects of Drug Trafficking on Central Asia.- RAND Corp., Santa Monica,
2004; Паин Э.А. Этнические особенности контрабанды наркотиков: мифы и реальность // Этнопанорама.
2003, № 1-2
187
95
операции, и каким-то образом связанными друг с другом в едином «технологическом
процессе». В то же время, было бы неверно представлять иерархически организованные
группы, как жестко связанные между собой и тем более, как централизованно управляемые.
Преступные сообщества с такой жесткой взаимосвязью с таким уровнем монополизации
бизнеса как у «Медельинского картеля», пока не сложились ни в России, ни в государствах
Центральной Азии, и тому есть не мало объективных причин. Тем не менее, можно
говорить о специфике разных моделей и мы проанализируем ее на примере криминальных
групп, действующих в различных регионах России.
Внесистемная контрабанда и ее этническая специфика, подразумевает транзит
небольших партий героина, измеряемых несколькими граммами,
одиночками или
небольшими группами, действующими на свой страх и риск. При доставке героина таким
способом к месту назначения, например, в города России, он сбывается оптовым
перекупщикам, выход на которых осуществляется через родственные, земляческие и
этнические связи наркокурьеров. Реже привезенный героин, продается самими курьерами
в качестве случайных уличных продавцов.
Подобная разновидность контрабанды была весьма распространена в начале 1990-х и
в то время была представлена, в основном, таджиками.
После распада СССР, когда граница с Афганистаном стала по сути неохраняемой,
переход ее в Таджикистане стал массовым явлением. Многие региональные и
этнографические группы таджиков имеют родственников за границей, в Афганистане.
Например, 80% представителей ваханской группы народов Памира проживают за
пределами Таджикистана, большей частью в Афганистане и Пакистане. Возможность
свободного перехода границы стимулировала рост контрабанды наркотиков, особенно
после 1992 года, когда в Таджикистане разгорелась гражданская война. Назову лишь
несколько причин этого. Во-первых, в результате гражданской войны, когда пограничные
с Афганистаном районы Таджикистана и, прежде всего районы Памира,
лишились
возможности подвоза сельскохозяйственных продуктов из долин, здесь начался голод,
который стимулировал население на поиск источников пропитания, в том числе и за счет
наркоторговли. Во-вторых, появившиеся военные отряды противоборствующих сторон
нуждались в средствах для продолжения борьбы, и наркоторговля стала и для них важным
источником пополнения этих средств. В-третьих, хаос в Таджикистане, отсутствие какойлибо власти, подталкивал людей к наркоторговле.
Итак, в 1992-1995 гг. наркоторговля в Таджикистане и контрабанда из этой
республики были преимущественно частным промыслом множества людей и носили
сугубо моноэтнический характер.
96
Ситуация изменилась после того как власть в Таджикистане укрепилась. В конце 1995
начали возрастать строгости контроля на дорогах, при транспортировке всех видов товаров
и, особенно наркотиков. Многочисленные милицейские и таможенные проверки и
досмотры усиливались год от года. Так, в настоящее время, на трасе Хорог – Ош,
протяженностью примерно 700– 800 км. расставлено 12-13 постов таможенников и
милиции. Еще строже контролируются дороги от Афганской границы до Душанбе. Все эти
строгости не являются непреодолимым препятствием для транспортировки наркотиков, но
нужны немалые деньги, чтобы откупиться от «строгих» контролеров, а таких средств у
частного контрабандиста нет.
Уже одно это привело к тому, что коррумпированное
чиновничество стало сращиваться с организованной преступностью. В этих условиях сфера
и объемы внесистемной наркоторговли быстро сжимаются под напором организованной
преступности. Наркоторговля стала быстро концентрироваться, сосредоточиваясь в руках
ограниченного числа организованных преступных групп, которые постепенно все больше
подчиняют себе не только контрабандистов-одиночек, но и мелкие преступные
группировки.
Относительно автономные группировки наркоторговцев. Автономные группировки
– самостоятельно осуществляют полный цикл оборота наркотиков от закупки товара за
пределами России (чем ближе к границе с Афганистаном, тем дешевле опий и героин) до
распространения его в различные точки сравнительно обширных регионов и передачи в
розничную сеть, иногда ими же и созданную.
Эти криминальные группы (их еще называют «команды», созданные на короткий
срок, поскольку им редко удается продержаться вместе до 1-го года) сравнительно
небольшие 3-5 человек. Месячная норма героина, находящаяся в обороте такой
группировки, как правило, не превышает 10 кг. Реже собираются группы в 10-15 человек.
Лишь однажды, за несколько последних лет, в руки российского правосудия попалась
действительно крупная международная группировка наркоторговцев, насчитывающая 20
человек. В ходе совместной операции трех ведомств: МВД РФ, Государственного
таможенного комитета и Федеральной службы безопасности, в сотрудничестве со
спецслужбами Таджикистана в 2001 г. удалось арестовать большую часть участников этой
наркогруппировки, в которую входили граждане России, Таджикистана и Узбекистана. В
ходе этой операции было изъято 27,5 килограмм героина.189
189
MILITARY NEWS AGENCY 22.08.2001 18:15
97
Все перечисленные разновидности «автономных групп» наркобизнеса являются
полиэтническими, при этом
с увеличением количества членов таких преступных
сообществ, обычно, возрастает и пестрота их этнического состава.
В
наркобизнесе
особенно
велико
значение
доверительных
отношений,
а,
следовательно, и предпочтительность контактов в замкнутых - клановых и этнических
сообществах. Но именно этническая специализация подталкивает преступные группировки
к кооперации представителей разных этнических общностей.
Так, закупку наркотиков в Центральной Азии и поставку их в Россию, как правило,
осуществляют представители национальностей, имеющих корни и связи в тех местах таджики, таджикские цыгане, реже узбеки, афганцы, крымские татары и др.
Представительство группы в России, уже менее жестко связано с этничностью, поэтому его
главой может быть как таджик, так и представитель другой национальности. Связь группы
с розничной сетью в регионах России, как правило, осуществляют русские.
Хорошей иллюстрацией сказанному могут служить материалы уголовного дела,
которое рассматривалось судом Советского района Казани. Суд вынес
приговор
преступной группе, обвиняемой в незаконном приобретении, перевозке и сбыте наркотика
в особо крупных размерах на территории трех республик Поволжья: Татарстан, Марий-Эл,
Чувашии. По данным следствия, организатором бизнеса являлся уроженец Таджикистана
Алим Гадоев. Его представителем в Казани был таджик Обиджон Тиллоев, а за связь с
розничной сетью отвечала русская жительнице Татарстана Анна Гаврилова.190
Вот такую группировку в милицейских отчетах называют таджикской, хотя не
всегда, в подобных группировках, русские оказываются на вторых ролях. Так, в сентябре
2001 год суд города Новороссийска признал руководителем преступной группы,
обвиненной в незаконном обороте наркотиков, русскую жительницу Москвы, а двух нарко
- курьеров из Таджикистана ее помощниками.191
Автономные команды наркодилеров редко включают вооруженную охрану в свой
состав. Чаще они действуют под вооруженной защитой, («под крышей»)
крупных
многопрофильных
А.Гадоева
преступных
сообществ
(ОПС),
например,
команда
находилась под покровительством «казанской ОПС», платя им за это соответствующие
отчисления от своих доходов. Однако некоторые особенно крупные команды, включают
вооруженную охрану («крышу») в свой состав. Уже упоминавшейся нами международной
преступной группой, поставлявшей в столичный регион афганский героин руководил
Поставщиков героина отправили за решетку (автор не указан) // Телевизионная компания: "ЭФИР"
(Татарстан) 17.09.2001
191
Наркотики сеют гектарами – изымают килограммами. По данным Краснодарского краевого УБНОН
(автор не указан). // Кубанские новости (Краснодар) , N155 : 05.09.2001
190
98
таджик, один из командиров национальной гвардии Таджикистана, Сафаев. Организатором
бизнеса в России выступал узбек, бывший замминистра сельского хозяйства Узбекской
ССР Ибрагим Якубов (ранее он был судим по нашумевшему в1980-х годах «хлопковому
делу»). «Крышей» этой преступной группы был чеченец Резван Магомадов. 192
Из других этнических групп, представители которых способны возглавить
многонациональные криминальные группы, ориентирующихся на самостоятельную
доставку героину из Афганистана и Центральной Азии, можно назвать также афганскую
диаспору. В начале 2001 года в Москвой области были изобличены и приговорены к
длительным срокам заключения члены одной из таких региональных группировок, во главе,
которой стоял выходец из Афганистана.193 По сведениям милиции, афганцы действуют под
прикрытием одного из наиболее известных в России преступных сообществ (ОПС)
«казанской». Руководит ими татарин Радик Юсупов по кличке Дракон.194
По мнению экспертов, в последнее время активизировались и другие этнически
специфичные преступные группировки. Например, ряд авторов отмечают увеличение роли
турецких криминальных групп, действующих на кавказском направлении. 195 Скорее всего,
в России турецкие группировки действуют не самостоятельно, а совместно с
азербайджанскими и северокавказскими, а в городах их прикрывают русские милиционеры
и чиновники-коррупционеры.
Иерархическая оптовая сеть наркоторговцев. .Основной особенностью второй из
названных моделей организации контрабанды является то, что наркотики, прежде всего
героин, попадают региональным преступным группам не прямо из Таджикистана, а
закупаются ими в России, на «оптовых базах». Через «оптовые базы» ежемесячно
оборачиваются десятки и, даже сотни килограммов наркотиков в героиновом эквиваленте.
Чаще всего в качестве таких баз служат крупные городские рынки (базары), а наркотики
доставляют в контейнерах автомобильным транспортом и по железной дороге под
прикрытием сельскохозяйственных продуктов. При такой организации контрабанды
возрастает роль тех этнических групп, которые контролируют городские базары и
транспортные перевозки овощей и фруктов. Это в большей мере представители народов
Кавказа.
Олег Кутасов. Милиционеры вышли на след пограничников.// Коммерсант 27.04.2001
Сергей Мартюхин, заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью МВД
России по московской области. Подмосковье – не Сицилия.// Ежедневные Новости - Подмосковье 08.08.2001
194
Сергей Никандров. Нелегальная Россия.// Московский Комсомолец. 27.06.2001
195
Mansfield and Martin, “Strategic Review: The Role of Central Asia as a Conduit for Illicit Drugs to Western
Europe,” April 2000, p. 4.
192
193
99
Судя по материалам журналистского расследования, на мой взгляд, достаточно
реалистичного, на московских рынках преобладало влияние азербайджанских группировок.
Они до недавнего времени контролировали следующие рынки: Бауманский, Лефортовский,
Тишинский, Ленинградский, Рижский, Щелковский, Даниловский, Выхинский. На
Черемушинский рынок и торговые ряды «Кузьминки» больше влияния оказывали
дагестанцы.196 Азербайджанские и дагестанские группировки играют ведущую роль на
рынках Курска. В Красноярске три главных рынка: "азербайджанский", "армянский" и
"китайский". Но есть в России городские рынки, на которых, безусловно, доминируют
русские. Например, главный хозяин на хабаровском рынке - его директор Борис Суслов,
бывший первый секретарь горкома КПСС.197 Более того, процесс замещения «кавказцев»
русскими на большинстве рынков России принял необратимый характер.
Превалирующая роль народов из южных республик на российских городских рынках
была изначально временной. На стадии первоначального накопления они опережали своих
коллег, представителей славянских криминальных структур и по уровню групповой
сплоченности и по умению вести коммерческие операции. Главное же, они отличались
меньшей брезгливостью к «базару» как месту работы. В сленге русского криминального
мира само это слово традиционно имеет негативное звучание, тогда как для мусульман, по
справедливому замечанию психолога Евгения Резникова, «базар - место почти святое. Даже
пророк Магомет был купцом». 198 Однако за десять лет развития рыночных отношений в
России выросло целое поколение русских людей, для которых торговля на базаре это
вполне привычный и даже престижный бизнес. Поэтому процесс последовательного
уменьшения влияния «южан» происходит постоянно и по нескольким направлениям
одновременно.
С одной стороны русский бизнес (как легальный, так и нелегальный) все больше
вытесняет кавказцев с рынка при явном или неявном содействии местных властей. С другой
стороны, сами кавказцы стали уходить в тень, выставляя вместо себя представителей
этнического большинства в качестве продавцов своего товара (как легального, так и
нелегального). Этот процесс особенно усилился после серии кавказских погромов на
российских рынках.
Тем не менее, пока еще представители азербайджанцев, дагестанцев и других народов
Кавказа, в той или форме оказывают немалое влияние на городские базары, в том числе и
Сергей Аверкин, Анна Бессарабова, Галина Миронова, Александр Литвинов, Елена Семенова. Есть ли
"Кавказская крыша" у рынков? // Комсомольская правда, 24.10.2001
197
Сергей Аверкин, Анна Бессарабова, Галина Мироновва, Александр Литвинов, Елена Семенова. Есть ли
"Кавказская крыша" у рынков? // Комсомольская правда, 24.10.2001
198
Там же.
196
100
на их теневую деятельность. Это, в свою очередь, в немалой мере обусловливает специфику
национального состава, региональной дилерской сети наркоторговцев.
При иерархической форме распространения наркотиков (через «оптовые базы»)
значительно уменьшается роль представителей народов Средней Азии в региональных
преступных группировках. Им нет необходимости содержать людей, способных
договариваться с поставщиками где-нибудь в Таджикистане, куда важнее иметь в своем
составе людей той же национальности, что и хозяева оптовых баз. Зачастую сами крупные
оптовые торговцы создают региональную сеть, ставя во главе региональных группировок
своих родственников или земляков.
В этом отношении весьма показателен этнический состав преступной группировки из
Челябинска, закупавшей наркотики
на одной из баз в Амурской области и
«обслуживавшей» обширный регион от Амура до Урала (Амурскую, Омскую, Тюменскую,
Новосибирскую и Челябинскую области). Афганский героин поступал в Амурскую
область, как сложным путем: Таджикистан – Киргизия – Китай, так и более простым.
Например, героин мог поставляться российскими дальневосточными пограничниками,
которых время от времени отправляют служить в Таджикистан. Такие случаи неоднократно
отмечались на Дальнем Востоке и в Сибири.199 Не редкость, когда героин из Таджикистана
завозят таджики, добираясь даже в самые удаленные точки этого региона.200
Связь с «базой» в челябинской группировке, осуществляли азербайджанцы Габиль
Аслан-оглы Джафаров и Абузар Заятхан-оглы Аббасов, финансовый менеджмент и
«отмывка средств» лежали на армянине Валерии Аракеляне, а за связь с розничной сетью
были ответственны две русские жительницы Челябинска - Светлана Дроганова и Светлана
Чибиркина.201
Как выясняется, группировки наркоторговцев не только многонациональны, но и
отличаются хорошими межэтническими отношениями в своем коллективе. По крайней
мере, антагонизма между армянами и азербайджанцами, кавказцами и русскими в
«челябинской пятерке» не было.
«Дружба народов» внутри преступных групп иногда сочетается с высокой
межэтнической конкуренцией во внешней сфере. Я имею в виду не только конкуренцию
кавказских и среднеазиатских преступных группировок со славянскими, но и борьбу с
Асаль Азамова. Военные контролируют таджикский наркобизнес.// Московские новости 29.05.2001.
Николай Кутенких. Грудь в крестах.// Владивосток (Владивосток) 15.08.2001.
200
Редакционная статья «Ломка" наркоторговцев.// Восточно-Сибирская правда (Иркутск) , N17117208.09.2001
201
ИНТЕРФАКС со ссылкой на сообщения Центра общественных связей ФСБ России. 17 августа 2001 г
Москва. См. также С. Стешкова. Приговор (ФСБ поймала наркоторговцев) "Восточный экспресс",
Челябинск 14.08.2001
199
101
совершенно новым экономическим субъектом на нелегальном рынке наркотиков китайским.
Так, по данным экспертов МВД РФ, с конца 1990-х годов очень быстро идет
концентрация капиталов в китайской диаспоре, и уже в ближайшее время можно ожидать
резкого обострения конкуренции в России между китайским торговым капиталом и
кавказским, а в перспективе и вытеснения последнего как в легальном, так и в нелегальном
бизнесе. Так, уже в начале 1998 г. появилась информация о том, что китайская ОПГ
наладила маршрут поставки наркотиков в столицу, но в сводках МВД России за 1998-2000
гг. не зафиксировано ни одного задержания китайских торговцев наркотиками.202
Возможно, объясняется это лишь тем, что преступления, совершаемые китайскими
преступными группировками, раскрыть труднее, чем каких-либо иных ОПГ. Прежде всего,
подавляющее их большинство совершаются внутри китайской общины. При этом не только
участники криминальных групп, но и китайцы, подвергшиеся их нападениям, дают, вольно
или не вольно, "обет молчания" и нарушивший его заранее знает, что его найдут, где бы он
ни был. Так, арестованный в апреле нынешнего года 35-летний китайский рэкетир Лю Дзян
Го, выпускник Московского гидромелиоративного института, более 10 лет нелегально жил
в китайских общежитиях Москвы, обложил данью большую часть живущих там китайцев,
но ни разу не был ранее задержан, т.к. не было заявлений. Даже став жертвой своих
преступников и оказавшись в больницах, китайцы не дают никаких показаний, предпочитая
не вмешивать милицию в свои дела.203
Лишь летом 2001 года, впервые за последние пять лет на памяти сотрудников
московской милиции, была задержана гражданка Китая, 33-летняя жительница провинции
Джеодзяо, с партией наркотиков, явно предназначенной, судя по их объему (почти 5
килограммов героина) для оптовой реализации.204 Китайская наркосеть считается самой
автономной и замкнутой, т.е. рассчитанной на обслуживание только членов китайской
общины. Однако накапливается информация
о том, что на Дальнем Востоке ранее
закрытые китайские преступные группировки вступили в деятельное сотрудничество с
местными русскими криминальными кругами.205
Этнические особенности транспортировки наркотиков. В данном случае автор хотел
бы остановиться на изменениях роли различных этнических групп в транспортировке
Олег Воронин Новая власть и новые бандиты. К вопросу о «китайском опыте для России. ВосточноСибирская правда (Иркутск) , N174: 12.09.2001
203
Там же.
204
Информация газеты «Московский комсомолец» (автор не указан) 07.08.2001
205
См.Олег Воронин Указ раб. Восточно-Сибирская правда (Иркутск) , N174: 12.09.2001
202
102
героина в разные периоды существования наркотрафика: Афганистан – Средняя Азия –
Россия.
В советские времена, когда рынок наркотиков только еще складывался, одними из
первых наркокурьеров были нигерийцы, известные во всем мире как «глотатели» или
«живые контейнеры», перевозившие наркотики в своих желудках. Нигерийцы прибывали в
Советский Союз под видом африканских студентов, которых в те годы было много не
только в Москве, но и во всех столицах союзных республик, да и просто в крупных городах
Союза, имевших университеты и другие высшие учебные заведения. В качестве студентов
они могли переезжать из города в город, не привлекая к себе особого внимания. После
распада СССР поток африканских студентов почти иссяк и сегодня они редкость. Понятно,
что сейчас человек, похожий на нигерийца, пересекая границу новых независимых
государств, сразу же привлечет к себе внимание таможенников и если перевозит наркотик,
то, скорее всего, будет изобличен.
Разумеется, решающее влияние на уменьшении их роли в наркоконтрабанде оказала
растущая конкуренция со стороны местных курьеров. С наращиванием потока контрабанды
из Таджикистана, курьер из этой республики мог заработать за один рейс до 700 долл. - в
Таджикистане этого достаточно, чтобы жить целый год, поэтому огромное количество
таджикской молодежи быстро освоили все премудрости профессии наркокурьеров–
глотателей, не оставив нигерийцам никаких шансов удержаться в этом бизнесе. Сегодня
нигерийцы практически оставили эту деятельность на постсоветском пространстве, хотя
еще в 1997 г. эпизодически были замечены в этом бизнесе на территории Казахстана.206
Впрочем, и таджики не могут удержать ту сферу деятельности, из которой они
вытеснили нигерийцев. Возможности таможенного контроля и навыки таможенников
возрастают как в России, так и в государствах Средней Азии. Они внимательно
вглядываются в толпу, выискивая тех, кто потеет или нервничает. Они знают, что нужно
искать не только наркотики, но и сопутствующие им препараты, необходимые глотателям.
Кроме того, каждую неделю в среднем одного подозреваемого просвечивают рентгеном,
чтобы найти контейнеры в желудке. Все это привело к тому, что в Москве, в аэропорту
Домодедово, куда пребывают самолеты из Таджикистана, объем контрабандистов,
перевозящих капсулы с героином в желудке, сократился за год ( 2000- 2001 гг.) втрое.207
Это значит, что поставщики героина будут искать другие пути переброски своего «товара»,
и, возможно, курьеров из других этнических групп.
206
INCSR 1997 http://www.state.gov/www/global/narcotics_law/1997_narc_report/europ97_part2.html
accessed July 13, 2001.
207
См. Робин Диксон. Афганский опиумный трубопровод приносит бедствие таджикам //.Время по
Гринвичу (Алматы) 21.08.2001 перепечатка из Чикаго Трибьюн.
103
На ранних стадиях развития наркотрафика из Афганистана, заметную роль в нем
играли пограничные этнические связи.208 Таджики, узбеки и туркмены, живущие по обе
стороны афганской границы, использовали родственные связи и этнические связи для
переправки сравнительно больших партий наркотика из Афганистана в Таджикистан,
Узбекистан и Туркмению. Таким же способом переправлялся героин и далее - в Киргизию,
в Казахстан и в Россию. Этот канал действует и сейчас. Например, доставка опия и героина
по маршруту Хорог-Ош, осуществляется при участии этнических киргизов в пограничных
районах Киргизии и Таджикистана.209 В приграничных с Казахстаном районах
Волгоградской области, скажем в Палласовском, традиционно сильна казахская диаспора,
у которой налажены как законные, так и криминальные связи с соседями, с помощью
которых перевозится все: от китайских дешевых товаров - до наркотиков.210
Пограничные этнические связи еще играют некоторую роль в наркоконтрабанде,
однако они могут быть использованы для насыщения лишь небольших локальных рынков
наркотиков. Для
транзитных оптовых поставок наркотиков подобная медленная и
поэтапная схема контрабанды не подходит, и сейчас все шире внедряются дальние
транспортные перегоны крупных партий наркотиков на крупнотоннажных автомобилях и
по железной дороге. При этом постоянно совершенствуются формы конспирации грузов.
Теперь героин не просто прикрывают сверху овощами или фруктами, а перевозят внутри
самих плодов. Особенно хитроумной мне показалась транспортировка героина внутри
абрикосовых косточек.211
Большое внимание прессы привлек случай перевоза по железной дороге рекордно
крупной партии героина. 30 июня 2001, на станцию "Ахтубинская" Астраханской области
прибыл товарный поезд N 2203 с хлопком, который шел транзитом из КурганТюбе
(Таджикистан) в г. Ильичевск (Украина) и далее - в Швейцарию. В семи вагонах было изъято
несколько контейнеров с почти 135 кг героина общей стоимостью около 5 млн. долларов
США.
212
Меня эта история заинтересовала, прежде всего, как пример высокой
результативности для контрабандистов такой формы транспортировки своих грузов.
Судите сами, несмотря на то, что российские спецслужбы остановили этот состав не
208
Olcott and Udalova, p. 10
Братья по крови (автор не указан).// Вечерний Бишкек (Бишкек) , N180 19.09.2001
210
Граница посреди России (автор не указан). //Слово (Москва) 10.08.2001
211
Героин в Челябинск доставляли в абрикосовых косточках(автор не указан). //. Информационное
Агентство: "Урал-пресс-информ" (Челябинск) 19.09.2001
212
Тимофей Борисов. Хлопок нашпиговали героином //Российская Газета (Москва). 12.07.2001. Людмила
Карамышева . Героин до Швейцарии не доехал //Труд (Москва) 14.07.2001. Лариса Маслова, пресс-служба
Южного таможенного управления: Таможня отличилась. //Южный Федеральный (Ростов-на-Дону)
25.07.2001
209
104
случайно, а только получив оперативную информацию от своих таджикских коллег, на
полный досмотр состава ушла целая неделя. Понятно, что проверять, таким образом, все
приходящие из Центральной Азии грузовые составы просто не реально. Следовательно,
большая часть таких грузов минует досмотр. Эксперты отмечают, что сейчас налажены
такие способы перевозки наркотиков, которые вообще не поддаются выявлению обычными
визуальными методами и с помощью собак, а специальных приборов для их обнаружения
нет на всем постсоветском пространстве.
Так или иначе, растущая популярность перевозок крупных партий наркотиков по
железной дороге, в грузовых автомобилях-рефрижераторах, и с использованием военнотранспортной авиации уменьшает роль курьеров той или иной национальности. Когда груз
в вагоне прямым ходом идет из Таджикистана в Швейцарию, нет нужды в использовании
каких-либо этнических сообществ с их внутренними связями и солидарностью.
В целом можно говорить о постепенном уменьшении роли этнических факторов в
наркобизнесе. Они ослабевают по мере нарастания эпидемии наркомании и вовлечения в
потребление, а, следовательно, и в торговлю представителей этнического большинства
новых независимых государств. В этом же направлении действует и рост экономической
привлекательности наркобизнеса. Этнические меньшинства вытесняются из наркобизнеса
своими
более
многочисленными
конкурентами,
зачастую
с
помощью
властей,
концентрирующих свои усилия, прежде всего, на борьбе с этническими криминальными
группами. Уменьшение влияния этнических факторов в контрабанде наркотиков
обусловлено
также
модернизацией
технологии
их
транспортировки
и
общая
индустриализация наркобизнеса.
Однако, несмотря на то, что объективно роль этнических меньшинств в наркобизнесе уменьшается,
в массовом
сознании населения новых независимых
государств, эта роль возрастает и демонизируется. Такие извращенные представления
сохраняются под влиянием глубоко укоренившейся ксенофобии, а, зачастую, специально
культивируются определенными слоями для достижения своих политических или сугубо
коммерческих выгод.
Параграф 3 Процессы этнополитической дивергенции
Подавляющее
большинство
процессов
в
сфере
этнического
развития
и
межэтнических отношений, наблюдаемых в постоветский период истории России, можно
отнести к разряду дивергентных, связанных с ростом этнического разнообразия,
105
этнической специфики в культуре и образе жизни. Основным источником такой
дивергенции стал рост этнического самосознания большинства народов России, что, в свою
очередь, тесно связано с процессами дезинтеграции бывшего Советского Союза.
Динамика самоидентификации россиян Новая Россия наследовала высокую
мировоззренческую разобщенность граждан и кризис гражданского самосознания.
Это объясняется комплексом причин. Во-первых, тем, что жители РСФСР еще в
рамках СССР редко ассоциировали себя именно с Россией – Родиной для них был весь
Советский Союз, и его распад болезненно переживали большинство россиян (и не только
русские), привыкших жить в большой стране213. Во-вторых, российская идентичность
рождалась не в ходе национальных движений, как в других новых независимых
государствах: русские националисты (обычно именуемые «национал-патриотами»)
мечтали о восстановлении империи, а националисты в российских автономиях – о большей
независимости от Москвы.
Когда рухнула коммунистическая идеология, ушли привычные социальные и
территориальные представления, обострились отношения между регионами и центральной
властью, лишь этничность оставалась основой для групповой консолидации людей.
С ростом этнической идентичности нерусских народов
их региональная
самоидентификация усиливается, а у русских, особенно в республиках – ослабевает (см.
Приложение 2, схемы 1– 4).214
Этносоциологические исследования показывают, что среди опрошенных татар
считали себя только татарстанцами 30%; россиянами и татарстанцами, но больше
последними – 36%; в равной мере теми и другими – 24%; только россиянами – менее 10%.
Примерно такое же соотношение было у якутов, башкир и осетин.215
Можно сделать следующие обобщенные выводы о соотношении общероссийской и
региональной идентичности у представителей титульных национальностей республик РФ:
во-первых,
исключительно
или
преимущественно
региональная
идентичность характерна для подавляющего большинства (свыше 2/3)
213
Арутюнян Ю.В. Постсоветские нации. М., 1999. С. 81–82.
214
«Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность// Автор проекта и отв. ред. Л. М.
Дробижева.- М.: «Academia» 2002. См также. Дробижева Л.М. Паин Э.А. Особенности этнополитических
процессов и становления этнической политики в Современной России // Политические и экономические
преобразования в России и Украине. / Ред. В.Смирнов.Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Kennan Institute. Москва.: «Три квадрата». 2003.
215
Там же.
106
опрошенных в этих общностях, в то время как равная российская и
региональная идентичность присуща лишь менее четверти опрошенных;
во-вторых, несмотря на то, что двойственная идентичность (общероссийская
и региональная) разделяется более чем половиной опрошенных, тем не менее,
почти треть респондентов, граждан страны, не проявили никаких признаков
общероссийской самоидентификации. Вероятно, именно они могут стать
потенциальной базой развития этнического сепаратизма в той или иной
республике в случае обострения отношений с федеральным центром и при
вспышках межгрупповых этнических конфликтов.
Во многом, иная структура самоидентификации у русских, хотя так же, как и в других
группах, свыше 60% русских идентифицируют себя двойственно и как жителей, граждан
России, и как жителей конкретных регионов. В месте с тем, в этой группе в 4–5 раз больше
опрошенных, по сравнению с представителями титульных национальностей республик,
считают себя только россиянами. Такой ответ дали от 40 до 50% русских в обследованных
регионах. Весьма существенно, что у русских, в отличие от других национальностей, вовсе
не было случаев подавления общероссийской идентичности региональной. Первая
выражена у них заметно сильнее, чем у представителей других национальностей.
Своеобразно проявляется у русских влияние этнической идентификации на общероссийскую. В группах с высоко актуализированным русским этническим самосознанием
больше людей считает себя «преимущественно россиянами», а не гражданами той или иной
республики. Однако, как мы еще покажем в следующей главе, рост общероссийской
идентификации этнического большинства не выступает в качестве основы для
этнополитической интеграции народов России, поскольку сопровождается ростом так
называемых «этноэксклюзивных настроений», наиболее радикальным выражением
которых выступает лозунг: «Россия для русских».
Взаимосвязь политических и этнодемографических процессов. Исследования
изменений численности, состава и расселения этнических общностей могут использоваться в
качестве весьма информативного индикатора характера модернизационных процессов. Они,
например, указывают на проявления дивергенции в этнодемографической структуре общества
под влиянием как культурных изменений (роста этнического самосознания), так и политических
перемен, например, демократизации. Так, расширение в России возможностей свободной
этнической самоидентификации обусловило появление 45 новых этнических общностей (всего
их фиксируется в статистике 176) за период между последней советской переписью населения
107
(1989 г.) и первой российской 2002 г.)216. Это соответствует общей закономерности: в те
исторические периоды, когда на территории России появлялась возможность относительно
свободного волеизъявления, в том числе свобода этнической самоидентификации, резко
возрастало число новых этнических общностей, фиксируемых в статистических документах
(рис. 1).
200
Изменение количества выделенных в ходе
переписей населения России этнических
групп
194
172
180
160
140
146
120
128
109
104
104
1959
1970
1979
99
100
80
1897
1926
1939
1989
1994
Рисунок 1
Так было в 20-х гг., после распада Российской империи, в период заигрывания
молодой советской власти с лидерами угнетавшихся царизмом нерусских народов, в конце
80-х – во время горбачевской перестройки и, особенно, в первой половине 90-х гг. – в
условиях непоследовательных, но все же заметных демократических реформ в России.
Тогда оказалось, что многие этнические общности, считавшиеся в советское время
ассимилировавшимися с родственными народами, на самом деле сохраняют свою
этническую самобытность и особое самосознание.
Одним из следствий роста этнического самосознания является политическая
активизация этнических элит, увеличение числа общественных и политических
организаций, инициативных групп, выдвигающих от имени народов политические
требования, лозунги или программы. Этот процесс развивается в России под воздействием
как общемировых тенденций, так и ряда специфических обстоятельств. К последним
прежде всего относится эффект «цепной реакции», когда политизация этнических элит
союзных республик быстро перекинулась на элиты бывших российских автономий, а затем
распространилась в других этнических общностях.
Последняя сплошная перепись населения СССР (Всесоюзная перепись населения) проводилась в 1989 г.;
Итоги новой переписи 2002 г. в разрезе национальностей пока не опубликованы, поэтому в этом разделе автор
использует материалы так называемой микропереписи 1994 г. в России,, обработка результатов которой
завершена лишь к 1996 г., а некоторых разделов – к 1998 г. Использован также статистический бюллетень
«Численность и миграция населения» за соответствующие годы, а в ряде случаев – материалы специальных
этнодемографических исследований. Автор полагает, что этих материалов достаточно для обобщенных
выводов об этнодемографических тенденциях в России.
216
108
Политические процессы, связанные с распадом СССР, оказали заметное влияние и на
изменение соотношения различных этнических общностей в составе населения
России. В наибольшей мере это сказалось на изменении соотношения русских как
этнического большинства населения России и других народов федерации. В частности, в
начале 90-х гг. впервые за многие десятилетия (по крайней мере, за последние 40 лет)
переломилась тенденция сокращения доли русских в составе населения России (рис. 2).
Изменение доли русских в населении России
83,5%
83,3%
83,0%
82,8%
82,9%
82,6%
82,5%
Доля русских
82,0%
81,5%
81,0%
1959
81,5%
1970
1979
1989
1994
Рисунок 2
Доля русских в населении России увеличилась на 1,42 пункта (с 81,53% до 82,95%)217.
Этот процесс был обусловлен, прежде всего, притоком граждан из новых независимых
государств. Только в 1996 г. миграционный прирост в данной этнической общности на
территории Российской Федерации составил 300,9 тыс. чел. (67,8% всего миграционного
прироста)218. Однако уже к середине 90-х годов выяснилось, что миграционный приток
русских лишь частично компенсирует их значительную естественную убыль. По расчетам
авторитетного Центра демографии и экологии человека А. Вишневского, численность
русских в России с 1989 по 1999 гг. в целом сократилось почти на 2 млн чел. (см.
Приложение, таб. 1). Удельный вес русских в составе населения России уменьшился в
1994–1999 гг. с 82,9 до 80,6%. Таким образом, за исключением короткого периода в начале
90-х гг., доля русских в составе населения России неуклонно сокращается, начиная с 1959
г.
На фоне сокращения доли русских и всех других славянских народов в Российской
Федерации особенно впечатляет рост доли других народов, прежде всего тех, которые
условно можно объединить в одну группу под названием «народы, исторически связанные
Расчеты проводились А. Сусаровым по материалам микропереписи населения России в рамках проекта
«Nationalities Development in the Russian Federation». Руководитель проекта – Э. Паин. Программа развития
ООН. 1997. См. Паин Э.А. Этническое измерение человеческого развития. //Доклад о развитии
Человеческого потенциала в Российской Федерации. Москва: ПР ООН, 1997. С. 75-80.
218
Численность и миграция населения в 1996 г. С. 46.
217
109
с исламом», или «исламские народы». Доля этих народов выросла более чем на 2/3, причем
особенно интенсивно в последнее десятилетие ХХ века (таб. 1).
Таблица 1
Изменения соотношения русских и «исламских народов» в составе населения России
(1959–1999 гг.), в %*
Народы России 1959г.
1970 г.
1979 г.
1989 г.
1999 г.
Русские
83,3
82,8
82,6
81,5
80,6
“Исламские
6,1
7
7,3
8,1
9
народы”
* Источник: Богоявленский Д. Этнический состав населения России // Население и
общество. Ноябрь 1999. № 41.
Наиболее заметно изменение соотношения русских и других народов России в
региональном разрезе. Русские уже сегодня являются этническим меньшинством в
подавляющем большинстве республик Северного Кавказа (за исключением Республики
Адыгея). Их отток оттуда начался еще в 70-х гг., а вооруженные конфликты, особенно
чеченская война 1994–1996 гг., сделали этот процесс необратимым. Об этом можно судить
по продолжающемуся исходу русских не только из Чечни. Например, из Дагестана в 1997–
1998 гг. уезжало в год по 3–4 тыс. чел. Северная Осетия – Алания, Ингушетия, КабардиноБалкария имели отрицательное сальдо русских мигрантов при положительном сальдо
миграции представителей титульной национальности, в Карачаево-Черкесии доля
выбывших русских во много раз превосходила долю выбывших мигрантов титульной
национальности17.
В республиках Сибири русские сейчас в меньшинстве только в Туве, но, скорее всего,
уже в ближайшие годы станут меньшинством также и в Бурятии. Что касается Якутии, то
здесь возможен существенный рост доли якутов в населении республики, которые в
перспективе могут сравняться по численности с русскими.
В Поволжье русские по переписи 1989 г. составляли меньшинство в Чувашии и
большинство в Башкортостане (42% населения), хотя и уступали татарам и башкирам,
вместе взятым. Тенденция уменьшения доли русских в Башкирии стала заметной уже по
данным микропереписи 1994 г., и, судя по сложившимся тенденциям, уже при очередной
переписи они утратят статус даже относительно наибольшей этнической группы. В
Татарстане на протяжении 90-х гг. неуклонно сокращалась доля русских на фоне роста
17
Демографический ежегодник России. М., 1999. С. 366–371.
110
татар. Перепись населения 2002 г., скорее всего, укажет на то, что русские составляют там
менее половины населения. Если прогнозы дальнейшего уменьшения доли русских в
Поволжье и в Сибири действительно сбудутся, то уже в ближайшие годы русские составят
меньшинство почти на половине территории Российской Федерации. Это чрезвычайно
важная тенденция, которая будет оказывать все большее влияние на целый спектр
этнополитических процессов. Прежде всего, ее следовало бы учитывать тем политикам и
аналитикам, которые полагают, что этнический фактор не существенен в такой стране, как
Россия, где русские составляют абсолютное большинство населения. Подобные
рассуждения изначально были политически некорректными, сейчас же становятся еще
более сомнительными, учитывая тенденцию уменьшения численности и доли русских, а
также сужения ареала их расселения.
Русское население все больше сосредоточивается на своих традиционных
территориях – в краях, областях – и сокращается численно в большинстве республик. Эта
тенденция особенно рельефно проявилась в 1991- 1994 гг., когда процесс миграционного
перераспределения населения был особенно заметен. По расчетам А. Сусарова, в 1994 г
выросло в сравнении с переписью 1989 г. число регионов России (с 44 до 49), в которых
доля русского населения была выше средней и составляла от 85% до 95 % населения. Почти
все они представлены «русскими» краями и областями и лишь одним автономным
образованием - Еврейской автономной области (87,4% её населения – тогда составляли
русские) Наибольшую долю русские стали составлять в населении Тамбовской области
(97,8%), обогнав Липецкую область, где русские в 1989 году составляли 97,4%.219
В то же время представители крупнейших титульных национальностей российских
республик увеличили свою численность и удельный вес в составе населения районов
традиционного проживания и одновременно уменьшили своё присутствие в большинстве
других регионов. Исключением стали лишь марийцы, хакасы, алтайцы и балкарцы, доля
которых в населении соответствующих республик уменьшилась220. Таким образом, в
начале 1990-х произошли существенные сдвиги в расселении народов России, проявлялась
тенденция «стягивания» этнических общностей к своим национальным очагам. Пока
материалы переписи насления 2002 г. в разрезе национальности еще не опубликованы,
трудно делать выводы о том, в какой мере эта тенденция сохранилась. Можно лишь
предположить, что процесс этно-территориальной концентрации мог лишь замедлиться, но
радикально характер этнического раселения не изменился с середины 1990-х годов
219
Расчеты проводились А. Сусаровым по материалам микропереписи населения России в рамках проекта
«Nationalities Development in the Russian Federation».
220
Там же.
111
Наибольшие в относительном измерении потери в численности среди народов страны
были у евреев (18%), для которых истекшее десятилетие стало временем массовой
эмиграции, так же как и для немцев. Сократилась в России и численность диаспор
некоторых новых независимых государств, прежде всего ее западных соседей –
белорусской, латышской, литовской и эстонской. Одновременно росла численность
диаспор народов Средней Азии (за исключением киргизов) и Закавказья, особенно за счет
беженцев из зон этнических конфликтов. Так, в России численность таджиков почти
удвоилась, а армян – возросла на 64%.
Продолжается сокращение численности большей части коренных малочисленных
народов Севера. В большинстве автономных округов оно даже интенсивнее, чем за их
пределами. Между тем, национальные округа некогда были специально созданы для
поддержки коренных народов Севера. Ныне этот статус зачастую используется пришлым
этническим большинством лишь для того, чтобы бесконтрольно, не оглядываясь на
федеральный центр, эксплуатировать природные ресурсы данных территорий. Эти
экстенсивные, нарушающие традиционное природопользование формы хозяйствования
острее, чем где бы то ни было, противоречат интересам коренных малочисленных
народов221. Подобная практика – один из самых серьезных упреков национальной политике
России последнего десятилетия XX века.
Насколько же устойчива тенденция «стягивания» этнических общностей к своим
национальным очагам? Нельзя исключать возможность того, что она носит временный,
исторически преходящий характер и в случае экономического, особенно промышленного
подъема России усилится территориальная мобильность, а следовательно, и смешение
этнического состава населения в эпицентрах такого роста. Однако пока это характерно в
основном для Москвы и некоторых других крупнейших городов России. В большинстве же
регионов тенденция концентрации этнических общностей в своих традиционных ареалах
возможно и ослабла, но пока сохраняется и может принять затяжной характер. Вряд ли в
обозримой перспективе можно ожидать существенных изменений в этническом расселении
на территории республик Северного Кавказа, Сибири и Поволжья. Здесь, скорее всего,
этническая однородность населения и рост доли представителей титульного населения
будут по-прежнему возрастать.
Подобные процессы должны настораживать федеральные и местные власти в тех
случаях, когда они сопровождаются «утечкой умов» и «вымыванием» квалифицированных
кадров, а также оттоком тех этно-социальных групп, которые являются в некоторых
В условиях абсолютного преобладания нетитульного населения в большинстве округов представители
коренных этносов «вполне демократично» оказались почти полностью отстранены от власти.
221
112
регионах основными носителями светской интернациональной культуры. С понижением ее
влияния открываются возможности роста этнического и религиозного экстремизма.
Этнокультурные процессы. Последнее десятилетие ХХ века было для народов
России временем наиболее свободного выбора пути своего этнокультурного развития. Это
стало возможным благодаря не только Конституции страны и федеральным законам, но и
региональному законодательству, а также бюджетным возможностям республик
самостоятельно распределять средства на развитие культуры. Новое проявилось, прежде
всего, в изменении соотношения доли лиц, владеющих языком своей национальности, что
не меньше, чем сдвиги в этническом составе, расселении и миграциях, отражает процесс
этнокультурного возрождения этнических общностей и, соответственно, рост своеобразия
этнокультурного ландшафта России.
Эта тенденция радикально отличается от той, которая наблюдалась в последние
десятилетия существования СССР. Тогда в языковой сфере России наблюдалась тенденция
неуклонной русификации нерусского населения страны 222. Инерция этого процесса
сохранялась до середины 90-х годов (рис. 3)
Динамика распределения всего нерусского
населения России по родному языку
80,0%
73,9%
71,7%
71,0%
70,0%
70,1%
Язык своей
национальности
60,0%
50,0%
Русский
40,0%
30,0%
24,2%
26,5%
27,6%
28,4%
Другой
20,0%
10,0%
1,9%
1,8%
1,4%
1,5%
0,0%
1970
1979
1989
1994
Рисунок 3
С 1989 по 1994 гг. языковая ситуация начала изменяться. В это время у некоторых
титульных национальностей России стала увеличиваться доля лиц, считающих родным
язык своей национальности. Например, у тувинцев в 1994 г впервые за несколько
десятилетий доля людей, считающих родным язык титульной национальности,
приблизилась к 100%, (точнее эта доля составила 98,4%.). У титульных народов Северного
Алексахина Н. Национально-языковая ситуация в Российской Федерации. // Этнополитический вестник.
М., 1995. № 6. С. 139–147.
222
113
Кавказа эта доля стала колебаться от 96,4 до 98,3%, у других титульных народов страны –
от 60 до 90%.
Меньше других признавали родным язык своей национальности представители
малочисленных народов российского Севера, все более утрачивающих знание родного
языка (от 47% до10% ), а также у дисперсных групп этнических меньшинств, в среде
которых доминировали стремления эмигрировать на свою этническую родину. Например,
среди поляков считают родным соответствующий язык - 20%, а среди евреев - 11%.223
Третья по численности (после русских и татар) этническая общность России –
украинцы – в своем большинстве являются русскоязычными и не стремятся перейти на
украинский язык224. Из 4,36 млн. украинцев, которые, по данным переписи 1989 г.,
проживали в России, лишь 42,8% считали его родным. Особенно заметна утрата признаков
этнической самобытности у украинцев, живущих в городах. Предпринимавшиеся
неоднократно попытки открыть для них национальные школы в Москве, Санкт-Петербурге
и в других крупнейших городах страны не увенчались успехом. Несмотря на значительную
государственную поддержку, организаторы таких школ не смогли набрать желающих
обучаться даже для наполнения одного класса225. В то же время традиционное украинское
культурное своеобразие неодинаково сохраняется в разных регионах России.
Наибольшая доля лиц, считающих родным языком украинский, – среди жителей
Волго-Вятского (51,2%) и Северного (47%) экономических районов226 – сложилась потому,
что само переселение сюда украинцев происходило сравнительно недавно: в основном, в
30–80-х гг. ХХ века из сельских районов Украины. Поэтому можно предположить, что они
еще не забыли родной язык.
Объективно самым украинизированным регионом России является Северный Кавказ,
главным образом Краснодарский край. В 1792 г. черноморские казаки, правопреемники
запорожских, были переселены на Кубань, а их потомки освоились и в большинстве
прилегающих к ней районов Северного Кавказа. В 1926 г. там было сосредоточено 45%
украинцев Российской Федерации, которые составляли свыше половины населения краев и
автономных республик этого региона. Особенно велика их доля была на Кубани. Однако,
начиная с 30-х гг., усилилась ассимиляция украинцев, их переход на преимущественное
использование русского языка даже в быту. Впрочем, и сегодня в кубанских поселениях, в
Расчеты проводились А. Сусаровым по материалам микропереписи населения России в рамках проекта
«Nationalities Development in the Russian Federation».
224
См.: Соколов С. К вопросу о положении с языком и культурой украинского национального меньшинства
в Российской Федерации // Диалог украинской и русской культуры в Украине. Киев: Фонд поддержки
русской культуры. 1999. С. 48.
225
Там же.
226
Народы России (энциклопедия). М., 1994. С. 360.
223
114
которых большинство жителей называют себя русскими и считают русский родным
языком, сохраняется говор с заметной украинской основой227. Здесь же остался, а с начала
90-х гг. стал даже культивироваться и возрождаться, традиционный украинский фольклор.
Тенденция возрождения этнической самоидентификации украинцев в России, рост их
интереса к культуре и истории своего народа прослеживается и в ряде других регионов.
Свидетельство этому – открытие украинских школ в местах компактного расселения
украинцев: в Башкирии, в Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком
национальных округах. Создан Совет лидеров данных регионов, который принял решение
о разработке специальной программы возрождения украинской национальной культуры 228.
В целом заметно, что развитие этнолингвистических процессов во многом отражает
те же тенденции, что и при анализе этнодемографической ситуации России. Так, при
уменьшении вмешательства государства в культурную жизнь народов ослабевают
тенденции культурной унификации и активнее проявляется стремление личностей и
этнических общностей к сохранению и возрождению своего этнокультурного своеобразия.
Однако реальные возможности для этнического самосохранения и развития имеют лишь
крупнейшие народы – русский и титульные нации республик России. Что касается
малочисленных народов и этнических меньшинств, то нынешние условия, очевидно, не
благоприятствуют сохранению не только национального языка и культуры, но и самой
численности этих этнических групп российского населения.
Вместе с тем, даже у самых многочисленных народов России освоение родного
языка идет неравномерно. Так, наметилось несколько большее использование языка
титульного этноса дома, в общественном транспорте, в учреждениях сферы обслуживания.
В этих сферах стало заметно, что люди не стесняясь, как иногда раньше – в 70–80-е гг., –
свободно говорят на родном языке. Однако на работе подавляющее большинство нерусских
народов по-прежнему использует русский язык.
Таким образом, символьные изменения в языковой сфере прослеживаются, но в
реальном использовании языков сдвиги небольшие, и есть даже сигналы к их торможению.
Например, в Саха (Якутии) приостанавливается приток детей в школы на языке саха,
поскольку русские школы дают лучшую подготовку для поступления в вузы, и не только в
республике, но и за ее пределами. Та же ситуация в Северной Осетии – Алании.
Симптоматично, что в Татарстане, при очень высокой идеологической ориентации
татарской элиты на изучение татарского языка, осуждении манкуртизма (так называют
227
228
Там же. С. 359–361.
Соколов С. Указ. соч. С. 48.
115
людей, теряющих этническую культуру), реальная доля городских татар, обучающих своих
детей в национальных школах, по-прежнему очень мала (по опросу 1999 г. – всего 4%).
Подавляющее большинство татар в городах республики отправляет своих детей в школы с
двуязычным обучением (43%), либо в русские (20%).
Выпуск книг на языках народов России и их тираж продолжают сокращаться так же,
как это было во многих автономиях в последнее десятилетие советской власти. Правда, этот
процесс характерен и для книг на русском языке, но в большинстве российских республик
тираж книг на национальных языках сократился намного заметнее. Даже в наиболее
богатых образованиях федерации уменьшилось число наименований книг на языках
титульных народов. Упал и их тираж: в Саха (Якутии) с 60 наименований в 1990 г. до 36 в
1998 г., а тираж – с 702 тыс. до 90 тыс. экз.; в Татарстане соответственно – со 169
наименований до 166, а тираж – с 3236 тыс. до 1290 тыс. экз. В Башкортостане же число
наименований книг даже чуть выросло (с 97 до 107), но тираж сократился с 1274 тыс. до
670 тыс. экз. В Северной Осетии – Алании, не столь богатой республике, число
наименований книг сократилось более чем в два раза, а тираж их упал более чем в три раза.
То же самое произошло в Удмуртии229. С 1990 по 1998 гг. тираж газет на языке саха
сократился в 10 раз, на татарском – более чем в два раза, башкирском – почти в два раза,
осетинском – более чем в два раза, удмуртском – в три раза230. Таким образом,
существенного усиления позиций языков нерусских народов не произошло.
Язык по-прежнему остается «маркером» «этнической границы». Доминирующее
большинство нерусских знают русский язык, и для них не существует языковых преград к
общению и социальному продвижению (во всяком случае, для горожан). Иная ситуация
складывается в автономиях. Здесь очень немногие русские знают язык титульной
национальности, а стремление к его освоению со временем стало падать. Выучить такой
язык для многих представителей этнического большинства оказывается трудно, как по
объективным причинам (отсутствие школ, курсов, преподавателей, свободного времени
для изучения «чужого» языка), так и по субъективным - ощущении ненадобности затрат
таких усилий, поскольку рядом живущие люди могут говорить по-русски и осознании, что
«мы, русские, живем в своем государстве, где русский язык признан государственным».
В результате реальное двуязычие русских в республиках не только не
развивается, но и снижается. В Татарстане в 1994 г. 63% русских горожан хотели, чтобы
229
Российский статистический ежегодник. М., 1999. С. 236.
230
Там же. С. 237.
116
их дети знали татарский язык, а сейчас лишь 10% из них считают нужным обучать детей в
двуязычных школах. В Республике Саха (Якутии) – соответственно 50 и 24%.231
Обострение
межэтнических
отношений
является
наиболее
рельефным
проявлением дезинтеграционных тенденций. В то же время является некорректной
распространенная, особенно на Западе, оценка межэтнических отношений в постсоветской
России как повсеместно ухудшающихся.232
Характер межэтнических отношений сильно различается по регионам России.
На Северном Кавказе на протяжении всего постсоветского периода уровень
межэтнических отношений оценивается как наименее благоприятный, уже длительное
время идут военные действия, а межэтническое напряжение проявляло себя уже с начала
90-х гг.233
В республиках Сибири, особенно в Туве и Бурятии, этносоциологические
исследования 90-х гг. зафиксировали высокую солидаризацию по этническому принципу и
большую, чем в других регионах (за исключением Северного Кавказа), «готовность к
любым действиям во имя интересов своего народа», хотя в конце 90-х напряженность здесь
стала ослабевать.234
Вопреки представлениям о Татарстане и Башкортостане как республиках
этнического
неблагополучия,
в
них
сохраняются
достаточно
благоприятные
межэтнические отношения. Это подтверждается систематически проводимыми здесь
социологическими опросами. Так, не более 5–13% татар, башкир, русских в этих
республиках ответили, что им «приходилось испытывать ущемление своих прав из-за
национальности». На работе подобное ущемление чувствовали всего лишь около 4%. До
70% татар и русских в Татарстане, свыше 60% башкир и около 70% русских и татар в
Башкортостане считают, что «межнациональные отношения в республике не изменились»,
а еще 7–14% – что они даже улучшились. Как ухудшающиеся их оценивали всего 6–12%. В
результате приток русского населения сюда не прекращался в 90-е гг.
Феномен Татарстана достаточно интересен для всей мировой практики. Здесь
действительно предъявлялись серьезные этнические претензии на повышение статуса
231
Дробижева Л.М. Паин Э.А. Особенности этнополитических процессов и становления этнической
политики в Современной России // Политические и экономические преобразования в России и Украине. М.,
2003.
Оценками такого рода была переполнена научная литература и публицистика первых постсоветских лет.
См., например, Д. Ольшанский.Политическая психология распада. "Независимая газета"16. 01.1992;
Р.Пайпс. Русский шанс. "Столица"1992,#27; Л.Шевцова Ловушка для президентов. « Литературная
газета» 30.06.1993.
233
См., подробнее: Э. Паин. Чеченский и другие конфликты в России //Международная жизнь 1998, №9
234
Дробижева. Л. Паин Э. Указ соч. С. 250
232
117
республики, ее особое положение. Заявление элиты о суверенности автономии в 90-е гг.
поддерживали 70% татар. Известный американский конфликтолог Д. Хоровиц в 1994 г.
прогнозировал неизбежность возникновения там межэтнической конфронтации. К счастью,
оказались правы те, кто говорил о том, что конфликта удастся избежать.235
Другая ситуация в Башкортостане, где сохраняется потенциальная возможность
осложнения отношений между тремя основными этническими общностями – русской,
татарской и башкирской – в связи с языковыми и этнодемографическими проблемами
(например,
изменением
численности
русских),
а
также
непропорциональным
представительством этнических групп во власти. Однако вероятность открытых
конфликтов невелика, учитывая неконфронтационность сложившихся в республике
этнических элит.
Все другие республики Поволжья и Урала не продемонстрировали значимых
национальных движений и этнической мобилизации. Хотя уровень этнического
самосознания титульных этносов здесь тоже вырос, характер межэтнических отношений
существенно не менялся.
В самой большой по площади республике Российской Федерации – Саха (Якутия) –
межэтнические отношения нельзя оценить как напряженные, но они сложнее, чем в
Поволжских автономиях. Закрепленное социально-культурное разделение труда, особенно
в сфере управления, стимулирует латентное напряжение у русских (до 30%). У якутов
чрезвычайно высоки показатели потребности в этнической консолидации (до 80%),
интенсивности этнических чувств (до 70%) и ощущений ущемления своих прав по
этническому принципу (до 20% саха в городах). Для сравнения, среди татар в Татарстане
ощущения дискриминации испытывают лишь 5%. Все это также может вести к обострению
межэтнических отношений.
Однако в реальности перерастание психологической напряженности между
основными этническими общностями Якутии в открытые столкновения маловероятны.
Дело в том, что серьезным фактором, сдерживающим эскалацию межэтнических
противоречий, выступают особенности расселения народов. Большинство русских
локализованы в западных, добывающих, районах Якутии, где они живут в своей среде, и
частые контакты с якутами ограничены. В то же время нельзя исключить, что в случае
нарастания межэтнической конфронтации возможно усиление сепаратистских настроений
в западных районах республики.
Дробижева Л.М., Аклаев А.Г., Короблева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация и образы национализма в
Российской Федерации 90-х годов. М., 1996.
235
118
Намного спокойнее
ситуация в Татарстане, хотя здесь сравнительно высока
религиозность населения, а социологические исследования показывают, что религия
разделяет народы236.. Около 70% татар в городах – верующие (в селах – более 80%), и еще
около 15% – колеблющиеся. Доминирующая часть из них – мусульмане. И у русских теперь
в городах не менее 60% верующих и около 15% колеблющихся. В 1997 г. более 87%
опрошенных русских в Татарстане ответили, что они чувствуют себя «близкими» и «очень
близкими» с татарами, но вдвое меньше русских чувствовали какую-то близость с
мусульманами. То же самое татары. Среди них около 96% чувствовали «близкими» и
«очень близкими» с русскими, но с православными – только 26%.237
Еще сильнее русские ощущают дистанцию с буддистами. В Туве 60–70% русских и
тувинцев чувствовали взаимную близость, но с представителями иной конфессии
(буддисты – православные) – около 10%.238
Самые распространенные межэтнические проблемы в большинстве национальных
республик в основном связаны с вопросами отношения «чужих» к национальной культуре,
к сохранности родного языка, а также с проблемой доступа разных этнических групп к
управлению. При этом,
«неравный доступ к управлению», в качестве проблемы, чаще
всего упоминают русские жители республик, обследованных группой Л.М. Дробижевой. У
представителей других национальностей проявления этнической неудовлетворенности в
основном были связаны с «неприязненными высказываниями о них в русских СМИ и при
бытовом общении», с фактами «неуважения к национальным обычаям и традициям»,
выражающимся как в действиях федеральных властей («не того назначили» или
«неправильный закон приняли», так и в нежелании русских «считаться с нашей культурой».
Проблем сохранения родного языка до сих пор остается весьма острой для
большинства народов России, особенно, для коренных малочисленных народов Севера и
диаспоральных групп этнических меньшинств и часто служит поводом для обострения
межэтнических отношений.
В городах с доминирующим русским населением, в том числе Москве, СанктПетербурге, проблемные ситуации возникают в связи с притоком мигрантов с Кавказа, из
Средней Азии. Антикавказские установки стали расти с середины 90-х гг. По данным
разных социологических центров (ВЦИОМ, РОМИР, Институт социологии РАН, Институт
этнологии и антропологии РАН), они проявляются у 50–60% населения, а античеченские –
у 70%.
Дробижева Л. М.. Паин Э.А Указ Соч. С.252.
Там же.
238
Там же.
236
237
119
Вместе с тем, большинство россиян готово к межэтническим контактам в принципе
и весьма заинтересовано в улучшении межнациональных отношений в России. Опасность
же возникновения межэтнических конфликтов рассматривается населением России в
качестве одной из самых нежелательных тенденций среди вероятных изменений условий
жизни и как одна из главных угроз душевному покою человека.
К сожалению, наиболее известной особенностью этнополитической ситуации
России в последнее десятилетие ХХ века стали открытые этнополитические конфликты.
После распада СССР на территории России зафиксировано два длительных вооруженных
конфликта с участием регулярных войск; около 20 кратковременных столкновений,
повлекших человеческие жертвы, и несколько десятков невооруженных конфликтов,
имеющих признаки острой этнической конфронтации. По характеру и уровню
существующей и потенциальной конфронтации регионы России могут быть отнесены к
трем типам зон.239
1. Зоны вооруженных межнациональных и региональных конфликтов – это
регионы где идут военные действия либо наблюдается неустойчивое перемирие,
при котором вооруженные столкновения спорадически возобновляются в виде
отдельных вспышек насилия. Таковы Чеченская Республика и Пригородный
район Северной Осетии.
2. Зоны этнополитической напряженности – территории, на которых в
настоящее время сложилась обстановка этнопсихологического, идеологического
и политического противостояния между различными общинами, партиями,
националистическими организациями и слаба возможность местных властей
остановить эти процессы. Такая ситуация складывается в Дагестане и КарачаевоЧеркессии.
3. Зоны потенциальной этнополитической конфронтации – территории, где
пока не наблюдается идеологически или политически выраженных конфликтов
между разными этническими общинами или региональными группами
населения, однако в силу различных причин, прежде всего исторических,
имеются потенциальные предпосылки для возникновения межнациональной
напряженности, которая при некоторых условиях может перерасти в острые
этнополитические конфликты. К этой зоне можно отнести многие регионы
Южного федерального округа, включая не только республики, но отдельные
Использовано, в основном, (с некоторыми авторскими упрощениями) зонирование проведенное А
Поповым. См. Паин Э.А. (Ред.) Концепция государственной политики России в зонах этнических
конфликтов на территории СНГ. М.: ЦЭПРИ. 1994.
239
120
районы Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской
областей, а также Туву, Якутию, Башкирию.
Самым трагическим последствием межнациональных и региональных конфликтов
стали многочисленные человеческие жертвы. Только в одном из них, самом длительном и
ожесточенном на территории России, – чеченском – погибло (в 1994–1996 гг.), по
официальным данным, до 40 тыс. чел., в основном мирных жителей240. Аналогичны оценки
и некоторых независимых экспертов241. Однако, несмотря на все жертвы, чеченская война
вновь вспыхнула в августе 1999 г.
Более тысячи человек, преимущественно из числа гражданского населения, унес
осетино-ингушский конфликт242. Свыше 120 тыс. чел., проживавших в зонах конфликтов
на Северном Кавказе, вынуждены были спешно покинуть их, чтобы спасти жизнь свою и
близких243. Многие из вынужденных мигрантов до сих пор испытывают огромные
трудности в получении приемлемых жилищных условий, достойной работы и заработка.244
Параграф 4. Нелинейные этнополитические процессы: основные этапы
развития федеративных и межнациональных отношений.
Поэтапные процессы, содержание которых, а также мера и формы зависимости от
модернизации, могут меняться при переходах от одного периода к другому, не поддаются
классификации по шкалам: «унификация – рост специфичности» или «интеграция» «дезинтеграция».
За годы после распада СССР Россия прошла несколько этапов в развитии
федеративных и межнациональных отношений и на каждом этапе сталкивалась с особым
комплексом проблем, решаемых то более, то менее успешно. Главное содержание этих
этапов – изменение взаимоотношений федерального центра и регионов, прежде всего,
центра и республик.
Период «парада суверенитетов» (1991–1993 гг.). В канун и сразу же после распада
СССР, все республики РФ последовали примеру союзных и продемонстрировали так
Численность и миграция населения в 1996 г. С. 15.
См.: Мукомель В. Вооруженные межнациональные и региональные конфликты: людские потери и
социальные последствия // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. М.: Московский центр
Карнеги. 1997. С. 301.
242
Там же. С. 301
243
Там же. С.315
244
Вынужденные мигранты на Северном Кавказе.// Ред. В. Мукомель и Э. Паин. М.: «Ифонограф» .1997
240
241
121
называемый «парад суверенитетов», приняв соответствующие декларации. Первыми это
сделали еще в горбачевское время Татарстан, Якутия и Чечено-Ингушетия.245
О
серьезности
намерений
Татарстана
обрести
максимально
возможную
самостоятельность свидетельствуют и принятые ей конституция и конституционные
законы: Так, Конституция Республики Татарстан определяет ее как «суверенное
государство, субъект международного права». Закон о недрах отнес всю государственную
собственность на территории Татарстана, его недра с их содержимым к исключительной
собственности республики, а постановление «О воинской обязанности и воинской службе
граждан Республики Татарстан» обязало их проходить военную службу только в границах
Татарстана246.
Российские власти, напуганные взрывом вооруженных национальных конфликтов в
ряде регионов Федерации, и помня уроки не слишком удачной национальной политики
Горбачева, поначалу крайне лояльно отнеслись к принятию республиками деклараций о
суверенитете. Центр не препятствовал и изменению статуса национальных образований,
созданию в некоторых из них института президентства. Повышению их реального
политического
веса
способствовало
создание
Совета
глав
республик
под
председательством Б. Ельцина, на котором решались важнейшие вопросы федеральной
политики.
Это дало положительные результаты – до 1992 г. страна была едва ли не единственным
многонациональным государством, сумевшим избежать на своей территории кровавых
этнических конфликтов. Однако уже к 1993 г. уступки администрации Б. Ельцина
республикам стали предметом нарастающей критики его со стороны политической
оппозиции, преимущественно прокоммунистической, в Москве и в особенности в регионах.
Развернувшаяся в 1992–1993 гг. борьба за власть между двумя «центрами силы» в
России (президентом и парламентом) существенно ослабляла Федерацию. В этой борьбе
обе стороны спекулировали на проблемах федерализма и сепаратизма, что приводило к
несогласованности действий государственных органов и делало невозможным проведение
Россией целостной федеративной и национальной политики.
В ряде республик Северного Кавказа, Поволжья и Сибири под давлением
радикальных национальных движений была предпринята попытка конституционно
закрепить некоторые нормы, противоречащие Конституции РСФСР, а затем и Конституции
245
Эволюция взаимоотношений центра и регионов России: от конфликта к поиску согласия.//. Отв ред Азраэл
Дж.. Паин Э и Зубаревич Н. Москва, Комплекс-Прогресс, 1997
См.: Паин Э. «Татарстанский договор» на фоне «чеченского кризиса»: проблемы становления
федерализма в России // Год планеты: Политика. Экономика. Бизнес. Культура. Институт мировой
экономики и международных отношений РАН. М.: Республика, 1995. С. 163–168.
246
122
РФ в части целостности государства и прав человека. Наиболее остро это проявилось в
Чеченской Республике. Фактически перед страной в 1992–1993 гг. стояла реальная угроза
отторжения от нее ряда республик.
Следствием конфликта в высшем эшелоне власти стало и «расползание двоевластия»
по регионам, где тоже развернулась борьба между представителями исполнительной и
законодательной власти. Все это к осени 1993 г. привело к вероятности полного коллапса
власти и неконтролируемого распада страны. Можно по-разному оценивать трагические
события октября 1993 г., когда с помощью вооруженных сил был распущен Верховный
Совет России, но, справедливости ради, нужно признать, что конец двоевластия положил
начало восстановлению управляемости государством.
Период мирного укрепления федерации (1993–1994 гг.). Разумеется, важным
фактором восстановления авторитета федеральной власти явилась ее вновь обретенная
способность использовать различного рода санкции против нарушителей федеральных
законов, не опасаясь углубить внутриполитическую оппозицию. Осознав это, вскоре после
октябрьских событий большинство региональных советов отменило свои решения о
неисполнении указов президента РФ. Проявленная федеральной властью решительность в
пресечении
экстремистских
действий
(например,
в
недопущении
захвата
правительственных зданий в столице Кабардино-Балкарии) также позволила резко снизить
межнациональную напряженность и укрепить целостность страны. И все же главный итог
октябрьских событий и последовавших за ними выборов в Федеральное собрание состоит,
на наш взгляд, в том, что они подтолкнули власть, как федеральную, так и региональную, к
изменению политической тактики, к поиску согласия и компромиссов.
Этапными вехами на этом пути стали заключение Федеративного договора (1992 г.),
Договора об общественном согласии (1994 г.), договоров о разграничении предметов
ведения и полномочий между федеральным центром и органами власти ряда республик
(1994–1995 гг.). Практически была исключена вероятность заявления кого-либо из
руководителей республик, краев, областей о возможности выхода из состава федерации, о
целесообразности самостоятельного существования вне России. Показательным является
положение Договора об общественном согласии, подписанного всеми субъектами
федерации (кроме Чечни), о том, что «...реализация прав субъектов Федерации возможна
только при обеспечении государственной целостности России, ее политического,
экономического и правового единства».
Одним из первых практических выражений новой концепции «согласия» стал договор
«О разграничении полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации
и
Республики
Татарстан».
Он
резко
ослабил
позиции
радикально
123
националистических сил в республике, которые до того времени были одними из самых
влиятельных в стране.
Период попыток сохранения целостности федерации военными средствами
(1994–1996 гг. и 1999 г.). В декабре 1994 г. федеральные власти впервые предприняли
попытку военным путем подавить чеченский сепаратизм. После упорных боев российская
армия формально взяла под свой контроль свыше 90% территории, по крайней мере, были
взяты («освобождены») все города республики. Однако именно после этого началась
партизанская война, и российская армия начала терпеть поражения, нести основные потери.
Двухлетняя военная операция завершилась подписанием в августе 1996 г. так называемых
Хасавюртовских соглашений. Какое то время казалось, что мирная жизнь в Чечне
налаживается, однако в октябре 1999 г. после вылазки объединенных чеченских и
дагестанских ваххабитских групп в Дагестан снова возобновились военные действия,
которые публицисты окрестили «второй чеченской войной», а военные – «операцией по
подавлению терроризма».
Вторая чеченская война длится уже почти четыре года и потери российских войск,
даже по официальным данным, уже больше, чем в первой. Между тем, история подобных
событий в ХХ веке показывает, что в тех случаях, когда война затягивается, нападающая
сторона имеет все меньше шансов на успех. Объясняется это следующими причинами:
армия не может быть дислоцирована длительное время на территории, большая
часть населения которой относится к ней враждебно. В таких случаях войска
неизбежно деморализуются, что и подтвердили прошедшие судебные процессы над
военнослужащими российского корпуса в Чечне;
чем дольше длится война, тем больше экономических тягот испытывает все
общество. По данным академика Н. Петракова, ежемесячные затраты на чеченскую
кампанию оцениваются приблизительно в 160 млн долл. в месяц. Пока эти затраты
не так уж сильно ощущались, поскольку частично компенсировались высокими
доходами от продажи нефти и газа по весьма благоприятным для России ценам.
Однако при изменяющейся конъюнктуре на мировом рынке многолетние расходы
могут стать обременительными;
чем дольше тянется война, тем больше населения страны испытывает недовольство.
Кто-то лишился своих сыновей на войне, кто-то вынужден обслуживать
родственников-инвалидов чеченских войн, кто-то испытывает тревогу за своих
детей, которым предстоит служба в армии.
армию, которая длительное время не может достичь решающей победы, перестают
бояться не только партизаны, но и потенциальные повстанцы других районов. Их
124
логика примерно такова: «Если российская армия длительное время не может
одержать победу над чеченцами, которых осталось не более 400 тыс. в этой
республике,
то,
как
они
смогут
победить
повстанческие
армии
более
многочисленных национальных сообществ?» Следовательно, российская армия
может утратить функцию сдерживания радикального сепаратизма.
Хотя автор еще не раз будет обращаться к теме Чеченской войны, пока замечу лишь,
она является самой больной и сложной проблемой национальной политики России.
Период укрепления «вертикали власти» - с 2000 года по настоящее время.
Чеченская война и административные реформы являются проявлениями одной и той же
идеологии, которую обычно называют «неотрадиционализмом. С конца 90-х годов в
России возобладали ценностные ориентации, характерные для традиционных обществ.
Доверием пользуются лишь три института - правитель (в личном качестве, а не как
институт президентства), церковь и вооруженные силы, включая военнослужащих МВД и
ФСБ, при крайне низком доверии к правительству, к парламенту, к суду, не говоря уже о
политических партиях. Главной в политике стала идея выстраивания вертикали власти с
президентским аппаратом на ее вершине и усиления роли традиционных для России
рычагов управления таких, как прокуратура, милиция, силы безопасности и др. В этом
контексте создание федеральных округов во главе с полномочными представителями
выглядит не как продолжение периода реформ, а как возврат к советской традиции
назначения в регионы полномочных представителей Центра – партийных секретарей.
Именно так это и воспринимается в обществе, при этом советская традиционность придает
этому проекту дополнительную привлекательность, поскольку с конца 90-х годов
позитивное отношение к советской эпохе стало преобладающим в общественном мнении
россиян.
Развитие правовой и доктринальной базы этнополитики. При всех колебаниях
национальной политики России, она все же никогда не выходила, за рамки неких
доктринальных постулатов, закрепленных в Конституции Российской Федерации и в
других правых актах.
Большинство из этих доктрин основаны на нормах международного права, хотя, к
сожалению, не все заимствования из международного права в национальной политике
осмысленны. И недостаток осознания пользы подобных заимстовований характерен не
только для российского общественного мнения, но и для многих представителей
политической элиты страны. Прежде всего, это касается «принципа национального
самоопределения».
125
В международных документах, которые закрепляют права человека, одновременно
предусматриваются и гарантии соблюдения принципа национального самоопределения.
Так, Всеобщая декларация прав и свобод человека ООН, Международный пакт о
гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах, принятые в 1966 г., содержат положения о том, что «все
народы имеют право на самоопределение; все народы для достижения своих целей могут
свободно
распоряжаться
своими
естественными
богатствами
и
ресурсами;
все
участвующие [в этих документах – авт.]… государства… должны в соответствии с
положениями Устава Организации Объединённых Наций поощрять осуществление права
на самоопределение и уважать это право».247 На эти положения, закрепленные в Уставе
ООН, ссылаются идеологи защиты прав народов.
Есть и другие международные документы, которые увязывают расширение прав
человека с гарантиями прав этнических групп. Среди них – Парижская хартия всей Европы
от 21 октября 1990 г., европейская Декларация о хартии народов и регионов, принятая в
Карлсруэ в 1996 г., и др.248
Понятно, что первая после распада СССР Конституция России 1993 г. не могла
игнорировать международные документы, хотя ее составители больше думали не столько
о соответствии ее международным стандартам, сколько об адекватности внутренней
политической ситуации. Конституция принималась под непосредственным впечатлением
от роста национальных движений, распада Союза, сепаратизма в Чечне, деклараций о
суверенитете в республиках России. Имел тогда значение и сыгравший свою роль
субъективный фактор – президент Б. Ельцин искал в руководителях автономий опору в
борьбе с коммунистической оппозицией, составлявшей большинство в российском
парламенте. Уступкой национальным элитам стала ст. 5 Конституции РФ, в которой дано
определение республик в составе федерации, названных, хоть и в скобках, государствами,
– «Республики (государства) имеют право…».
Тогда такую запись большинство оценивало как позитивный для страны в целом
компромисс, уменьшающий опасность конфликтов, но впоследствии юристы и политики
федерального центра и республик стали интерпретировать эту запись по-разному. Первые
считают суверенной только Российскую Федерацию, а вторые – что имеет место
разделённый суверенитет, так как республики названы в скобках государствами, а
Цит. по: Дробижева Л. М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России.
Москва: ИС РАН. 2003. С. 27
248
Charta Gentium et Regionum, Muenchen, 1996, pp. 77-78.
247
126
государство не может быть без суверенитета. С. Шахрай назвал такой суверенитет
распределенным.249
Конституция гарантирует права человека, в том числе и лицам, принадлежащим к
национальным меньшинствам: «Каждый имеет право на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества» (ст. 26). «Не
допускается
пропаганда
национальную
или
или
агитация,
религиозную
возбуждающая
ненависть
и
вражду.
социальную,
Запрещается
расовую,
пропаганда
социального, расового, национального или языкового превосходства» (ст. 29). Есть в
основном законе страны и положения, касающиеся права на сохранение родного языка (ст.
68), и прав малочисленных народов (ст. 69). Суверенитет Российской Федерации
провозглашён от имени многонационального народа (ст. 3). Таким образом, Конституция
закрепляет мультиэтническую модель российского общества.
Принципиальное значение для формирования институционального пространства
имело принятие закона РФ «О национально-культурной автономии» и Концепции
государственной национальной политики Российской Федерации. Это означало: 1)
признание того, что национальная политика охватывает все народы, в том числе не
имеющие
своих
административно-политических
образований,
и
2)
возможность
самоопределения народов без изменения сложившегося государственного устройства.
Создание этнокультурных общественных объединений, центров, национальнокультурных автономий (НКА) расширяло пространство для формирования гражданского
общества.
В
частности,
общественное
движение
Ассамблея
народов
России
компенсировало отсутствие в парламенте палаты национальностей, бывшей в Совете
Федерации до 1993 г. НКА и Ассамблея проводят свои съезды, участвуют в подготовке
законов в сфере этнополитики.
В результате в 90-е гг. федеральной власти удалось не только предотвратить
разрастание этнического сепаратизма, локализовать его, но и создать условия для спада.
Утверждение же Концепции государственной национальной политики РФ указом
президента (19 июня 1996 г., № 909) повысило значимость этнополитических проблем до
уровня оборонных и внешнеполитических.250 Вместе с тем, этот документ не стал по ряду
причин действенным ориентиром для органов государственной власти в решении
этнополитических проблем. Он оказался, к тому же, фрагментарным, направленным на
решение лишь отдельных задач, вырванных из общеполитического контекста.
Шахрай С.М. Федерализм по-казански // Независимая газета. 27 февраля 2001 г.
Только для этих областей были специально разработаны государственные концепции, утвержденные
особыми указами президента России.
249
250
127
Поэтому сейчас, чтобы восполнить такие пробелы, идёт работа по корректировке
Концепции, а также подготовка комплекса федеральных законов, среди которых я бы
выделил прежде всего два следующих закона: «Об уполномоченном Федерального
собрания Российской Федерации по правам народов Российской Федерации» и «Об
основах государственной национальной политики Российской Федерации».
При корректировке Концепции во главу угла ставятся такие цели, как
совершенствование государственных структур в интересах граждан всех национальностей,
проживающих на территории субъектов федерации; обеспечение межнационального
согласия, уважения к традициям народов, «любви к родному краю, к России»; создание
условий для социально-экономического и культурного развития народов и их
взаимодействия; предотвращение и мирное разрешение межэтнических конфликтов.251
Говоря обобщенно, правовую и доктринальную базу этнонациональной политики в
России можно оценить как
вполне современную и в основном соответствующую
международным стандартам, однако беда в том, что правовые нормы вообще пока слабо
влияют на реальные процессы в России, а в этнополитичекой сфере это особенно заметно.
Ни политические декларации высшего российского руководства, ни политические
программы межэтнической толерантности, разрабатываемые под непосредственным
покровительством Президента России, по своему реальному влиянию на этнонациональные
процессы не идут ни в какое сравнение с такими конкретными мерами федеральных
властей, как административная реформа, антитеррористическая операция в Чечне или
поддержка определенных политических фигур на губернаторских выборах. Между тем
последствия названных и многих других упрвленческих решений и действий, зачастую,
далеки от тех, на которые расчитывали власти.
Подводя итог анализу, проведенному в данной главе, можно выделить следующие
тенденции в качестве наиболее характерных для современной этнополитической ситуации
в России:
1.Рост этнического самосознания большинства народов;
2. Противоречивость процесса сближения социальных структур народов России.
Большинство народов догоняет или уже догнало русских по уровню образования и
социального развития. Вместе с тем, утрата этническим большинством статуса
«социального лидера», также как и уменьшение удельного веса русских в составе
населения федерации и в стране – весьма болезненный процесс, осложняющий
межнациональные отношения;
Автор является членом Рабочей группы по корректировке Концепции государственной национальной
политики.
251
128
3.Ограниченность форм межэтнической кооперации только сферой рыночной
экономики;
4.Преобладание дивергенции в современных этнополитических процессах, котрая
проявляется в сферах культуры, этнодемографического развития, расселения народов.
Большинство форм такой дивергенции осложняют межэтнические отношения
5.Несмотря на то, что вооруженные сепаратистские движения сегодня ограничены
только территорией Чеченской Республики, они, тем не менее, представляют наибольшую
опасность в ряду этнополитических проблем России.
6.Межэтническая напряженность, реальная или потенциальная, сохраняется на
обширной территории России, прежде всего, в зоне Южного федерального округа. Эта
напряженность, перерастающая порой (как в случае с осетино-ингушским конфликтом) в
межреспубликанские
противоречия,
также
представлет
собой
острую
проблему
национальной политики. В число весьма актуальных в последнее время выдвигается
проблема роста ксенофобии, осбенно по отношению к иноэтническим мигрантам.
7.Государственная политика России в этнополитической сфере неоднократно
менялась на протяжении последнего десятилетия. При этом лучшие результаты были тогда,
когда федеральная власть склонялась к поиску компромиссов с представителями
региональных и этнических элит, а не уповала на силовое решение соответствующих
проблем.
Наиболее трагические последствия имели для страны две чеченские кампании. При
этом российская
национальная политика на протяжении разных ее периодов
демонстрировала свой противоречивый характер. Так, создание вполне современного и,
соответствующего
мировым
нормам,
законодательства
могло
сопровождаться,
противоречащими законодательству или спорными в правовом отношении, действиями
федеральных и региональных властей в отношении различных этнических групп.
Глава 3. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ:
«ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ» И «ЭПОХА СТАБИЛИЗАЦИИ».
129
Параграф 1. Цикличность модернизации и этнополитических процессов:
интерпретация взаимосвязи исследуемых явлений
Постсоветскую историю России часто подразделяют на два периода, по времени
правления двух лидеров. Сравнение «эпохи Ельцина» с «эпохой Путина» сегодня
пользуется популярностью у политологов и, на мой взгляд, такой компаративизм не лишен
эвристичности. Период правления Бориса Ельцина часто называют "эпохой революции",
поскольку в это время протекали наиболее бурные процессы, связанные: с инерцией
распада СССР и становлением новой федерации в России, массовым притоком в нашу
страну мигрантов из республик бывшего Союза, столкновением внутри российской
политической элиты и радикальным переделом собственности. С фактическим приходом к
власти Владимира Путина в 1999 г. совпало по времени начало периода, который сегодня
называют "эпохой стабилизации".
В этнополитической сфере важнейшей особенностью, характеризующей эти два
периода, было чередование протестной активности, тревожности этнических
меньшинств и этнического большинства.252 Первый период постсоветской России
прошел под знаком активности этнических меньшинств. Второй начался с активизации
этнического большинства. Существует ли связь между сменой активности разных
этнических общностей? Исследовательская гипотеза состоит в том, что эти явления
взаимосвязаны и носят маятниковый характер: активность меньшинств, прямо или
косвенно, активизирует большинство, которое, в свою очередь приводит к возобновлению
активности меньшинств. Предполагается также существование зависимости между
чередованием активности этнических общностей и модернизационными процессами в
постсоветской России.
Относительно характера и успехов модернизации России существуют разные точки
зрения среди социологов и политологов. Прежде всего, обсуждаются перемены в сознании
в социальной структуре населения, с точки зрения соотношения в них традиционных и
новых черт. Перечислю несколько таких оценок.253
Используемые мной термины условны - это аналитические конструкты, не претендующие на
универсальность и, тем более на применение в законодательстве. Под этническим большинством понимаются
русские, за исключением тех, которые в некоторых республиках России фактически представляют собой
этническое меньшинство. Термин «этнические меньшинства», в данной работе не совпадает с принятым в
международном праве термином «национальные меньшинства» и применяется для обозначения не только
диаспоральных групп, но и так называемых «титульных народов» республик и национальных округов России.
253
Более подробно классификацию и анализ различных точек зрения на указанную тему см. Цирель Сергей.
Русские европейцы между «казаться» и «быть». http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=299
252
130
Модернизация идет достаточно успешно, однако она может сорваться из-за
неадекватных представлений элиты о процессах, происходящих в стране, и
неадекватности самой элиты стоящим перед ней задачам.
Модернизация не имеет успеха, поскольку атомизация общества, распад
традиционных структур превалируют над формированием современных
корпоративных начал и интеграционных механизмов.
Модернизация носит неустойчивый волнообразный характер - волны ее
подъема сменяются волнами рецидивирующего традиционализма.
Маятниковый характер этнополитических процессов как будто бы подтверждает
волновую концепцию модернизации, однако интерпретация взаимосвязи динамики
этнических процессов и волн модернизации может быть различной.
Концепция этничности как
института
традиционализма. Если
признать
справедливым весьма распространенное представление о том, что всякий рост этнического
самосознания усиливает традиционность населения254, то при такой интерпретации волны
традиционализма накрывают весь период перестройки в СССР и почти весь постсоветский
период, за вычетом небольшого временного отрезка (между 1994-1998 гг.), когда
активность этнических меньшинств уже, в основном, спала, а активность большинства еще
не набрала размаха.
Такая концепция не только не плодотворна для осмысления эмпирического материала,
но и принципиально не верна по самой постановке проблемы, поскольку в ней, во-первых,
смешиваются два разных феномена: культурные традиции, с одной стороны и социальнополитические – с другой, во-вторых, предполагается, что культурный традиционализм
всегда соответствует политическому. Между тем существует немало примеров того, как
общества, чрезвычайно бережно относящиеся к своему этнокультурному наследию,
одновременно демонстрируют высокую склонность к экономическим и социальнополитическим модернизациям. Англичане и японцы, французы и голландцы чрезвычайно
дорожат своими культурными традициями, что не мешает им быть не меньшими, по
крайней мере, модернистами, чем, скажем, жители Белоруссии, где забвение традиционных
культурных норм, например, национального языка, одно время было официальной
доктриной администрации Лукашенко.
Культурный традиционализм, в принципе, не только не препятствует развитию
гражданской нации, но и является одним из ее главных условий. Только общества, в
которых существует традиция сакрализации таких атрибутов современности как
собственность,
гражданские
права,
Конституция,
способны
осуществлять
последовательную модернизацию. И наоборот, те общества, где не сложилась традиция
См. Например дискуссию в книге: «Расизм в языке социальных наук. на конференции» Под ред.
В.Воронкова. О.Карпенко, А.Осипова. Санкт-.Претебург. «Алтея» 2002. с.19-28.
254
131
уважения Конституции, собственности и гражданских прав; общества, членам которых
необходимо все время объяснять и доказывать, почему нельзя постоянно пересматривать
Основной Закон, периодически производить передел собственности и сомневаться в
абсолютной ценности человеческой жизни - обречены на постоянное чередование
революций и контрреволюций, реформ и контрреформ. Традиционные культурные нормы,
которые практически всегда имеют этническую оболочку и некоторую специфичность,
выполняют в социальном мире такую же функцию как инстинкты в биологическом.
Человек как биологический феномен не смог бы выжить, если бы инстинктивно, не
задумываясь, не отдергивал бы руку от раскаленного предмета. Человечество как
социальное явление не выжило бы, если бы, например, не хранило, не всегда объяснимую
(и обычно не разъясняемую) на рациональном уровне традицию заботы о старых и
немощных членах общества.
Этнический традиционализм может стать предпосылкой политического, только, когда
специально эксплуатируется в конкретных политических целях, так называемыми
этническими антрепренерами. В таких случаях, те самые особенности этнического
самосознания, которые обеспечивают автоматизм передачи культурных норм и
культурного самосохранения человечества, становятся угрозой для социальной и
политической модернизации. Эмоциональность этнических отношений, используется для
быстрой мобилизации масс; иррационализм восприятия традиций как должного, позволяет
внедрять в сознание не рациональные и иногда крайне опасные для самой общности
политические цели; коллективная историческая память, как хранитель традиций,
превращается с помощью пропаганды, в механизм актуализации исторических обид и
развития ксенофобии. Главное же, что коллективизм, как источник сохранения
коллективных представлений, превращается в механизм тирании сообщества над
индивидом. В условиях высокой этнической мобилизованности, остракизму подвергается
всякое инакомыслие, при этом коллективный «авторитаризм» общественного мнения,
часто бывает более жестким, чем авторитаризм личной власти. Не многие способны на
поступок философа Мамардашвили, осмелившегося публично сказать, что мой народ,
избравший диктатора, не прав.
Механизмы
инструментального
использования
этничности,
манипулирования
этническим сознанием хорошо изучены.255 Известна негативная роль этнических
См, например, Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict.- Berkley, Cal., etc. 1985. На материалах российских
исследований лучший анализ этой проблематики, на мой взгляд, сделан в небольшой статье Попов А. Попов
А. Причины возникновения и динамика развития конфликтов // Идентичность и конфликт в постсоветских
государствах. Ред. Марта Олкотт, Валерий Тишков. М., Московский центр Карнеги.1997. С. 273297.
255
132
антрепренеров вообще (в теоретическом смысле) и конкретно в определенных
исторических обстоятельствах. Все это принимается автором в качества базовых
методологических установок. Однако я принципиально не согласен с представлениями, все
больше утверждающимся в российской этнологии, о том, что всякая этническая
мобилизация есть зло. Такие представления противоречат всему мировому опыту,
показывающему, что подавляющее большинство современных государств мира, когда–то
были колониями или провинциями неких империй (Австро-Венгерской, Османской,
Британской и др.) и само их появление было возможно только как следствие протестной
этнополитической мобилизации (не обязательно в форме национально-освободительных
войн). Более того, бывшие колонии, часто демонстрировали большую склонность к
модернизации, чем страны-метрополии. Так было в Нидерландах по сравнению с
Испанской империей, в Соединенных Штатах по сравнению с Британской, в Чехии и
Венгрии по сравнению с Австро-Венгерской, в Финляндии по сравнению с Российской и
т.д. Сама логика антиимперской борьбы подталкивала новые независимые государства к
развитию идей гражданской нации. Разумеется, история указывает и на другие примеры,
когда новые государства приходили к диктатуре, но об этом мы еще поговорим.256
Неверно полагать, что антиколониальная этническая мобилизация ушла в прошлое. До
сих пор в мире существуют полноценные диктаторские империи, сохраняется и имперская
политика у не имперских по своей внутренней организации государств, поэтому протестная
этнополитическая консолидация неизбежна. Именно поэтому чрезвычайно важно
учитывать целевую направленность этнополитических движений.
Вторая из рассматриваемых нами концепций взаимосвязи этполитических и
модернизационных процессов в постсоветской России как раз и основывается на учете
политической направленности этнической активности. Точнее, речь идет об учете целей
этнических элит, которые используют и, во многом, направляют этническую активность
масс.
Концепция односторонней
модернистичности
меньшинств.
В этом случае
рассуждения обычно строятся следующим образом. Элиты этнических меньшинств
направляли их активность на разрушение имперских основ СССР и на устранение их
остатков в Российской Федерации. Такая направленность этнической активности делала ее
частью модернизационного процесса, который продолжался до середины 1990х годов.
Элиты этнического большинства в России используют этническую активность,
См, например, Паин. Э. Центральная Азия: модели национальной политики новых независимых
государств. // Российский монитор. - 1995.№5, с.20-33.
256
133
недовольства масс в противоположных целях - для реставрации имперского устройства и в
этом смысле усиливают общую традиционализацию общества. Такая направленность
этнических процессов проявилась после 1999 г., т.е. в «эпоху стабилизации».
Интерпретация, основанная на учете политических целей этнических активистов,
кажется мне более обоснованной, чем огульная оценка этничности как фактора
политического традиционализма. Однако и она требует уточнений, отражающих
неоднозначность взаимосвязи этнополитических и модернизационных процессов.
Безоговорочная поддержка национальных движений этнических меньшинств, как
составной части общедемократического процесса, была характерна для российских
либералов времен перестройки и первых лет постсоветской России. Однако сама жизнь
показала упрощенность подобных оценок. Так, некоторые лидеры этнических меньшинств,
выступая с антиимперских позиций и, в этом смысле, выполняя модернизирующую
функцию на общесоюзном и общероссийском уровне, одновременно могли навязывать
политически традиционные порядки внутри своих республик (союзных или автономных).
Далее, какими бы благими целями не мотивировались требования расширения
самостоятельности республик, они зачастую нарушали баланс интересов большинства и
меньшинств и в той или иной мере провоцировали рост традиционализма этнического
большинства. И, наконец, такая концепция неадекватно оценивает роль этнического
большинства в модернизации.
Концепция модернистического потенциала этнического большинства. На мой
взгляд, принципиально неверно рассматривать этническое большинство, как носителя
политического традиционализма. Политическая модернизация в целом и такая ее
компонента, как переход от имперского общества к гражданскому, во всем мире и чаще
всего возглавлялся именно представителями этнического большинства. Да иначе и быть не
могло, поскольку без опоры на большинство идея гражданской нации не может быть
реализована. Именно представители большинства, как правило, выдвигали некие
интеграционные модели для других этнических общностей. Эти модели были разными.
Революционная Франция выдвигала идею гражданского равноправия для всех этнических
общностей, но требовала культурной, по крайней мере, языковой однородности нации.
Знаменитый лозунг аббата Грегуара гласил, что все граждане должны говорить на одном
языке, поскольку только тогда они могут сообщать свои мысли беспрепятственно и иметь
равный доступ к государственным постам.257 Впрочем, даже якобинская Франция
257
Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge. 1992. P.7
134
проявляла терпимость к культурным особенностям этнографических групп, допуская
некоторое культурное пространство для бретонцев и корсиканцев.
Мировые модели формирования гражданских наций, так или иначе учитывают
этнические различия населения и в той или иной мере могут быть распределены на оси
между французской и швейцарской. Одни из них предполагают предоставление
меньшинствам компенсаций за отсутствие возможности полноценной политической
самозащиты электоральным путем, другие, как французская, этого не предусматривают,
допуская все же какие-то формы культурных автономий, однако все они исключают
возможность предоставления преимущественных прав большинству и какую-либо
иерархичность построения системы межэтнических отношений. Такой тип отношений
складывался только в имперских государствах, и, прежде всего, в государствах
диктаторского типа.
Можно с уверенность сказать, что во всех известных исторических случаях, лидирующая
роль представителей этнического большинства в интеграции общества сопровождалась их
отказом от требований преимущественных прав для себя.
Почему привилегии меньшинствам менее опасны для общества, чем преимущества,
предоставляемые этническому большинству? Прежде всего, потому, что они носят
заведомо компенсационный характер, тогда как преимущество большинству лишь
усиливают его политическое доминирование. Еще важнее то, что преимущества, пусть
даже чисто символические, большинству (составляющему 70-80% населения страны), сразу
же выводят этнический фактор в число основных социально-стратификационных и
политических и социальных стратегий общества. В таких условиях и речи быть не может о
развитии единой гражданской идентификации для членов всего общества. Можно
оспаривать результативность неких механизмов «защиты меньшинств», предусмотренных,
например, Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств
(1998г).258 Однако совершенно очевидно, что такие меры не способны усилить
авторитарные тенденции в обществе, напротив демократия проявляет себя, прежде всего, в
своем отношении к меньшинствам, ко всем их разновидностям - политическим,
конфессиональным, этническим и, даже сексуальным. В то же время, исторический опыт
показывает, что любые попытки предоставления особого статуса большинству неизбежно
приводили к росту авторитаризма, к диктатуре. Немецкое большинство Германии обрекло
Автор и сам писал о трудностях реализации некоторых ее положений в Российской Федерации
см.:Национальные меньшинства. Правовые основы и практика обеспечения прав лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам в субъектах юга Российской Федерации.// Под. ред. В. Мукомеля. - М.: Центр
этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ). 2003. С.8
258
135
себя на диктатуру уже тем, что согласилось признать себя этнически и расово более
полноценным, чем другие народы. Такая же судьба постигла и некоторые новые
независимые государства, в которых этническое большинство наделило себя особыми
правами. Это не только привело к настоящей межэтнической резне, но и к появлению новых
императоров, новых диктаторов, новых вождей (ливийских, туркменских, угандийских и
др.). Весьма вероятным было и дальнейшее усиление тоталитарных тенденций и в
Советском Союзе, если бы доктрина «руководящего народа» предложенная Сталиным в
1945 г., успела реализоваться.259 Однако уже его преемник Н. Хрущев в числе первых своих
решений провел общую либерализацию национальной политики, в частности принял указы
о возвращении депортированных народов (1956 г.)
Итак, только этническое большинство, оно же и электоральное большинство, способно
возглавить процесс продвижения идей модернизации в обществе. Этническое большинство
всегда является культурным эталоном для меньшинств, оно задает норму межэтнической
толерантности, оно, как правило, характеризуется меньшей этнической тревожностью,
меньшим уровнем ксенофобии и больше, чем меньшинства, готово к уступкам в
межэтнических отношениях.
Высокая этническая толерантность русских и практически всеобщее владение
русским языком всех народов России, еще недавно, казалось бы, давали основания для
прогноза сравнительно безболезненного развитии гражданской нации в стране. Но в том то
и состоит одна из проблем России, что процесс перехода от этно-нигилистического
сознания этнического большинства, характерного для условий империи к национальному,
стал развиваться в направлении, противоположном ожидаемому.
Параграф 2 Маятник активности этнических общностей
Первый цикл - активизация этнических меньшинств. Этот процесс стал заметным
в канун распада СССР и сохранялся на высоком уровне до 1993 – 1994 гг. Эта активность
проявилась,
прежде всего, в ходе многочисленных этнических конфликтов, начиная с
Карабахского (1987 г). Инерция этого процесса сохранялась и в первые годы жизни
постсоветской России. Именно национальные движения этнических меньшинств
возглавляли
так
называемый
«парад
суверенитетов»
-
принятие
российскими
республиками деклараций о суверенитете, очень похожих на те, которые до того были
259. См.
Речь И.В. Сталина на встрече с командующими фронтами 25 мая 1945 года. «Правда», 1945, 25 мая.
136
приняты союзными республиками, ставшими вскоре независимыми государствами (19901991 гг.). Этнические меньшинства были сторонами многочисленных этнополитических
конфликтов в России, как крупных вооруженных, например, осетино-ингушского, так и
множества мелких, порой даже не замечаемых российским обществом, таких, как
конфликты между различными народами республик Северного Кавказа и Поволжья. И
даже на международной арене, в отношениях России с новыми независимыми
государствами, на первом этапе наибольшую активность проявляли этнические
меньшинства. Примером может служить «абхазский конфликт» и участие в нем больших
групп волонтеров, состоящих из представителей народов Северного Кавказа. Однако уже к
середине 90-х годов становится заметным спад активности этнических меньшинств. С этого
времени не было ни одной серьезной вспышки этнического сепаратизма, за исключением
чеченского, о котором особый разговор. После 1993 г. практически не проявляет себя
осетино-ингушский конфликт. И даже в таком котле потенциальных этнических
противоречий, как Дагестан, затихли активно выступавшие до той поры национальные
движения аварцев, лезгин, нагайцев, лакцев и других. Показательна ситуация в Татарстане.
После 1994 г, а именно, после подписания известного договора о разграничении
полномочий между органами власти республики и федерального Центра, перестали быть
сколько-нибудь заметными такие некогда могущественные национальные партии,
объединения и организации как Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), комитет
"Суверенитет", партия "Иттифак", объединение "Азатлык", Исламская демократическая
партия, Комитет защиты Татарстана, Общество им. Марджани и др. Их лидеры не получили
поддержки у населения на выборах федеральных, региональных и даже местных.
Причины взрыва политической активности и проявления различных форм
недовольства этнических меньшинств в революционные периоды сравнительно хорошо
изучены.260 В предшествующие революциям эпохи, тоталитарного или авторитарного
правления, недовольство меньшинств накапливалось и затем в периоды слома режима
вырывалось наружу. Такой взрыв, в принципе, тем вероятнее, чем больше в исторической
памяти народов накапливается обид, интерпретируемых как проявления этнической
дискриминации. Российская история, особенно советского периода, дала для этого немало
поводов. Она буквально переполнена фактами государственного произвола. Здесь и
260
См. например, обзор концепций на эту тему. Mukomel V and Payin E. The Causes and Demographic-Social
Consequences of Interethnic and Regional Conflicts in the post-Soviet Union // In the Population Under Duress. The
Geodemography of Post-Soviet Russia. Ed. By George J. Demko, Grigory Ioffe, Zhanna Zayonchkovskaya.
Westviev Press. 1999. Pp.177-183.
137
деление народов по сортам и рангам и произвольное расчленение этнических границ и,
разумеется, различные виды этнических чисток, депортаций.
Настроения недовольства были использованы национальной элитой
в целях
политической мобилизации меньшинств, однако за десять лет такой мобилизации (с
середины 80-х по середину 90-х годов) активность этнических меньшинств заметно спала.
Сказались усталость основной массы представителей этнических общностей, да и
национальная элита во многом успокоилась, поскольку реализовала многие свои
политические цели (бывшие союзные республики стали независимыми, а российские повысили уровень своей автономии). К тому же процессы приватизации и развития новых
политических институтов, новых органов власти, оттянули немалую часть этнических
активистов. Все это в немалой мере обусловило стабилизацию этнополитических процессов
в среде меньшинств.
Лишь одна Чечня как будто застряла в прежней эпохе. Лидеры чеченского
национального движения не успели реализовать идею национальной независимости в эпоху
этнических революций и сейчас их действия выглядят как анахронизм. Другое дело, что
отношение к чеченскому сепаратизму со стороны россиян могло бы быть совершенно
иным, если бы в эпоху произвола национальной политики кто-либо из советских вождей
приписал бы Чечню не к России, а, скажем, к Грузии, как Абхазию и Южную Осетию или
как присоединили Крым к Украине. В этом случае отношение российского общества к
чеченскому сепаратизму, могло быть столь же благожелательным как к сепаратизму югоосетинскому, абхазскому или к крымскому. Так уже бывало в Российской истории,
например, в середине XIX в. Тогда российское общество с энтузиазмом подстрекало
«болгар к бунту против Стамбула или чехов – против Вены, принимая в то же время позу
благородного негодования, едва заходила речь о совершенно аналогичном бунте поляков
против Петербурга». 261
Что касается динамики активности этнического большинства, то она изучена
несравненно хуже, чем этнополитические процессы в среде меньшинств, а взаимосвязь
динамик этнических процессов у большинства и меньшинства и того хуже. Известны лишь
достаточно тривиальные факты, о том, что самосознание этнического большинства менее
выражено и слабее подвержено тревогам, чем у меньшинств. Большинство доминирует как
в культуре, так и в политике (бывают исключения, но в современном мире они чрезвычайно
редки), и ему не нужно включать дополнительные механизмы групповой консолидации для
адаптации к новым условиям. У большинства не возникает необходимости смены
261
Янов А.Л.Патриотизм и национализм в России 1825-1921. - М.: ИКЦ «Академкнига» 2002. С.121-122
138
этнической идентификации и в своей бытовой повседневности оно значительно реже, чем
меньшинства, сталкивается с явлениями, задевающими его этнические чувства.
Основываясь на материалах первых социологических исследований русского
населения, проведенных в 1970-1980-х гг., в разных республиках СССР,
можно
охарактеризовать межнациональные установки русских как этнический нигилизм,
безразличие ("Мне все равно, я никогда не задумывался какой они национальности"). В
1970-х гг. более 90% опрошенных русских не придавали значения тому, с представителями
каких национальностей они вместе работают, при этом такие межэтнические установки
почти в равной мере проявлялись у русских в городах России и в других республиках. И
даже в особо чувствительной к этническим различиям сфере брачных отношений русские
демонстрировали наибольшую толерантность в сравнении с другими народами страны,
особенно представителями народов Средней Азии и Кавказа которые крайне редко
проявляли готовность к вступлению в межнациональные браки (особенно женщины). Так,
в Тбилиси и в Ташкенте не более 10-15% представителей титульных национальностей
заявляли о своей терпимости к межнациональным бракам, тогда как среди русских таких
было свыше половины.262
Этническая
самоуважения
терпимость
народа,
практически
отсутствия
или
всегда
является
слабой
следствием
выраженности
высокого
комплексов
"неполноценности". Уже поэтому я не вкладываю негативный смысл в понятие
«этнический нигилизм», напротив, чем бы ни была обусловлена этническая терпимость
русских - это одно из немногих позитивных, с моей точки зрения, проявлений "советского
образа жизни", это то качество, постепенное ослабление которого вызывает у меня большие
сожаления. И все же не могу ни отметить тот факт, что этнический нигилизм русских в
немалой мере был вызван, их особой и, во многом навязанной им государством, ролью –
главного народа в Советском Союзе, «старшего брата». В обществах имперского типа
этнические особенности большинства, зачастую, сознательно подавлялись властями,
поскольку большинство должно быть носителем только державной идеологии, чтобы
выступать в качестве «цемента империи».
В СССР на политическом уровне закреплялось представление об этничности
(национальности) как о явлении, характерном только для нерусских народов. Не случайно
в советском политическом лексиконе прочно утвердилась
дихотомия - Российская
Федерация и национальные республики (Россия, следовательно, не национальная
республика). Отдел ЦК КПСС по делам национальностей занимался проблемами в
Русские (этносоциологические очерки). / Под ред. Арутюняна Ю.В. и др. М., 1992. С.418 .
С. 419-421.
262
139
нерусских регионах и в среде этнических меньшинств. В советской этнографической науке
до середины 1970-х годов современное русское население, (во всяком случае, городское) не
воспринималось как носитель особой этничности. Вспоминается анекдот советского
времени, рассказывающий о том, как представитель этнических меньшинств, заполняя
очередную анкету в графе «национальность» просто указал - «есть».
Сразу после войны И.В. Сталин предпринял попытку искусственно взбодрить
этническое самосознание русских. Это нужно было ему и для укрепления системы личной
власти и для отвлечения внимания людей от тягот жизни в разрушенной стране. Вождь
действовал лестью (вспомним знаменитый его тост “Спасибо русскому народу”, в котором
он провозгласил русских «руководящим народом»). 263 Он разжигал страхи, начав
компанию «борьбы с космополитизмом». Однако все это, хоть и всколыхнуло отчасти
бытовую ксенофобию и несколько усилило «номенклатурный национализм», но в целом не
изменило пассивного отношения русского большинства к своей этничности. Высокая
этническая толерантность русских, в немалой мере обеспечивала сохранение политической
стабильности в условиях, когда в исторической памяти меньшинств накапливались обиды
на власть, формировались представления о «национальном унижении».
Роль
"старшего брата" была нелегкой и неблагодарной. Во-первых, за нее
приходилось расплачиваться ослаблением демографического потенциала Российской
Федерации и русского населения в ней, являвшегося основным кадровым резервом для
пополнения армейских частей, милиции, органов управления, да и всех великих строек в
национальных республиках Союза. Во-вторых, она вызывала недовольство младших
братьев и сестер в республиках СССР, которое росло, по мере увеличения численности
местной национальной интеллигенции.
Уже к началу 1980-х гг. положение русских стало меняться к худшему в ряде
республик, где еще недавно в составе коренных народов почти не было своей инженернотехнической интеллигенции и квалифицированных работников физического труда.
К
этому времени республики Средней Азии, Азербайджан, Грузия, Молдавия опередили
Россию по доле интеллигенции и квалифицированных рабочих в составе титульных
национальностей. Во многих союзных республиках усилилась этническая конкуренция в
наиболее престижных сферах деятельности и на "верхних этажах" социальной иерархии.
Межнациональные отношения в целом стали ухудшаться.264 Тем не менее, еще в 1991 г.
русские на всей территории СССР осознавали себя хозяевами страны. По своей
263
Речь И.В. Сталина на встрече с командующими фронтами 25 мая 1945 года. «Правда», 1945, 25 мая.
264
Русские (этносоциологические очерки). С.418.
140
национально-государственной
идентификации
они
отличались
от
подавляющего
большинства так называемых "титульных народов" (т.е. давших название одной из
республик) бывшего СССР. Если узбеки, грузины, эстонцы и другие считали своей родиной
одноименную республику, то подавляющее большинство русских
(почти 80%),
проживавших как в России, так и в союзных республиках, называли своей родиной весь
Советский Союз.265 В модной тогда песни рефреном звучали строки: «Наш адрес не дом и
не улица, наш адрес Советский Союз».
Этнополитическая ситуация стала круто изменяться в годы перестройки, однако
заметный рост этнического самосознания русских проявился не сразу, а лишь к концу 1990х годов. Обращает на себя внимание различная по периодам реакция большинства на одни
и те же явления.
Начнем с миграции этнических русских из стран СНГ в Россию. За период 1990-1999
гг. 3.0 млн. этнических русских прибыло в Россию из стран СНГ, в том числе 1,085,000
человек только из одного Казахстана.266 Большая часть русской иммиграции (почти 2 млн.
чел.) пришлась на первые четыре года жизни новой России, но в то время такой
беспрецедентный по мировым масштабам и мирного времени миграционный приток
остался почти незамеченным массовым сознанием, тогда как в «эпоху стабилизации»
проблема вытеснения русских из бывших союзных республик стала одной из самых
расхожих в политическом обиходе.267
Да и сам распад СССР в первую из рассматриваемых эпох не только не вызывал
каких-то заметных политических брожений в российском обществе, но даже не
фиксировался социологическими замерами в качестве психологически значимого фактора.
Напротив, исследования ВЦИОМ 1993 г. показывали, что россиянами сделан выбор в
пользу независимого развития России. Косвенным подтверждением справедливости такого
вывода могут служить ответы на вопрос: "Если в ближайшее время состоятся выборы в
новый парламент России, за какого кандидата Вы бы предпочли голосовать?" Лишь 25,5%
ответили: "За сторонника воссоздания Союза", а большинство (51,5%) предпочли бы
"Сторонника независимого развития России". Исследования указывали на то, что, казалось
бы, наблюдается процесс адаптации россиян к новым геополитическим реалиям, за
пределами России зона актуального интереса россиян ограничивалась лишь двумя
славянскими республиками - Украиной и Белоруссией - и Казахстаном, который продолжал
Русские (этносоциологические очерки) / Под ред. Арутюняна Ю.В. и др. М., 1992. С.415.
Human Development Report. 2000. Russian Federation.//Moscow.: UNDP. 2001. P.84
267
См. например выступления депутатов Государственной Думы на парламентских слушаниях “О проекте
федерального закона “О русском народе”. 25 мая 2001 г. Информационно- аналитический бюллетень № 30,
1.06. 2001 Институт стран СНГ. Институт диаспоры и интеграции
265
266
141
восприниматься как наполовину русская страна.268 Зато в «эпоху стабилизации», именно
распад Советского Союза расценивается этническим большинством в качестве наиболее
болезненного события недавней истории.269
Если в первый из рассматриваемых периодов русский язык без сопротивления
принимал новые слова и обороты, навязанные ему соседними государствами, то во второй
стало заметным решительное, я бы даже сказал, демонстративное, их отторжение.
Примером может служить использование русскоязычным СМИ оборотов «в Украине»
и «на Украине» (см. рис.4)
Рис. 4
Динамика соотношения употреблений «в Украине»/«на Украине» с 1995 по 2002
в процентах 270
120
По всем архивам (3520
источников)
100
80
60
В печатных СМИ
России (1148
источников)
40
20
0
В зарубежных
печатных СМИ,
исключая СМИ
Украины (140
источников)
Крымская правда
Судя по графику, до определенного времени новая языковая норма последовательно
приживалась в русскоязычных СМИ всех стран СНГ. При этом в России это процесс был
даже более последовательным и плавным, чем в других странах Содружества, исключая
Украину. Так было до 1999 г., когда в России обозначился крутой перелом тенденций и
столь же последовательное, как и в первый период, но уже в другом направлении движение
к возврату к традиционной норме. Время перелома я связываю с национально-
См. подробнее. Паин. Э Становление государственной независимости и национальная консолидация
России: проблемы, тенденции, альтернативы. // Мир России. !995. №5. С. 66.
269
Общественное мнение- 2002. По материалам исследований 1989-2002 гг.. М.: ВЦИОМ 2002. С. 19
270
График построен Александром Смолянским , одним из руководителей корпорации Integrum World Wide, с
использованием базы данных этой организации.
268
142
патриотическим подъемом периода побед (точнее, представления о победах) российской
армии в Дагестане и началом второй Чеченской войны. То, что отмеченные языковые
процессы
имеют
прямую
связь
с
политическим
(точнее,
этнополитическим)
позиционированием СМИ, свидетельствует пример русских газет Крыма. Там эти газеты
постоянно позиционировали себя как защитников русского языка, в условиях навязываемой
Киевом украинизации, поэтому все эти годы твердо придерживались традиционной формы,
а использование новой ни разу не превысило 14% случаев, да и тогда были связаны, в
основном, с перепечаткой или цитированием высказываний, опубликованных в московских
или киевских изданиях.
Важно учесть и то, что большую часть источников, на основе которых был построен
график, составили не столько газеты, сколько справочная литература и рекламные издания,
которые ориентируются исключительно на спрос покупателей. Следовательно, отмеченная
тенденция отражает массовые ориентации, и не могла быть навязана какими-либо
политическими лидерами.
Сам по себе рост этнического самосознания этнического большинства мог бы быть
оценен как позитивное явление (в том смысле, что самобичевание конца 80-х и начала 90х годов сменилось восстановлением самоуважения людей), если бы этот
процесс не
сопровождался эскалацией страхов, фобий и не послужил поводом для реставрации
традиционалистских концепций.
Второй цикл - активизация этнического большинства. «Синдром тревожности».
Исследования этносоциологов под руководством Л.М. Дробижевой показывают, что
уровень этнического самосознания русских в 1990-х годах быстро повышался. Об этом
свидетельствовали социологические исследования, в которых самосознание русских
сравнивалось с другими народами. Для этого использовалась методика, в которой
утвердительные ответы на подсказку в социологической анкете: «Я никогда не забываю,
что я …(далее указывается соответствующая национальность) «русский», «осетин», «якут»,
«татарин», «башкир» и т.д.) рассматривалась социологами как признак ярко выраженного
этнического самосознания. За период 1994 -1999 гг. у всех перечисленных представителей
этнических меньшинств, прирост доли лиц с такими признаками составил 10-15%, тогда
как у русских он удвоился. При этом быстрее всего выросли наиболее эмоционально
выраженные формы этнического самосознания. Если в 1994 г. не более 8% русских в
республиках отвечали, что "любые средства хороши для отстаивания благополучия моего
народа", то в 1999 и в республиках и впервые в русских областях, такую установку
143
проявили в опросах более четверти русских респондентов.271 К сожалению, росла и
радикально националистическая установка: «Россия – для русских». Это подтверждается и
материалами других исследовательских групп.
По данным ВЦИОМ», доля людей, полностью или частично поддерживающих .
идею «Россия для русских», возросла за пять лет (1998-2002 гг.) с 46% до 55 % опрошенных
( в 2001 г. доходила до 60%). Эти результаты получены на основе репрезентативной для
России выборки, в которых русские составляли 85 % опрошенных. При этом симпатии к
лозунгу в основном проявили именно русские, тогда, как представители других
национальностей, в большинстве своем оценили этот лозунг крайне отрицательно.
Например, в 2002 г, оценку - «это настоящий фашизм» дали - 22 % русских и 59 %
представителей других национальностей.272
Исследования Центра этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ)
показали, что этнополитическая ситуация в «период стабилизации» радикально изменилась
по
сравнению
с
предыдущим
«революционным
периодом».
Основной
зоной
межэтнических конфликтов стали не республики, как в предшествующий период, а русские
края и области, особенно на юге Федерации.273 Изменился и тип этнополитических
противоречий. В революционную эпоху они имели как бы «вертикальную» направленность
- между республиками и федеральным центром, в эпоху стабилизации характер конфликтов
приобрел иную «горизонтальную» направленность. Речь идет о межгрупповых конфликтах
между русским большинством и этническими меньшинствами.
Практика управления в большинстве русских краев и областей в той или иной мере
определяется ростом ксенофобии среди этнического большинства населения. В этой связи,
в российских регионах по нашим наблюдениям, сформировались четыре модели
этнической политики.274
По материалам исследовательских проектов, выполненных под рук. Л.М. Дробижевой
«Посткоммунистический национализм, этническая идентичность и регулирование конфликтов» 1993-1996 гг.
« Социальное неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Российской Федерации» 1999-2001 гг.
272
Общественное мнение- 2002. По материалам исследований 1989-2002 гг.. М.: ВЦИОМ 2002. С. 128
273
Исследования проводились в рамках проекта финансируемого Фондом Дж. Д. и К. Т. Макартуров,
предусматривающего мониторинг правового регулирования и практики реализации прав лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам в 55 регионах России в 2001-2003 г. Научный
руководитель работы Э. Паин. К 2002 году завершены исследования в пяти южных приграничных регионах
России: в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях и собраны
статистические материалы примерно по 20 регионам России. Основные результаты первого этапа
исследования опубликованы в книге: Национальные меньшинства. Правовые основы и практика
обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в субъектах юга Российской
Федерации.// Под. ред. В. Мукомеля. - М.: Центр этнополитических и региональных исследований
(ЦЭПРИ). 2003.
274
Наша классификация, в основном, основывается на материалах обследованных ЦЭПРИ областей юга
России и в меньшей мере затрагивает центральные районы. Кубанская пресса лидирует по числу
националистических высказываний 21/12/2002. http://kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/543257.html
271
144
1.Политика отчужденности. Власти стараются не замечать рост ксенофобии среди
русского населения и полагают, что сама постановка вопроса о проблемах национальных
меньшинств провоцирует межэтническую напряженность. (Такая модель сложилась в
Тульской, Рязанской, Смоленской и в большинстве других областей центральной России).
Практика замалчивания проблем этнических меньшинств приводит к оживлению
русского национализма. Его активисты воспринимают молчание региональных лидеров как
знак согласия или благожелательный нейтралитет по отношению к их экстремистской
деятельности. В условиях, когда региональное руководство склонно не замечать проблем
меньшинств, представители региональных правоохранительных структур, прежде всего
милиции, склонны квалифицировать даже видимые невооруженным глазом проявления
идеологически
мотивированного
насилия
по
отношению
к
меньшинствам,
как
разрозненные акты хулиганства или молодежные «разборки».
2.Политика конфронтации с отдельными нацменьшинствами. Этот путь избрали ряд
регионов юга России, где сильны позиции казачества, сильны антикавказские настроения
(Краснодарский и Ставропольский края, в меньшей мере Ростовская область).
Русские регионы Северного Кавказа, по мнению многих аналитиков, один из самых
националистических и консервативных регионов России. Достаточно вспомнить
антисемитские высказывания всенародно любимого на Кубани бывшего губернатора
Кондратенко и казачьи погромы «инородцев»275. Ситуация в этом регионе усугубляется
территориальной близостью Чечни. Высказывания, публикуемые в плотно контролируемой
местными властями прессе, нередко сводятся к простой и от того еще более страшной
формуле: «Чеченцы — это нелюди, враги России и их нужно уничтожать»276 Свою лепту в
развитии русского национального экстремизма вносят прокуратура и судебные инстанции,
которые заводят уголовные дела на тех, кто высказывает свое критическое отношение к
проповедям национальной розни, и не замечают деятельности самих проповедников. Так, в
Ставропольском крае, выделяющемуся среди российских регионов массовостью таких
радикальных националистических организаций, как «Российское национальное единство»
(РНЕ), в конце 2002 г. возбуждено уголовное дело в отношении вовсе не активиста РНЕ, а
ученого
Виктора
Авксентьева,
известного
специалиста
в
области
этнической
конфликтологии.
Литой А. Лучше быть палачом, чем дураком. Краснодарские чекисты не забыли свое славное прошлое. //
Новая газета 21.03.2002
276
Кубанская пресса лидирует по числу националистических высказываний 21/12/2002.
http://kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/543257.html
275
145
3.Политика балансирования между общественным мнением, настроенным против
национальных меньшинств, и необходимостью обеспечения политической стабильности, а,
следовательно, и какой-то формой защиты интересов нацменьшинств (Воронежская,
Волгоградская, Курская области).
Это районы южного Нечерноземья, примыкающие к Северному Кавказу. Близость
Чечни и большой приток мигрантов с Кавказа порождают сильные настроения ксенофобии
в массовом сознании. Вместе с тем крупные промышленные центры, такие как Воронеж и
Волгоград требуют притока рабочей силы из числа этнических меньшинств. Да и в сельской
местности, здесь исторически сложились обширные районы заселенные этническими
меньшинствами, поэтому открытая поддержка русского национализма могла бы резко
дестабилизировать политическую ситуацию в этом субрегионе – все это побуждает власти
к политике балансирования.
4. Политика противодействия экстремизму и конструктивного сотрудничества с
национальными меньшинствами (Астраханская и Оренбургская, в меньшей мере
Самарская и Саратовская области).
Так, в Астраханской области «Администрация области исходит из того, что власть не
должна
делать
никакого
различия
между
этносами,
что
представители
всех
национальностей должны пользоваться одинаковыми правами и нести одинаковые
обязанности. Только при соблюдении этого условия возможно доверие населения к органам
государственной власти. Без этого доверия не может быть нормального, сбалансированного
управления в многонациональном регионе».277 Однако даже в группе сравнительно
благополучных
по характеру межэтнических отношений областей заметен рост
ксенофобии и возникающие на ее основе проявления дискриминации этнических
меньшинств.
Нами была предпринята попытка опытной проверки дискриминации представителей
национальных меньшинств в сфере найма на работу. Обследование проводилось
волонтерами, преимущественно, студентами. Каждая
пара волонтеров (русских и
представителей национальных меньшинств) устраивалась на работу. Все они были одного
пола, возраста, уровня образования и квалификации, семейного положения, все имели
российское гражданство и законно проживали в регионе. Методика обследования включала
элиминирование всех, по возможности, факторов, кроме этнической принадлежности
претендентов и сводилась к "провоцированию" работодателей на выбор между
представителем национального меньшинства и русским (либо между представителями
Политические и социально-экономические итоги 2001 года. Администрация Астраханской области,
Астрахань, 2002, с.37
277
146
разных
национальных
меньшинств).
Например,
одному
из
наших
волонтеров,
представителю этнических меньшинств, отказывали в приеме на работу под предлогом
того, что он студент-заочник и его неизбежные отлучки на экзаменационные сессии не
устраивают фирму. Тогда через некоторое время к тому же работодателю приходил русский
волонтер и специально подчеркивал, что он студент и ему необходимо отлучаться на
экзаменационные сессии. Если ему предлагали работу, считая указанное обстоятельство не
существенным, то полученный раннее отказ представителю этнического меньшинства,
рассматривался нами как проявление дискриминации. В обследованных областях группы
волонтеров предприняли по 2-3 попытки устроиться на работу почти на 50 предприятий,
дававшие объявления о найме работников и в 40,5 % случаев отказ от приема может быть
интепретирован
как проявление
дискриминации национальных меньшинств (самый
высокий уровень дискриминации отмечен в Самаре, здесь она зафиксирована в 50 %
случаев, самый низкий в Астрахани – в 28% случаев).
Наиболее надежный инструмент для анализа этнических дискриминаций - частные
объявления. В объявлениях о найме на работу указаний национальности нет, а вот в
объявлениях о сдаче или съеме жилья во всех областях частные объявления пестрят
указанием
на
этническую
принадлежность
потенциального
арендатора.
Нами
проанализировано свыше 8,2 тысяч объявлений в газетах бесплатных объявлений типа «Из
рук в руки», "Все для всех" и др. в 2002 г..
Из 4484 объявлений о сдаче жилья от частных лиц, в каждом десятом фигурируют
пометки «только русским», «только русской семье», хотя доля таких объявлений очень
варьируется по регионам. Даже в Астраханской области, одной из самых толерантных по
всем показателям,
в 2,1 % объявлений встречается, жесткая формулировка
"лицам
кавказской национальности не беспокоиться».
Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке жилья, лица, ищущие жилье, зачастую
сами
указывают
свою
национальность. Из
3717
объявлений
о
съеме
жилья,
опубликованных в местных газетах в 2002 г., в 17,3 % всех объявлений указывалась
национальность ищущего жилье. Наиболее распространены формулировки «для русской
семьи», «русского мужчины», «русской женщины», «русской девушки». В подобных
объявлениях только русские указывают свою национальную принадлежность.
Повсеместно доля объявлений с этническим уклоном выше среди объявлений о найме
жилья, чем среди объявлений о продаже жилья. (См. рис. 5).
Рис. 5
147
процент
Объявления "только для русских"
35
30
25
20
15
10
5
0
1
Астрахань
2
Волгоград
3
4
Оренбург
Самара
Саратов
Ряд2
арендаторы
Ряд1владельцы
5
Более пристальный анализ показал, что доля "этнических" объявлений о сдаче жилья
в печатных СМИ явно занижена и не отражает местные реалии – в силу контроля за такого
рода объявлениями, идущими в разрез с федеральным законодательством. Об этом
свидетельствует сопоставление объявлений в прессе и расклеенных объявлений о сдаче или
найме жилья. Среди расклеенных объявлений владельцев жилья, доля объявлений "только
для русских" вчетверо выше, чем среди опубликованных, а среди клееных объявлений о
съеме жилья, более половины потенциальных арендаторов сочли необходимым указать
свою национальность; излишне напоминать, что все они – русские.
Впечатляющая картина массовых этнических фобий среди этнического большинства
предстает при анализе ответов на вопрос: «Как Вы думаете, представляют ли сейчас угрозу
безопасности России люди нерусских национальностей, проживающие в России?»
Негативный ответ - «никакой угрозы» дали лишь 19.6 % русских (это в двое меньше, чем
представители других национальностей - 41.8%) . Почти 2/3 опрошенных (57,7%) ощущает
ту или иную меру угроз («большую угрозу», «некоторую угрозу» со стороны жителей
других национальностей).278 Однако анализ ответов на другой вопрос, в котором речь шла
уже не об угрозах стране, а угрозах конкретным людям показывает, что уровень этнических
фобий у русских не столь уж драматичен, как может показаться (см. табл.2).
Таблица 2
Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к себе со сторон людей других
национальностей ?
278
Опрос: ВЦИОМ ЭКСПРЕСС-15 (7.04-10.04.2000 г.)
148
довольно
часто
редко
никогда
затрудняюсь
ответить
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
русские
1.2
8.8
28.8
59.7
1.5
другие
4.9
20.0
74.1
0.3
Варианты
ответов
очень
часто
0.7
Опрос: ВЦИОМ ЭКСПРЕСС-7 (26.07-29.07.2002)
Данные таблицы показывают, что большинство россиян различных национальностей
не ощущают враждебности иных народов к себе лично. Любопытно, что в русской среде
доля людей, которые никогда не испытывают такой враждебности к себе, примерно такая
же как и тех, которые видят в других российских народах врагов стране (59,7 и 57,7 %, те
же 2/3 опрошенных). Это свидетельствует, во-первых, о том, что многие этнические фобии
носят абстрактный характер; во-вторых, о
сохранении
пережитков традиционного
сознания, характерного для условий империй, когда государство отождествляется с
властителем и у него одни враги, а у подданных – другие.
Обращает на себя внимание, что русские по всем вариантам ответов проявляют
большую озабоченность отношением к себе со стороны других народов, чем представители
этнических меньшинств. При этом крайние формы этнической подозрительности (ответы
1-2)
среди русских проявили почти в два раза больше опрошенных, чем среди
представителей других национальностей. Этот результат следует признать неожиданным,
поскольку этническое большинство, как правило, проявляет меньшую этническую
озабоченность, чем меньшинства. Это доказано многочисленными исследованиями,
проведенными в разных странах мира и, что особенно важно, исследованиями в 70-х и 80х годах в Советском Союзе. 279 Массовая тревожность большинства приводит к тому, что
оно по сути перенимает поведенческие стереотипы меньшинств и утрачивает естественную
для него ведущую роль в обществе.
Вероятным последствием роста тревожности у представителей этнического
большинства может стать ответная реакция этнических меньшинств. В этом случае
этнополитический маятник совершит третий заключительный цикл колебаний, который
может завершиться разрушительным кризисом государственности.
Параграф 3. Механизмы действия этнополитического маятника в условиях
модернизации
279
См. Русские. Этносоциологические очерки Отв. ред. Ю.В.Арутюнян. М.: Наука. 1992. С.418.
149
Большинство российских этносоциологов определяет рост этнической тревожности
русских как ответ на предшествующую активизацию этнических меньшинств. Речь идет о
прямом ответе русских на рост негативного отношения к ним со стороны национальных
движений других народов СССР и России, зачастую переносивших на этническое
большинство грехи советского режима.280
Активность одних этнических общностей, несомненно, оказывает заражающее и
провоцирующее влияние на другие, активизирует их, и все же, такое объяснение причин
чередования этнической активности меньшинств и большинства мне представляется
ограниченным и упрощенным.
Во-первых, оно не учитывает незначительную численность и малое влияние той
категории русских в России, которая
имела непосредственный негативный опыт
межэтнического общения, а именно - мигрантов из новых независимых государств и
жителей некоторых республик Российской Федерации.
Во-вторых, указанная гипотеза не дает ответа на главный вопрос. Почему ответ
русских так запоздал: пик миграций был пройден в 1994 г., к этому же времени угасли
последние вспышки этнической активности (кроме Чечни), а рост этнической тревожности
русских стал заметно проявляться лишь в конце 1990-х годов?
Думаю, что этот феномен может быть сравнительно адекватно объяснен в терминах
концепции рецидивирующего традиционализма, а именно как следствие взаимодействия
четырех основных его механизмов.
Кризис идентичности и разновременность процессов этнической мобилизации.
Для этнических меньшинств русские во все времена выступали тем, что философы
называют – конституирующий «иной», по отношению к которому самоопределяются
меньшинства. Само же этническое большинство в условиях Российской империи и
Советского Союза могло даже не замечать присутствия меньшинств и уж, во всяком
случае, по отношению к ним не самоопределялось. Для них конституирующим «иным»
могли быть иностранные народы, особенно в условиях внешнего вызова (французы в
Отечественную войну 1812 г., немцы в Великую Отечественную, американцы в период
противостояния блоков и т.д.) В своей же бытовой повседневности большинство
самоопределялось только по отношению к государству, социально-стратификационную
280
Такой точки зрения придерживались специалисты Института социологии РАН и Института этнологии
РАН на семинаре: «Осознают ли себя русские единой этнической общностью? Существует ли «русская
проблема?», в фонде «Либеральная миссия» 30.01.03 http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=305
150
систему которого можно определить как «этакратическую» (государственническую),
поскольку ее основные параметры определялись рангом человека во властной иерархии.281
Но вот государство распалось, и вся система отношений радикально изменилась:
русские впервые вступили в систему горизонтальных межэтнических отношений. Сам
процесс разгосударствления этнических отношений можно считать важным этапом на пути
к формированию гражданской нации, однако новые условия функционирования
этнического большинства оказались для него психологически весьма болезненными.
Крутые исторические перемены порождают, так называемый «кризис идентичности»
и стимулируют сплочение людей в рамках традиционных общностей - этнических,
клановых, конфессиональных. Таким образом, исходный толчок для всплеска активности
был общим как для меньшинств, так и для большинства.
численности
общности,
особенно
территориально
Однако небольшие по
локализованные,
быстрее
консолидируются и легче находят в своей исторической памяти обиды, чем большие,
расселенные на обширных пространствах такой страны, как Россия.
Пока большинство оставалось относительно инертным в этнополитическом
отношении, меньшинства самоопределялись по отношению друг к другу и это
самоопределение, зачастую, носило конфликтный характер в контактных зонах, в которых
осуществлялось революционное перераспределение контроля над территорией, ресурсами,
властью. Когда же начался рост этнического самосознания большинства, стала изменяться
и конфигурация межэтнических отношений: ее основной осью стали взаимоотношения
большинства и меньшинств. Так начал формироваться этнический маятник, основанный на
равновесии интересов двух основных типов этнических общностей. Однако в полную силу
он начал раскачиваться лишь тогда, когда власть, элиты и сами последствия их
деятельности стали нарушать хрупкий баланс интересов этнических общностей.
Этнический маятник стал этнополитическим.
Изменения
политических
стратегий
федеральной
власти
в
отношении
этнических сообществ России. Этническая политика обоих российских президентов была
и остается реактивной, т.е. формируемой непосредственно как ответ на некие актуальные
вызовы. В эпоху Ельцина – они исходили от меньшинств (точнее от национальных
движений республик России), поэтому его политика, во многом, определялась формулой:
«Берите суверенитета, сколько сможете», а в эпоху Путина – от этнического большинства
и ответом на этот вызов стала политика ограничения прав этнической элиты в республиках
281
Радаев В. В., О. И. Шкаратан «Социальная стратификация» // М.: Аспект пресс, 1996.
151
РФ и постепенный переход к охранительной политике в отношении этнического
большинства.
Односторонняя ориентация власти на поддержку той или иной группы этнических
сообществ усиливает амплитуду колебания этнополитического маятника, вызывая
негативный ответ и консолидацию групп, которые считают себя «обделенными»
вниманием власти.
Дрейф политической идеологии, в том числе и представлений о справедливости
(несправедливости) этнической политики. Общество воспринимает и оценивает
политические стратегии не напрямую, а опосредовано, через представления, формируемые
интеллектуальной элитой, лидерами общественного мнения или как их еще называют
«производителями смыслов». Именно элита формирует представления о справедливости
или несправедливости государственной политики, в том числе и этнической, приписывая
ей ориентацию на поддержку одних этнических общностей в ущерб другим. В
постосоветское время заметно проявил себя дрейф элитарных идей. Если в период
Перестройки и в начале эпохи Ельцина доминировал комплекс идей, вытекающих из
негативной оценки советского прошлого (отсюда, в частности, вытекала идея «покаяния»
русского народа перед меньшинствами за грехи имперской политики), то в «эпоху
стабилизации» доминирующей стала прямо противоположная система оценок –
идеализация советской истории и негативная оценка периода постсоветских реформ.
Отсюда вытекает и растущая популярность представлений о комплексе обид русскому
народу, нанесенному как «иными народами», так и властью, предоставившей
неоправданные преимущества «иным народам» в период «постсовесткой смуты». При этом
пятилетний период, разделяющий спад активности одних этнических общностей и подъем
других, был временем освоения новых представлений массовом сознанием и их
политической актуализации.
Непоследовательная и незавершенная модернизация. Если элиты несут основную
ответственность за раскачивания этнополитического маятника, то, что обусловливает
поведение самой элиты? Предполагается, что готовность российской интеллектуальной
элиты к радикальной смене политических ориентаций и к возрождению традиционных
советских идеологем закономерна. Она обусловлена, с одной стороны, медленным и
непоследовательным развитием институциональных, социально-стратификационых и
социально-культурных условий для утверждения в обществе модернизационных
ценностей, а с другой – наличием обширного слоя людей и множества социальных
институтов, являющихся носителями рецидивирующего традиционализма.
152
Таковы исходные гипотезы о механизмах раскачивания этнополитического маятника.
Первая из них, а именно предположение о разновременности этнической консолидации
меньшинств и большинства, вряд ли нуждается в особых доказательствах, тогда как другие
гипотезы требуют верификации.
Глава 4. ФАКТОРЫ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
Параграф 1 Политические факторы. Маятник этнополитических стратегий
Ныне стали почти догмой представления о том, что во времена правления Б. Ельцина,
усиливался
хаос и нарастали дезинтеграционные процессы в России, а с приходом
президента В. Путина начала укрепляться целостность страны. У меня же подобные
представления вызывают большие сомнения, хотя бы тем, что оценка реформ как хаоса
весьма характерна для истории России. Да и мог ли нарастать сепаратизм этнических элит
республик, если их активность, как уже отмечалось, спала к середине 90-х гг. и
этнополитический маятник качнулся в другую сторону? Есть и другие вопросы, над
которыми стоит задуматься, оценивая содержание перемен в политической стратегии
Ельцина и Путина. Например, в какой мере предложенные новой администрацией
преобразования в системе взаимоотношений центра и регионов в принципе адекватны
задачам
усиления
интеграционных
процессов?
Можно
ли
рассматривать
такие
преобразования как продолжение реформы федеративных и национальных отношений или
правильнее их оценивать как контрреформы? А главное, в какой мере новая политика
учитывала баланс интересов этнических общностей и не привела ли она к усилению
амплитуды, раскачивания этнополитического маятника?
Альтернативные
стратегии.
Выбор
политической
стратегии
в
сфере
национально-государственного развития был не случайным как во времена Ельцина, так и
в период правления Путина. Однако, на мой взгляд, коридор возможностей у первого
президента России был уже, чем у его преемника.
В первые годы существования новой России были крайне слабы силы,
заинтересованные в сохранении ее единства. Лидеры национальных движений не русских
народов добивались суверенитета для «своих» республик, а русские националисты, не
способствовали
укреплению
общероссийского
единства,
поскольку
мечтали
о
восстановлении СССР.
После того как российские республики продемонстрировали "парад суверенитетов",
непреодолимое желание повысить свой статус возникло у российских краев и областей. О
153
своем суверенитете объявили даже административные районы
в некоторых городах.
Инерция распада СССР набирала силу, и никто в то время еще не знал, когда и на каком
территориальном уровне она может завершиться.
Сложившаяся
политическая
ситуация,
в
значительной
мере,
продиктовала
политическую стратегию Ельцина во взаимоотношениях с наиболее активной тогда частью
общества - с региональными политическими элитами. Это была политика что называется ad
hock – почти стихийный ответ на вызов времени. Однако, несмотря на свою спонтанность
стратегия Ельцина, основанная на переговорном процессе, достижении компромиссов,
взаимных уступок, сделанных как федеральной властью, так и лидерами республик, помогла
переломить негативные тенденции в федеративных отношениях. Договоры между
федеральным центром и органами власти субъектов Федерации282, а также Договор об
общественном согласии (1994 г.), подписанный всеми субъектами Федерации, кроме Чечни,
значительно ограничили формальную возможность объявления кем-либо из руководителей
республик, краев, областей о выхода из состава Федерации, поскольку все они признали, что
"...реализация прав субъектов Федерации возможна только при обеспечении государственной
целостности России, ее политического, экономического и правового единства"283.
С конца 1993 года в России установился новый политический порядок во
взаимоотношениях центра и регионов, в основе которого лежали не только формальные, но
и устные договоренности между президентом Ельциным и лидерами республик. При этом за
расширение прав региональной элиты на федеральном уровне, региональные лидеры
обязались усмирить наиболее радикальные национальные движения. И с тех пор не
наблюдалось ни одного проявления этнического сепаратизма, за исключением конфликта с
Чеченской республикой, которая, в то время, ни в каких договоренностях с лидерами России
не участвовала.
Эти перемены тогда были замечены российским общественным мнением. В массовом
сознании россиян постепенно росла уверенность в том, что целостность России укрепляется,
а главное, уменьшается угроза вооруженных конфликтов, неизбежного спутника распада
страны.
Об
этом
неопровержимо
свидетельствовали
материалы
мониторинговых
социологических исследований (см. Табл.3).
Таблица 3
Тексты Договоров и Соглашений о разграничении полномочий с республиками, краями и областями
Российской Федерации . см.: Асимметричная Федерация: взгляд из центра республик и областей// Рук
проекта Л..М .Дробижева М.: Институт социологии РАН. 1998
283
«Договор об общественном согласии» М.:1994 г
282
154
Как Вы считаете, насколько вероятны в ближайшие месяцы вооруженные
конфликты в России?*
Варианты
1991
1992
1993
Ответов
декабрь
декабрь
декабрь
иной мере)
55
51
27
не вероятны
25
30
50
вероятны (в той или
*По материалам мониторинга ВЦИОМ
Как видно из таблицы, в1993 гг. определился перелом в массовом сознании россиян.
Если в первые два года жизни постсоветской России более половины опрошенных жили в
страхе грядущего уже в ближайшие месяцы взрыва вооруженных конфликтов, то к концу
1993 большинство демонстрировало определенный оптимизм.
Но прошло время, и политика компромиссов стала восприниматься в сознании
большинства россиян как стратегия односторонних уступок республикам, как начало развала
России и даже как злой умысел: «Те же, кто развалили СССР, теперь разваливают Россию».
Большей частью такие представления имеют мало общего с реальностью. Например,
знаменитая фраза Ельцина: «Берите суверенитета столько, сколько сможете освоить»,
оброненная им в Татарстане в 1992 г., сегодня трактуется, чуть ли ни как сигнал к
дезинтеграции России. Но ведь она была брошена не до, а после «парада суверенитетов» и не
только не подтолкнула республики к большей суверенизации, но, как уже было показано,
предшествовала процессу стабилизации отношений регионов и федерального центра.
Договор федеральной власти с Татарстаном с нарастающей силой осуждается наиболее
консервативными государственниками. В действительности же он был полезен как для
республики, так и для Федерации в целом. Он
резко ослабил позиции радикально
националистических сил в республике, влияние которых основывалось почти целиком на
страхе населения перед образом "имперского врага". Договор между Москвой и Казанью
сильно "притушил" этот образ в сознании жителей республики.
Договор не отменил ни одного, из принятых в республике законодательных актов, но
практически сделал их неопасными для сохранения целостности страны. Например, по
республиканской конституции Татарстан является субъектом международного права, но
оказалось, что зарубежные инвесторы не готовы и рубля вложить в экономику Татарстана без
гарантий Москвы. По местным законам все недра принадлежат республики, но, тем не менее,
основное ее богатство нефть транспортируется через федеральный нефтепровод и уже после
подписания Договора в 1994 г. объем продажи Татарстаном нефти даже сократился ввиду
155
перегрузки общероссийского нефтепровода (так технические устройства могут выполнять
политические функции). Республиканский закон велит всем гражданам республики
проходить военную службу в республике, но ее территория входит в состав Приволжского
военного округа, откуда новобранцы направляются служить в разные регионы страны, в том
числе и в Чечню. Границы допустимых уступок со стороны федеральной власти республикам
определялись
ее способностью контролировать основные рычаги влияния на регионы:
финансовую систему, транспорт, магистральные трубопроводы и, разумеется, силовые
структуры.
Не случайно татарские националисты радикального толка, крайне негативно оценили
договор между федеральным центром и Татарстаном. На Втором Всетатарском курултае в
феврале 1994 г. 655 делегатов осудили этот договор как капитуляцию перед «имперским
центром». Как заявила Фаузия Байрамова, "мы потерпели поражение, и с заключением 15
февраля Договора в Москве республика отброшена в 1989 год"284
Также спорными, по крайней мере, можно считать весьма распространенные
представления о несправедливости и нецелесообразности предоставления ряду республик
налоговых льгот. Например, ныне не только общественное мнение, но и большинство
экспертов-экономистов осуждают идею создания «офшорной зоны» в Ингушетии. Однако,
на мой взгляд, нельзя не согласиться с бывшим секретарем Совета Безопасности России И.П.
Рыбкиным, отмечающим, что без такой зоны не удалось бы предотвратить вовлечения
Ингушетии в чеченский конфликт.285 Это значит, что налоговые потери от офшорной зоны
ничтожно малы по сравнению с возможными потерями бюджета на войну с Ингушетией, не
говоря уже о неизбежных в таких случаях потерях человеческих жизней.
С точки зрения воздействия социальных представлений на политику, не столь уж
важно насколько они реалистичны. Если представления возникли и стали массовыми, то они
влияют на политический процесс ничуть не меньше, чем реальность. В этом я полностью
солидаризируюсь с известной «теоремой Томаса»: «Если люди определяют ситуации как
реальные, то они и являются реальными по своим последствиям». 286 Думаю, что именно из
такой реальности, основанной на массовых и, во многом, мифологизированных
представлениях, выросла стратегия Путина, ключевыми идеями которой являются создание
«единой исполнительной вертикали» и ограничение политической роли региональной элиты
и, прежде всего, роли лидеров республик.
Политические партии Татарстана. http://socarchive.narod.ru/bibl/polros/Tatar/partii-tat.html
Рыбкин И. Дубнов В. Мы живем в режиме спецоперации…// Новое время. 2003, №5.С.15
286
Thomas W..L. .Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. N.Y.: Knopf, 1938.vol.1P.79
284
285
156
Эти задачи прямо или косвенно были поставлены в первых же законодательных
инициативах президента Путина. Они обосновывались необходимостью преодоления
дезинтеграции, которая, на мой взгляд, к тому времени уже была преодолена. В своем первом
Послании
Федеральному собранию ( 2000 г.) президент отмечает: « у нас еще нет
полноценного федеративного государства. Хочу это подчеркнуть: у нас есть, у нас создано
децентрализованное государство». 287 Замечу, что децентрализация вовсе не равнозначна
дезинтеграции. Федеративное государство по определению децентрализовано, поскольку
основывается
на
принципе
субсидиарности,
предусматривающего
сохранение
за
центральной властью лишь узкого круга базовых функций управления и передачу всех
остальных - региональным властям. В следующем своем Послании президент снова
показывает, что не осознает различий между децентрализацией и дезинтеграцией, которую
федеральной власти удалось переломить всего лишь за девять месяцев, разделявших оба
послания. «Сегодня, - отметил Президент, уже можно сказать: период "расползания"
государственности позади. Дезинтеграция государства, о которой говорилось в предыдущем
Послании, остановлена. В прошлом году мы много для этого сделали, мы - все вместе.
Разработали и приняли федеративный пакет - пакет федеральных законов. Провели реформу
Совета Федерации. Первые результаты дала работа полпредов в федеральных округах». 288
Первое послание от второго отделяет всего девять месяцев. Если учесть, что на
подготовку таких документов уходит несколько месяцев, то получается, что администрации
Путина потребовалось всего около полугода на то, что бы, как она заявляет, «остановить
процесс дезинтеграции государства». Какие же чудодейственные средства использовала
власть, чтобы достичь столь выдающихся успехов? Все они перечислены в послании
президента.
Результативность реформ. Начнем с реформы Совета Федерации. Среди специалистов
давно обсуждается вопрос о целесообразности внести изменения принципа формирования
верхней палаты парламента за счет прямого избрания его членов. Однако реформа таких
радикальных перемен не предусматривала. Она привела лишь к тому, что вместо
руководителей исполнительной и законодательной власти регионов в Совете представлены
их назначенцы. По сути, сегодня места в Совете почти открыто покупаются представителями
крупного бизнеса или используются Администрацией президента в качестве временного
пристанища для чиновников федеральной номенклатуры. Лидеры регионов были хоть в
Послание Президента России Владимира Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации 2000 года. Москва, Кремль 8 июля 2000 года
287
Послание Президента России Владимира Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации 2001года Москва, 3 апреля 2001 года
288
157
какой-то мере ответственны за свои решения перед своим избирателями, в то время, как меру
ответственности назначенцев весьма сложно определить. Совет Федерации предыдущего
созыва долгое время выступал как инструмент стабилизации политической ситуации в
России. Во всяком случае, его законотворческая деятельность всегда отличалась значительно
большей взвешенностью, чем решения Государственной Думы. Может ли нынешний Совет
быть лучше прежнего, если
вывод из его состава региональных лидеров исключает
возможность использования этого органа в качестве механизма согласования интересов
центра и регионов? Однако вне зависимости от ответа на этот вопрос, можно с уверенностью
говорить, что проведенная реформа Совета Федерации не могла обеспечить перелом в
дезинтеграционных процессах.
Другой элемент новой административной реформы, направленной на выстраивание
единой вертикали власти - создание семи административных округов во главе с
полномочными представителями президента. Вначале именно с их деятельностью многие
представители
российской
элиты
связывали
основные
надежды
дезинтеграционных тенденций. Например, Александр Солженицын в
на
преодоление
2000 г. признал
целесообразным создание Путиным семи федеральных округов во главе с “генералгубернаторами”, как реальный ответ на угрозу территориального распада страны. 289 Однако
ни появление округов, ни назначение полпредов, не могли, в принципе, оказать влияние на
такие глубинные процессы как дезинтеграция. Кроме того, на мой взгляд (и я попытаюсь его
обосновать) эти реформы в действительности лишь имитировали перемены в управлении
регионами, поскольку решающую роль во взаимоотношениях центра и регионов попрежнему играют федеральные чиновники. Попытаюсь также обосновать и мысль о том, что
концепция федеральных округов изначально была обречена на провал, поскольку
воспроизводила
ту
традиционную
модель
управления,
которая
доказала
свою
несостоятельность еще в советское время.
Попытки усилить контроль Москвы за регионами с помощью создания промежуточных
административных структур, объединяющих сразу несколько регионов, предпринимались
еще в советское время.
Недолго просуществовавшие Совнархозы,
можно считать
предтечами нынешних федеральных округов. Совнархозы были всего лишь в 1,5-2 раза
больше нынешних областей, краев и республик, но все равно оказались слишком
громоздкими и поэтому сложными в управлении. Однако административные округа намного
больше (они включают 12-13 регионов) и, следовательно, ими еще сложнее управлять. К тому
же ушла в небытие партийная дисциплина, на которую в советские годы опиралась
289
Интервью А. И. Солженицына газете “Вечерний клуб”// Мир за неделю, № 17, 20-27. 05. 2000 г.
158
административная система управления регионами. Да и состав полпредов (пятеро из семи –
генералы, не имеющие опыта управления территориями) вряд ли оставляет надежды на
успешность этого начинания. Сила и натиск не помогли генералам выиграть чеченскую
кампанию, и еще меньше вероятность того, что они помогут утверждению федеральных
округов в жизни России,
Некомпетентность генералов-полпредов сразу же стала особенно заметной в
кризисных
ситуациях,
которые
становились
значительным
раздражителем
для
федеральной элиты и грозили подрывом позиций президента в регионах. Так было,
например, в ходе кризиса в Приморье в июне 2001 г., когда приход к власти спорной
кандидатуры Сергея Дарькина совпал с острейшим энергетическим кризисом в крае.
Показательно, что в ходе осуществления первой волны кадровых решений по Приморью
Владимир Путин предпочел общаться с местным руководством напрямую, видимо
понимая, что указания передаваемые через полпреда в ситуации, где кризис стал открытым,
уже не воспринимаются, как безусловно легитимные. Полпред в Приморье Константин
Пуликовский, несмотря на большую публичность в своей деятельности, использовался
президентской администрацией лишь как вспомогательное звено в доведении позиции
Кремля до местных элит, а основную часть деятельности по решению кадровых вопросов
и устранению последствий политического кризиса в крае взял на себя заместитель главы
Администраци Президента Владислав Сурков.
В Южном федеральном округе главной задачей является умиротворение Чечни.
История подготовки референдума по Конституции Чеченской республики, которому
президент придавал чрезвычайно важное значение, показывает, что и в этом регионе особо
ответственные политические задачи поручаются не полпреду президента, а ключевым
сотрудникам Администрации президента. Вот и организация референдума была поручена
не В. Казанцеву, а Владиславу Суркову и помощнику президента Сергею Ястржембскому.
Они напрямую контактировали с московским назначенцем в Чечне Ахмадом Кадыровым и
без участия полпреда добились победного результата.
Правительство России так же оттесняет полпредов президента от решения
ключевых вопросов. Так, в период кризиса в Приморском крае, глава правительства
Михаил Касьянов, в ходе своей инспекционной поездки по региону неоднократно
повторял, что введение прямого президентского правления в крае – маловероятно. В то же
время решения, принятые во время этой поездки, продемонстрировали другое –
губернаторская власть перешла под непосредственный контроль правительственных
структур. Было объявлено, что бюджет Приморья будет верстаться под руководством
Правительства РФ, а исполнять его будет федеральное казначейство. Координировать
159
поставки топлива в Приморье и платежи за него премьер поручил одному из заместителей
министра энергетики, которому предписали постоянно находиться во Владивостоке. Кроме
того, предполагалась проверка финансовой деятельности краевой администрации. Только
на таких условиях Правительство РФ было готово предоставить краю трансферты (5,6
млрд. рублей). Таким образом, Сергей Дарькин в обмен на признание себя губернатором
фактически потерял право самостоятельного управления финансами края. На вторых ролях
оказалися и полпред Президента РФ К.Пуликовский. Обозреватели отмечают как весьма
примечательный тот факт, что он даже не был на пресс-конференции, на которой Касьянов
изложил столь важные для края решения правительства.290
В Уральском федеральном округе ситуацию с отказом правительства России от
работы с полпредством наиболее наглядно демонстрирует ситуация в Курганской области.
В 2001-2002 году шли ожесточенные дискуссии о дальнейшей судьбе данного субъекта и
программам по выводу его из кризиса. После долгих баталий окружные чиновники
предложили некие
решения проблемы, однако ни одно из них до сих пор даже не
рассмотрено правительством России.291
Конкуренция между федеральными чиновниками и полпредами, может стать
основной причиной провала идеи федеральных округов. Федеральные министры прямо, а
чаще косвенно, выражают обеспокоенность попытками полномочных представителей
президента в округах поставить под контроль финансовые потоки, направляемые из центра
в регионы. Примерно то же можно сказать и о чиновниках Администрации Президента,
которые, естественно, не довольны попытками окружных начальников, оказывать влияние
на распределение должностей и наград федеральным служащим в регионах.
Федеральные
чиновники
(будь
то
представители
администрации
или
правительства) неоднократно доказывали свою способность отодвигать полпредов на
второй план, и у них, безусловно, есть возможность блокировать активность окружного
начальства, в тех сферах, которые вызывают у них тревогу. Подобная форма конкуренции
проявлялась и в советское время и уже тогда она привела к полному коллапсу любимого
детища Никиты Хрущева
-
совнархозов. Скорее всего, такая же судьба ожидает и
федеральные округа.
См. Политический коментарий агентсва «Никола М»//
http://www.nikkolom.ru/article/news_itogi_23_29_06_01.htm
290
Атаку на правительство поддержат полпреды.//АПН 14 мая 2003 16:45 C:\WINDOWS\Temporary Internet
Files\Content.IE5\O5QJO1Q3\Latyshev's 3-year speech-14-5-03.htm
291
160
Похоже, это осознают сегодня многие представители политической элиты России, в
том числе и люди весьма лояльные президенту. Косвенным доказательством этого служит
заявление спикера Государственной Думы Геннадия Селезнева о том, что «семь федеральных
округов были нужны на первом этапе, когда существовала угроза распада государства», а
ныне он, «на месте президента страны подумал бы о том, чтобы ликвидировать их в течение
ближайших полутора-двух лет».292
Мы еще продолжим оценку тех механизмов, с помощью которых Администрации
Путина удалось в невиданно короткие сроки «переломить» процесс дезинтеграции России.
Сейчас стоит задаться вопросом: насколько в то время была актуальной сама задача смены
стратегии управления регионами и диктовалась ли она только необходимостью борьбы с
дезинтеграцией страны?
Дезинтеграция
страны
-
реальность
угроз
и
адекватность
методов
противодействия. Уже отмечалось, что с середины 90-х годов в регионах России не было
зафиксировано ни одного серьезного проявления сепаратизма, за исключением сепаратизма
в Чечне, который проявляется и сегодня в период, когда по определению президента
«расползание государственности позади». Уже во второй президентский срок Ельцина в
Кремле не выстраивалась очередь региональных лидеров за подписанием новых договоров
между регионами и Центром, да и те, которые были подписаны после Татарстанского
договора, отличались таким уровнем декларативности прав регионов, что их не приводят в
доказательство угрозы дезинтеграции даже самые ревностные сторонники централизации и
унитаризм. Вся их критика сосредоточена на первом договоре 1994 г.
Устойчивость российской федеративной системы прошла проверку на прочность в
период экономического кризиса 1998-го года, хотя поначалу казалось, что именно он
подтолкнет Федерацию к неминуемому распаду.
После объявления федеральным правительством дефолта, практически все регионы
стали предпринимать меры экономической самозащиты, которые, казалось бы, реально
угрожали сохранению экономической целостности страны. Так, по материалам Госкомстата
России к сентябрю 1998 года 79 регионов ввели административное регулирование цен на
продукты питание и запрет (либо ограничение) на их вывоз за пределы соответствующего
региона. В прессе заговорили о том, что «продовольственный сепаратизм посильнее
политического».293 Еще страшнее выглядели действия ряда регионов по обособлению
Константин Ключевский. 40 объектов федерации вместо 7 федеральных округов // Газета РУ. 26.05.2003
http://www.gzt.ru/rub.gzt?rubric=novosti&id=31550000000012595
293
Коновалов Валерий. ГУБЕРНАТОРЫ ПЕРЕГОРАЖИВАЮТ СТРАНУ. Известия, 22.09.1998, с. 1.
292
161
региональной финансовой системы и отказу от перечисления налогов в федеральный бюджет
( см .табл.4)
Таблица 4.
Примеры финансовой автаркии регионов в период финансового кризиса
(август-сентябрь 1998 гг.)*
Автономистские действия
Регион
1) Создание пула региональных банков, ограничение
Самарская область
сфер действия московских банков
2) Обособление областной рассчётно-кассовой
системы
Ведение "режима чрезвычайной экономической
Калининградская
ситуации"
область
Формирование областного золотого запаса
Кемеровская область
Приостановка перечисления налогов в федеральный
Башкирия,
бюджет
Калмыкия Татария,
Томская область,
Хабаровский край
Налоговые поступления в федеральный бюджет
Калмыкия
самостоятельно списаны в пользу республиканского
бюджета
*По материалам российской прессы за август сентябрь 1998 г.
Подобные действия дали повод известным российским политикам говорить о распаде
России как чуть ли не свершившемся факте. О реальной опасности "потерять" Россию 2
сентября 1998 г. заявил исполнительный секретарь СНГ Борис Березовский.294 Вслед за ним
3 сентября такую же опасность признал красноярский губернатор Александр Лебедь.295
294
295
Эхо Москвы, ГОСТЬ ДНЯ, 02.09.98; 14:17.
НТВ, "Герой дня", 03.09.98.
162
Неделей позже, лидер проправительственной думской фракции НДР Александр Шохин уже
прямо обвинил главу правительство в том, что он "не
экономическую,
а
значит,
сумел сохранить
финансово-
и политическую целостность России". 296 Что касается
публицистов и ученых, то они буквально соревновались друг с другом в мрачности прогнозов
распада России. Если журналист А. Венедиктов исходил из предположения о распаде как
одномоментном акте и называл 17 августа днём, «когда в России территории и регионы
начинают жить отдельной жизнью от Москвы и от федеральных властей»,297 то историк В.
Логинов, признавая распад России неизбежным, отводил ему целую эпоху. 298
В
это
же
время
получили
распространения
идеи
введения
чрезвычайных
административных мер по нормализации ситуации. Получила широкую поддержку идея В.
Жириновского о тотальной «губернизации» России, например, губернатор Сахалина Игорь
Фархутдинов, до того отличавшийся своими либеральными взглядами на региональное
управление, предложил отменить республики и ввести губернскую форму управления.299
Губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын предложил заполнить вакуум власти за
счет создания «федеральных округов» в границах восьми региональных ассоциаций
экономического сотрудничества. Это должно было, по мысли губернатора, «помочь
Российскому государству, правительству и администрации президента сформировать ту
вертикаль власти, которая бы была работающей и взаимообязанной».300
Не правда ли эта идея очень напоминает ту, которая впоследствии была реализована
президентом Путиным в 2000 г? Те же слова про «вертикаль власти» и та же ставка на
общение федеральной власти не с 89 лидерами субъектов Федерации, а с руководителями
нескольких региональных округов. Правда, вместо предлагаемых восьми федеральных
округов, Путиным было создано семь, и не в рамках экономических ассоциаций, а в границах
военных округов. Не была реализована также идея Лисицына о взаимных обязательствах
центра и регионов, вместо этого была создана система прямого подчинения нижестоящих
звеньев вышестоящим. Но главное не в этом.
Ни в то время, ни позднее не было никакой нужды в чрезвычайных административных
мерах, поскольку в России уже сложились обычные, я бы даже сказал, классические
механизмы, надежно обеспечивающие сохранение целостности Федерации.
Уже через три недели после дефолта и шока, на время парализовавшего всю систему
управления, федеральная власть включила обычные правовые механизмы борьбы с
ИНТЕРФАКС. Москва. 9 сентября 1998.
Эхо Москвы. Интервью, 28.09.98; 15:35.
298
РЕН-ТВ. Новости, 06.09.98; 17:45.
299
РИА "Новости". Москва 23 сентября. 1998.
300
Телеканал НТВ, Большие деньги, 29.09.98; 08:35.
296
297
163
экономической автаркией. И их использование привело к неожиданно быстрому успеху. Так
23 сентября 1998 г. Генеральный прокурор Юрий Скуратов дал указание всем прокурорам
субъектов Федерации проверить законность действий местных властей 301 и уже на
следующий день они были опротестованы. Многие должностные лица, пусть и не первые, а
всего лишь исполнители были привлечены к уголовной ответственности. Еще раньше (10
сентября) Центральный Банк России отозвал лицензию банка Калмыкии, по сути,
ликвидировал его. Республика дорого заплатила за попытку присвоить себе средства,
предназначенные для уплаты федеральных налогов.
С «сельскохозяйственным сепаратизмом» довольно быстро и жестко расправился
рынок: те края и области, которые ограничили вывоз продовольствия, в ответ перестали
получать бензин и горюче-смазочные материалы (это в сентябре-то в уборочную кампанию),
поэтому вынуждены были сами отменить свои решения. Ни в одном из регионов не удался
эксперимент по административному замораживанию цен. Через два месяца после
августовского кризиса, к октябрю 1998 г. от проявлений экономического сепаратизма в
России не осталось и следа, а сегодня о том эпизоде помнят разве, что специалисты
аналитики. Если даже чрезвычайные проблемы удалось решить обычными инструментами
(правовыми и экономическими), то еще легче было таким же способом решать рутинные
вопросы, скажем, постепенного устранения различий в законодательствах многих субъектов
федерации. При этом не лишен резона и вопрос о том,
в какой мере асимметрия
региональных законодательств, в принципе, представляет собой угрозу для целостности
государства и нужно ли обязательно ее преодолевать? Об этом мы еще поговорим, а пока
замечу, что, на мой взгляд, уже в тот период вполне уверенно можно было утверждать о
завершении периода «расползания государственности».
Хочу подчеркнуть, что не считаю федеративную и национальную политику Ельцина
совершенной. Прежде всего, она была стихийной, отношения с региональными элитами были
неупорядоченными (преимущества зачастую получали те, кто был ближе к уху, к телу, к
«семье» и. т д.), она создавала ощущение неравенства выигрыша этнических меньшинств по
сравнению с большинством. Однако я абсолютно уверен, что основную часть этих проблем
можно было решить путем корректировки политики, без смены самой стратегии, которая
впервые в истории России ввела в политическую практику саму идею «общественного
договора» (в формах федеративного договора, договора об общественном согласии,
договоров с субъектами федерации). Доктрина «общественного договора» неоднократно в
истории служила отправной точкой к движению обществ к национальной гражданской
301
ИТАР-ТАСС-Новости властных структур России от 23.09.98.
164
консолидации. Именно по отношению к ней новая доктрина вертикализации федеративных
отношений и возвращение к традиционным командно-админитсративным моделям
управления может рассматриваться как контрреформа
Зачем же президенту Путину в 2000 г. нужно было возвращаться к идеям, возникшим в
период кризиса 1998 г., и к тому же усиливать их административную жесткость, если
необходимость в таких мерах отпала, еще за два года до его избрания главой государства?
На мой взгляд, стратегия «вертикали власти» появилась не только в качестве ответа на
проблему предотвращения дезинтеграции государства, но и как реакция на настроения
большинства электората России. Избиратель хочет наведения порядка в стране, так нет
ничего проще, чем имитировать его установление за счет создания федеральных округов в
главе с генералами. Избиратель недоволен тем, что «региональные бароны» забрали себе
слишком много власти – в ответ применяется эффектный ход по изгнанию лидеров региона
из Совета Федерации. И, если административные реформы
оценивать в качестве
политических технологий, с позиций воздействия на избирателей, то следует признать их
успешными, по крайне мере, поначалу.
Я далек от того, чтобы трактовать перемены в управлении регионами лишь как элемент
избирательных технологий, ведь реформы были проведены сразу после триумфального
избрания Путина на пост президента и за долго до новых президентских выборов. В то же
время, поддержка общественного мнения для Путина чрезвычайно важна. Придя к власти,
как ставленник нелюбимого в народе Ельцина, он сумел быстро завоевать симпатии масс, и
расстаться с этим народным признанием уже не может. Признание же пришло вследствие
жесткой позиции Путина по проблеме чеченского сепаратизма. С тех пор борьба с
сепаратизмом (реальным и мнимым) стала не только одной из фундаментальных задач новой
администрации, но и ее символом. Чеченская политика во многом определила подход и
инструментарий решения всего комплекса региональных и этнических проблем – это метод
давления (не обязательно военного), но непременно жесткого и
обеспечивающего
беспрекословное послушание региональных лидеров Кремлю. Не случайно федеральная
власть сделала ставку на генералов, в том числе и «героев чеченской войны» в проведении
этой политики.
Чеченская война и административные реформы являются единокровными детьми
одной и той же идеологии, «неотрадиционализма», поэтому вполне естественно пересечение
в обеих кампаниях одних и тех же фигур. По мнению социологов ВЦИОМ,
новый
российский проект строительства «вертикали власти» очень напоминает государственное и
партийное строительство советского типа, лишь с тем различием, что «большевики в свое
165
время от идеологической организации перешли к государственно-бюрократической,
сегодняшние партстроители начинают с последней»302
Политика ограничительная и охранительная. Для нас существенен вопрос о том, в
какой мере этот проект нарушал баланс интересов этнических общностей.
Начнем с этнической элиты республик России. Существуют или могут существовать
разные точки зрения относительно того, в какой мере реформы «эпохи стабилизации» были
направлены на ограничения их прав. Так, губернатор новгородской области Михаил Прусак
полагает, что новая политика, как раз и отличается от прежней тем, что Ельцин делил
региональных лидеров на «своих - демократических» и «чужих – коммунистических», а
Путин взял курс на тотальное подчинение региональных элит. Прусак пишет, что «раньше
для Кремля губернаторы были белые и красные, а теперь одинаковые – "все плохие».303
Однако можно предположить, что все же часть региональной элиты, кажется Кремлю
особенно «плохими» – это руководители республик, которые были лидерами «парада
суверенитетов».
И, наконец, не исключено, что реформы изначально не предусматривали какой-либо
сегрегации региональной элиты, но болезненность восприятия этих реформ региональной
элитой была разной в русских регионах и в республиках. При этом национальная элита
республик и массы этнических меньшинств в них могли приписывать реформам некий
скрытый этнический подтекст. Подозрения на этот счет могли усугубляться тем, что
именно в «эпоху стабилизации» были приняты управленческие решения, которые,
безусловно, ущемляли этнокультурные права и интереса меньшинств. Примером может
служить федеральный закон «О внесении дополнения в статью 3 Закона Российской
Федерации «О языках народов Российской Федерации», суть которого сводится к тому, что
в Российской Федерации государственные языки республик должны использовать алфавиты
только на основе кириллицы. Ограничения затронули и мигрантские группы этнических
меньшинств. Такие ограничения стали частью перемен в миграционной политике. Если во
времена Ельцина существовало самостоятельное миграционное ведомство, которое
занималось преимущественно абсорбцией мигрантов, то в «эпоху стабилизации» – оно
стало частью милицейского аппарата и занято в основном ограничением миграции.
Выиграло ли от указанных преобразований этническое большинство? Прежде, чем
ответить на этот вопрос следует задуматься над наличием у большинства фундаментальных
Общественное мнение - 2002.По материалам исследований 1989-2002гг., Ежегодник .// М.: ВЦИОМ
2002. С.43
303
Цит. по: Любовь Цуканова. Очищение рядов. Государственному механизму нужны надежные винтики //
Новое время 5 ноября 2000 г .http://www.newtimes.ru/artical.asp?n=2871&art_id=227
302
166
интересов в самой федерализации. Нет сомнений в том, что этот процесс нужен этническим
меньшинствам, он позволил им удовлетворить часть своих интересов в расширении и
укреплении самостоятельности своих автономий, интерес же этнического большинства в
федерализации страны не очевиден, по крайней мере, на первый взгляд. Однако часто
бывает так, что одни и те же процессы или явления могут удовлетворять разные интересы,
а они действительно неодинаковы у большинства и меньшинств. Многочисленные
этносоциологические исследования, проведенные как в России, так и в других странах,
показывают, что с ростом этнического самосознания у этнических меньшинств
усиливаются автономистские требования, а у этнического большинства – требование
сохранения целостности страны.304 Этническое большинство по определению не
заинтересовано в борьбе за автономию, поэтому идеи ««русской республики» как русской
этнической автономии в пределах преимущественно русского же по своему национальному
составу государства – это нонсенс. К величайшему сожалению, никто
не пытался
объяснить народу, что в исторически сложившейся этнополитической ситуации в России,
именно федеративное устройство является оптимальной формой учета баланса интересов
этнических сообществ, когда меньшинства получают автономии, а большинство
удовлетворяет, таким образом, свой главный интерес в сохранении целостности страны и
единого
контролируемого
ареала
своего
расселения.
Дефицит
объяснений
целесообразности федерализации не только для меньшинств, но и для большинства и,
одновременно избыток ее критики с позиций русского национализма усиливал
дезориентации масс. Если даже президент Путин в своем первом Послании Федеральному
собранию не делал различий между децентрализацией и дезинтеграцией страны, то
приходится ли удивляться тому, что массы и вовсе воспринимали ее как односторонние
уступки «националам», как хаос и начало распада страны? В таких условиях реальное или
только кажущееся ограничение роли «зарвавшихся региональных баронов» в целом было
положительно воспринято этническим большинством. Однако логика контрреформ, логика
огосударствления
межэтнических
отношений
требовала
не
только
ограничить
политические возможности элиты этнических меньшинств, но и создать ей надежный
противовес. Это логика формирования этнической опоры авторитарной власти «цемента
империи» и иерархизации народов по принципу «свои», «почти свои», «чужие». Такая
политика декорируется лозунгами о защите прав этнического большинства, поэтому ныне
все отчетливее стала проявляться и ориентация нынешнего политического истеблишмента
См. Дробижва Л.М, Паин Э. А. Особенности этнополитических процессов и этнической политики в
современной России.// Политические и экономические преобразования в России и Украине. Отв. ред.
В.Смирнов. М.: «Три квадрата» С.254-257
304
167
России на сочетание ограничительно-запретительной политики по отношению
к
этническим меньшинствам с усилением охранительной политики по отношению к
этническому большинству.
Так наряду с законом, запрещающим этническим меньшинствам использовать иную
графику, кроме кириллической, Государственной Думой принят Закон "О русском языке
как государственном языке России", который трактуется политиками типа В.В.
Жириновского как политический символ главенства русского языка и русского народа. 305
В Думе подготовлен проект закона «О русском народе». При его обсуждении
выдвигались два основных тезиса: во-первых, признание русских «единственным
государствообразующим народом», во-вторых, «признание России мононациональной, а не
"многонациональной" страной», при этом речь идет об этнической трактовке понятия
«нация».306 В таком же направлении обсуждается идея пересмотра Концепции
государственной национальной политики, принятой во времена Ельцина и, прежде всего,
замена
принятой
там
формулы:
государствообразующими»
на
идею
«все
коренные
народы
исключительности
–
России
являются
«русские
являются
государствообразующим народом России».307
Включилась в это творчество по переосмыслению национальной политики и Русская
православная церковь (РПЦ). Митрополит Кирилл, глава отдела внешних церковных связей
патриархии, ведающий также и связями с органами федеральной власти, заявляет: «Мы
должны вообще забыть этот расхожий термин - многоконфессиональная страна: Россия это
православная
страна
с
национальными
и
религиозными
меньшинствами».308
Действительно, РПЦ все настойчивее проводит в жизнь идею иерархии конфессиональных
и этнических общностей. На вершине – «государствоообразующий православный народ»,
второй уровень, - так называемые «традиционные религии» (ислам, буддизм и иудаизм),
далее идут – нетрадиционные религии (католицизм и протестантизм) и исповедующие их
этнические общности, и, наконец, в конце иерархии так называемые «тоталитарные секты»,
и связанные с ним этнические общности.
Такая мысль была высказана в теледебатах между В Жириновским и Б.Надеждиным «О Законе о русском
языке как государственном» http://www.integrum.ru/webpush/personal/w5068991.htm - 52К - 08.02.2003
305
Александр Севастьянов. Hужен ли нам закон о "Русском народе"?
http://supol.narod.ru/archive/2002/SU1700A.HTM .30.07.2002
306
СМ. Аналитический бюллетень № 30.2001. Институт стран СНГ 1.06.2001
Митрополит Кирилл. Россия – православная, а не «много конфессиональная» страна// Радонеж. 2002. №8.
См также. Верховский Александр. Беспокойное соседство: Русская Православная Церковь и путинское
государство.// Россия Путина. Пристрастный взгляд. – М.: Центр «Панорама» 2003. С. 79-134.
307
308
168
Митрополит Кирилл – влиятельная политическая фигура, но все же он не
государственный служащий, поэтому, когда его идеи озвучивает Георгий Полтавченко,
полпред Президента в Центральном федеральном округе, они приобретают иной, куда
более весомый политический смысл.
Генерал тоже ратует за усиление роли традиционных конфессий в жизни России. В
интервью, данном 26 февраля 2003 г., полпред отметил, что традиционными религиями в
России считаются православие, ислам, буддизм и иудаизм. При этом Полтавченко
подчеркнул,
что
именно
православие
на
протяжении
многих
веков
являлось
государствообразующей религией.309 В этом же интервью полпред сформулировал свое
отношение к нетрадиционным религиям: "Почему мы должны создавать искусственные
благоприятные условия для того, чтобы к нам пришли протестанты, католики, муниты и
так далее?"310 Эти рассуждения могут показаться, мягко говоря, не корректными для
официального лица, который просто обязан содействовать обеспечению равных условий
для граждан всех конфессий (за исключением приверженцев нелегальных сект). Чиновнику
такого ранга следовало бы осознавать, что в России, в том числе и на территории
вверенного его попечительству федерального округа, уже несколько веков проживают
многотысячные этнические общности, в которых большинство верующих исповедует
католицизм (например, поляки) или протестантизм (например, большинство верующих
немцев). Протестантизм же вообще одна из самых массовых конфессий России, к которой
традиционно еще со времен Российской империи и, уж во всяком случае с советских
времен, тяготеют миллионы русских людей, исповедующих баптизм, евангелизм,
различные формы адвентизма и др.
Любопытно, что в России вовсе не ислам, как многие думают, а различные течения
протестантизма занимают второе место после Русской православной церкви по числу
зарегистрированных организаций и учреждений. По данным министерства юстиции России
на 1.01 2003 г. зарегистрировано следующее количество организаций и учреждений
различных конфессий:
русской православной церкви -112999,
исламских – 3467
буддистских-218
иудаизма – 270
римско-католических- 268
309
Георгий Полтавченко высказался за усиление роли традиционных конфессий в жизни России. News. RU
26.02.2003 13:29 http://www.newsru.com/religy/26feb2003/poltavchenko_print.html
310
Там же
169
протестантских – 5128
Таким образом, общее число приходов так называемых «нетрадиционных религий»
(протестантских и католических вместе взятых) превышает общую численность всех
«традиционных», за исключением православных.
Для генерала Полтавченко религия и межэтнические отношения - это объект так
называемой «духовной безопасности», которую он рассматривает как часть национальной
государственной безопасности, поскольку даже «сокращение рождаемости и численности
населения, - по его мнению, - является следствием бездуховности». 311 Если следовать
логике генерала, то русские уступают в уровне «духовности» многим народам России,
особенно чеченцам, проживающим в Чеченской республике, поскольку последняя перепись
выявила у них беспрецедентно высокий уровень рождаемости. Однако полпред вряд ли
задумывался о таких «мелочах». Его умозаключения, скорее всего, имеют цель обосновать
с позиций обеспечения государственной безопасности целесообразность совмещение идей
«вертикали власти» с идеей вертикали, иерархии в системе этноконфессиональных
общностей России. Вырисовывается картина до боли знакомая по советским временам,
когда действовала модель «братских народов», но разделенных на «старших» и «младших».
Однако страна с тех пор изменилась, и легко себе представить, как на "вертикаль" в Центре
ответят подобными же
"вертикалями" республики. На вершине одной из них может
оказаться татарско-мусульманский "старший брат", на другой - буддистско-калмыцкий, и
т.д. Вместо интеграции России мы получим множество очагов напряженности, и понятно,
что укреплению Федерации это способствовать не будет.
Пока
концепция «вертикали этно-конфессиональных общностей» не является
официальной государственной политикой, более того она противоречит российской
Конституции, провозглашающей равноправие всех этнических и конфессиональных
общностей «многонационального народа России». Противоречит эта идеология и
высказываниям президента Путина, который, судя по его публичным выступлениям, не
поддерживает тезис о России как «моноконфессиональной и моноэтнической стране с
меньшинствами» и определяет ее как «страну, соединившую на огромном пространстве
множество народов, территорий, культур». 312 В этой связи можно рассматривать идеологию
«этно-конфессиональной вертикали» как целевой проект, осуществления которого
добивается влиятельная часть политической элиты страны.
Надежда Кеворкова Церковные иерархи за преподавание теологии // Gazeta.RU 11.10.2002.
http://www.gzt.ru/rubricator.gzt?rubric=novosti&id=19050000000003188
312
Владимир Путин: Россия встречает свой праздник сплоченной страной/ РИА «Новости» МОСКВА, 12
июня 2003 г :// http.www.strana.ru/stories/02/02/07/2464/183598.html
311
170
Параграф 2 Идеологические факторы. Маятник этнополитических
идей.
Смена эпох, о которых мы говорим, ознаменовалась инверсий элитарных
политических представлений: идеологемы, осуждаемые элитой в эпоху революций, стали
престижными в эпоху стабилизации. Произошел переход от идеи осуждения советского
строя - к его идеализации; от ориентации на западную модель развития - к обоснованию
особого пути России; от идеи «повинимся перед меньшинствами за имперское прошлое»
к идее защиты этнического большинства от агрессивных меньшинств или защиты «хозяев»
от «гостей». Мы еще поговорим о том, все ли идеи революционной эпохи заслуживали
безоговорочной поддержки и не следовало ли какие-то из них пересмотреть? Пока же
отмечу, сам факт отказа части интеллигенции от своих прежних идей и то, что, во многом,
это
обеспечило
усиление
позиций
идеологии
традиционализма
или
«неотрадиционализма».
По мнению Л. Гудкова. «неотрадиционализм» включает в себя следующие
элементы: 1) «мечтания о прежней роли супердержавы в мире», 2) «антизападничество и
изоляционизм,», 3) «упрощение и консервацию сниженных представлений о человеке и
социальной действительности».313
Принимая в целом эту концепцию, все же считаю нужным уточнить как признаки
понятия «неотрадиционализм» (акцентируя внимание не столько на внешнеполитических
проявлениях традиционализма, сколько на внутренних российских), так и предложенную
Гудковым картину последовательности событий в процессе разрастания традиционных
стереотипов в элитарном и в массовом сознании. Гудков исходит из того, что российская
элита всего лишь воспроизвела уже сложившиеся «самые расхожие массовые мнения и
взгляды», я же полагаю, что неотрадиционалистские «мнения и взгляды» вначале были
вовсе не расхожими и не массовыми, сформировались именно в элитарных слоях, и уже
затем
были
искусственно
оживлены
в
обществе.
И
лишь
после
того,
как
реконструированные элитой советские имперские стереотипы получили массовое
распространение и приобрели значимость в качестве электорального фактора, их стали
Гудков Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам// Мультикультурализм и
трансформация постсоветских обществ. Под ред. В.С.Малахова и В.А.Тишкова. РАН. Институт этнологии и
антропологии. Институт философии. Москва.2002. С.129
313
171
активно эксплуатировать влиятельные силы, при этом не только в политических целях.
Растущая в массовом сознании идеализация советской эпохи привлекла внимание бизнеса,
который стал активно использовать ее в коммерческих интересах. Например, корпорация
«Балтика» решила возродить советский брэнд – пиво «Ленинградское» с этикеткой, которая
была в советское время, диски с записями советских песен расходятся миллионными
тиражами,
рекламными плакатами - «наша родина СССР» (реклама одной из
радиостанций)
заклеены
вагоны
московского
метрополитена.
Политическая
и
коммерческая эксплуатация советской ностальгии еще больше ее усилили.
Постараюсь обосновать свой тезис о «навязанном возрождении советских
стереотипов», опираясь на материалы тех же исследований ВЦИОМ, которые использует
Л. Гудков.314
Навязанные традиции. Элиты не только «производят идеи», но и распространяют
их. Так было и в конце 80- начале 90-х годов, когда основным выразителем идей
«перестройки», модернизации России был весьма узкий слой российского общества. В
основном это были жители крупнейших городах бывшего СССР, преимущественно из
среды гуманитарной интеллигенции. Этот слой в советское время испытывал растущую
неудовлетворенность и дискомфорт от бюрократического характера организации всей
социальной и повседневной жизни, поэтому, когда представилась возможность, он и
сформировал идеи «перестройки» как одной из форм модернизации России. Суть этих
идей, в конечном счете, сводилась к двум лозунгам: «так жить нельзя» и «пора вернуть
Россию
на
путь
цивилизованного
развития,
с
которого
она
была
сброшена
коммунистическим переворотом». Крайне негативные оценки советского общества,
советской экономики, политических институтов быстро утвердились в наиболее
популярных масс-медиа в конце 80-х годов. Массовое сознание какое-то время
сопротивлялось этим новым веяниям и потребовалось время (около двух лет) для того,
чтобы интеллигенция смогла довести до масс требование «разорвать с прошлым» и внести
перелом в настроениях россиян. Так, доля опрошенных, согласных с тем, что в результате
коммунистической революции страна оказалась на обочине истории и принесла людям
лишь нищету, страдания и массовые репрессии, в 1989 г. не превышала 7%, а уже в 1991
выросла более чем в 8 раз (до 57 %).315 Эта идея удерживалась в качестве доминирующей
до 1992 года, переломного во многих отношениях, хотя и в то время негативные оценки
Большую часть социологических материалов ВЦИОМ, на которых, во многом основывается эта работа,
мне любезно предоставил Л.Гудков, которому я выражаю свою искреннюю благодарность
315
Гудков Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам. С.130.
314
172
советского периода все еще поддерживало почти 50% опрошенных, несмотря на спад
эйфории, связанной с надеждами на быстрые успехи либеральных реформ.
Демократическая мобилизация, направленная против союзной номенклатуры,
помогла также адаптироваться российскому обществу к распаду СССР и обусловила
сравнительно спокойное его восприятие, несмотря на то, что всего лишь за несколько
месяцев до роспуска союзных органов власти, большинство россиян на Референдуме в
марте 1991 г. проголосовало за сохранение Союза. Однако подобная мобилизация
продолжалась недолго и непрочный союз
разрозненных политических группировок,
именовавших себя «демократами» (от прозападных либеральных до популистских и даже
националистических сил) быстро распался. Солидная по численности демократическая
фракция российского парламента буквально рассыпалась.
Первыми из демократической коалиции выделились так называемые «белые
державники». Уже через год после образования новой суверенной России, этот слой
ощутил, что у них больше сходного, чем различного с «красными державниками». Поначалу их объединяло в основном ностальгия по Советскому союзу и сожаления о том. что
Россию перестали бояться в мире (одновременное повышение уважения к ней и рост
готовности к сотрудничеству в расчет не принимался). Затем к этому добавилось общее
негативное отношение к федерализации, которая с точки зрения «державников» (т.е.
традиционалистов, стоящих на имперских позициях) однозначно оценивалась как начало
«развала России».
В октябре 1992 г. была создана первая коалиция сил, оппозиционных Ельцину и
правительству Гайдара – это был Фронт национального спасения (ФНС), идейной основой
которого был этатизм («державничество»), а лидирующую роль в нем первоначально
играли не коммунисты, а те самые «белые державники», многие из которых в свое время
поддерживали А. Сахарова..316 С другой стороны и левые силы стали больше выпячивать
именно свои национал-державные антизападнические идеи, а вовсе не принципы
социального равенства.
Г.Зюганов, например, вошел в ФНС не как лидер российских
коммунистов, а как председатель Координационного совета народно-патриотических сил,
вместе с ним пришли сторонники воссоединения Союза, например, В.Алкснис («Союз») и
русские националисты, например, А. Стерлигов ("Русский национальный собор"). 317
В их числе были В. Исаков от партии «Российское единство", М.Астафьев, лидер Конституционнодемократической партии - Партии народной свободы (КДП-ПНС), С.Бабурин и Н.Павлов - Российский
общенациональный союз (РОС), И.Константинов - Российское христианско-демократическое движение
(РХДД) См. Коргунюк Ю. "Современная российская многопартийность". Полит. Ру
http://www.polit.ru/docs/475786.html
317
Там же.
316
173
Вероятно, уже в это время наметилось смещение центра тяжести политической
борьбы в России. Его главным содержанием все больше становилось не противостояние
«демократов» и «коммунистов», а противоборство «западников» и «националистов»,
точнее идеологий: «универсальной модернизации» - с одной стороны и «особого русского
пути», основанного на идеях имперского традиционализма - с другой.
В 1991-1992 гг. российская оппозиция в основном сосредоточилась на критике
внешнеполитического
проамериканской
курса
ориентации
внешнеполитическим
администрации
Андрея
ведомством
Ельцина.
Козырева,
России.
Особенно
руководившего
Выдвигались
лозунги
доставалось
в
то
время
«объединения
разделенного русского народа» и «защиты русских соотечественников» в новых
независимых государствах, «брошенных на произвол судьбы». Русские в СНГ
рассматривались державниками как основа ирредентистских движений, как инструмент
восстановления СССР. "Без воссоединения ныне разделенного русского народа наше
государство не поднимется с колен" 318. В это время и часть представителей правящих
политических кругов исходили из целесообразности тактики «перехвата лозунгов»
державности, которые, как многим казалось, должны были пользоваться популярностью у
народа.319
Между тем подобные идеи носили тогда сугубо элитарный характер и почти не
отражались в массовом сознании. Об этом свидетельствуют опросы ВЦИОМ 1993 года (см.
табл. 5)
Таблица 5
«Связана ли лично Ваша сегодняшняя жизнь с другими республиками бывшего
Союза?» (в % к количеству опрошенных по строке) ВЦИОМ 1993г.320
Варианты
ответов
да, в
значительной
степени
да, в
практически
незначительной нет
степени
затрудняюсь
ответить
Русские
15.6
16.6
61.4
6.4
другие
23.9
25.1
45.5
5.5
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Всего около 16 % россиян в то время заявляли, что их жизнь в значительной мере
связана с другими республиками бывшего СССР, при этом у этнического большинства
Г.Зюганов. Драма власти. М., "Палея", 1994.С..22
См. Станкевич С.. Явление державы. "Российская газета", 23 июня 1992
320
Опрос ВЦИОМ: ОМНИБУС 93-1
318
319
174
актуальные связи с другими республиками были
ниже, чем у респондентов других
национальностей, многие из которых, возможно, были выходцами из других республик
бывшего Союза. Свыше 2/3 русских респондентов отмечали, что их повседневная жизнь
практически не связана с другими республиками бывшего СССР, тогда как среди
представителей других национальностей, таких было меньше половины. Лишь 9.3 %
русских и 12. 9% представителей других национальностей заявляли, что они ощущают
«свою общность с людьми и историей этих республик. 321 Только 21% русских ощущали
интерес к тому, что происходит даже в
родственной Украине, которая в то время
воспринималась как неразрывная часть единого ареала расселения русских.322
И в отношении к вопросу о репатриации русских, в России на протяжении 90-х годов
в массовом сознании преобладали настроения безразличия и безучастности, сменявшиеся в
периоды кризисов ростом откровенного негативизма к русским из других республик. К ним
старожилы относились как к непрошеным нахлебникам и конкурентам в экономической и
социальной сферах.323 Так, в Тверской области до середины 90-х годов преобладало
равнодушное отношение к притоку в область русских вынужденных переселенцев. Не
более четверти опрошенных высказывали тогда негативное отношение к ним, однако после
августовского кризиса 1998 г. их доля возросла уже до 44% при безразличном отношении
к русским мигрантам со стороны большей части респондентов.324
Можно с уверенностью утверждать, что политическая оппозиция того времени не
опиралась на реальный анализ настроений народа и ссылалась на «волю народа» без
малейшего на то основания.
К концу 1993 г.
сложились практически все основные разновидности лозунгов
возрожденной «русской идеи» в ее имперской, традиционалистской трактовке.
Коммунисты пугали народ ужасами распада СССР «...нынешняя Российская Федерация это еще не вполне Россия, а обрубок с кровоточащими разорванными связями». 325
Сторонники Жириновского завлекали народ перспективами воссоединения
великой
державы: «Россия - это страна в границах как минимум СССР, либо Российской
Империи».326 Радикалы из РНЕ призывали к насилию: «…представитель Русской Нации,
Опрос ВЦИОМ: ОМНИБУС 93-1
Подробнее см. Э.Паин. Становление государственной независмости и национальная консолидация
России:проблемы , тенденции, альтернативы. С. 65.
323
Филиппова Е.И. Проблемы адаптации русских беженцев в российском селе (взаимоотношения с местным
населением) // Миграционные процессы после распада СССР. Под. Ред. Дж.Азраэла и Ж.Зайончковской. М.:
Ин-т народнохозяйственного прогнозирования РАН. 1994. Грищенко В.В Русские среди русских: проблема
адаптации вынужденных мигрантов и беженцев из стран ближнего зарубежья в России М.: 1999 г.
324
Витковская Г. Вынужденная миграция и мигрантофобия.//Нетерпимость в России: старые и новые фобии.
Под ред. Г. Витковской и А. Малашенко; Моск.Центр Карнеги. - М.:1999. С. 152
325
.Зюганов. Г Драма власти. М., "Палея", 1994, с. 202
326
.Жириновский В. Что мы предлагаем. Предвыборная программа ЛДПР. - "Юридическая газета", N 40-41,1993, с.4
321
322
175
обязан восстанавливать справедливость в отношении Русских людей своей властью и своим
оружием, не обращаясь в судебные и иные инстанции".327 В период обострения борьбы
Президента и Верховного Совета (1993) лагерь оппозиции еще больше расширился. В это
время к критике внешней политики и гайдаровских реформ добавились упреки в адрес
федеральной власти в «развале России», в поддержке сепаратизма республиканских элит.
Тем не менее, несмотря на шумную пропаганду, подобные идеи в первой половине 90-х
годов еще не пользовались массовым спросом.
Как уже отмечалось, в электоральных предпочтениях населения доля сторонников
«независимого развития России» превосходила долю сторонников «Воссоединения СССР».
Да и «образ врага», один из ключевых в неотрадиционалистском варианте «русской идеи»,
тоже не сразу овладел массами. В 1989 г. большинство опрошенных (49%) полагало, «зачем
искать врагов, если корень наших бед, в нас самих» и лишь 12% были уверены, что
источником проблем русских являются их враги. Через шесть лет (1994 г.) уже 41%
опрошенных видели во врагах главный источник своих бед, но почти столько
придерживались противоположного мнения. Понадобилось еще пять лет, чтобы образ
«врага» прочно утвердился в сознании россиян, и в 1999 г. уже подавляющее большинство
опрошенных (65%) стало объяснять свои проблемы происками врагов.328
Вряд ли кого-нибудь удивит тот факт, что привычная, стереотипная и удобная идея
переноса ответственности за проблемы русского народа на «врагов» приобретала все новых
сторонников, по мере роста негативного восприятия жизни в России. Понятно, что
возвращение к старому всегда требует меньших усилий, чем освоение новых ценностей.
Поражает другое - сравнительно прочная устойчивость новой для посттоталитарного
мышления идеи - «корень наших бед, в нас самих».
Позволю себе выдвинуть гипотезу о том, что за девять - десять лет с начала
«перестройки» (1985 – 1994 гг.) в российском обществе начала формироваться новая
традиция, основанная на идеях индивидуальной свободы и персональной ответственности,
которая оказалась способной, на какое-то время, сопротивляться возвращению советских
стереотипов, навязываемых массовому сознанию коммунистическими, радикальнонационалистическим пропагандистами, а также либералами-перебежчиками. И еще смелее
могу утверждать, что социологические материалы доказывают сравнительно высокую
пластичность массового сознания россиян и его готовность к восприятию новых
социальных и политических парадигм. При этом речь идет не только о быстро меняющихся
Из "Кодекса чести" партии "Русское национальное единство" // Русский порядок. 1993. 19 декабря. С.28.
Гудков Л. Русский неотрадиционализм //Экономические и социальные перемены: мониторинг
общественного мнения. 1997. № 2. С. 25-33. Он же. Комплекс «жертвы»: особенности массового восприятия
россиянами себя как этнонациональной общности // Там же. 1999. № 3. С. 47-60.
327
328
176
политических представлениях, но и о глубинных ценностных ориентациях. Так,
двенадцатилетние исследования Николая Лапина свидетельствуют о последовательном
нарастании либеральных ценностей (свободы, независимости, инициативности) в той части
структуры ценностных ориентаций россиян, которые обусловлены «утвердившимся
социокультурным типом общества». 329
Социологические исследования, проведенные
разными исследователями, разнящимися по своим идеологическим убеждениям и по
методологическим приемам, показывают, что сегодня около 40% населения России – это
люди,
исповедующие
«протестантские»
в
ценности,
во
веберовском
многом
напоминающие
смысле
этого
так
понятия,
называемые
т.е.
глубоко
индивидуализированные, ориентирующиеся на индивидуальный, рациональный выбор, на
минимальное обращение за поддержкой к окружающей среде, за исключением семьи.330
Не
только
социологические
исследования,
но
и
упоминавшийся
уже
факт
многочисленности представителей протестантской религии (второй по численности
верующих в России) свидетельствует, что ценности протестантской этики не чужды
русским людям. Все это ставит под сомнение (по крайней мере)
справедливость
популярных ныне представлений о том, что русский народ был не готов к освоению
модернизационных ценностей или даже, что они, якобы, принципиально не соответствуют
природе «русской души и ментальности».
Модернистская идеология в постсоветской России оказывала влияние на массовое
сознание до тех пор, пока у россиян сохранялась надежда, что либеральные реформы
приведут к позитивным переменам, жизнь улучшится. Влияние же традиционализма стало
прогрессировать по мере ослабления этих надежд. Массовые разочарования, усталость,
фрустрации как раз и обусловили большую, чем раньше, восприимчивость людей к
элитарным идеям неотрадиционализма, в изобилии выплескиваемым
известными
«экспертами» на массовую аудиторию в популярных телепередачах, в газетах и журналах.
Традиционалистские же объяснения происходящих перемен, в свою очередь, обусловили
еще больший рост массовой дезориентации населения и нарастание ностальгии по прежним
временам идеализированной стабильности и благополучия.
Традиционализм как исторический фатализм. Мы еще остановимся на оценке
иных факторов, обусловивших указанные перемены, а пока отмечу, что на российской
Лапин Н.И Как чувствует себя, к чему стремятся граждане России: Аналитический доклад. М., 2002. С.
39, 41, 43.
329
См, например материалы обсуждения «Модернистский проект: спрос и предложение» 01.10.2002.
http://www.liberal.ru/issue.asp
330
177
интеллигенции в немалой мере лежит «грех» формирования упаднических настроений в
обществе. В отличие от ситуации в других странах Восточной Европы (Чехии, Польше,
Венгрии), в России не возникло элиты, которая смогла бы выработать целостную
программу
национального
развития,
проект
ее
модернизации,
или
хотя
бы
рационализировать происходящее. Вместо этого российская интеллектуальная элита
проявила высокую склонность к популизму, который Ю Левада определяет как антипод
демократии. По его мнению, демократия представляет собой систему институтов и
механизмов, которые “превращают толпу в народ”, в то время как популизм “низводит
общественное до массового, то есть до уровня наиболее распространенного, “простого”.331
Популизм, в свою очередь, является важным фактором роста массовых этнических
предрассудков, этнофобий. В условиях, когда стереотипы массового сознания становятся
эталонами, в обществе «на сцену выходят дремавшие под покровом демонстративной
“советской” лояльности этнические фобии, и национальные амбиции»332
Развивается этнический национализм, также и под влиянием
так называемого
стихийного примордиализма, т.е. такого образа мысли, который исходит из представлений
о том, что людям, принадлежащим к одной и той же этнической общности, изначально
(примордиально) и навсегда присущ некий набор культурных свойств, обусловливающих
их поведение.333 Одним из политических следствий доктрины примордиализма является
исторический фатализм, проявляющийся, например, в формуле: «Культура – это судьба».
Между тем, в этнологии примордиализм как научный концепт, находится на периферии
научной мысли и, подвергается, уже, по крайней мере, с середины прошлого века все
возрастающей критике. Прежде всего, его рассматривают как предтечу расизма, а при
широкой трактовке последнего как «культурного расизма», непосредственно включают в
это понятие.334 Однако в России, за пределами сообщества этнологов (этносоциологов),
стихийный примордиализм доминирует как в массовом, так и в элитарном сознании.
Именно с примордиалистских позиций в российской прессе, да и в научных
публикациях чаще всего оценивают свойства этнических общностей, в том числе и русских.
При этом используют две, казалось бы, абсолютно противоположные модели такого
подхода: 1) «самобичевания», когда выпячиваются и абсолютизируются такие, якобы,
извечно присущие свойства русских, как леность, неприспособленность к упорному,
Левада Ю. Общественное мнение в год кризисного перелома: смена парадигмы. // Сегодня, 1994. - 17 мая
Та м же.
333
Подробнее о сущности, определении и критике «примордиализма» см Тишков В.А. Очерки теории и
политики этничности в России. - .Москва: «Русский мир» 1997.С. 48-52
334
. Шнилерман. В. О новом и старом расизме в современной России. // Вестник Института Кеннона в
России. Вып.1. М., 2002.С 77-80.
331
332
178
кропотливому труду, пьянство, низкая ценность жизни, неготовность к жизни в условиях
демократии и др.; 2) «самолюбования», подчеркивающие абсолютно позитивные качества,
такие как великодушие, щедрость, духовность и др.
Так Лев Аннинский описывает русских в терминах первой из названных моделей:
«Американец упорно работает, чтобы и дети, и внуки его имели счастливую возможность
также работать. Наш человек героически вкалывает, чтобы если не дети его, то хотя бы
внуки его получили наконец возможность ничего не делать»335. Другой современный
литератор Владимир Бондаренко использует вторую модель (правда, весьма своеобразно, с
сомнительными
признаками
позитивности),
заявляя:
«Русские
—
имперский, государствообразующий народ. Таким не являются ни грузины, ни эстонцы,
ни даже немцы…Лишь русские, со своей обширностью и безразмерностью, с
мечтательностью и жалостливостью, даже со своей треклятой обломовщиной, способны на
державность».336
Ни один из авторов не приводит никаких аргументов в подтверждение своих
утверждений. Все рассуждения о русских, грузинах, эстонцах и американцах не более
обоснованы, чем знаменитые этнические анекдоты «армянского радио», и похоже, на них
и основаны. Отсутствие корректного и доказательного сравнения русских с другими
этническими общностями заменяется категоричностью заявлений, сделанных во
вневременных рамках, в терминах «всегда», «никогда», «во все времена». Это самая
характерная черта стихийно примордиалистких суждений.
Такая внеисторичность противоречит накопленным результатам исследований и
базовым теориям современной этнологии, свидетельствующим, что не существует вечных
этнических особенностей. Этничность – это, прежде всего, отношения «мы» - «они».
Именно такие отношения, как правило, и задают культурные особенности, которые, в
терминологии Ф.Барта, выступают как «этнические маркеры», формирующие культурные
этнические границы.337 Культурные особенности любого народа всегда относительны:
испанский язык отличает испанца от француза, но не отличает от чилийца и аргентинца,
использование борща в повседневной пище отличает украинца от немца, но не отличает от
русского и т.д. Этнические особенности являются всего лишь композицией приходящих
культурных свойств, которые только на определенное время, в данный исторический
Аннинский Лев. «Взаимоупор». Вечно невозможный диалог. // Западники и националисты: возможен ли
диалог? Материалы дискуссии фонда «Либеральная миссия». - М.: ОГИ. 2003.С. 225
336
Бондаренко Владимир НАРОД ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ.// «Завтра» № 1(318) 4 января 2000
337
Barth..F. (ed) Ethnic Groups and Boundaries. Bergen.1969
335
179
момент, могут отличать одну группу от каких-то других.338 Но и в этом случае, речь должна
идти именно о группах, социальных и региональных, а не о всей общности. Русские
горожане не только по поведенческим, но и по ментальным характеристикам отличаются
от русских селян. Значительно различаются элитарное и массовое сознание. Еще больше
различий, включая зачастую и языковые, между этническими русскими, живущими в
Америке или во Франции и русскими россиянами. Единственная особенность, которая
также уникальна как почерк или отпечатки пальца человека, - это самоназвание народа
(этноним) и предельным признаком этничности, с утратой которого происходит ее смена,
является отказ от этнонима. Использование же традиционного этнонима свидетельствует о
сохранении
в какой-то мере этнической самоидентификации: люди могут уехать с
исторической родины, забыть родной язык и утратить все навыки традиционной культуры,
но продолжать считать себя представителем определенной этнической общности, другой,
чем живущие рядом народы, что, однако, может не оказывать никакого влияния на
поведение людей.
Именно при анализе реального исторического поведения людей быстро рушатся
стихийно примордиалистские
конструкции. Например, если бы в русской народной
традиции действительно преобладала ориентация родителей «на безделье своих детей и
внуков», как утверждает Аннинский, то не мог бы действовать известный механизм
передачи трудовых традиций
из поколения в поколение, на основе которого
формировалась и закреплялась исторически устойчивая региональная специализация
ремесел (тульские оружейники, ивановские ткачи, стеклодувы Гусь Хрустального и т.д.).
Этот же механизм ранней профессиональной ориентации и передачи трудовых навыков до
сих пор обеспечивает устойчивость русских народных промыслов (палехского,
хохломского, дымковского, жестовского и множества
других). А как согласуется с
утверждением о русских как имперском народе (более имперском, чем какие-либо другие)
тот факт, что на протяжении XX века Российская империя распадалась дважды и оба раза
без сопротивления русского народа, в то время, как любая попытка внешнего нападения на
Отечество неизбежно подымала народное партизанское движение?
Это миролюбие
русских людей и одновременно рациональность – готовность защищать страну от агрессора
и отсутствие желания проливать кровь за имперские амбиции элиты, на мой взгляд,
является подлинным достоинством большого народа.
Высказывание В. Бондаренко о державности русского народа порождают множество
вопросов. Прежде всего, что такое «державность» и чем она отличается от любви к родине
См, например, Токарев С.А. История зарубежной этнографии: Учебное пособие. – М.: Высшая школа.
1978
338
180
и лояльности граждан государству? Не думаю, что цитируемой мною публицист будет
настаивать на том, что русские больше любят свое государство и более склонны соблюдать
его законы, чем, скажем, упомянутые им эстонцы или немцы. Он говорит о другом: об
отношении русских людей к особому типу государства – к империи, в которой, во-первых,
есть самодержавный правитель и его подданные, слуги (это имеет в виду Бондаренко,
используя знаменитую лермонтовскую фразу: «Слуга царю, отец солдатам»); во-вторых,
есть главный, имперский, как говорит публицист, «государствообразующий», народ, на
которого возложена функция покорения других народов или насильственного удержания
их в составе государства. Может ли державность в изложенном ее понимании выступать
в качестве этнически специфицирующего фактора? Да может, но, как уже отмечалось, не
вечно, а лишь на исторически определенное время. В XUIII в. когда идея общественного
договора и гражданской нации поддерживалась во Франции не только элитой, но и массами
на революционных баррикадах, а в России о таких идеях большинство людей никогда не
слышали, наверное, можно было говорить, что русские более имперский народ, чем
французы. В середине XIX , когда польские повстанцы в Российской империи выдвигали
требования не только этнонационального, но и гражданского самоопределения, а русская
элита, включая даже великого Пушкина, отказывали ей в таком праве, следовало говорить
(и такие люди, как Герцен говорили) о преобладании имперского сознания в российском
обществе. Но все это было в прошлом. А какие признаки имперской державности заметны
в массовом сознании русских сейчас?
Ностальгия по утрате империи, какой был Советский Союз у них, скорее всего,
проявляются больше, чем, например, у упоминавшихся эстонцев. Однако как уже было
показано, эта ностальгия проявляется в форме преходящих настроений, по крайней мере,
она мало похожа на «вековую мечту». Подобные настроения были слабо заметны сразу
после распада Союза, появились позднее, как одно из проявлений идеализации советского
прошлого, в условиях разочарования настоящим и, вполне вероятно, что они со временем
утихнут, как обычно утихает всякая ностальгия. Да и сегодня эти настроения имеют крайне
слабые политические последствия, поскольку сожаления о былом Союзе не порождают
стремлений к его восстановлению. Имперский экспансионизм начисто отсутствует в
массовом сознании, напротив ему противостоит другая традиционная установка: «Лишь бы
не было войны». Даже Г. Зюганов и его единомышленники по партии и коалиции, не
выдвигают сегодня, как в начале 90-х, лозунгов, связанных с восстановлением СССР,
понимая их полную политическую бесперспективность в избирательных кампаниях.
А насколько сильно укоренилась в русском сознании державность как идея
«удержания территорий», скажем применительно к Чечне? Именно с войной в Чечне
181
идеологи русского традиционализма, связывают основные надежды на приращение числа
и консолидацию своих сторонников. «Чеченская война,- пишет Бондаренко, - изначально
никому не нужная и развязанная теми же нефтебанкирами, в конце концов, привела сегодня
к общему патриотическому подъему народа. С концом века кончилась и эпоха русского
унижения».339 Писалось это в 2000 г. в начале второй чеченской кампании, когда не только
цитируемый публицист верил, что российская «на сто процентов рабоче-крестьянская
армия воюет и побеждает на Кавказе». Думаю, что сейчас он бы не стал связывать надежду
на конец «эпохи русского унижения» именно с победой в Чечне. Во всяком случае, у
российского общественного мнения совершенно другие представления о возможном
финале чеченской кампании. Если в 2000 г. 40% опрошенных ВЦИОМ были уверены, что
федеральные войска в Чечне «очень близки» или «скорее близки» к победе, то в 2002 г.
лишь 0,8% опрошенных верило, что война в Чечне уже закончилась, еще 10,1%
респондентов полагали, что на завершение войны потребуется около 5 лет, но самую
большую группу (36,6 %) составляли те, кто считал маловероятным окончание войны даже
через 10-15 лет.340 С каждым годом войны такие настроения укрепляются. Примечательно,
что ныне большинство опрошенных не считает нужным проливать кровь за удержание
Чечни в составе Российской Федерации: 15.5 % опрошенных полагают, что республика
фактически уже не находится в ее составе и еще 55% не возражали бы против выхода ее из
Федерации или готовы смириться с этим. 341 Следовательно, абсолютное большинство
россиян (свыше 70%) и, прежде всего русских (они составляют 85% опрошенных),
выступают против идеи «удержания территорий».
И, наконец, третий элемент «державности» принцип подданничества (народ как
«слуга царю»), тоже постепенно уходит в прошлое. Если в 1989 г. 27% опрошенных
поддерживали утверждение: «Мы должны стать свободными людьми и заставить
государство служить нашим интересам, то к 1999 г. их доля выросла до 37%. 342 К
аналогичным выводам (и даже к сходным количественным параметрам) приходят и другие
исследователи. Так по
данным Т.Кутковец и И.Клямкина, убежденные сторонники
«традиционалистских» ценностей в таких их проявлениях, как доминирование государства
над личностью, патернализм и закрытость страны, составляют менее 7% респондентов.
Невелик и их резерв (22%). Между тем сторонники модернистской альтернативы
(приоритет интересов личности, ее самостоятельность и ответственность за свою жизнь,
Бондаренко. В. Народ вседержитель «Завтра» № 1(318) 4 января 2000
Опросы ВЦИОММ: -ЭКСПРЕСС-7 (26.07-29.072002),// www.wciom.ru
341
Опросы ВЦИОММ: -ЭКСПРЕСС-7 (26.07-29.072002),// www.wciom.ru
342
Левада Ю.А От мнений к пониманию.// М.: Библиотека Московской школы политических исследований
339
340
2000. С. 442
182
открытость страны) составляют 33% населения при несколько большем по численности
резерве (37%).343
На основе анализа многочисленных литературных источников Е.Ясиным было
отобрано по 10 наиболее часто повторяющих традиционных русских и советских
ценностей. В ходе анализа автор пришел к выводу, что успешное, хотя и противоречивое
развитие
капитализма
в
России
перед
революцией
либо
преодолело,
либо
трансформировало ядро традиционных российских ценностей. Далее, уже в советское
время урбанизация (а к началу 1990-х 2/3 населения России жили в городах, и более
половины, включая сельских жителей, в индивидуальных квартирах) сильно потеснила
патриархальные
общинные
коллективистские
ценности
и
стимулировала
рост
индивидуализма. Урбанизация и индустриализация лишили основы те народные традиции,
которые возникали вследствие зависимости русских селян от климатических условий
(рваный ритм труда, чрезмерные, но краткосрочные напряжения). Радикальная смена
демографического режима – переход от быстрого роста населения при высокой
рождаемости, но и высокой смертности, к стационарному населению или даже к его
снижению при сравнительно низких показателях рождаемости и смертности – отразила и,
одновременно, стимулировала рост ценности человеческой жизни. В тоже время,
сохранение и даже реанимация некоторых традиционных ценностей в советское время
(например, патернализма как формы иждивенчества,) было обусловлено не столько
относительной инерцией массового сознания, сколько сходством советского строя с
прежним, а именно: еще большей ролью государства, иерархической организацией
общества и меньшей ролью рыночных отношений. Таким образом, культурные нормы и
ценности оказываются устойчивыми настолько, насколько сохранятся формирующие их
социальные институты.344 Эти выводы полностью согласуются с теорией Бронислава
Малиновского – родоначальника «функционализма» - одного из основных направлений
современной культурной антропологии. Автор этой теории еще в 20-е годы прошлого века
убедительно показал, что устойчивость культурных традиций, в том числе и традиционных
ценностей, определяется их включенностью в функционирование конкретного общества и,
напрямую зависит от
формируемой им системы потребностей и интересов людей.
Изменения потребностей и интересов определяют и динамику ценностей.345
343
Кутковец Т., Клямкин И. «Нормальные люди в ненормальной стране»
http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=257
Ясин Е.Г. Модернизация экономики и система ценностей. // Доклад. К 4-й Международной научной
конференции. Модернизация экономики России: социальный аспект. Москва 2-4 апреля 2003 г. С. 37,45,4950
345
Malinowski B. A Scientific Theory of Culture. New York. 1960.
344
183
В информационную эпоху, последней трети прошлого века, эта теория была
дополнена новым научным направлением «конструктивизмом», который указал на особую
роль в трансформации ценностей интеллектуальной элиты, конструирующей культуру,
изобретающей «традиции», содействующей развитию и распространению национального
самосознания.346
социальных
Конструктивизм,
наук,
дал
толчок
ставший
основной
развитию
еще
парадигмой
одного
научного
современных
направления
«инструментализма», который сосредоточил свое внимание на изучении политических
технологий манипулирования массовым сознанием. Так, один из лидеров этого
направления, Пол Брасс, отмечает значительную гибкость даже такой исторически
устойчивой формы идентичности как этническая, которая также поддается перенастройке
при известных усилиях и под целенаправленным воздействием информационных систем.
Их использование позволяет «политическим предпринимателям» стимулировать или
тормозить (конечно же, в определенных пределах, которые мы еще специально обсудим)
развитие интересов социальных групп и этнических общностей и воздействовать, тем
самым и на их ценностные ориентации.347
В сравнении с доктринами функционализма, конструктивизма и инструментализма,
упоминавшийся мной стихийный примордиализм, как концептуальный фундамент идеи
незыблемости русских традиционных ценностей выглядит крайне недееспособным,
поскольку не может предложить рациональных объяснений механизма устойчивости
традиций. По сути, все разновидности объяснений такого рода сводятся к следующим
представлениям:
о мистическом замысле, который таится якобы в недрах народных и проявляется в
некий предначертанный час; («Народный замысел повис над ними дамокловым
мечом и начнет рубить всех, кто пойдет антидержавным, прозападническим
путем»);348
о генетической предрасположенности того или иного народа к определенной
модели культуры и социально-политической организации;349
См., например, Бергман П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии
знания. М.: Academia, 1995.
347
Brass P. Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison. New Delhi,1991
348
Бондаренко В. Народ вседержитель// «Завтра» № 1(318) 4 января 2000
349
См, подробнее, Шнилерман В.А. Националистический миф: основные характеристики // Славяноведение
1995, №6.
346
184
о некоем неведомом «ментальном коде», определяющим особое восприятие жизни
(«…русскому человеку стать западником невозможно. Для того, чтобы им стать, ему
необходим определенный ментальный код»);350
С рассуждениями о мистическом замысле бессмысленно спорить, поскольку они
иррациональны. В это можно либо верить, либо не верить. Я не верю в «богоизбранность»
какого-либо народа. О генетической теории предопределенности народной судьбы так же
говорить не имеет смысла, но по другой причине. По сути, эта теория лежит в основе
идеологии расизма, осужденного, практически во всем мире, и юридически и морально, а
также множество раз разоблаченного как научно несостоятельной доктрины. К этому мне
нечего добавить. Другое дело, замечание о «ментальном коде», оно выглядит вполне
респектабельно, и этот термин часто употребляется в культурологии, однако в основном
как метафора, а не строгое научное понятие. Если бы такой код действительно был бы
найден, и появился бы ключ к его расшифровке, то это стало бы таким же революционным
событием в науке, как открытие ДНК (генетического кода). Пока заявлений о подобных
открытиях никто в мире не делал, что, однако, не мешает сравнительно часто использовать
указанный термин всего лишь как художественный образ, подобный выражению:
«архитектура - застывшая музыка».
Но если для научного обоснования этничности мистицизм и туманность, можно
признать недостатком концепций, то для их массового распространения - это скорее
достоинство. Этничность сама по себе сложный феномен, и люди, как правило, не
задумываются над природой исторической устойчивости национального языка или
этнонимов. История общего происхождения всегда легендарна. Одни легенды выводят
корни народа прямо от бога, другие только от его пророков. И даже внутри этнической
группы могут существовать разные точки зрения среди толкователей легенд: одни могут
«аргументировано» доказывать, что их общей прародительницей была сама римская
волчица, а другие считают, что они происходят от ее выкормышей, Ромула и Рема или
только одного из них. Кому хочется думать, что многие священные атрибуты этничности
возникли всего лишь из необходимости отличать себя от других?
Традиционализм и имперское сознание. Несмотря на то, что идеологи
традиционализма чаще других обосновывают свои рассуждения ссылками на российскую
историю, державный традиционализм в действительности антиисторичен, поскольку вопервых, традиционалисты либо вообще оперируют внеисторическими категориями
(«всегда–никогда»), либо приписывают истории не свойственную ей, по сути мистическую,
350
Уткин А. В России недостает западного человека.// Западники и националисты: возможен ли диалог?
Материалы дискуссии фонда «Либеральная миссия». - М.: ОГИ. 2003.С.108.
185
судьбоносность, фатальность воздействия на народ и народную волю; во–вторых, они
весьма селективно и тенденциозно оперируют историческими фактами, выхватывая одни и
отбрасывая другие. В российской истории помимо традиций не свободы, авторитаризма,
т.е. державности, была и сохраняется иная традиция - либеральная, демократическая – это
традиция Новгородской республики, декабристов и Герцена, «русских европейцев» конца
XIX века, все они соответствовали европейским тенденциям модернизации и иногда, даже
опережали их. Но в том то и дело, что современный русский политический традиционализм
опирается не на всю российскую политическую традицию, а лишь на одно ее направление
- имперское. Именно ее, идеологи современного русского традиционализма преподносят
как символ порядка и стабильности, как высший авторитет а, в последнее время, еще и как
привлекательный образ жизни. Империя - это «красиво», иногда даже «шикарно», как парад
в «Сибирском цирюльнике». 351
У меня не вызывает сомнений то, что традиционализм, в принципе, может быть как
имперским, так и не имперским. Иной вопрос, к какой категории можно отнести такую
разновидность традиционализма, как русское почвенничество? Какова связь между ним и
имперским традиционализмом? Напомню, что одной из центральных для почвенничества
является идея неорганичности для русской культурной среды (почвы) модернистских
моделей политической организации государства и общества, как заимствованных из другой
культурной почвы. Не буду долго распространяться об искусственности самого построения
о почвенных и непочвенных элементах культуры. К какой категории прикажете отнести
такие, казалось бы, знаковые русские элементы культуры, как сарафан и кадриль, гармонь
и картуз и сотни других, которые имеют иноэтническое, иностранное происхождение, но
вошли в русскую культурную почву и лишь обогатили ее? Но все же речь идет
о
политических моделях.
Политолог А.Ципко убежден, что никакой связи между почвенничеством и
имперским сознанием нет, и даже выделил особую разновидность почвенничества, дав ему
название «великорусский сепаратизм».352 Действительно, сепаратизм противоположен
имперскому порядку - он его основной разрушитель. Однако трудно себе представить
сепаратизм этнического большинства, «великорусский сепаратизм». В качестве примера
последнего, политолог приводит высказывание Валентины Чесноковой, которая в
О росте популярности образа империи в современной русской литературе и в искусстве См. Ланин. Б.
О современной русской антиутопии // Вестник Института Кеннона в России. Выпуск 3 .2003..С.78.
Славникова О. Я люблю тебя, империя// Знамя. 200. № 12.
351
352
Ципко А. Вопрос о власти в России не решен // http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=323
186
известной
дискуссии
«Западники
и
националисты»,
почвеннического традиционализма, подчеркивала, что ей
отстаивая
идеи
русского
нет дела ни до народов
Закавказья или Средней Азии, ни даже до того, как сложится судьба украинцев и белорусов
и, что она, как и многие русские, устала от империи.353
И о чем же свидетельствует это высказывание? Понятно, что к сепаратизму,
великорусскому или иному, оно не имеет никакого отношения. Сепаратизм - это
стремление отделиться от существующего государства, а вовсе не отказ от возвращения
уже утерянных земель. Оно не может быть свидетельством отсутствия у автора имперской
ориентации. Дело вовсе не в том, что я не верю заявлению автора, что она «устала от
империи» - охотно в это верю, более того не сомневаюсь, что В. Чеснокова, как и
большинство русских людей не поддерживает идею насильственного возвращения бывших
союзных республик, ныне независимых государств. От имперского экспансионизма как
одной из компонент имперской идеологии, действительно все устали. Правда и то, что
судьбой бывших «братских народов» в России мало интересуются. Но из приведенной
цитаты нельзя сделать никакого вывода об отношении автора к судьбе нынешних «братских
народов» Российской Федерации и, следовательно, об ее отношении к другой компоненте
имперского сознания – к идее удержания территорий, которые когда-то были завоеваны.
Трудно определить и отношение Чесноковой к третьей составляющей имперского сознания
– идее «самодержавия». Зато можно с уверенностью сказать, что сама концепция русского
почвеннического традиционализма, которую отстаивает В. Чеснокова, используется
другими идеологами
как раз для доказательства необходимости развивать в русской
национальной среде (почве) только авторитарную (по-русски – самодержавную) модель
государственного устройства, поскольку другие модели этой почвой якобы отторгаются.
Например, В.Найшуль, обосновывает свой проект авторитаризма (самодержавия) и
невозможность представительной демократии в России ссылками на работы В.Чесноковой
и
ей
же, по его
собственным и
неоднократным признаниям, обязан
своим
самодержавническим мировоззрением. Эту идейную связь специально изучал историк
А.Янов. 354
Понятно, что почвеннический традиционализм – это не исток, а всего лишь
прикрытие для авторитарных (самодержавных) доктрин. По крайней мере, увлечения
экономиста В. Найшуля авторитаризмом начались не с русского традиционализма, а с
Чеснокова В. (в диалоге с Клямкиным И). Экспериментальный диалог на заданную тему // Западники и
националисты: возможен ли диалог? Материалы дискуссии фонда «Либеральная миссия». - М.: ОГИ.
2003.С.66.
354
Янов А. Отделим овец от козлищ. // Западники и националисты: возможен ли диалог? Материалы
дискуссии фонда «Либеральная миссия». - М.: ОГИ. 2003.С.353.
353
187
любования политикой чилийского диктатора Пиночета (какое уж тут русское
почвенничество) и лишь затем, когда идеологический маятник в России качнулся в сторону
традиционализма, бывший либерал приспособил его к своей доктрине «национальной
экономики». Следовательно, эта доктрина, вовсе не традиционная и совсем не русская, а
заимствованная из чилийского опыта, прямо скажем, не самого передового. Вот уж
действительно история повторяется в виде фарса. Ныне в русский сарафан наряжает
чилийскую модель Виталий Найшуль, тогда как полтора века назад на основе немецкой
философии обосновывал доктрину Самодержавной (Официальной) Народности сам граф
Уваров.
Правда, современный российский экономист, все же ближе к русской народной
культуре, чем николаевский министр просвещения. В.Найшуль, хоть говорит и пишет порусски, тогда, как Уваров использовал только французский и на этом языке как раз изложил
в записке царю свою знаменитую триаду: православие, самодержавие, народность. Однако
дело не в языке. Даже если бы Уваров знал русский язык также, как автор толкового словаря
В. Даль, и провел бы молодые годы не в Гетингене, а в каком-нибудь подмосковном
имении, он и в этом случае, не смог бы вывести свою концепцию Самодержавной
Народности из тогдашней русской народной почвы. Там ее не было и не могло быть.
Уваровская идея сводилась, в конечном счете, к тому, чтобы воспитывать у народа подданных чувство любви к самодержавию, а у элиты (это особенно важно) – уважение к
народным корням. С позиций современного человека такая концепция может показаться и
простенькой и архаичной, но для России первой трети XIX века она была абсолютно новой
и до восстания декабристов могла бы, наверное, восприниматься властью как «опасное
вольнодумие». Что такое народ в крестьянской стране, большая часть жителей которой
крепостные крестьяне? Зачем царской власти опираться на народную любовь, если эта
власть от бога, и веками устоявшаяся легитимность ее династической передачи не
подвергалась сомнению даже самыми отъявленными бунтарями, вроде Емельяна Пугачева,
которые вынуждены были легитимизировать свои действия оболочкой лжецарей. И уж
совсем такой власти не нужны были ни народные корни, ни народная почва. Представители
царской династии и аристократическая элита гордились вовсе не своей народностью, а как
раз наоборот, инородностью: своим происхождением от византийских императоров или от
скандинавских викингов, тем, что они Рюриковичи. Только такая инородность,
высокородность легитимизировала право Рюриковичей владеть крестьянскими душами
Ивановичей и Степановичей. Отсюда вытекала и необходимость маркировать свою
инородность использованием благородного иностранного языка, отличающегося от
простонародного «говора черни». И вдруг правящей династии и аристократии предлагают
188
освоить новый для них язык, отказаться от привычной психологии и даже, в какой то мере
делегитимизировать свое право на превосходство. Это могло случиться лишь после
декабристского восстания, абсолютно не похожего, ни на предшествующие народные
бунты, ни на дворцовые перевороты; восстания, которое впервые поставило под сомнение
сами устои самодержавия. Декабристы требовали Конституции, республиканской или, по
крайней мере, той, какая используется в конституционной монархии. Еще страшнее было
то, что в некоторых европейских империях подобные требования уже осуществились.
Только такое потрясение заставило самодержавие, аристократическую элиту искать
дополнительные ресурсы легитимности власти в виде «народной любви», а для этого элита
должна была выглядеть «своей народной».
Понятно, что сама идея опоры самодержавия на народ и народность тогда могла
прийти только из Европы, в которой монархии к этому времени либо уже полностью
утратили признаки абсолютизма, либо двинулись по этому пути и нуждались в новой
мифологии власти, в ее фольклоризации. В это время, как по мановению волшебной
палочки, вдруг «отыскались» и стали популярными легенды о нибелунгах, волгаве и
другие, Уваров, долго живший за границей и хорошо знавший новые идеи западной, прежде
всего немецкой, философской мысли, или, как сейчас сказали бы, политической
технологии, как раз и применил в России прусские идеи декорирования самодержавной
власти под народную. Хочу отметить, что он не был ретроградом, как его часто изображала
советская историография. Это был просвещенный бюрократ и даже своего рода
реформатор, точнее контрреформатор, поскольку он использовал западные новации не для
обновления политической системы, а для упрочения традиционной, для усиления ее
сопротивляемости надвигавшимся волнам модернизации.
Если почвеннический традиционализм - всего лишь декорация для имперского, то
идея авторитаризма (самодержавия) – его сердцевина. Державность и самодержавие не
просто однокоренные слова, они не только генетически связаны, они отражают самую суть
имперского сознания - это ствол имперского древа, которое продолжает плодоносить и в
тех случаях, когда отдельные ветви его (например, имперский экспансионизм) отмирают.
И даже второй ветвью, идеей удержания территории, самодержавники, в некоторых
случаях, могут пожертвовать, лишь бы не усох авторитарный ствол. Примером могут
служить перемена отношения так называемых «Народно-патриотических сил России»
(НПСР) к чеченской войне.
Сейчас, во время второй войны публицист патриотической газеты «Завтра», горячий
сторонник НПСР пишет: «Победа в Чечне нужна как воздух…дело не в Чечне, за Чечней
просматривается дальнейший и уже непоправимый распад России». Если это так, то почему
189
в первую войну НПСР не предпринимали никаких попыток поднять патриотический дух
народа и сплотить его на войну за целостность державы. Наоборот, Ампилов призывал к
объединению чеченских боевиков с русским народом в борьбе с режимом Ельцина, а
Зюганов, как и другие депутаты-патриоты, в Думе добивались отставки президента, ставя
ему в вину как раз чеченскую войну и вовсе не потому, что она была не победоносной, а
сам факт проведения военной кампании. Во время первой чеченской кампании, националпатриоты, по сути, выдвигали привычный для левых сил лозунг: «Поражения собственного
правительства», которое они именовали антинациональным.
Самодержавный традиционализм, на самом деле не имеет ничего общего с
абстрактной любовью к государству. Державники (самодержаники), легко могут заменить
лозунг: «Нам нужна великая Россия» на противоположный: «Нам нужны великие
потрясения» скажем, русский бунт, если это потребуется для устранения не нравящихся
им режимов и достижения их главной цели – установления авторитарного режима.
Итак, одни компоненты современного традиционализма связаны между собой жестко
и неразрывно, другие носят вспомогательный и даже декоративный характер. В этой связи
возникает вопрос о том, в какой мере такой тип традиционализма может быть связан с
великорусским этническим национализмом?
Традиционализм
противоположно
–
национализм
национализму».
Это
-
ксенофобия.
утверждение,
«Имперское
часто
сознание
встречается
в
обществоведческой литературе в России и на Западе. Иногда при этом ссылаются на самую
популярную ныне и авторитетную теорию нации и национализма Эрнста Геллнера.
Действительно – это один из ее постулатов, но при этом ученый имел в виду гражданскую
нацию и гражданский же национализм, т.е. идеологию и массовые антиимперские
движения,
имеющих
целью
создание
независимых
государств,
основанных
на
самоорганизации свободных граждан.355 Понятно, что такой национализм противоположен
имперскому сознанию, при этом вне зависимости от того, говорим ли мы о классических
империях или о вторичных, типа третьего рейха.
Этнический национализм имеет совершенно иное содержание – это идеология, в
основу которой положен принцип исключительности того или иного народа (этнической
общности). Народ может признаваться исключительным то ли потому, что он самый
достойный, то ли, наоборот, самый
обделенный («народ-страдалец»). Ему могут
приписывать извечную неспособность к каким-то свойствам или вековой же дар обладания
какими-то чудесными свойствами, которыми его наделили то ли божественные силы, то ли
355
Геллнер Э. Нации и национализм. М.,1991.
190
природные. Иногда все эти постулаты в националистических доктринах причудливо
переплетаются, а еще чаще вовсе не обосновываются – просто утверждается, что «наш»
народ исключительный и поэтому достоин особых прав или привилегий.
Отношение имперского сознания к этническому национализму намного сложнее, чем
к национализму гражданскому. Обычно оно не опирается на этнический национализм в
условиях стабильного функционирования классических империй. В таких случаях
национализм противоречит базовым интересам имперской власти и элиты. Национализм
меньшинств – это ее основной враг, а в опоре на национализм большинства власть редко
бывает заинтересована. К тому же национализм – это всегда стихия, массовое движение,
которое власть не может контролировать полностью а, как говорил мне когда-то один
высокий советский начальник: «самотека мы допустить не можем». В условиях
стабильного развития державы, имперская власть иногда даже сознательно подавляет
этническое самосознание своей основной опоры, хотя бы для того, чтобы не возбуждать
излишнее беспокойство в национальных провинциях. В кризисные периоды, когда центр
ослаблен, а национальные провинции возбуждены, власть стремится задобрить именно
меньшинства и, в это время, по понятным причинам, также не подстегивает этнизацию
большинства. Она может быть в этом заинтересована лишь в стадии своего упадка,
например, после крупных социальных потрясений и неудавшихся национальных
революций, в целях подавления остатков сопротивления меньшинств и для острастки их на
будущее. Здесь вспоминаются несколько волн армянской резни в Османской империи и
еврейские погромы в Российской - в начале XX в. Такие действия имперской власти лишь
усиливали раскачивание этнополитического маятника, приближая распад империй. Однако
замечу, что во всех названных случаях мы говорим не о национализме, а о массовой
ксенофобии. Русский национализм как элитарная идеология, хоть и проявился в России
сравнительно давно, как минимум с середины XIX в., однако как организованное массовое
общественное движение вышло на политическую арену только, когда абсолютная монархия
стала конституционной и дозволила появление партий, в том числе и таких, как «Союз
русского народа». Так, что даже этнический национализм в целом не характерен для
классических империй. Иное дело империи вторичные, но о них разговор впереди.
Описанная модель этнической политики в империях, хотя и имеет отдаленное
сходство с механизмом действия этнополитического маятника в постсоветский период
(хотя бы в том, что Ельцин шел на уступки меньшинствам, а нынешний политический
истеблишмент, в чем-то, как говорится, «подкручивает гайки»), однако современная
191
ситуация принципиально отличается в главном: Российская Федерация в своих основных
чертах - не империя.
Прежде всего, Россия не самодержавная страна, несмотря на остатки авторитаризма и
даже на некоторые тенденции его роста. Сложившийся в современной России
экономический порядок и множество других факторов сильно затрудняют установление
авторитарной (самодержавной) власти.
Россия – не имеет колоний. Это федерация, с высоким уровнем самоуправляемости
регионов и, несмотря на попытки унитаризации
федеративных отношений в ходе
проведенных реформ, власть в регионах по-прежнему сосредоточена в руках региональных
элит, которые достаточно сильны, чтобы противодействовать дальнейшей централизации
власти в стране. И даже Чечня, как бы негативно многие не оценивали силовую политику
решения проблем взаимоотношения с Центром, колонией по своему статусу не являлась и
не является, поэтому ни ООН, ни какие–либо другие международные организации никогда
не предъявляли России претензий, что она нарушает ту часть международного права,
которая
связана
с
принципами
деколонизации.
Международные
и
российские
правозащитные организации говорят лишь о колониальных методах решениях чеченской
проблемы. Однако подобные же методы иногда используют и другие государства, которые,
тем не менее, не называют империями.
Имперское прошлое дает о себе знать в остатках самодержавного имперского
сознания элит. Однако при всех колебаниях курса федеральной власти, идеология
имперского традиционализма, как уже отмечалось, все же не стала основой
государственной политики (возможно, пока еще не стала). Поэтому апологеты
этой
идеологии, несмотря на их возросшее влияние, не могут использовать ресурс власти для
непосредственного утверждения своего проекта в обществе, что обусловливает
необходимость для них опереться на массовую поддержку. Такая необходимость увлечь
массы, как правило, не возникает в условиях классической империи. Итак, положение,
интересы и политическая стратегия имперски ориентированных элит в условиях империй
и в современной России кардинально различаются. И если в классических империях
национализм, по крайней мере, не обязательная черта имперского сознания, то в нынешних
условиях он является его важнейшей составной частью, а, главное, основным, если не
единственным, мобилизационным ресурсом самодержавников. 356 Здесь самое время
вспомнить про вторичные империи диктаторского типа и, прежде всего, третий рейх,
который был сконструирован, в основном, на идеях этнического национализма. Вот для
Здесь и далее, речь будет идти только об этническом национализме, за исключением случаев, когда
автор специально оговаривает, что имеет в виду гражданский национализм.
356
192
таких империй этнический национализм абсолютно естественен, хотя мера проявления его
различна в разных государствах одного и того же типа. При Сталине, несмотря на
периодически проявляющиеся его позывы к этническому национализму, все же не только
националисты-сепаратисты,
но
и
откровенные
великодержавные
националисты,
призывающие очистить Россию от инородцев, сидели в ГУЛАГЕ вместе с либеральными
диссидентами.
И, само собой разумеется, тогда невозможно было появления такой
современной мутации национализма как русский фашизм, русский национализм с
гитлеровской свастикой.
Не хочу проводить прямые параллели современной России с тем, что было в
Германии и в Австрии в 1930 годах -
политические ситуации тех лет и нынешняя
российская, конечно же, различаются, однако механизмы, используемые имперскими
силами очень схожи.
Чем сегодня может увлечь массы самодержавный традиционализм в России?
Предложить идею гражданской интеграции на основах самоорганизации общества он не
может по определению, отсюда и постоянные ссылки его идеологов на то, что Россия до
демократии то ли «не доросла», то ли он и вовсе чужд ее культурной почве. Увлечь идеей
самодержавности в чистом виде, без этнической оболочки – не получается, ценностные
ориентации масс изменились, люди больше не хотят быть слугами государя и государства.
Остается по сути единственный мобилизационный ресурс - эксплуатация уязвленного
национального достоинства русского народа. При этом наиболее действенной формой
политических манипуляций массовым сознанием, оказывается упаковка реальных и
мнимых обид и образа врага в этническую оболочку - не просто «чужой», а этнически
чужой, не просто обижают, а потому, что имеют злой умысел против данного народа.
Как уже отмечалось в революционные и постреволюционные периоды неизбежно
возрастает этническое самосознание всех народов, растет и ксенофобия. Поэтому в
современных условиях развиваются два встречных процесса – растет идеологический
национализм элит и стихийная этнофобия масс. Оба процесса усиливают друг друга, хотя
различия между элитарным национализмом и массовыми этнофобиями все же
сохраняются. Это можно проследить на примере освоения массовым сознанием основных
идеологем новой эпохи.
Оппозиция периоду реформ - идеализация советского времени. В попытках изжить
травмирующие оценки настоящего массовое сознание повернулось
к прошлому. К
середине 90-х годов в общественном мнении россиян позитивное отношение к советской
эпохе стало преобладающим. Вместе с тем психологическая реабилитация советской
системы наступила не сразу и прошла несколько этапов. К 1995 г. более половины россиян
193
полагало, что сама по себе советская система была не так уж плоха, однако негодными были
ее правители. Еще через два года частичную реабилитацию получили и советские лидеры.
Сравнения ВЦИОМ (1997 г.)
старой советской и новой российской власти дали
следующую картину: советская власть к этому времени характеризовалась сравнительно
наибольшей частью опрошенных (36%) как «близкая народу, своя» - нынешняя власть как
«далекая от народа, чужая» - (41%).357
В качестве психологического механизма, компенсирующего ущербность «чужой»
власти, усилились в обществе традиционалистские настроения, выражающиеся, например,
в представлениях о том, что «настоящий русский характер» среди правителей не найти, что
он воплощен в обычных, рядовых, простых людях, что он редко проявляется в столицах, а
скрывается в тихой глубинке. При этом «свои» – это, прежде всего, люди этнически
близкие. Социологи фиксируют и усиление корреляции между ростом приверженности к
традиционализму и увеличением поддержки идеи «Россия – для русских».358
Для усиления образа «чужая власть» русские националисты в своей пропагандистской
деятельности приписывала видным ее деятелям команды Ельцина несвойственные им
этнические характеристики. Польский дипломат в своей книге вспоминает, что во время
известных событий осени 1993 г. возле Дома Советов было множество листовок с
карикатурным изображением известных политиков из окружения Ельцина. На них грек по
национальности Гавриил Попов изображался евреем и ему, почему-то, приписывали
фамилию Нейман; русского Андрея Козырева называли Козыревичем и рисовали со звёздой
Давида на лбу, а самого президента неизменно называли Борухом Натановичем Эльцыным
и рисовали с усиками Гитлера.359 Это сочетание Гитлера с еврейством с рациональной
точки зрения представляется абсурдным, но политико-технологический смысл
этой
символики понятен – она должна означать, что изображенный в карикатуре человек
«дважды чужой».
Националисты в угоду политической целесообразности могут
пренебречь реальностями этнического происхождения и записать евреем самого русского
по облику и поведенческому колориту правителя России за всю ее историю и,
одновременно признать своим русским грузина Сталина, который до конца своей жизни
говорил по-русски с характерным грузинским акцентом. Однако эти детали могут быть
упущены,
заретушированы
политическими
технологами
при
инструментальном
использовании образа «вождя».
Гудков Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам. С. 132- 133
Гудков. Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам С. 133
359
W.Marciniak, Rozgrabione Imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej.
Wydawnictwo Arcana. Kraków 2001, s. 510.
357
358
194
Образ Сталина действительно был нужен националистам во всех их разновидностях.
Для националистов ярко выраженного имперского направления Сталин «был новым
собирателем империи, новым Петром Великим, новым супергосударственником, которому
прощалось народом многое».360 Для
русских почвенников Сталин ассоциируется с
порядком в государстве, и его ценят за то, что он, якобы, «опирался на русские культурные
ценности».361
Михаил Леонтьев ценит Сталина
за то, что он был автором проекта
«мобилизационного общества». 362 Виталий Третьяков, бывший главный редактор, некогда
одной из самых либеральных в России «Независимой газеты» без объяснения причин,
возможно, чтобы шагать в ногу со временем, так характеризует вождя народов: "Сталин —
наше все. Как и Пушкин. Два полюса русской культуры…»363
Новое увлечение российской элиты Сталиным оказало влияние и на массовое
сознание. Вместе с тем, в нем антисталинсие настроения удерживались сравнительно
долго: с периода Перестройки до начала эпохи Ельцина. Лишь к середине 90-х годов
антисталинизм приелся, надоел, и фигура Сталина стала подыматься в массовом сознании,
приобретая признаки величия. В социологических опросах 1995 года на вопрос: «Назовите
наиболее значительных деятелей и ученых в истории России», - Сталин занял третье место
среди самых важных и авторитетных фигур.364 Тем не менее, еще в 2002 году, не многие
россияне хотели бы жить во времена правления Сталина. Наибольшая часть опрошенных
(39%), предпочла бы жить во времена Л.И. Брежнева, и лишь 3 % выбрали в качестве
предпочтительного сталинский период, а именно годы пятилеток.365 Выбор брежневского
времени во многом продиктован восприятием его как стабильного и не жестокого.
Стабильность всегда привлекательна, но она становится особенно желанной для людей,
уставших от 15 летнего периода бурных политических трансформаций.
Такие настроения подготавливали этническое большинство к восприятию идей
националистической пропаганды, постоянно твердившей о том, что весь период реформ
был временем национального позора. Массовому сознанию навязывались представления,
что власть (администрация Ельцина) не просто «чужая», но и антинациональная,
умышленно вела Россию к катастрофе, а распад СССР, массовая миграция русских и даже
демографический кризис стали следствием злого умысла и некоего заговора против
Владимир Бондаренко НАРОД ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ. «Завтра» № 1(318) 4 января 2000
Чеснокова В. (в диалоге с Клямкиным И).Экспериментальный диалог на заданную тему. С. 53, 62.
362
Леонтьев М. Наша страна самостоятельный проект.// «Россiя» 31 марта 2003г
363
Цит по: Бондаренко В. Народ вседержитель. «Завтра» № 1(318) 4 января 2000
364
Гудков. Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам С. 132
365
Общественное мнение. 2002. С. 20
360
361
195
русских, организованного «антинациональной властью, которая прикрываясь маской
“реформ”, развязала широкомасштабный геноцид против собственного народа». 366
Оппозиция Западу - идеализация особого пути России. В период, когда в элитарном
и массовом сознании преобладало критическое отношение к советскому прошлому
большинство россиян смотрело на Запад как на эталон движения в будущее. В 1989 г. 60%
из 6585 опрошенных оценивали западный образ жизни как образцовый. 367 В середин 90-х
начался демонтаж этого эталона, а к 2000г. оценки конца 80-х поменялись на
противоположные.
В это время 67% опрошенных указали, что западный вариант
общественного устройства не вполне или совершенно не подходит для российских условий
и противоречит укладу жизни русского народа.368 Отказ от иллюзий перестройки с ее
прозападными настроениями сопровождался усилением утешительной веры в то, что «у
России свой собственный путь», доля людей, поддерживающих это представление за 90-е
годы выросло вдвое и составило в конце 90-х годов – 60-70% опрошенных. В массовом
сознании образ «особого пути России» чрезвычайно размыт, лишен какой-либо
конкретности и, в основном связан с идеализацией традиционных норм поведения: «Есть
опыт наших дедов, и мы должны держаться за него» – с этим суждением в конце 1990х
годов были согласны 65% опрошенных, против – только 20%.369 В элитарных проектах
«особого пути» роль традиций тоже чрезвычайно велика, однако в них все же преобладают
современные антизападные или даже только антиамериканские внешне политические
мотивы. Державническая элита не может полностью опереться на традиционализм,
испытывая трудность создания убедительного
образа «золотого века» на материалах
конкретной истории России - не понятно какой этап истории можно признать эталонным.
Как справедливо отмечает О.Малинова: «Главная проблема современного российского
антизападничества состоит в сложности поиска подходящей утопии: прошлое слишком
разнородно, из него трудно синтезировать органичную традицию». 370 Поэтому и в
элитарном традиционалистском сознании ясного образа «особого пути развития России»
тоже нет, его определенность состоит только в том, что он
традиционным и каким-то не западным.
должен быть каким-то
При этом, массовое «антизападничество»,
является исключительно продуктом информационного конструирования, поскольку
сопровождается сохранением у россиян предпочтений в отношении большинства
Чикин В., Проханов А. От патриотического информбюро // «Завтра» 11 февраля
1997.http://zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/97/167/1_INFB.html
366
Дубин. Б. Запад для внутреннего потребления.// Космополис №1(3). 2003. С.137
Там же. С.150.
369
Гудков Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам С. 133
370
Малинова О. Европа как конституирующий иной России.// Доклад на научно-практической конференции
«Россия и Европейский союз». г. Калининграде 4-6 июля 2003 года
367
368
196
элементов западного образа жизни, западных товаров и услуг, а уж доверие к западной
валюте, по меткому выражению одного из политологов, «заведомо превосходит доверие к
любым другим институтам, включая доверие к президенту Российской Федерации». 371
Тем не менее, внушаемые общественному мнению представления об «угрозах
Запада», игра на струнах уязвленного национального самолюбия и попытки использования
русского национализма в политических целях – все это усиливают общее настроение
массовой тревожности и ксенофобии, которые и без того высоки. Антизападничество
связывается в массовом сознании с мнимыми угрозами для внутренней ситуации в России
- угрозами «разграбления, колонизации России», «тайного сговора с внутренними врагами
с целью закабалить страну». Подобные представления об «угрозах Запада» зачастую
воспринимаются как злой умысел, имеющий этническую подоплеку. Даже Анатолий
Чубайс не удержался от подобных оценок. По его мнению "… произошел очень витиеватый
и неожиданный для нас альянс левых и правых - скажу жестче, антироссийский альянс
левых и правых на Западе… Империя зла не потому - что коммунисты, а потому - что
русские».372 Уже упоминавшийся публицист национал-патриотического направления В.
Бондаренко не без злорадства так комментирует это высказывание одного из лидеров
российских либералов-западников: «…похлеще академика Игоря Шафаревича, с его
знаменитой уже классической "Русофобией".373
Оппозиция этническим меньшинствам в России – возрождение идеи «старшего
брата». Национальное самоутверждение в форме оппозиции «свои - чужие» неизбежно
приводит к этнофобии, объектом которой становятся местные российские этнические
общности. При этом массовые этнофобии подвержены колебаниям (они то возрастают в
периоды кризисов, то затухают), тогда, как их элитарные проявления характеризуются
высокой устойчивостью. Единственной группой демонстрирующей не просто сохранение,
но и постоянный рост негативизма в отношении нерусских народов явилась группа
респондентов с высшим образованием. За семь лет наблюдений ВЦИОМ (1990-1997 гг.)
доля негативных оценок этнических меньшинств в этой группе увеличилась почти вдвое с
39% до 69%.374 Именно в этой среде полагают, что государственные органы должны
следить за тем, чтобы «инородцы, нерусские не могли занимать ключевые посты в
правительстве, в средствах массовой информации, армии и милиции»375.
Дискин И. Что такое традиционное общество// «Россiя» 31 марта 2003г.
Цит по: Бондаренко В. Народ вседержитель. «Завтра» № 1(318) 4 января 2000
373
Там же
374
Гудков Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам С. 141
375
Там же.
371
372
197
Проявляются различия и в субординации образа «чужих». Для идейных русских
националистов, особенно представителей радикальных экстремистских организаций
главным объектом ксенофобии выступают евреи, о чем свидетельствуют
их газеты,
листовки, сайты в интернете.376 В массовом же сознании - совершенна иная структура
ксенофобии. Анализ ответов на вопрос социологического мониторинга ВЦИОМ ( 19902002 гг.): «Как Вы в целом относитесь к людям следующих национальностей…?», а именно
суммы ответов:
«с неприязнью, раздражением» и «со страхом, недоверием» позволяет
определить иерархию негативных оценок россиян в отношении представителей разных
национальностей ( см рис. 5 ) 377
Цыгане
Азербайдж
Евреи
Эстноцы
Американ.
Немцы
Арабы
Украинцы
70
60
50
40
30
20
10
0
Отношение " неприязни" и " страха и недоверия" к
следующим национальностям
Чеченцы
в % к опрошенным
Рис.5
св 20
св 20
св 20
15-20
15-20
15-20
до15
до15
до15
Столбцы на графике указывают на колебания негативных оценок к этническим
общностям по годам. Внизу, под названием национальности, указаны интервалы или
пороги этих колебаний в процентах к числу опрошенных.
К большинству этнических общностей в массовом сознании россиян преобладает
положительное или спокойное нейтральное отношение. Например, в опросах ВЦИОМ 2002
г. оценку «отношусь спокойно, как к любым другим» в отношении к азербайджанцам
продемонстрировали – 58,8 %; к евреям – 76,8 %; к эстонцам – 80,1 % опрошенных
русских.378 При этом, в оценках конкретных этнических общностей (в отличие от оценок
абстрактных врагов стране), не проявляется существенных различий между русскими и
См. например, Антисемитизм, ксенофобия и религиозная нетерпимость в российских регионах . 2001 /
М.: Объединение Комитетов в Защиту Евреев в бывшем СССР. 2002.
377
График построен по материалам: Гудков Л. Д. Динамика этнофобий в России последнего десятилетия /
Доклад на конференции «Национальные меньшинства в Российской Федерации. Москва 2-3 июня 2003 г.
378
ВЦИОМ. МОНИТОРИНГ 2002-11-НОЯБРЬ (поле: 30.10 - 18.11.2002)
376
198
респондентами других национальностей. Во всяком случае, приоритеты в отношениях к
«иным народам» у респондентов разных национальностей совпадают. Мы выделили три
группы национальностей по уровню негативного отношения к ним россиян, прежде всего
русских, составляющих 85% опрошенных.
«Совсем чужие». Первую группу составили народы, по отношению к которым доля
оценок за двенадцать лет наблюдений не опускалась ниже 20 % опрошенных. Крайний
негативизм за все эти годы проявляется лишь к чеченцам и цыганам - это единственные
группы, негативное отношение к которым демонстрируют более половины респондентов.
К чеченцам такое отношение фиксируется с 1995 г., а к цыганам - с 2002 г. Следующими по
уровню негативного восприятия стоят азербайджанцы (доля негативных оценок к ним, не
опускалась ниже 30%, а в 1998 г. подскочила до 48 % от числа опрошенных). Далее по
убыванию негативного отношения, но в отмеченном интервале, колеблются оценки армян
и грузин (доля негативных оценок не опускалась ниже 27%, а в отдельные годы доходила
до 45 % от числа опрошенных) и, наконец, замыкают эту группу представители народов
Средней Азии, негативные оценки которым давали 20-22 % опрошенных.
«Чужие». Во вторую группу вошли этнические общности, по отношению к которым
негативные оценки респондентов колеблются в интервале от 20% до 15%. Умеренный
негативизм проявился к евреям и эстонцам - доля негативных оценок колебалась по годам
от 13 до17% и однажды, в 1997 г. по отношению к эстонцам подобралась к 20%; к татарам
и башкирам – колебания негативных оценок от 12 до 15% и лишь однажды, в 1999 г., их
доля подскочила по отношению к татарам до 18%.
В 2002 году в эту группу попали и американцы по сугубо формальным причинам доля негативных оценок составила 17%. Между тем до этого времени отношение к
американцам было таким же, как к народам, которые входят в следующую, третью группу.
В ней представлены национальности, по отношению к которым негативные оценки не
превышали 15%. Как оказалось такой, сравнительно слабый негативизм, относится к двум
совершенно разным типам этнических общностей.
«Почти свои». Это этнически родственные для русских группы, например украинцы,
негативные оценки к которым обозначают нижние (самые слабые) пороговые значения
этнофобии.
«Виртуальные» - это группы, с которыми подавляющее большинство россиян никогда
не встречалось и оценивает их только на основе информации, почерпнутой из масс-медиа.
Так, неожиданный, на первый взгляд, взлет негативных оценок арабов до 12% в 2002 г., при
том, что в предшествующие годы негативных оценок этой группы в социологическом
мониторинге вообще не было, несомненно объясняется информационной реакцией на
199
события 11 сентября в Нью-Йорке и общим ростом упоминаний этой группы в СМИ в связи
с терроризмом во всем мире, в том числе и в Чечне. Трудно объяснить неожиданный рост
негативизма (тоже от 0 в 1993-1999 гг. до 12% в 2002 г.) по отношению к немцам. Не
исключено, что это отражение общего роста ксенофобии (во многом абстрактной) по
отношении к Западу в целом. Что касается роста негативного отношения к американцам в
последние годы, то оно, безусловно, связано с информационными кампаниями в России по
поводу американской политики на Балканах и, особенно, их акции в Ираке.
Анализ отношения россиян к малоизвестным им
этническим общностям прямо
указывает на существенную роль информационного конструирования в развитии
ксенофобии. Вместе с тем заметны и границы возможностей такого конструирования – все
же самый высокий уровень этнофобии проявляется не к виртуальным для русских людей
национальностям, а к хорошо известным.
Можно ли
такой вывод трактовать как
доказательство справедливости часто повторяемого в современной прессе, да и в научных
публикациях, утверждения о том, что в основе ксенофобии лежат не мифы и устоявшиеся
стереотипы массового сознания, а реальное «несходство характера» русских с какими-то
конкретными этносами?
Прежде чем ответить на этот вопрос, приведу материалы другого исследования. Оно
дополняет материалы ВЦИОМ прежде всего тем, что основывается не на высказываниях
населения, а на оценке их реального поведения. В уже упоминавшихся исследованиях
ЦЭПРИ мы попросили экспертов, хорошо знакомых с практикой сдачи в наем жилья в
Самарской области, определить, каким этническим общностям отказывают чаще всего.
200
Итак, экспертам было предложено оценить степень дискриминации в указанной сфере
представителей каждого из наиболее многочисленных национальных меньшинств
Самарской области по пятибалльной системе от 1 (нет дискриминации) до 5 (максимально
Рис.6
баллы
Оценка экспертами степени дискриминации
национальных меньшинств в Самарской области
5
4
3
2
1
0
дискриминируемая группа). Речь шла только о постоянных жителях области, а не о
временных мигрантах (см. рис.6).
Исследование ЦЭПРИ подтвердило выводы об иерархии негативного отношения к
определенным этническим общностям, которые ранее были сделаны на материалах
ВЦИОМ, с небольшими дополнениями. На вершине негативных оценок все те же чеченцы
и цыгане, и недалеко от них азербайджанцы, но к этой тройке добавились таджики и
дагестанцы, которые не были включены в опросной лист ВЦИОМ.
Вместе с тем, эксперты из Самары пришли к выводу, что традиционные для области
национальные меньшинства, не столь подвержены дискриминации, как представители
мигрантских меньшинств. Получается, что наибольший уровень ксенофобии проявляется
не к иностранцам, по сути, виртуальным этническим общностям, (как бы их не ругали в
прессе) и не к традиционным («почти своим»), а к неким сравнительно новым, к которым
местные жители еще не привыкли, и сами новоселы еще не адаптировались к новой среде.
Однако можно ли на этом основании сделать вывод о том, что причина ксенофобии кроется,
в основном, в реальных культурных различиях между этническими общностями?
Действительно культурная дистанция - степень фактического различия во внешних
признаках, поведении, культуре, образе жизни разных этнических общностей оказывает
201
определенное влияние на межэтнические отношения. Вместе с тем, личный опыт людей
ограничен, и при переносе своих впечатлений на всех представителей некой этнической
общности люди, так или иначе, руководствуются не только своими наблюдениями, но и
коллективными представлениями, запечатленными в преданиях, слухах, сплетнях,
анекдотах и др.
В информационную эпоху роль коллективных представлений еще выше и
формируются они преимущественно на сообщениях прессы, дополняемых (зачастую
искажаемых) молвой. Особенно велика роль средств массовой информации по отношению
к сравнительно новым для данной территории группам. Скажем, азербайджанцев сегодня
обвиняют в том, что они захватили все городские рынки, взвинчивают цены, изгоняют
«чужих» торговцев и т. д. Однако обычный русский покупатель, придя на рынок, вряд ли
отличит азербайджанца от других кавказцев. Информацию «о захвате» рынков «гостями»
он получает из СМИ, которые вольно или невольно искажают реальную картину
распределения представителей этнических групп в рыночном бизнесе. Прессу просто не
интересует тот факт, что подавляющую часть рынков в стране все же контролируют
представители этнического большинства. Между тем, процесс замещения «кавказцев»
русскими на большинстве рынков России принял необратимый характер. С одной стороны,
русский бизнес (как легальный, так и нелегальный) все больше вытесняет кавказцев с рынка
при явном или неявном содействии местных властей. С другой стороны, сами кавказцы
стали уходить в тень, выставляя вместо себя представителей этнического большинства, в
качестве продавцов своего товара (как легального, так и нелегального). Процесс
последовательного уменьшения роли этнических меньшинств происходит постоянно и по
нескольким направлениям одновременно, но пока это не сказывается на динамике
ксенофобии.
Не только журналисты, но и официальные лица в региональных управлениях милиции
поддерживают представления о том, что чуть ли не вся розничная сеть торговли
наркотиками состоит только из цыган. Чем же объясняют официальные лица такое почти
тотальное засилье цыган? «Цыганская диаспора, - отвечает на этот вопрос Аркадий Казак,
представитель одного из региональных подразделений МВД России, - многочисленна, а изза постоянной миграции – трудноконтролируема». 379 Насколько же велика это диаспора?
Во всем Советском Союзе насчитывалось всего около 200 тыс. цыган, а в России менее 150
тыс. И сегодня это одна из самых малочисленных этнических общностей в России. К тому
же зона активности цыган в этой сфере сжимается. Они проживают на окраинах городов, в
Казак А (пресс-служба УВД Иркутской области) / Восточно-Сибирская правда (Иркутск), N171-172
08.09.2001
379
202
рабочих районах и обслуживают соответствующую часть населения. В таких популярных
ныне местах распространения наркотиков, как ночные клубы и дискотеки; рестораны,
сауны и бильярдные; университеты и другие учебные заведения – цыгане большая
редкость. Мне уже приходилось писать, что массовые представления об этническом составе
наркоторговцев сильно мифологизированы. Данные милицейской статистики и материалы
судебных дел показывают, что и в наркопреступности этнические меньшинства составляют
меньшинство, а криминальные группировки становятся все более многонациональными.380
О том, что культурные различия не являются главными в развитии ксенофобии,
можно судить и на примере еврейского меньшинства в России.
Социологи и правозащитники в один голос утверждают, что уровень антисемитизма
в современной России существенно снизился по сравнению с советскими временами. Эту
тенденцию невозможно объяснить повышением уровня культурной адаптации еврев к
традиционным российским условиям и ценностям. Евреи в России живут давно (по
выражению А. Солженицына – русские и евреи «двести лет вместе»), и в массе своей уже
несколько десятилетий мало различимы по внешним признакам, поведенческим
характеристикам, языку и, чаще всего, по самосознанию. В советскую эпоху еврейское
население России максимально старалось «слиться со средой», чтобы не выделяться даже
по своим именам. С 20-х годов не только новые имена детям давали из набора русских
(Игорь, Евгений, Юрий и др.) или международных (Артур, Эмиль, Марк и др.) но и старые
переиначивали на русский лад (Хаим – Ефим, Сора - Соня и т.п.). В это время был почти
полностью утрачен язык «идиш», религиозные праздники отмечались почти тайно и в
основном людьми пожилого возраста, но антисемитизм продолжал нарастать. Сейчас же
еврейское население страны демонстрирует несравненно большее культурное своеобразие,
чем в советские времена: евреи перестали стесняться своей национальности, многократно
увеличилось число синагог, еврейских театров и фольклорных групп, однако все это не
приводит к росту антисемитизма, наоборот, в массовом сознании он уменьшился в
сравнении с советским периодом. И даже появление в последние годы множества
антисемитских изданий
радикально эту ситуацию не меняет. Почему? Прежде всего
потому, что исчез «государственный антисемитизм».
Массовое сознание избирательно относится к информации. Позиция правительства
и особенно первых лиц государства и слышится дальше и оценивается весомее, чем мнение
обозревателя любой газеты. В России же иерархичность сознания пока еще очень велика,
поэтому решительные и недвусмысленные выступления против антисемитизма, как
Паин Э.А. Этнические особенности контрабанды наркотиков: мифы и реальность. // Этнопанорама. 2003,
№ 1-2.С. 76-88.
380
203
первого, так и второго президентов страны, безусловно, оказали существенное влияние на
его снижение.381 По этой и по ряду других причин самые массовые и влиятельные органы
российских СМИ проявляют в целом высокий уровень корректности по отношению к
рассматриваемой этнической общности.
Совершенно иная ситуация складывается вокруг чеченцев. Две военные кампании не
могли не поставить эту группу в центр общественного внимания. При этом вторая война
начиналась с организованной государственными структурами информационной кампании.
По замыслу она была направлена против боевиков, террористов в Чечне, но легко
переносилась в массовом сознании на всех чеченцев. Информационная война не многое
дала для поддержания уверенности россиян в военной победе. Победы не получилось, и
сколько бы ни пыталась сегодня официальная пропаганда представить ситуацию в Чечне
как успех государственной политики, доверия к ней не увеличивается. Однако вместо
патриотического подъема, наблюдается небывалый рост ксенофобии по отношению к
чеченцам: к 2002 г. его показатели подобрались к отметке почти 70%.
Тому виной не только государственная пропаганда. Заметны перемены и в позиции
независимой прессы, которую еще недавно называли демократической. Если в
революционный период защита прав этнических меньшинств, считалась одним из
опознавательных знаков демократической печати, то в эпоху стабилизации ситуация
изменилась радикально. Именно бывшая демократическая, а ныне массовая коммерческая
пресса наиболее эффективно распространяет
мифологию об угрозах связанных с
пришлыми этническими меньшинствами. Социолог Оксана Карпенко, сознательно
сосредоточила свое внимание на анализе не националистической печати, а на изданиях,
имеющих репутацию «демократической прессы». Такой анализ позволил ей
выявить
именно в этом секторе СМИ несколько основных клише, с помощью которых придается
этнический смысл реальным и мнимым угрозам русскому народу. Речь идет об этнизации
и преувеличении следующих явлений: изменение соотношения русских и не- русских в
России, которое подается в терминах катастрофы («демографическая катастрофа»);
увеличение роли в экономике
этнических меньшинств, презрительно именуемых как
«торгаши» и «перекупщики»; слабая культурная адаптация мигрантов, трактуемая как
«угроза русской национальной культуре, создаваемой нравами и обычаями пришельцев»;
381
Владимир Путин: Ксенофобии и религиозному экстремизму необходимо поставить непреодолимые
преграды. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями Федераций
еврейских общин РФ в Кремле. / Информация Страны.Ru 20 Марта 2002
http://religion.russ.ru/news/20020320-n1.html
204
приток иноэтнических мигрантов, изображаемый как неизбежная «угроза криминализации
России и роста терроризма».382
О. Карпенко отмечает и некоторые механизмы технологии навязывания читателю, так
называемой «охранительной» модели взаимоотношений между «хозяевами» страны и ее
«гостями». Понятно, что «хозяевами» признаются прежде представители этнического
большинства, а в качестве «гостей» называют либо представителей конкретных этнических
общностей, например, чеченцев или таджиков, либо некие обобщенные квазиэтнические
категории, типа «южане», «кавказцы» или «горцы». К этим трем квазиэтническим группам
относят почти всех людей «неславянской наружности». В рамках охранительной модели
«хозяева» обладают правом порицать и наказывать «гостей» за уклонение от соблюдения
обычаев,
установленных
«нами»
в
«нашем
доме»,
на
«своей»
территории.
Привилегированное право на наказание имеют силовые структуры. Сама сила признается
самым действенным методом воздействия на «гостей». 383 Если вдуматься, то описанная
здесь модель отношений «хозяев» и «гостей» характерна вовсе не для традиционного
жилища (там гостю отводится лучшее место), а для тюрем или российской казармы, в
которой старожилы имеют право силой навязывать свои порядки новобранцам.
Такое извращенное, перевернутое, нарушающее традиции понимание отношений
«гость»
и
«хозяин»,
отражает
весьма
психологические комплексы, связанные
типичные
для
постимперских
условий
с болезненностью привыкания этнического
большинства к своему новому пространственному телу, как бы сжавшемуся после распада
Союза.
В этой логике « великодержавный изоляционизм» является всего лишь
компенсаторным механизмом психологической самозащиты от переживаний, связанных с
утратой империи. К тому же произвольное, этноцентристское деление населения России
на «хозяев» и «гостей» зачастую выступает в качестве этической основы в аргументах,
обосновывающих формулу: «Россия для русских».
Подобные стереотипы получают распространения у политического истеблишмента
России и определяют требования
усиливающейся неотрадиционалистской (по сути
националистической) партии к реформированию этнической политики на основе «
охранительной идеологии». Впрочем, не только ее. Даже директор Института этнологии
РАН В.А. Тишков, которого никак нельзя отнести к сторонникам традиционализма и тем
более национализма, в какой-то мере поддержал «охранительную» доктрину. Он пишет,
что «наступает другое время - время не только зашиты притесняемых меньшинств, но и
Карпенко О . Языковые игры с «гостями с юга»: «кавказцы» в российской демократической прессе 19971999 гг. // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ/ Под ред. В.Малахова, В Тишкова.
М.: Институт этнологии и антропологии РАН, Институт философии РАН. 2002. С.190
383
Карпенко О. Языковые игры с «гостями с юга»… С.190
382
205
защиты большинства от радикализма и агрессивности меньшинства». 384
Трудно не
согласиться с известным этнологом в том, что радикализм меньшинств - это реальная и
серьезная проблема, но она нисколько не уменьшится в случае, если государство возьмет
на себя функцию защиты этнического большинства. Как справедливо отмечает Юрий
Александров, особая «социальная защита большинства – это нонсенс, кто его может
защитить, если оно не защищает само себя?»385
Охранительная идеология нисколько не повышает защищенности ни большинства, ни
меньшинств. Сама эта идея способна лишь взвинтить взаимные страхи и усилить уровень
взаимного недоверия, что и без того наблюдается. Если в начале 90-х годов было заметно
снижение страхов перед угрозой кровопролития на этнической почве, то сейчас эти страхи
вновь возросли. По данным ВЦИОМ, доля лиц, которые считают возможным в настоящее
время в России кровопролитные столкновения на национальной почве, составила летом
2002 г. 47,3% (ответы: «определенно да» и скорее да») против 27% в 1993 году. Среди
русских доля таких ответов составила в последнем по времени опросе- 48,8%, среди
представителей других национальностей 40,6%.386 Как видим, и в этом случае уровень
тревожности среди русских выше, чем у других этнических групп.
Параграф 3 Особенности и дефекты российской модернизации как факторы
традиционализации общества. Маятник общественных настроений
О векторе развития российского общества. Некоторые мои коллеги полагают, что
«вектор развития российского общества вопреки распространенному мнению явно
направлен в сторону, противоположную традиционализму…Дальнейшая модернизация
блокируется не менталитетом населения, а российской элитой, не готовой и не способной
управлять свободными людьми».387 При всем моем уважении к авторам приведенного
утверждения, не могу все же в полной мере согласиться с ними.
Начну с оценки вектора развития общества. Вывод о том, что он противоположен
традиционализму, возможно, верен применительно к некой длительной исторической
384
385
386
. Тишков В.А. Этнология и политика. – М.: Наука. 2001.С.131.
Александров Ю. Дикое поле // Новое время .№11. 16 марта 2003, С.16
Опрос: ВЦИОМ ЭКСПРЕСС-7 26.07-29.07 2002
387
Кутковец Т., Клямкин И. «Нормальные люди в ненормальной стране»
http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=257
206
перспективе. Однако актуальное развитие показывает, что, по крайней мере, в
рассматриваемой нами сфере национально-государственного строительства, усиливаются
как раз традиционалистские тенденции.
Неоднозначен, на мой взгляд, и ответ на вопрос о том, в какой мере массовое
сознание
блокирует
процесс
модернизации.
Ценностные
ориентации
россиян
действительно изменились в последние годы и по своим базовым характеристикам и
сегодня ближе к модернизму, чем к традиционализму. Во всяком случае, бытующие
представления о якобы извечной предрасположенности русских людей к державности, т.е.
к имперской модели государственного устройства в ходе нашего исследования не
подтверждаются. Напротив, становится все меньшим желание русских людей служить
орудием для подавления других народов (как внутри России, так и вне ее) и все большим
стремление освободиться от состояния подданичества и стать свободными гражданами.
Вместе с тем, актуальные настроения большинства населения сегодня качнулись в сторону
традиционализма, что проявляется в росте массовой тревожности, ксенофобии, и даже
националистического экстремизма.
К выводу о традиционалистком откате не только элиты, но масс применительно к
общему социально-экономическому развитию страны приходит и Е. Г. Ясин, который
пишет, что в период завершения правления Ельцина и в наши дни «было сделано все, чтобы
покончить даже с видимостью разделения властей…Раз за разом власть показывала, что она
может делать все, что захочет, причем давая такую интерпретацию закона, которая
полностью обосновывала легитимность ее действия…Короче, пока можно сказать:
традиция возобладала, причем не только в действиях власть предержащих, но и
подвластных, которые толкают власть к тому, чтобы она быстрее стала авторитарной». 388
В том же направлении подталкивает власть и рост ксенофобии, который оказывает
негативное влияние не только на характер межнациональных отношений, но на всю
политическую ситуацию в обществе. Если страхи и фобии станут лейтмотивом
гражданской жизни, то это создаст фон для общей дестабилизации политической ситуации
в стране. В таких условиях возрастает опасность усиления авторитаризма, востребованного
обществом в качестве «избавителя от страха».
Было бы совершенно не верно объяснять тенденцию к росту этнофобий только
влиянием элит, националистических
активистов
и соответствующей пропаганды.
Возможности манипуляции массовым сознанием, в том числе, и «конструирования
этнических стереотипов» ограничены множеством факторов, назову лишь некоторые из
Ясин Е.Г. Модернизация экономики и система ценностей. // Доклад. К 4-й Международной научной
конференции. Модернизация экономики России: социальный аспект. Москва 2-4 апреля 2003 г. С.70.
388
207
них:
величиной, масштабностью и уровнем сплоченности общности – малые,
локализованные общности легче поддаются манипуляции, чем большие, расселенные на
больших пространствах и слабо сплоченные общности; уровнем развития социальных
институтов и среды обитания – чем менее архаична социальная организация самой группы
и меньше традиционных черт сохраняет среда их обитания, тем менее она поддается
внешнему конструированию и более склонна к саморазвитию; временными границами и
стадией развития инерционных процессов - роль этнических лидеров велика лишь в
начальном этапе развития этнических фобий, затем они утрачивают контроль над массовым
сознанием, теряют возможность его «конструирования» и, зачастую, сами могут стать
заложниками уже сформировавшихся общественных настроений и раскручивающегося
маховика ксенофобии. К тому же и сам этот маховик запускается не только вследствие
манипуляции общественным мнением.
Социальные факторы ксенофобии. Возросшая поляризация социальной структуры,
образовавшийся в постсоветские годы огромный разрыв между верхними и нижними
ступеням социальной лестницы, уменьшает возможности социальной мобильности людей
и
плавного перехода
с низших в более высокие слои. Это порождает чувство
неуверенности у населения, рост страхов, одним из проявлений которых является
ксенофобия. В целом уровень социального неблагополучия в различных его проявлениях
(от роста преступности до периодически повторяющихся невыплат зарплат и пенсий и,
наконец, серьезных экономических кризисов, таких как дефолт 1998 г.) все это сыграло
весьма существенную роль в формировании чувств
настороженности, страхов и
разочарования населения. Особенно велики они у жителей населенных пунктов,
экономическая база которых восстанавливается медленнее, чем в крупных городах. Все это
объясняет результаты социологических исследований, показывающих, например, что при
общем чрезвычайно высоком уровне подозрительности и отрицательного отношения к
иноэтническим мигрантам, такое отношение в малых и средних городах выражено сильнее,
чем в крупных и, особенно, обеих столицах России. Лишь одна группа опрошенных
(предприниматели) продемонстрировала существенно меньший, чем в среднем уровень
недоброжелательства к иноэтническим мигрантам. Однако и в этой группе 50%
респондентов испытывает негативное («скорее отрицательное» и «резко отрицательное»)
отношение к мигрантам.
Предпринимательское сословие весьма малочисленное в России, между тем в самых
многочисленных социальных группах - рабочих, служащих и пенсионеров - показатели
208
ксенофобии превышают 65%.389 В «лидирующей» группе по уровню этнического
негативизма оказалась и учащаяся молодежь. Это неожиданный результат.
Почти аксиомой среди исследователей этнофобий считается представление о том, что
молодежь меньше склонна к ксенофобии, чем люди пожилого возраста. Так было и в
России еще 5-6 лет назад, однако сегодня ситуация изменилась ( см. табл. 6 )
Таблица. 6
Как Вы думаете, представляют ли сейчас угрозу безопасности России люди не
русских национальностей, проживающих в России?
Возраст
Доля ответов «большую угрозу» и
«некоторую угрозу»
18-24 года
58,7
25-39 лет
52,3
40-54 года
53,6
55 лет и старше
58,5
ВЦИОМ ЭКСПРЕСС-15 (7.04-10.04.2000 г.)
Как видно из таблицы, былая зависимость роста уровня этнофобий по мере
увеличения возраста опрашиваемых наблюдается сегодня только, если начать отсчет с
группы в возрасте 25-39 лет, т.е. с тех, кому ( в своем большинстве) в начале 90-х было
менее 24 лет. Зато нынешняя молодежь демонстрирует даже больший уровень этнофобий,
чем представители самой пожилой из представленных в таблице групп. Нельзя объяснить
это только большей возбудимостью молодежи, поскольку такая, вполне естественная
особенность возрастной психологии проявлялась и раньше. Однако в начале 90-х она
обусловливала наибольший уровень этнической толерантности, а ныне – наибольшие
этнические фобии и страхи.
Естественно возникает вопрос, почему именно сейчас страхов стало больше, хотя
социально-экономические
показатели
страны
не
стали
хуже
по
сравнению
с
революционным периодом? Думаю, что это связано, не в малой мере, и с тем, что
ксенофобия сама становится системным фактором. По мере ее роста этнические различия
воспринимаются острее, чем социальные и политические, происходит корректировка
выбора ответственных за «наши» беды. Если в революционный период социальные
проблемы политизировались, т.е. вину за них возлагали на власти или на стоящих за ними
По материалам: Гудков Л. Д. Динамика этнофобий в России последнего десятилетия / Доклад на
конференции «Национальные меньшинства в Российской Федерации. Москва 2-3 июня 2003 г.
389
209
олигархов, то сейчас проблемы все чаще этнизируются и ответственность переносится на
«чужие» этнические общности.
Если говорить о настроениях этнического большинства, то травмирующее
воздействие на него оказывают и этнодемографические процессы. Продолжающийся уже
более четырех десятилетий, но ставший заметным в последние годы, процесс уменьшения
доли русских на фоне быстрых темпов роста этнических общностей,
которые часто
объединяют под общим названием («исламские народы», или точнее сказать - «народы,
исторически связанные с исламской традицией»), воспринимается болезненно. Когда
этническое большинство ощущает угрозу утраты своего статуса или реально теряет его на
некоторых территориях - это как правило усиливает позиции этнического национализма.
Напомню, что в начале прошлого века, наиболее воинственное направление русского
национализма (организации «Черной сотни»), как раз и зарождалось на тех территориях
Российской империи, где русское население было в меньшинстве и проигрывало в приросте
местному (в Молдавии и на Украине). Именно там впервые и сформировался лозунг
«Россия - для русских». И в нынешние времена наибольший рост русского национализма в
южных регионах России, где процессы изменения соотношения между большинством и
меньшинством
особенно
заметны.
Там
же
националистическая пропаганда, представляющая
охотнее
всего
воспринимается
демографические сдвиги (наряду с
распадом СССР, федерализацией и экономическими реформами) как «геноцид русского
народа». Она еще более усиливает остроту болезненного восприятия демографических
перемен.
Наибольшее влияние на рост ксенофобии в России оказала и продолжает оказывать
Чеченская война, сама явившаяся следствием незавершенности и непоследовательности
реформы федеративных отношений и неопределенности этнической политики.
Чеченская война - это системный фактор в жизни нашего общества, влекущий за
собой множество следствий, несводимых только к попыткам определенных политических
сил использовать ее как инструмент реанимации в нашей стране «мобилизационного
общества».
По некоторым оценка за две кампании через горнило Чечни прошло уже около
полутора миллионов человек из разных районов России – военнослужащих (постоянных и
временно командированных) и гражданских лиц, занятых в обеспечении армии, МВД, сил
безопасности и др.390 Немалая часть из них - это люди с расстроенной психикой, высоким
уровнем агрессивности. Не случайно, в российских тюрьмах сейчас чрезвычайно высока
Чечня и мир. Существует ли план окончания войны. Круглый стол в редакции «Новое время» // «Новое
время» № 34, 25 августа 2002. С. 14-21.
390
210
доля заключенных, совершивших свои преступления после возвращения из армейских
частей, расквартированных в Чечне.
В понятие чеченский синдром входит и рост ксенофобии, особенно античеченских
настроений. «Для большинства русских людей чеченец ни больше, ни меньше, как
разбойник, а Чечня - притон разбойных шаек».391 Это было сказано в конце XIX века и уже
тогда подобные взгляды определялось автором как невежество, но сегодня это замечание
выглядит как цитата из современного социологического обзора. По данным ВЦИОМ почти
¾ (67,2%) россиян убеждены, что чеченцы понимают только "язык силы", и
попытки
говорить с ними "на равных" воспринимают лишь как слабость другой стороны.392
Чеченская война порождает рост страхов в обществе. Подавляющее большинство
россиян (68%) уверены, что следующее поколение чеченцев будут еще более враждебными
по отношению к России, чем нынешнее и еще больше наших сограждан (78%), испытывают
страх перед возможностью уже в ближайшее время стать жертвой террористических актов
со стороны чеченских боевиков. Подобные страхи стали поводом для демонизации
чеченцев, которым приписывают почти биологическую ненависть к русским («...это у них
в крови, в генах», «они всегда ненавидели русских» и др.)393
Этнические фобии обладают высокой инерционной устойчивостью и могут долго
удерживаться в массовом сознании даже после исчезновения реальных политических
причин, их породивших, поэтому даже если удастся со временем благополучно разрешить
чеченский кризис, эхо его последствий может быть весьма продолжительным. При этом
ксенофобия неуправляема в том смысле, что она не может быть направлена только на одну
этническую общность и, как правило, распространяются на широкий спектр «чужих
народов».. Не случайно с 2000 по 2002 г. выросли негативные оценки не только по
отношению к чеченцам, но и к более, чем половине этнических общностей, включенных в
опросные листы ВЦИОМ (см. рис.3). Это еще не тенденция, но уже опасность.
Сам рост этатизма в стране, усиление надежд на «сильную руку» во многом связан с
чеченской войной. Война определила и рост влияния генералов и высших офицеров армии,
МВД и сил безопасности на политическую жизнь страны. Не случайно два из семи
полпредов Президента в Федеральных округах (генералы Виктор Казанцев и Константин
Пуликовский) – полководцы Чеченской войны. Еще один из ее полководцев - генерал
Владимир Шаманов стал губернатором Ульяновской области, а чеченский главком
Россикова А. Е. Путешествие по центральной части горной Чечни // Записки Кавказского отдела И.Р.Г.О.,
кн. 8, - Тифлис, 1896.
392
Опросы ВЦИОММ: - ЭКСПРЕСС-7 (26.07-29.072002),// www.wciom.ru
391
393
Общественное мнение 2002. Ежегодник. С.108-109
211
Геннадий Трошев – советником президента. В высшем военном руководстве страны уже
целая плеяда "чеченцев", при этом особенно заметна роль начальника Генерального штаба
Анатолия Квашнина, которого чрезвычайно высоко оценивает «патриотическая пресса»,
приписывая ему заслугу превращения Российского Генерального штаба в «…по сути свой
РУССКИЙ, ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСКИЙ институт».394 Некоторые социологи называют
политическую элиту страны времен Путина « милитократической» (см табл. 7)
Таблица. 7
Изменение характеристик элиты в первые два года правления Б.Н. Ельцина и
В.В. Путина395
Ельцинская элита
Путинская элита
Характеристики элиты
1993 года
2002 года
Средний возраст (лет)
51,3
51,5
Доля женщин (%)
2,9
1,7
Доля выходцев из сельской местности (%)
23,1
31,0
Доля лиц с высшим образованием (%)
99,0
100
Доля лиц, имеющих ученую степень (%)
52,5
20,9
Доля получивших военное образование (%)
6,7
26,6
Доля получивших экономическое и
24,5
25,7
юридическое образование (%)
Доля получивших образование в элитных
35,4
23,4
вузах (%)
Доля земляков главы государства (%)
13,2
21,3
Доля ставленников бизнеса (%)
1,6
11,3
Доля военных (%)
11,2
25,1
Приведенные в таблице материалы О.Крыштановской интересны с точки зрения
рассматриваемых нами проблем, прежде всего демонстрацией изменений соотношения в
составе политической элиты, людей с учеными степенями, которые характеризуются как
наиболее модернистически настроенная и толерантная часть общества, и военнослужащих,
оцениваемых в уже упоминавшихся исследованиях ВЦИОМ, как часть общества с наиболее
выраженными чертами традиционализма и ксенофобии. В сравнении с эпохой Ельцина
доля ученых сократилась в 2,5 раза (с 52,5% до 20,9%), а доля военных почти настолько же
возросла ( с 11,2% до 25,1%).
Шурыгин В. Звезды генерала Квашнина. / «Завтра» 13 июля 1999.
http://zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/99/293/31.html
394
395
Данные исследований Российской элиты, проводимые сектором изучения элиты Института Социологии
РАН с 1989 г. по настоящее время. К элите были отнесены: члены Совета безопасности РФ, депутаты обеих
палат Федерального собрания РФ, члены правительства РФ, главы субъектов федерации РФ соответственно
1993 и 2002 гг. см. подробнее: Крыштановская. О.В. Режим Путина: либеральная милитократия? // Pro et
Contra. 2002. Том 7. № 4. С. 158-180.
212
Для
нашей
темы
особенно
существенен
отмеченный
многочисленными
социологическими исследованиями факт, что среди военнослужащих и сотрудников МВД
отмечается самый высокий уровень ксенофобии. Так, в уже упоминавшемся исследовании
ВЦИОМ об отношении к иноэническим мигрантам, представители указанной группы
продемонстрировали рекордно высокий негативизм (73%). На первый взгляд этот результат
кажется неожиданным, ведь эта категория наших сограждан меньше других испытывает
конкуренцию со стороны приезжих, как в трудовой, так и в бытовой сфере. Все это так,
только представители этой социальной категории и рассуждают иначе, чем другие. Они
чаще мотивируют свое отношение вовсе не с индивидуалистических позиций («мне станет
хуже»), а исходя из своего понимания интересов державы. Именно представители армии,
МВД и службы безопасности чаще других объясняли свое негативное отношение к
иноэтническим мигрантам следующими соображениями: «они ведут себя нагло и
агрессивно, они опасны» или «большинство преступлений совершается приезжими».
История многих стран мира – Франции в конце XIX века в период «дела Дрейфуса»,
Германии и Италии в 20- 40-х годах прошлого века, Греции в период правления «черных
полковников» - показывает, что с ростом влияния армии на политическую жизнь страны в
обществе растет национализм.
Рост доли военных в составе элиты, в эпоху Путина, по сравнению с эпохой Ельцина
вызван не только тем, что к власти пришел бывший офицер, который больше доверяет
представителям
своей
корпоративной
группы.
Куда
важнее
фактор
изменения
политической стратегии. Если стоит задача выстроить общество в шеренгу, то никто лучше
генералов с этой задачей не справится. Однако ведь не только интересами и целями
нынешней власти объясняется процесс милитаризации политической элиты. Нельзя
забывать и о том, что значительная часть тех, кого социологи включили в состав
политической элиты вовсе не назначенцы, а народные избранники. При этом их избрание
нельзя сводить только к эффекту так называемого «административного ресурса», во многом
оно обусловлено и нынешним состоянием массового сознания. Пятнадцатилетний
мониторинг ВЦИОМ показывает, что с середины 90-х годов в России заметно сужение зоны
доверия к основным социальным и политическим институтам. В настоящее время
наибольшим доверием пользуются лишь президент (в личном качестве, т.е. как правитель,
а не как институт президентства), церковь и вооруженные силы, включая военнослужащих
ФСБ, а из институтов гражданского общества - только СМИ при крайне низком доверии к
правительству, к парламенту, к суду, не говоря уже о политических партиях.396
Общественное мнение - 2002.По материалам исследований 1989-2002гг., Ежегодник.// М.: ВЦИОМ 2002.
С.42
396
213
Есть
все
основания
оспаривать
абсолютно
спекулятивные
построения
традиционалистов о некой ментальной предрасположенности русского народа к
самодержавной форме государственного устройства. Однако невозможно отрицать, что в
современной России существуют некие ситуативно обусловленные (следовательно,
преодолимые в принципе, возможно, уже в недалекой перспективе) границы политической
либерализации, блокируемой ныне не только элитой, (хотя ее ответственность за это
наибольшая), но сейчас уже и настроениями масс. Можно и нужно не соглашаться с
доводами ортодоксальных традиционалистов о некой фатальной невозможности для нашей
страны осуществить модернизацию в ее базовых для современного мира чертах. Однако
стоит прислушаться к тем, кто ставит под сомнение не принцип модернизации как таковой,
а всего лишь совершенство той ее модели, которая сложилась в постсоветской России, во
многом стихийно, без предварительной проектной проработки и без учета реальных, а не
надуманных особенностей России. Такие сомнения особенно оправданы уже потому, что
во всем мире происходит переосмысление теории модернизации.
«Особый путь развития России» с позиций неомодернизма. Сама идея
модернизации подверглась серьезной критике в конце 1960-х и в 1970-х годах. Тогда
классической версии модернизма (У. Ростоу, К. Керра, С. Хантингтона) ставилось в вину
эмпирическое несоответствие ее постулатов с реальностью наблюдаемой в странах
«третьего мира», особенно африканских, попытки модернизации которых, зачастую, не
приводили к ожидаемым результатам. В теоретическом плане отмечался архаизм
концептуального аппарата первых версий модернизма, который базировался на
представлениях эволюционизма еще XIX века ( Г.Спенсера, Э.Тэйлора, Л.Моргана) об
однолинейности исторического развития и жесткой универсальности для всего
человечества целевых моделей организации общества. Одним из ответвлений такого
эволюционизма был и марксизм. Между тем, сам Маркс столкнулся с неудобствами
жесткого универсализма своей конструкции пяти исторических формаций, поскольку
никак не мог приспособить к ней особенности архаичных обществ и, поэтому изобрел
особый «азиатский способ производства».
Факт концептуального пересечения марксизма и классического модернизма мне
кажется важным еще и потому, поскольку, не исключено, что многие современные
российские реформаторы основывали свои взгляды не только на идеях раннего
модернизма,
инкорпорированного
в
экономические
концепции
Сакса,
Аслунда,
214
Бальцеровича, но и, невольно, на усвоенных со школьной скамьи идеях марксистского
эволюционизма.
В конце 70-х – начале 80-х гг. многим казалось, что модернизм будет похоронен и его
вытеснит постмодернизм, по сути, отказавшийся от восприятия истории как процесса
модернизации (обновления) и от самого принципа прогрессивного развития, однако в
середине 80-х годов характер научных дискуссий круто изменился - началось возрождение
модернизма. Это было связано, прежде всего, с переменами мировой геополитической
обстановки, вызванной появлением посткоммунистических обществ и их стремлением
«войти», или «вернуться», в Европу (т.е. в современный западный мир).397 И дело не только
в том, что вновь возник политический спрос на идеи модернизации, свою роль в
обновлении его идей сыграла теоретическая критика, а, главное, появилась эмпирическая
база для выводов о специфических и универсальных закономерностях модернизации.
Открылся континуум обществ (с давними историческими традициями модернизации,
обществ, переживших социалистическую модернизацию, а также не модернизированных,
архаичных обществ), на основе его сравнительного анализа стал формироваться
«неомодернизм», к сторонникам которого себя относит и автор.
Неомодернизм освободился от всех наслоений классического эволюционизма, он не
настаивает на какой-либо единственной конечной цели развития и допускает обратимость
характера исторических изменений. Модернизация рассматривается как исторически
ограниченный
процесс,
узаконивающий
универсальную
целесообразность
лишь
ограниченного набора «институтов и ценностей современности: демократию, рынок,
образование, разумное администрирование, самодисциплину, трудовую этику и т.д.»398. В
такой редакции модернизм избавился и от привкуса сугубо западнической модели, хотя и
не отрицает значения «демонстрационного эффекта» как важнейшего стимула к
обновлению, но вместо единого образца для подражания выдвигает принцип «движущихся
эпицентров современности». Например, для Украины образцом в каких-то одних сферах
модернизации может быть не Америка, а, скажем, Польша или Венгрия, в других - Россия.
Главным же постулатом этой концепции является признание возможности многолинейного
исторического развития, в котором модернизация осуществляется разными путями в
зависимости от стартовых позиций тех или иных обществ и специфики проблем, с
которыми они сталкиваются.399
Петр Штомка. Социология социальных изменений// Пер. с англ. Под ред. В.А.Ядова – Москва.: Аспект
Пресс, 1996.С.179.
398
Там же. С. 184
399
Там же. С. 178.
397
215
В
какой
мере
такая
версия
модернизма
совместима
с
утверждениями
традиционалистов о неизбежности «Особого путь развития России»? Ответ зависит от того,
что понимается под «особым путем»: если речь идет - о стратегическом направлении
движения не к обновлению (модернизации), а
к архаизации страны, возвращению в
авторитарное прошлое, то такой лозунг абсолютно противоположен идеям неомодернизма,
а если же о вариации моделей и технологий обновления, о темпах, последовательности и
средствах движения, то в этом случае он вполне совместим с новыми веяниями в
модернизме. Нет нужды доказывать, что Россия
имеет свои особенности, даже по
сравнению с типологически близкой ей группой посткоммунистических стран Восточной и
Центральной Европы. Они обусловлены не только огромными масштабами страны и
наследием милитаризированной советской экономики, но и особенностями социальных
ресурсов модернизации, например, меньшей укорененностью и меньшим удельным весом
предпринимательства и более слабыми основами гражданского общества, а также
спецификой этнополитической ситуации в России и ее федеративным устройством. Все эти
особенности не в полной мере учитывались в ходе проведения реформ.
Дефекты модернизации в России. Разумеется, я не имею возможности дать
комплексный анализ современной российской модернизации и остановлюсь лишь на двух
ее дефектах, в наибольшей мере связанных с этническими аспектами политики реформ.
Модернизация «сверху» и отсутствие учета баланса этнических интересов. Петр I мог
проводить модернизацию сверху, мог рубить головы стрельцам или стричь бороды боярам,
поскольку опирался на общественное представление о легитимности воли монарха. Сталин
также мог проводить модернизацию сверху (не буду оценивать ее результаты), опираясь на
силу репрессивного аппарата, народный страх, а еще больше на полную закрытость
общества, которое не знало, что «так жить нельзя». Ныне же у власти нет действенных
инструментов для того, чтобы выстроить общество в шеренги и направить их по тому или
иному пути. Мониторинг ВЦИОМ показывает, что с середины 90-х годов лишь война в
Чечне оставалась фактором политической мобилизация российского общества.400 Однако
мобилизация на волне страхов и фобий недолговечна, а главное, ее нельзя использовать для
созидания. При отсутствии мобилизационных ресурсов, одной лишь воли элит не
достаточно для того, чтобы модернизировать страну. В таких условиях модернизация
может быть успешной, только если станет «своей» для масс, будет отражать их жизненные
интересы, в этом случае народ будет не только требовать продолжения реформ, но и сам
Общественное мнение - 2002.По материалам исследований 1989-2002гг., Ежегодник .// М.: ВЦИОМ 2002.
С.45
400
216
проводить их. Однако в реальности реформы проходили, в лучшем случае при
непротивлении масс, но не при их поддержке, и со временем отчуждение от них нарастало,
даже сами слова «реформы» и «реформаторы» приобрели в массовом сознании
преимущественно негативное звучание. Если реформаторы не смогли сделать реформы
«своими» для народа, то уже этим позволили оппозиции представить их как
«антинародные». С ростом восприятия реформ как «антинародных» и неуспешных росла и
ксенофобия, которая выполняла две функции: во-первых, объяснения причин своего
неблагополучия, связывая их с происками «чужих», во-вторых, как компенсаторный
механизм самоутверждения (если люди не могут самоутвердиться в достижениях, они
самоутверждаются, выдумывая или утрируя недостатки других).
Большинство из перечисленных мной социальных причин ксенофобии, скорее всего,
были неизбежными. Я не знаю, можно ли было в 90-е годы сделать разрыв между «верхами»
и «низами» общества не таким зияющим, а ступени между социальными стратами более
дробными. Демографический кризис вообще не результат, а сопутствующее условие
реформ, и здесь в вину либералам-реформаторам можно поставить лишь их безучастность
к попыткам националистических сил представить демографические проблемы как
следствие «геноцида русского народа». Вот Чеченская война – явление преимущественно
рукотворное, и, конечно же, определенную ответственность за нее несет все общество, и в
этом смысле и либералы–реформаторы, хотя их антивоенная позиция была более
принципиальной и последовательной, чем у самодержавнической оппозиции. Однако этот
сюжет требует специального разговора, уж слишком он сложен, запутан и деликатен.
Поэтому я остановлюсь лишь на тех просчетах архитекторов реформ, которые мне кажутся
очевидными.
Попытки сделать реформы народными «своими», заинтересовать каждого отдельного
индивида в реформировании общества предпринимались, но их трудно назвать успешными.
Скажем, ваучерная приватизация по своему замыслу должна была превратить каждого
российского
гражданина
в
совладельца
бывшей
государственной,
а
ныне
приватизированной собственности, однако подавляющее большинство граждан так до сих
пор ничего и не получило за свой ваучер. Зато очень многие потеряли свои сбережения в
сберкассах в 1991-1992 гг. и в банках, после дефолта 1998 г. Никто из лиц, ответственных
за такую экономическую политику, своей вины или своих просчетов за материальные
потери населения не признал. Напротив, все чаще можно услышать оправдания дефолта
тем, что он стимулировал новый подъем экономики. Возможно, так оно и есть, но стоило
бы для баланса подсчитать и потери для реформ, к которым привела эта акция. Они
проявились, например, в росте недоверия людей к власти реформаторов, к усилению
217
восприятию ее как «чужой» и, одновременно, к росту положительного восприятия массами
традиционалисткой альтернативы реформ.
Вообще «небалансовое» мышление, т.е. подсчет лишь выгод, достигнутых в одних
сферах, без оценки, потерь в других – это весьма характерная черта нынешней российской
общественной мысли, в том числе и ее либерального направления. По крайней мере, баланс
этнических интересов совершено не принимался во внимание ни архитекторами реформ,
ни поддерживавшими их кругами российской интеллигенции.
Нужно признать, что на первом этапе российских реформ меньше всего учитывались
интересы этнического большинства. В условиях его относительной этнической
пассивности, власти относились к нему по принципу: «терпит, не бунтует - и слава богу».
Либеральная интеллигенция обращалась к русскому народу, разве, что с предложением
повиниться перед меньшинствами за преступления империи. Это предложение
сомнительное во многих отношениях: во-первых. у подданых не может быть
ответственности, во-вторых, русские («кулаки», казаки, интеллигенция и др.) пострадали
от тоталитарного аппарата, его репрессий не меньше других народов. В то же время крайне
мало внимания уделялось актуальным проблемам этнического большинства, например,
этнокультурным аспектам миграции, в которой основным субъектом были русские,
составлявшие ¾ всего миграционного притока. В либеральных кругах относились с
определенной настороженностью и к проблемам русской диаспоры в странах СНГ,
рассматривая политику в этой сфере, чуть ли ни как проявление империализма, хотя в
совершенно прозападной Венгрии, аналогичная проблематика была одним из знаковых
признаков политики всех правительств этой страны в постсоциалистический период.
Совершенно игнорировалась проблема русских как меньшинств в ряде республик
Российской Федерации (и совершенно экстремального положения их в Чечне) и
одновременно идеализировалась демократичность национальных движений меньшинств.
При этом, именно либеральные круги обращали мало внимания на авторитарнотрадиционалистские проявления политики национальных элит некоторых российских
республик (замечу, что сейчас характерна другая крайность – традиционализм
национальных элит безмерно утрируется). В начале 90-х, в интеллигентских кругах,
господствовало весьма сомнительное, на мой взгляд, представление о принципах
национального самоопределения меньшинств: такая его форма, как создание независимых
государств рассматривалась как норма, как желаемая цель, а не в качестве «наименьшего
зла» в некоторых чрезвычайных ситуациях. Серьезно обсуждалась в то время и концепция
«упреждающего распада России» или «направленного взрыва», т.е. подготовленного
сверху, не допускающего кровопролития, целенаправленного раздела федерации на
218
несколько самостоятельных государств. Эта концепция абсолютно утопична, однако сама
ее постановка показывает, что специфика интересов этнического большинства просто не
попадала в поле зрения мыслителей. Спрашивается: почему русские люди могли быть
заинтересованы в рассечении независимыми государствами единого ареала своего
расселения, и какой другой этнической общности, будь она на месте русских, такая
перспектива могла бы понравиться?
Как уже отмечалось, не предпринималось реформаторами и попытки объяснения
народу целесообразности федерализации как разумного компромисса между интересами
меньшинств в автономии и большинства в сохранении целостности страны и единого
ареала своего расселения. Более того, когда начались контрреформы федеративных
отношений, они были с энтузиазмом подхвачены значительной частью либеральных кругов
как восстановление порядка. Те самые люди, которые не могут допустить и мысли о
восстановлении командной экономики, легко соглашаются с командно-бюрократическими
моделями управления регионами. Те самые политики, которые осознают, что пересмотр
итогов приватизации недопустим, с благожелательностью принимают мысль о радикальной
ревизии
другой, не менее важной, компоненты реформ и всей модернизации, что
неизбежно приведет к полной делегитимизации самой идеи реформирования общества. В
таких условиях этническому большинству трудно было признать федерализацию, да и не
только ее, «своей» реформой, «своей» модернизацией.
Технократизм и однолинейность концепции модернизации; отсутствие ее проекта. В
ответ на весьма распространенные ныне упреки архитекторам реформ в том, что
экономическая составляющая модернизация оторвалась от своих социально-культурных
тылов, обычно слышится ответ: «Ну и что же – поправим дело на следующих этапах». Не
стану с этим спорить (разумеется, многое можно поправить, хотя и с большими
издержками),
меня
беспокоит
другое:
проглядывающее
сквозь
этот
ответ
эволюционистское (марксистское) представление, что экономические, политические и
социально-культурные процессы непременно движутся в одном направлении, только с
разными скоростями. При этом экономика подталкивает развитие других сфер, поэтому
социально-культурные преобразования, неосуществленные сегодня, можно сделать завтра,
возможно, даже с большим успехом, поскольку экономическое положение улучшается.
Прямо как у Маркса: «производительные силы – неизбежно приведут к изменению
производственных отношений» В реальности же успехи экономики могут сочетаться с
противоположными, откатными движениями в политике и в настроениях масс,
тормозящими общий ход модернизации. Например, не вызывает сомнений необходимость
219
развития в России местного самоуправления, без этого модернизации «снизу» не
получится. Однако модернизировать и либерализировать местное самоуправление сегодня,
когда оно все больше пристегивается к вертикали власти, труднее, чем в эпоху Ельцина.
Все чаще и настойчивее ныне говорится, что на нынешнем втором
этапе реформ
дальнейшее развитие модернизации страны будет блокироваться, или даже «модернизация
по-настоящему не стронется с места», без решения проблем концентрации власти и
собственности, преступности, коррупции, а «успех в этой сфере обусловлен реальными
изменениями в системе ценностей, неформальных институтов, в культуре». 401 Полностью
разделяю эту точку зрения, вопрос лишь в том, как реализовать эти идеи в нынешние
времена. Понятно, что изменений в системе ценностей и культуры нельзя достичь пиаркампаниями, для этого нужны серьезные преобразования в системе народного образования.
Но кто же сегодня допустит либералов к таким преобразованиям, когда власть, а за ней
школа и вузы сильно качнулись в сторону традиционалистской идеологии? По этой же
причине и средства массовой информации сегодня менее пригодны для распространения
идей либерализма и модернизма, чем в предшествующую эпоху. Эти сани нужно было
готовить загодя.
Но даже если бы мы не знали всего этого, а скажем, просто так, «с чистого листа» и
на основе здравого смысла стали бы готовить проект модернизации России, то и в этом
случае, безусловно, идеологическую и ценностную подготовку населения, отнесли бы не на
второй и даже не на первый ее этапы, а на некий нулевой цикл, как компания «Форд»,
которая перед тем, как запустить свое производство в Ленинградской области и начать
выпуск автомобилей, позаботилась о подготовке кадров, по крайней мере, стартовой
команды.
Я далек от мысли кого-нибудь упрекать в отсутствии проекта модернизации России,
поскольку понимаю, что его просто не могло быть в конце 80-х - начале 90-х, тем нужнее
он сейчас. Для элит такой проект – план действий, программа комплектования и
эшелонирования преобразований во времени, а для масс – источник просвещения и
средство поиска ответов на весьма сложные проблемы модернизации.
Для России социально культурная подготовка населения к модернизации, даже
важнее, чем для многих других стран бывшего социалистического лагеря. Например, в
период коренной ломки всего общественного устройства в странах Восточной Европы,
также как и в России, усилился этнический национализм. Однако особенностью восточно-
Ясин Е.Г. Модернизация экономики и система ценностей. // Доклад. К 4-й Международной научной
конференции. Модернизация экономики России: социальный аспект. Москва 2-4 апреля 2003 г. С. 12
401
220
европейского национализма, в отличие от русского, было то, что он формировался как
антисоветский и поэтому был прозападным. Однозначный же выбор Запада в качестве
политического и экономического ориентира для элит бывших социалистических стран
Восточной Европы оказал блокирующее влияние на развитие в них как этнического
фундаментализма (с ним на Запад не пускают), так и на возможность возрождения идей
«социалистического пути».402 В России же такого естественного барьера для возвращения
к советскому традиционализму нет, следовательно, у нас больше, чем где бы-то ни было,
нужны рациональные обоснования того, что «так жить нельзя» и одними лишь лозунгами,
как на заре перестройки здесь не обойтись. Далее в России нет, как у наших бывших
солагерников почти иррационального (или, скажем, до логического) народного влечения
«вернуться в Европу», напротив, национализм здесь исторически развивался (еще со
времен своей славянофильской модели) как оппозиция Западу, и это антизападничество
особенно усилилось в советское время, поэтому его рецидивы в виде периодически
вспыхивающих антизападнических настроений можно было предвидеть.
Указанная
особенность не ставит непреодолимых преград для модернизации страны, она лишь требует
подбора адекватных инструментов. Например, архитекторы модернистского проекта
должны ориентироваться не столько на «демонстрационный эффект» («будем жить как на
Западе»), сколько на рациональное, детальное и убедительное доказательство того, что этот
проект
лучше конкурирующих с ним отечественных и, что он в большей мере
соответствует интересам всех социальных групп и этнических общностей страны.
Таким образом, модернистский проект развития России, в качестве общественного
явления, должен включать в себя как изложение параметров своей целевой модели в
конкретных сферах жизни (в том числе, и в этнической политике), так и критический анализ
его традиционалистской альтернативы.
Начнем со второй части этой задачи.
Глава 5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Параграф 1 Этнополитические последствия традиционалистского проекта
С начала XIX в. эпохи реформ и контрреформ в России сменяли друг друга с
неизбежностью смены времен года и обозначали собой циклы исторического маятника.
См. Дубин Б. Запад для внутреннего пользования // Ксмополис.№1(3) весна 2003. С.141. См . также
TismaneanuV. Fantasies of Salvation: Democracy, Nationalism and Mith in Post-Communist Europe. Princeton
1998
402
221
Всякий раз в периоды контрреформ, предыдущая эпоха объявлялась «анархией»,
выстраивались телеологические проекты «особого пути развития России», западная модель
модернизации признавалась не соответствующей народному духу Росси, а сам Запад «загнивающим, умирающим». Один телеологический проект сменял другой: «Третий Рим»,
«Всеславянская империя», «Русское национальное царство» «Социализм в отдельно взятой
стране» и т.п. В такие периоды усиливалась роль государственного аппарата, который в
интересах выстраивания «самодержавной вертикали власти» в той или иной форме
использовал ресурс мобилизации национального духа этнического большинства. В
качестве мобилизационного проекта использовалась доктрина «Официальной Народности»
при Николае I, законодательство о «черте оседлости» при Александре III, дополненная
организацией полицейскими структурами погромных движений, таких как «Союз русского
народа» и «Черная сотня» при Николае II. Далее, уже в советское время, появились
сталинские мобилизационные проекты: «руководящего народа» - с одной стороны и
«наказанных народов» - с другой.
В эпоху брежневского застоя реализовывались не
афишируемые проекты «государственного антисемитизма» и «русификации» меньшинств
и прямо несвязанный с этнической политикой, но сильно задевший многие этнические
общности (особенно малочисленные), проект «ликвидации неперспективных селений».
Традиционалистские проекты, будь они основаны на сталинской модели «старшего
брата» и матрешке национально-териториальных образований
или на имперской
уваровской триаде – («православие», «самодержавие», «народность»), представляют собой
жестко иерархические конструкции. Подобные конструкции предполагают: во-первых,
концентрацию власти на верху пирамиды, во-вторых, ту или иную форму сегрегации людей
по этническому или религиозному признаку; в–третьих,
обеспечение устойчивости
этнополитической системы, преимущественно, на принципах подавления и подчинения.
Неизбежным ответом на все подобные проекты становилось накопление обид в
исторической памяти «обиженных народов». Этим во все времена пользовались
внесистемные силы: от террористов-бомбистов и большевиков в прошлом, до
фундаменталистов
всех
мастей
в
наше
время.
Системный
кризис
общества,
сопровождавшийся зачастую частичным или полным распадом империи, завершал собой
каждый цикл раскачивания исторического маятника. Так было с тех времен, когда явно
обозначилась хроническая болезнь России – прерывистая модернизация и незавершенные
оборванные реформы.
Сегодня, как и 150-лет назад в России обсуждаются два конкурирующих политикоидеологических проекта: традиционалистский и модернистский. Каждый из них, явно или
222
неявно, предполагает, в качестве составной части, свою модель этнополитического
устройства страны.
Как уже отмечалось в современной России, традиционалистский проект пока не
сложился. Однако по программным положениям некоторых политических сил,
получающим немалую поддержку на парламентских выборах (например, ЛДПР, «Родина»
и некоторые другие) можно смоделировать проект в целом для того, чтобы оценить
возможные последствия его появления и осуществления. Основными его чертами являются
унитаризм, этнополитическая мобилизация этнического большинства против внешних
врагов «запад» и внутренних «антинациональные олигархи» и
«иноэтнические
пришельцы»; сочетание вертикали власти с вертикалью этнических и конфессиональных
общностей.
Пока это эскизный проект, не ставший основой государственной национальной
политики, но сам его образ оказывает негативное влияние на этнополитические процессы.
К тому же отдельные действия федеральных властей и даже всего лишь предложения,
исходящие от представителей властной элиты, уже вызывают протестную консолидацию
этнических сообществ.
Отношения между большинством и меньшинствами напоминают качели, затронув
один край которых, непременно поднимешь
другой. В случае роста сепаратистских
настроений у меньшинств – в проигрыше окажется и этническое большинство, как сторона
в наибольшей мере заинтересованная в сохранении целостности государства. Так или
иначе, нарушение баланса интересов этнических сообществ ведет к потерям для всего
общества.
Угрозы возрождения сепаратистских настроений. Обратный ход маятника. Язык,
историческая территория, самоуправление, национальная государственность и власть (если
она признается «своей») – все это важнейшие символы этнических общностей. Любые
попытки посягательств на них немедленно актуализируют негативную этническую
консолидацию. Понятно, что изгнание региональных лидеров из Совета Федерации ими не
одобряется. Но ведь и массовое сознание вряд ли оценивает положительно многие перемены
в Совете Федерации, например, тот факт, что республику Туву сейчас в нем представляют
вдова питерского губернатора Людмила Нарусова и питерский банкир Сергей Пугачев.
Разумеется, само по себе это не приведет к бунту, но в исторической памяти народов,
возможно, отложится. При этом особенность этой памяти не только в том, что она дольше
всего хранит именно негативные события, но и обычно со временем еще и драматизирует их,
223
превращая обычную глупость или сиюминутный расчет в образ стратегического замысла,
направленного против того или иного народа.
Создание федеральных округов также не вызывает восторга региональной элиты, а
основную функцию полномочных представителей в округах они, на мой взгляд,
представляют как надзор за лояльностью региональной элиты. Настораживает региональных
лидеров и прямое вмешательство президентских полпредов в избирательный процесс и,
прежде всего, в использовании административного ресурса для проведения выборов глав
регионов по сценарию Кремля. Так, почти демонстративное отстранение от президентских
выборов в республиках в начале 2002 г. таких популярных претендентов на этот пост, как
Михаил Николаев в Якутии и Хамзат Гуцириев в Ингушетии, стимулирует негативную
консолидацию региональной элиты и побуждает ее к прямой или скрытой конфронтации с
полпредами.
Поначалу
у региональных лидеров преобладал страх и большинство из них
остерегались открыто высказывать свои негативные отношения к преобразованиям
административной системы, предпочитая скрыто действовать через оппозиционных
представителей национальных движений. Однако вскоре лидеры республик стали открыто
ставить под сомнение целесообразность, как преобразования Совета Федерации, так и
создание семи административных кругов.403
В тех случаях, когда лидеры республик и губернаторы остерегаются публично
критиковать полпредов, они дают волю своим чувствам в отношении фигур второго уровня
в округах - федеральных инспекторов. Не прекращается публичная перепалка губернатора
Михаила Прусака с федеральным инспектором по Новгородской области Любовью
Андреевой. Бывший питерский губернатор Яковлев (тогда еще не сосланный в Москву)
публично назвал Николая Винниченко, федерального инспектора по Санкт-Петербургу
«одним из наиболее беспринципных».404 Мягкий и интеллигентный президент Чувашии
Николай Федоров в деликатной манере, но с явной издевкой оценивает сам институт
федеральных инспекторов в регионе. В одном из интервью он говорит: «Мне недавно
назначили, правда, согласовав со мной, главного федерального инспектора по Чувашии
генерал-полковника Александра Муратова. Я это воспринял как признание роли и
значимости Чувашии: за Шаймиевым присматривает генерал-майор погранвойск, за
Калашникова М "Путин хочет иметь сильную власть, как в Татарстане" Президент Минтимер Шаймиев
предлагает альтернативу институту полпредов Независимая газета 02.12.2000.
403
См. Говорящий ночной голова: лосей на переправе не меняют?// Кандидат. Ру: 11.03.2003
http://www.kandidat.ru/nf_det_hronicles_971.ht
404
224
Рахимовым - тоже генерал-майор, но МЧС, за Марий Эл вообще полковник. А у меня генералполковник, да еще командующий Внутренними войсками Приволжского округа»405.
В отличие от Н. Федорова главным оружием многих президентов республик против
сомнительного с их точки зрения института полпредов и федеральных инспекторов
выступает не столько их публичное высмеивание или критика, сколько негласная поддержка
своих местных неформальных лидеров национальных движений. В сложившихся условиях
многие лидеры республик стали «меньше замечать» новое оживление национальных
движений, у которых любые административные действия Кремля в отношении их республик
повышают жизненный тонус, придают осмысленность их деятельности в «защиту своего
народа».
Наибольшее влияние на развитие этнополитической ситуации в России может оказать
та часть административных реформ, которая предусматривает изменение пропорций в
распределении налогов, идущих в федеральные и региональные бюджеты. При этом больше
всего пострадала муниципальная часть регионального бюджета, сократившись с 32% до
17%.406 Между тем, расходы муниципалитетов не уменьшились, следовательно, дефицит
бюджетов городов и сел возрос. Именно вследствие этого многие города и села испытывали
перебои с обеспечением электроэнергии и тепла зимой 2000-2001 гг.
Федеральные власти тешат себя иллюзиями, что рост числа регионов полностью
зависимых от них материально, сделает региональную элиту более послушной. В
действительности ситуация прямо противоположная: чем меньше средств в региональных и
муниципальных бюджетах, тем меньше ответственности несут их руководители и тем ниже
может быть спрос с них. В связи с этим вполне оправданы ожидания, что уже в ближайшем
будущем жители городов и сел будут все в большой мере адресовать свое недовольство не
местным руководителям, а непосредственно Кремлю.
Для территорий с преобладанием нерусского населения, указанная тенденция может
привести к росту антирусских настроений и фобий, поскольку в таких местах федеральная
власть воспринимается как русская и исходящие от нее неприятности, зачастую,
рассматриваются как целенаправленная дискриминация не русских народов.
Вместо «вертикали власти» в реальности выстраивается конструкция подобная трубе,
в которой снизу поступает напор требований подозрений и фобий, а сверху, при
ослаблении региональных фильтров спускаются ошибочные управленческие решения
Сухова С. "Надо быть осторожнее в реформе госвласти. Губернаторы надеются, что президентские
полпреды - это ненадолго.// "Сегодня" 2000.11.25.
405
406
Там же
225
вроде уже упоминавшегося закона "О языках народов РФ", в соответствии с которым,
алфавиты государственных языков республик России строятся на графической основе
кириллицы. Как только этот закон был принят, даже в тишайшей Карелии оживились
национальные движения. Представители национальных общественных организаций
республик в декабре 2002 г. высказались против законопроекта, заявив, что он "ставит под
сомнение перспективу дальнейшего развития и признания национальных языков
Карелии".407 Госсовет Татарстана обратился к Президенту России,
а затем в
Конституционный суд РФ, ссылаясь на не конституционность этого нормативного акта.
Социологические исследования в республике зафиксировали значительный рост интереса
населения к проблеме национального языка, при этом даже те татары, жители республики,
которые еще недавно весьма прохладно относились к идее перевода их языка на латинскую
графику, ныне
почувствовали себя ущемленными тем, что в Москве решают, какой
алфавит им использовать в своем языке.408 Один из лидеров радикального крыла татарских
националистов в беседе со мной не без удовольствия заметил: «Вот вы все время говорили,
что федерализм достаточен для защиты национальной культуры. Теперь видите, как вы
ошибались. Только полная независимость может нас спасти». Подобные высказывания
служат одной из иллюстраций к выводу о том, что
этнический сепаратизм, сильно
ослабевший к середине 90-х годов, может ожить и уже начал оживать, пусть пока еще в
слабой и закамуфлированной форме.
В какой то мере его росту может способствовать процесс роста религиозности
населения, и, особенно, квазирелигиозности, не сопровождающейся глубоким освоением
веры и даже соблюдением основных ритуалов. Именно такая квазирелигиозность
развивается быстрыми темпами.
По данным ВЦИОМ в 1989 г. при опросах населения России, лишь 30% опрошенных
считали себя православными, в 1993 г. - таких было уже 50%, в 1994 – 57%.409 Думаю, что
в настоящее время число лиц, считающих себя православными среди русских, превышает
60%. Еще выше уровень реальной или мнимой религиозности среди мусульман. Так в 1994
г. в Татарстане верующими мусульманами себя называли 86% сельских жителей и 66.6%
горожан.410 К настоящему времени доля верующих мусульман, несомненно, возросла. При
Общественность Карелии выступила против перехода на кириллицу.// Известия.Ru 11.12.2002
Татарская азбука: кириллица или латиница? Дискуссии вышли на новую стадию // TatNews.Ru
12.01.2003
407
408
Дубин Б.В. Православие в социальном контексте// Экономические и социальные перемены: Мониторинг
общественного мнения. 1996. № 6.
410
Мусина Р. Ислам и межэтнические отношения в современном Татарстане // Иман нуры 1996.№ 4.
409
226
этом республики Поволжья по уровню исламизированности населения сильно уступают
республикам Северного Кавказа.411
Повсеместный интерес к религии не обязательно сопровождается ростом истиной
веры, и значительно чаще религиозная идентификация служит всего лишь дополнительным
символом, маркером этнической идентичности, по следующему принципу: «истинный
русский – значит православный, так же как истинный татарин, (башкир, чеченец, лезгин и
др.) – это мусульманин». Особенно заметен такой инструментально-символический подход
к религии у молодежи. Подтверждением этого могут служить исследования социологов
Татарстана, выявивших ряд примечательных особенностей взаимосвязи религиозности,
этничности и политических ориентаций.
Приведу некоторые результаты этого
исследования.
Во-первых, среди татарской молодежи верующие мусульмане составляют абсолютное
большинство, почти ¾, однако среди них преобладает категория, которую, социологи
назвали «номинальные» мусульмане - они идентифицируют себя с исламом, но не
исполняют мусульманских обрядов. Их среди верующей молодежи - 45,2%. Меньшую
часть верующей исламской молодежи (25,3%) составляет подгруппа, обозначенная как
«истинные» или «традиционные» мусульмане. Это люди, исполняющие и традиционные
обряды, и мусульманские ритуалы. Почти столько же (19,%) составляет и нерелигиозная
молодежь (в работе она обозначена, как «внеконфессиональная молодежь»).
Во-вторых, с ростом религиозности татарской молодежи возрастает их этническая
самоидентификация. Если среди
«внеконфессиональной» молодежи лишь 27,5%
опрошенных «никогда не забывают о своей национальности», то среди верующих таких
уже 79%. 412
Далее с ростом этничности и религиозности у татар возрастает региональная
идентификация. Если среди представителей нерелигиозной татарской молодежи только
гражданами Татарстана, а не всей Российской Федерации, себя считают приблизительно
четверть опрошенных (26%), то среди молодых мусульман – более половины (58,2%).
Показательно также распределение по выделенным группам татарской молодежи,
причисляющей себя к россиянам как общности: среди неисламизированных татар
россиянами себя считает - 18%, а среди верующих — всего 1,5%. Совершенно иная
тенденция замечена среди русской молодежи: с ростом этничности и религиозности
Сравнительные данные о распространении ислама в регионах России см. Малашенко А. Исламское
возрождение в современной России. // М.: Московский Центр Карнеги. 1998.
412
Ходжаева Е.К., Шумилова Е.А. Возрождение религии и рост этнической идентичности татарской
молодежи в Республике Татарстан // Проект: «Процесс исламизации в Республике Татарстан: влияние на
социальную стабильность и формирование новых идентичностей молодежи», под руководством
Г.М. Мансуровой в 2000-2001 ( рукопись).
411
227
уменьшается региональная идентификация и возрастает общероссийская: почти половина
опрошенных русских (47,2%) обозначила себя только как граждан России, а не республики,
и лишь 5,4% русской молодежи назвали себя только татарстанцами, остальные
демонстрируют ту или иную форму смешанной, двойной идентификации.
Также
можно
говорить
о
большей
поддержке
в
религиозной
группе
националистических проявлений в татарстанской политике. Так, только 5% респондентов
внеконфессиональной группы одобряют деятельность политических национальных
движений в республике, а в религиозной группе респондентов с таким отношением уже
почти четверть (23%). При этом «номинальные мусульмане» отличаются большим
политическим радикализмом и интолерантностью по отношению к русским, чем
«истинные». Это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что квазирелигиозность выступает
лишь как дополнительный индикатор
негативных этнических установок, тогда как
истинная вера, способна, по крайней мере, отчасти, сдерживать этнические фобии.
Национализм все чаще использует религиозные чувства для мобилизации своих
сторонников. Показательно в этом отношении дело Рафиса Кашапова.
Это один из лидеров набережночелнинского отделения Всетатарского общественного
центра (ВТОЦ), задержанный 25 марта 2003 г. правоохранительными органами
г.Набережные челны по результатам обыска, проведенного у него на квартирах после
разрушения православной часовни Св. Татьяны. Во время обыска были найдены листовки,
имеющие, по мнению прокуратуры, «экстремистское содержание». На этом основании
прокуратура города предъявила Р.Кашапову обвинение по статье 282 УК РФ – «разжигание
межнациональной розни».
«Дело Кашапова» продемонстрировало потенциал общественной активности
национально ориентированных сил республики, мобилизованных, пожалуй, впервые после
90-х годов лозунгами, сочетавшими этнические и религиозные мотивы. В поддержку
Кашапова выступили известные деятели республики. Так, 1 апреля руководители ТОЦ и
председатель Народного фронта по защите суверенитета Татарстана Фарид Хабибуллин
подали прокурору республики письменное поручительство с просьбой освободить
Кашапова из-под стражи. 7 апреля был проведен митинг рядом национальных
общественных организаций в защиту Р.Кашапова. В мае группа деятелей культуры
Татарстана, в связи с этим арестом, направила открытое письмо в адрес президента
республики Минтимера Шаймиева, председателя Верховного Суда Татарстана Геннадия
Баранова и прокурора республики Кафиля Амирова. Под влиянием этой активности,
Верховный суд Татарстана
дважды рассматривал ходатайство об освобождении Р.
Кашапова и вначале оставил без изменений решение набережночелнинского суда о
228
содержании задержанного под стражей, а затем все же отменил постановление городского
суда.
Я не берусь оценивать виновность или невиновность одного из лидеров татарского
национального движения по рассматриваемому делу и привожу
хронику событий,
связанных с его арестом, исключительно для того, чтобы показать, что сегодня
национализм с религиозной окраской имеет определенную общественную поддержку в
Татарстане. Между тем многочисленные исследования показывают, что Татарстан и по
уровню религиозности, и по уровню развития этнического самосознания уступает многим
другим, так называемым «исламским» республикам России.413 Следовательно, выявленные
тенденции роста религиозности и этнополитической активности населения в этой
республике не в меньшей мере должны проявляться и в других республиках названной
группы. Это, в свою очередь, позволяет выдвинуть предположение о возможном росте
автономистских настроений в ряде республик уже сейчас при сложившихся тенденциях
политического и социально-экономического развития. Еще больше возрастет вероятность
возрождения этнического сепаратизма в случае, теоретически возможного, ухудшения
общего политического и экономического климата в России.
Угрозы роста этнополитической нестабильности в русских регионах. Новые
следствия колебаний маятника. Как уже отмечалось, этнополитическая ситуация в
«период стабилизации» изменилась по сравнению с предыдущим периодом. Это
проявилось, прежде всего, в смещении основной зоны межэтнической напряженности из
республик в русские края и области, в которых заметно выросла ксенофобия и на ее основе
усилилась этническая дискриминация в некоторых сферах найма на работу и
предоставления жилья.414 В ответ на это в среде дисперсных групп этнических меньшинств
может возрасти доля криминальных групп. Чем меньше у представителей этнических
меньшинств шансов на получение легальной работы вследствие дискриминации, тем выше
вероятность их вовлечения в нелегальный бизнес, а это, в свою очередь, усиливает
ксенофобию по отношению к ним. Эта тенденция хорошо прослеживается на примере
одного из самых опасных для современной России вида преступности - наркоторговли.
Мы уже говорили о том, что представление о засилье цыган в этой сфере
мифологизированы. Однако фактом является то, что представители этой общности, как
одной из наименее интегрированных в социально-экономическую сферу России,
характеризуются высокой вовлеченностью в нелегальный бизнес, в том числе и в торговлю
См. например Малашенко А. Исламское возрождение в современной России. // М.: Московский Центр
Карнеги. 1998.
413
414
Национальные меньшинства. С. 58-60.
229
наркотиками. Не случайно, что конкуренцию им составляют группы, которые имеют столь
же малые возможности для получения легальных заработков, например, таджики. По
мнению начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД
столицы полковника Василия Сорокина, только в одной Москве в незаконный оборот
наркотиков вовлечено от 1 тыс. до 1, 5 тыс. таджиков.415
Возрастает и локальная консолидация меньшинств. Чем меньше у представителей
эмигрантских меньшинств возможностей интеграции в бытовую сферу вследствие
дискриминации при найме жилья, тем выше их замкнутость, которая, в свою очередь,
значительно усиливает рост ксенофобии к ним со стороны этнического большинства. Ныне
во многих регионах формируются замкнутые анклавы расселения эмигрантских
меньшинств, в которых архаичные традиции социальной организации, не просто
консервируются, но иногда и возрождаются. Так, в ходе интервью представителей разных
региональных групп таджиков в Москве, мои собеседники сообщали, что вследствие
чрезвычайных сложностей в трудоустройстве, усилилась трудовая конкуренция внутри
таджикской диаспоры, т.е. между разными ее региональными группами. Необходимость
групповой консолидации, в свою очередь, стимулировала возрождение таких региональных
и клановых подгрупп таджиков, которые казались уже забытыми в самом Таджикистане.
Усилилась и роль неформальных лидеров этнических общин и клановых групп внутри них.
В наибольшей мере к жизни замкнутыми общинами обстоятельства подталкивают
нелегальных мигрантов, таких как китайские. По сообщениям прессы, со ссылками на
милицейскую информацию, китайцы в Москве живут в 10 «чайна-таунах», в арендуемых
квартирах, гостиницах и в студенческих общежитиях, которые нередко служат и офисом
фирм, и складом товаров.416
Возникновение замкнутых группировок этнических меньшинств вызывает к себе
резко негативную реакцию окружающей социальной среды и буквально взвинчивает
ксенофобию. В то же время этим пытаются воспользоваться наиболее радикальные
группировки - политические и религиозные.
Наибольшую
активность
в
этом
отношении
представляют
представители
многочисленных организаций исламских фундаменталистов. В целом роль таких
организаций, а главное, их политические амбиции пока явно недооцениваются ни властями,
ни общественностью. Приведу в качестве примера рассуждения одного из идеологов
исламской политической организации «Исламский конгресс России». Это сравнительно
415
Севастьянов М., Червоненко Д. Героин нашего времени. Тверская 13 (Москва) , 24.01.2002
Китайская мафия в Москве (автор не известен, информация газеты). Оренбургские губернские ведомости
(Оренбург) , 28.08.2001
416
230
длинная цитата, из текста некоего А. Макарова, человека скорее всего недавно обращенного
в ислам,
и в силу своего положения «неофита», чрезвычайно усердствующего в
доказательстве своей «истовой веры». Он пишет, что «устав от бардака демократо-олигархов,
народ, став электоратом, решил отдать предпочтение "сильной руке" … генералам, адмиралам и
сотрудникам спецслужб. Но так ли сильна эта "сильная рука", и поможет ли она России в
нынешней нелегкой ситуации?» Ответ автора резко отрицательный – «… на коренные изменения
генералы не способны…» и далее последовательно оценивая потенциал различных политических сил
России, он вычеркивает из списка тех, которые не способны привести страну к позитивным (с его
позиций) переменам: «Во-первых, убежденных коммунистов -
это в основном бабушки с
ностальгическими воспоминаниями и экзальтированная молодежь "а-ля Эдичка Лимонов"… Вовторых, Русская Православная Церковь - даже в тех тепличных условиях, в которых существует
сейчас РПЦ во главе с Алексием II (Редигером), она не смогла объединить народ, и в дальнейшем
авторитет будет только падать вместе с авторитетом поддерживаемого ею действующего
правительства,…В-третьих, демократы, либералы, социал-демократы - их день только что
закончился, о чем свидетельствуют и настроения в обществе, на волне которых пришли к власти
генералы. И, наконец, патриоты. Можно сказать, что именно эта категория общества ставит
перед собой цели и задачи, наиболее отвечающие государственным интересам нашей Родины, хотя
и сложно считать патриотом, например, Жириновского - "самого рьяного защитника русского
народа", у которого "отец юрист, а мать украинка" или господина Проханова - злейшего врага
"сионистской прессы", но почему-то полностью вторящего ей, как только дело касается
ислама…Остается только одна сила, динамично развивающаяся, избежавшая демографического
и в значительной степени духовного кризиса, испытывающая сильный рост, как количественный,
так и качественный - мусульманская община… Да, конечно, мусульманская умма (община) сегодня
расколота на множество мелких общин - джамаатов, вирдов самого различного толка. Но при
этом есть немало и объединительных тенденций, и основной из них является тот колоссальный
прессинг, который испытывают на себе сегодня все мусульмане, независимо от национальной
принадлежности или от того, какого направления в Исламе они придерживаются».417
Весь текст статьи, из которой приводятся эти выдержки, не оставляет сомнений в том,
что ее автор - апологет
«мусульманской идеи»,
как доминирующей не только в
религиозной сфере, но и в политической системе России. По сути, это та же самодержавная
идеология «старшего брата» или «государствообразующей» религии, но лишь с заменой
православия на ислам. Не случайно исламский фундаменталист видит в русском
национально-патриотическом движении родственную политическую силу. Исламские
фундаменталисты, также как и их Alter ego, русские националисты, главным врагом
417
Макаров А. Кто придет на смену генералам? / "Современная мысль" Исламский конгресс России
http://www.islamua.net/islam_ua/news/general.shtml
231
считают «мировое еврейство». Они в равной мере ненавидят таких людей как В.
Жириновский и, не столько за нечистокровность («отец юрист, а мать украинка"), сколько
за
дискредитацию
«фундаменталистской
идеи»,
а
также
за
высокую
конкурентоспособность ЛДПР в борьбе за общий электорат национал-фундаменталистских
сил. Оба направления фундаментализма примерно в равной мере противодействуют
модернизации России. Вместе с тем, радикальные фундаменталисты обоих типов отчетливо
понимают невозможность политического союза в нынешних условиях, поскольку основные
мобилизационные ресурсы русского национализма – чеченофобия и мигрантофобия
сегодня густо замешаны на сильных антиисламских настроениях.
Маловероятно, что «исламский мобилизационный проект» может быть реализован в
России в том масштабе, на который рассчитывают его авторы. Как я уже говорил, приводя
в пример Татарстан, сегодня ислам в большинстве регионов России, чаще выступает как
этноспецифицирующий фактор. Однако этот проект может найти поддержку в среде
дисперсных общностей различных национальностей и сплотить в рамках неких локальных
зон представителей различных этнических групп мигрантов из республик и Средней Азии
и Кавказа.
Лишь в одном из регионов России, на Северном Кавказе, проявляется угроза
политического объединения разных этнических групп на платформе радикального
исламского фундаментализма. В ходе чеченской войны в регионе усилилось влияние
радикальных исламских организаций, ставящих своей целью стирание этнических границ,
сплочения мусульман на основе идеи создания единого государственного объединения,
противостоящего России. Так уже было в период Кавказской войны XIX века, которая
стимулировала объединение горских народов и быстрое распространение и утверждение
ислама на Северном Кавказе, особенно его новых для региона суфитских форм,
обеспечивших идеологическую основу для многолетнего вооруженного сопротивления и
консолидации разрозненных племен и этнических групп горцев, ранее враждовавших
между собой. Именно под знаменем ислама и с лозунгом газавата (войны с неверными)
горское сопротивление возглавлял (1834-1859 гг.) имам Шамиль, сумевший впервые
обеспечить государственное объединение чеченцев, ингушей, аварцев и многих других
народов Северного Кавказа.
В целом,
политизация религии
может
быть
важным фактором
усиления
межэтнической подозрительности в ряде регионов России. Наиболее сложно развиваются
отношения между политическими активистами, исповедующими религию православия, с
одной стороны, и ислама – с другой. Взаимная подозрительность многих приверженцев
232
обеих конфессий обусловлена, как историей противоборств, так и многими современными
политическими событиями. Об исламе большинство русского населения знает мало и, к
сожалению, неадекватность информации на эту тему усиливается. Афганская, а затем
чеченские войны, а также постоянно тиражируемые в центральной прессе сообщения о
радикальных
исламских
организациях
ваххабитов,
поддерживающих
чеченских
террористов, сформировали у многих русских отношение к исламистам как к опасному
экстремистскому течению. В то же время, в глазах исповедовавших ислам, православие
выглядит не привлекательно тем, что это «доминирующая религия, поддерживаемая
федеральной властью», и уже только этим ущемляющая интересы других религий.
Разумеется, в начале 2000-х годов, как уровень сепаратизма, так и накал
межнациональных противоречий значительно ниже, чем был в начале 1990-х. Однако
следует иметь в виду, что общий спад национальных движений в России, в основном, был
обусловлен игрой инерционных процессов. К середине 90-х исчерпала себя инерция
распада СССР. Наиболее активная часть национальных лидеров включилась в состав
общероссийской бизнес элиты или в систему органов управления разного уровня. Лидеры
российских республик к этому времени перестали заигрывать с национальными
движениями, рассматривая их как единственную опасность для удержания власти.
Правящая элита в республиках качнулась в сторону союза с федеральной властью, а
последняя сумела использовать договорный процесс для стабилизации политической
ситуации в стране. Все это привело к тому, что и этнический сепаратизм и
межнациональная напряженность в России ослабли, но можно ли говорить, что страна
застрахована от их нового подъема? Я уже приводил примеры того, как недальновидные
политические действия, не учитывающие тенденции этнополитических процессов,
способны оживлять этнический сепаратизм. Существуют и другие факторы ухудшения
этнополитической ситуации.
Перспективы сохранения целостности России многие аналитики связывают с
особенностями ее этнического состава. Российская Федерация в отличие от СССР в целом
достаточно однородна в этническом отношении: русские составляют свыше 80% населения
Федерации,
и
численно
преобладают
в
большинстве
ее
республик.
Однако
демографическая ситуация меняется, и уже более сорока лет доля русского и в целом
славянского населения России сокращается, а удельный вес представителей
народов,
которые условно можно объединить в одну статистическую группу и определить как
233
«исламские народы» - быстро растет.418 Особенно заметны перемены в этническом составе
отдельных регионов.
Русские уже сегодня являются этническим меньшинством в подавляющем
большинстве республик Северного Кавказа (за исключением республики Адыгеи). Процесс
их оттока из этих республик начался еще в 1970-х годах, а вооруженные конфликты в
регионе и, особенно чеченская война 1994-1996 годов, сделала этот процесс необратимым.
Об этом можно судить по продолжающемуся оттоку русских не только из Чечни, но и из
большинства республик региона. Из Дагестана в 1997-1998 гг. уезжало в год по 3-4 тыс.
русского населения. Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария были
республиками с отрицательным сальдо русских мигрантов при положительном сальдо
миграции представителей титульной национальности, в Карачаево-Черкесии доля
выбывших русских во много раз превосходила долю выбывших мигрантов титульной
национальности.419
Похожая миграционная ситуация сложилась и в республиках Сибири: в Саха
(Якутия), Туве и Бурятии. Но в Якутии и Бурятии главным стимулом миграции русских
выступают преимущественно экономические проблемы: закрытие предприятий, где они
работали, прекращение выплат северных надбавок к зарплате и лишение рабочих иных
льгот, длительные невыплаты зарплат и др. Тогда как в Туве, отток русского населения был
вызван не только неблагоприятной экономической ситуацией (прежде всего массовой
безработицей), но и усложняющимися межэтническими отношениями. Только после
межгруппового конфликта русских и тувинцев 1990 г. из Тувы выехало 10 тыс. русских.
В республиках Сибири, русские сейчас в меньшинстве только в Тувинской
республике, но их доля уменьшается также в Бурятии и в Якутии.
В республиках Поволжья, русские по переписи 1989 г., составляли меньшинство в
Чувашской республике. В Башкортостане 1989 они составляли 42% населения и были
численно наибольшей группой, хотя и уступали татарам и башкирам, вместе взятым.
Тенденция уменьшения доли русских в этой республике стала заметной уже по данным
микропереписи 1994 г. и, судя по сложившимся тенденциям, уже нынешняя перепись
укажет на утрату ими статуса даже относительно наибольшей этнической группы. В
Татарстане на протяжении 90-х неуклонно сокращалась доля русского населения на фоне
роста татарского, и уже перепись населения 2002 г., после подсчета ее результатов, скорее
См. Дмитрий Богоявленский. Этнический состав населения России // Население и общество №41, ноябрь
1999.
418
419
Демографический ежегодник России. М. 1999 г. С. 366-371
234
всего, укажет на то, что русские в этой республике могут составить менее половины
населения.
Если прогнозы дальнейшего уменьшения доли русских на Северном Кавказе, в
Поволжье и в Сибири действительно сбудутся, то уже в ближайшие годы, русские будут
составлять меньшинство на значительной части территории Российской Федерации и, как
раз в тех зонах, в
которых население так называемых титульных национальностей
переживает период интенсивного роста этнического самосознания, сопровождающегося
усилением их региональной самоидентификации.
На Северном Кавказе, особенно в Чечне, межэтническое напряжение проявляло себя
уже с начала 90-х годов, но две чеченские кампании обострили их до предела. К этому
нужно добавить, что вторая Чеченская война, которая по своей длительности, числу жертв
и масштабам экономического ущерба превзошла первую, пока не привела (и вряд ли
приведет) к усмирению чеченского сепаратизма, но уже обострила проблему разделенного
лезгинского этноса, в связи с ужесточением пограничного режима с Азербайджаном;
проблему чеченцев-акинцев в Дагестане, в связи с концентрацией войск в зоне расселения
именно этой этнической группы. Таким образом, война в большей мере разрушает
Федерацию, чем существование мятежной республики. С началом второй чеченской войны
стала расти солидарность с чеченцами людей, которых иногда относят к, так называемым
«лицам кавказской национальности», т.е. -
большинства народов Северного Кавказа.
Многие из них, включая представителей этнических групп, которые традиционно не в ладах
с чеченцами, стали испытывать в городах России такое же давление, которое раньше
испытывали чеченцы, поскольку для ставропольских или ростовских милиционеров "все
они на одно лицо и все они, потенциальные террористы".
В республиках Сибири, в Якутии, Туве и Бурятии, в ходе этносоциологических
исследований 1990-х годов, была зафиксирована высокая солидаризация по этническому
принципу и более высокая, чем в других регионах (за исключением Северного Кавказа)
"готовность к любым действиям во имя интересов своего народа" Например, у якутов
чрезвычайно высоки показатели потребности в этнической консолидации (до 80 %), и одно
из наиболее сильно выраженных ощущений ущемления своих прав по этническому
принципу (до 20 %). Для сравнения, среди татар в Татарстане ощущения дискриминации
испытывают лишь 5 % опрошенных. 420 Все это дает основания говорить о высоком
потенциале негативной этнической консолидации у якутов. Однако это вовсе не
Приводятся данные, полученные в ходе реализации исследовательского проекта: "Этнические и
административные границы: факторы стабильности и конфликтности".1993-1999 гг.. Руководитель и автор
Проекта Л.М. Дробижева .
420
235
принималось во внимание федеральной властью, которая своими действиями, в том числе
и упоминавшимся вмешательством в президентские выборы в начале 2002,
лишь
взвинчивала накал этнополитической ситуации в регионе.
В Татарстане и Башкортостане, как уже отмечалось, сложилась сравнительно
благополучная и стабильная ситуация в сфере межэтнических отношений. Вместе с тем,
уже отмеченные действия федеральных властей, затрагивающие такие важнейшие
национальные символы как язык, способны изменить этнополитическую ситуацию в
республиках к худшему.
Параграф 2 Контуры модернистского проекта
Факторы, противостоящие угрозам этнополитической дезинтеграции. Описывая
механизм колебания этнополитического маятника в постсоветской России, я говорил не о
злом роке, воле судьбы, а об изменяющихся политических тенденциях, в немалой мере
зависящих
от
конкретных
политических
и
социально-экономических
стратегий,
выбираемых людьми. Следовательно, тенденции этнополитического развития нельзя
считать предопределенными. Угроза нового цикла этнических конфликтов, пока является
лишь гипотетической и, на мой взгляд, существуют возможности ее избежать. Нынешний
рост этнических страхов и усиление влияния негативных стереотипов среди этнического
большинства – это всего лишь массовые настроения, меняющиеся со временем в режиме
колебания маятника. Такие настроения всегда сопровождают времена, наступающие после
крутых политических перемен - в периоды застоя. В такие периоды политические элиты
предпочитают выстраивать бюрократические жестко иерархизированные конструкции и, в
том числе, занимаются конструированием иерархии этнических обществ, с главным
народом на ее вершине.
Совсем иначе ведут себя власти в периоды социально-экономического подъема и
усиления тенденций модернизации общества. В такие времена государственная политика
менее идеологизирована и более прагматична. Властям нужна консолидация этнических
общностей для совместного решения задач развития. Не случайно в период первых
пятилеток Сталин использовал лозунг «Дружба народов», а не «руководящий народ» или
«старший брат». Нет нужды углубляться в историю, чтобы подтвердить этот тезис.
В наши дни в ряде регионов России, власти активно содействуют межэтническому
сотрудничеству и противостоят этническому экстремизму. Как правило, это происходит в
тех промышленно развитых регионах, где наблюдается рост производства и связанный с
этим приток рабочей силы, а также сложились давние исторические традиции
межэтнического сотрудничества. Примером могут служить Астраханская и Оренбургская
236
области. И, наоборот, в преимущественно аграрных областях, ориентированных на
сохранение традиционной структуры производства, региональные власти активно
эксплуатируют и подстегивают рост этнических стереотипов.
Что особенно важно, в условиях стабильного развития (в отличие от периодов застоя)
этническая идентификация менее актуальна, чем иные: гражданская, профессиональная,
политическая и др. Само осознание этнических различий между «мы» и «они» в таких
условиях не воспринимается как несправедливость и тем более не служит причиной для
конфликтов.
В целом этнические страхи особенно велики в сферах, далеких от бытовой
повседневности рядового человека, в которых он мало разбирается – это геополитика,
международные дела, национальная безопасность. Здесь он доверяется экспертам, среди
которых сегодня часто встречаются люди, находящиеся в плену «теории заговоров». В
бытовой сфере страхов меньше. Не случайно люди чаще видят в представителях других
национальностей врагов государству, чем сами себе.
Развитие экономики, гражданского общества, становление федеративных отношений
и местного самоуправления – все это, безусловно, может содействовать нормализации
межэтнических отношений. Однако было бы глубочайшим заблуждением надеяться на то,
что модернизация, экономический подъем и «невидимая рука рынка», сами по себе
приведут
к
решению
межэтнических
проблем.
Такие
надежды
опровергаются
историческими уроками.
В Америке расизм процветал до середины 60-х, т.е. и в периоды экономического
развития. Он настолько глубоко проник во все поры общества, что даже в столице страны,
в Вашингтоне, в эти годы единственным местом, где черный и белый житель города могли
столкнуться, был городской железнодорожный вокзал. Только туда людей с разным цветом
кожи обязаны были пускать, во всех остальных местах действовала жесточайшая
сегрегация. Но общество осознало опасность поляризации населения, особенно в условиях
изменения соотношения между представителями разных рас и за 20-30 лет, буквально,
сотворило чудо. Сегодня число смешанных браков между представителями разных рас в
Америке растет; белые семьи усыновляют чернокожих детей, представительство
представителей разных рас на высших государственных должностях увеличивается год от
года. Но для обеспечения таких перемен в общественном сознании понадобились огромные
усилия властей и лидеров общественного мнения.
В
России есть определенные предпосылки для оптимизации отношений между
народами и культурами. Здесь нет ярко выраженных классовых различий между народами,
практически все этнические, расовые, конфессиональные группы (включая мигрантов)
237
владеют русским языком в объеме, достаточном для бытового взаимопонимания, в
обществе существует память и даже идеализация неких моделей гармоничных
межнациональных отношений (модели «интернационализма» и «Дружбы народов). Пусть
в реальности они были далеки от идеала, но уже то обстоятельство, что в сознании многих
людей есть представления о том, что народы могут жить в дружбе и мире само по себе
может содействовать развитию толерантности. Вместе с тем, в России для преодоления
расовых, этнических и религиозных фобий могут понадобиться неизмеримо большие
усилия, чем в Америке, хотя бы потому, что у нас нет ни полноценного рынка, ни настоящей
демократии, ни традиций уважения к либеральным ценностям, без которых невозможно
сформировать уважение к другим народам и культурам.
Еще важнее то, что те идеи, с помощью которых в Америке и во многих других
странах удалось, в значительной мере, погасить вспышки межкультурных конфликтов, в
России не получили широкой поддержки даже в элитарных слоях. В тех самых, которые
призваны вырабатывать программы (проекты) национального развития.
Этническая политика: модернистский проект.
Главной особенностью такого проекта, при всех возможных его вариациях, является
принцип добровольной осознанной интеграции этнополитических субъектов, в рамках
политической (гражданской) нации. Такая интеграция должна быть легитимизирована не
только юридически, но морально, а также привлекательна, в сравнении с не
интегрированным способом жизни. Интеграция может быть привлекательной, если она
повышает «жизненные шансы» (life-chances) людей и увеличивает совместные выгоды
сообществ и при этом не допускает сегрегации людей по этническим, расовым или
религиозным причинам. Это предполагает расширение возможностей использования
совместного культурного потенциала участников интеграционного процесса, при
сохранении и даже развитии, возрождении их регионального и культурного своеобразия.
В этой же связи, чрезвычайно важно учитывать следующие общие принципы
этнополитической интеграции. Во-первых -
принцип децентрализации власти и
автономизации регионов. Все современные концепции интеграции предусматривают
механизмы, не допускающие концентрацию власти у центрального правительства в
национальном государстве, как за счет горизонтального распределения власти между
различными ее ветвями, так и за счет вертикального ее распределения между центром и
регионами. Доминирующей тенденцией мирового развития сейчас является процесс
сосредоточения функций центрального правительства на решении узкого круга
фундаментальных задач и передаче все большего объема полномочий из центра
региональным органам власти и местному самоуправлению. Во вторых, принципы
238
«мультикультурализма» и «политической корректности», которые призваны исключить
саму угрозу проявления насильственной ассимиляции, растворения малочисленных
общностей в больших.
Эти общие принципы можно было бы дополнить рядом частных, вытекающих из
общей идеи этнополитической интеграции.421
Принцип гражданской национальной самоорганизации. Он предусматривает
создание
условий,
позволяющих
представителям
различных
национальностей
самостоятельно определять и реализовывать свои национально-культурные цели,
защищать свои права и свободы, представлять и отстаивать через общегосударственный
механизм власти свои интересы и развитие своей культуры, создавать свои политические
институты, а также ассоциации, общества и другие институты гражданского общества в
рамках действующего законодательства Российской Федерации и ее субъектов.
Важнейшим условием свободной национальной самоорганизации народов России является
расширение регионального суверенитета и местных полномочий, что делает институты
власти более близкими и более чувствительными к запросам различных этнических групп,
живущих в одном государстве. Вместе с тем, должна быть повышена ответственность
местных
руководителей
и
одновременно
снижена
возможность
переноса
ими
ответственности за свои ошибки на другие территориальные звенья управления. Это
повышает уровень доверия во взаимоотношениях федерального центра и регионов и
снижает вероятность возникновения на этой основе конфликтов, в том числе и
этнополитических.
Принцип национального патернализма состоит в обязанности властей обеспечивать
фактическое равенство, оказывая преимущественную поддержку наименее защищенным
этническим группам, которые в силу их малочисленности или проживания в экстремальных
условиях, либо в результате некоторых других исторических обстоятельств, обладают
меньшими по сравнению с остальным населением возможностями для самоорганизации,
саморазвития и самозащиты. Прежде всего, речь идет о так называемых «коренных
малочисленных народах».
Как уже отмечалось, в науке сложилось более десятка концепций этнополитической
интеграции. Эти концепции, при всем их различии не являются конкурирующими и
дополняют друг друга в некоторых аспектах. Вместе с тем, остается не мало теоретических
проблем интеграции, которые вызывают оживленные научные и политические дискуссии.
Поэтому, предлагая модель этнополитической интеграции в качестве ключевого звена
Эти принципы еще в 1994 г автор предлагал включить в первое послание Президента Федеральному
собранию и в сокращенном варианте они были использованы в тексте Послания.
421
239
модернистского проекта, нам придется очертить, хотя бы пунктиром,
проблемные,
дискуссионные зоны этой концепции.
«Политическая (гражданская) нация». Как уже отмечалось, именно эта такая
концепция нации сегодня доминирует в мировой науке, хотя и среди ее сторонников
сохраняется не мало разногласий. Даже сравнительно частный вопрос в этой дискуссии о
соотношении этнических и гражданских корней в генезисе политических наций, не имеет
однозначной трактовки в научном сообществе. Одни исследователи (например, И. Горовиц
и У. Коннор)422 полагают, что нации и государства выросли из этнических сообществ, тогда
как другие (Е.Геллнер), напротив, полагают, что государства породили нации.423 История
же показывают, что правы и те и другие, поскольку известны разные модели генезиса
национальных государств.
Одни нации создавались усилиями государств, которые силой стирали этнические и
региональные перегородки внутри страны (это модель «от государства к нации»), другие –
создавались усилием лидеров этнических общностей, разделенных государственными
границами, и в этом случае именно этническая солидарность стимулировала процессы
объединения неких территорий в новое единое государство и национальную консолидацию
его граждан (модель «от общности к нации»).
Как всегда ближе к истине исследователи, предлагающие синтетический подход,
включающий в качестве комплиментарных, казалось бы, конкурирующие идеи. По мнению
Э. Смита, каждая нация содержит в себе элементы, как гражданско-территориальной, так и
этнической (культурной)
общностей.424 Более того, в разные периоды истории
соотношение гражданских и этнических представлений о нации могут варьировать. Даже
во Франции, которая кажется воплощением гражданской концепции нации, еще
сравнительно недавно идея примата этничности, поддерживалось значительной частью
политической элиты, например, в период «дела Дрейфуса». Добавлю, что и в наше время в
этой стране, власти которой, казалось бы, хотят забыть об этничности, вычеркнув, ее не
только из официальных документов, но даже из статистики, немалая часть общества
поддерживает этнонационалиста Ле Пена.425
Как справедливо отмечает Э. Смит, гражданский подход к понятию «нация» редко
бывает естественной идеологией всего общества. В странах с развитыми демократическими
традициями ее, как правило, отстаивают правительства, политические элиты и этническое
422
Connor, W. Ethnonationalism: the Quest for Understanding. Princeton, 1994; Horowitz, J. Ethnic Politics and
U.S. Foreign Politics// Ethnicity and U.S. Foreign Politics.- N.Y.1981. P. 232-233.
423
Gellner Е. Nations аnd Nationalism. Oxford, 1983; Nairn T. Faces of Nationalism: Janus Revisited. L., 1997.
424
Smith A. Theories of Nationalism. // London. 1986. P.149
425
Этническая политика Франции уникальна. В этой стране не признается существование этнических
общностей – есть только граждане и в этом смысле все французы. Франция единственная из стран ЕС, не
подписала Рамочную конвенцию Совета Европы «О Защите Национальных Меньшинств» как, впрочем, и
других международных документов по этой проблеме, поскольку де во Франции нет национальных
меньшинств. Однако эта позиция не спасает страну ни от корсиканского сепаратизма, который все чаще
переходит к террористическим методам борьбы, ни от образования моноэтнических или монорасовых
анклавов, населенными мигрантами, ни от многомиллионной ( самой высокой в Западной Европе) поддержки
избирателями националистических партий.
240
большинство как политически доминирующий слой населения, но не всегда поддерживают
меньшинства. Их лидерам чаще присуща этническая трактовка нации, особенно в случаях,
когда возникает угроза самому существованию малочисленной общности, либо утраты ею
культурных символов, а также в случаях, когда возникает ощущение насильственного
удержания общности в составе государства. В современной России, в силу ряда
особенностей ее недавней истории, гражданскую концепцию «нации» сегодня не
поддерживают и идеологи, выступающие от имени этнического большинства и даже (что
совсем неестественно), представители федеральной власти, например, упомянутый
полпред президента Г. Полтавченко.
Так или иначе, в силу потенциальной конфликтности этнической и гражданской
концепций нации, почти в любом государстве возникает необходимость поддержания
национальной сплоченности, консолидации граждан и эта задача является одним из
важнейших элементов внутренней политики. В современном мире не только геноцид (т.е.
целенаправленное истребление
этнических общностей), но и их насильственная
ассимиляция, осуждаются мировым сообществом, и признаются международным правом
как преступление против человечности. Уже, хотя бы, по этой причине у государств,
стремящихся не быть изгоями в мировом сообществе, фактически складываются более или
менее сходные принципы поддержания национального мира.
Международное право, безусловно, исходит из принципа гражданской нации,
поскольку, закрепляет право на национальное самоопределение не за этническими, а за
территориально-гражданскими общностями. Доктрины государств, в которых сложился
режим, основанный на политическом плюрализме, также, в явной или не явной форме,
трактуют понятие нации, прежде всего, как гражданского сообщества. Во всяком случае, в
конституциях таких государств отмечается, что источником власти выступает весь
полиэтнический народ данной страны, все граждане независимо от их расы, религии и
этнической принадлежности. Ни одной этнической общности не предоставляется
исключительное или преобладающее
право контроля над ресурсами и территорией.
Признавая справедливость этих норм, хочу, тем не менее, заметить, что в рамках концепции
этнополитической интеграции было бы неверно полностью отождествлять нацию с
гражданством. На мой взгляд, нация это самоопределяющаяся общность, основанная как
на гражданстве, так и на моральной, культурно-ценностной сплоченности ее членов, что
предполагает сознательное самоопределение индивида, его идентификацию с нацией.
Минимальный уровень такой сплоченности подразумевает лояльность не только законам,
но и моральным нормам и базовым ценностям общества. Еще Эрнест Ренан отмечал, что
«нация – это повседневный плебисцит», которые жители страны проводят по отношению к
241
государству, признавая или не признавая его действия справедливыми, отвечающими их
интересам, поэтому имперские государства, несмотря на все их усилия, не смогли сплотить
населяющие их народы в единую нацию.426
И в современном мире реальна ситуация, когда индивид или группы, оставаясь
гражданами страны, не идентифицируют себя со сложившейся в ней нацией. Например, в
некоторых демократических странах мира (в Англии, в Канаде, в некоторых штатах США)
открыто, на законных основаниях, действуют партии и организации, провозглашающие
идеи сепаратизма и, отстаивающие
этнически
специфичных
право неких территориально локализованных и
общностей
государственно-политических
на
условиях.427
национальную
В
тех
консолидацию
случаях,
когда
в
других
большинство
представителей некой этно-территориальной общности настаивают на создании нового
государства, могут оказаться нецелесообразными не только попытки их насильственного
удержания в стране, но и меры, поощряющие их добровольную интеграцию в некое
национальное сообщество. Скажем, палестинская автономия до сих пор признается
мировым сообществом частью государства, а ее жители формально являются гражданами
Израиля. Однако, несомненно, большинство палестинцев не считают себя частью
израильской нации, да и большинство израильтян не признает их таковыми. И
правительство этого государства, и большая часть израильского общества согласились с
возможность выделения палестинской автономии в отдельное государство и выдвигают
лишь одно условие для этого террористов
обеспечение безопасности Израиля от нападения
с территории Палестины. Не исключено (хотя и не обязательно), что
подобным же образом могут развиваться события, связанные с проблемой Чечни в
Российской Федерации.
В тех случаях, когда противоречия между этнической и гражданской идентификацией
не заходят так далеко, как в Израиле, а взаимоотношения между государством и
этническими (конфессиональными и др.) общностями не отягощены многолетним
вооруженным конфликтом, задачи поддержания, развития или формирования
национальной консолидации на гражданской основе вполне разрешимы. Такие задачи
можно даже считать рутинными для многих государств, особенно для тех, в которых ядро
этнических меньшинств сложилось не в результате их миграции, а вследствие длительной
исторической колонизации этнических территорий.
Как показывают исторический опыт и современная практика демократических
государств, в качестве основного средства устранения или ослабления подобных
Renan E. Qu’est-ce qu’une Nation? Discours et conferences par Ernest Renan. Pars.1987
Разумеется, в данном случае речь идет только о цивилизованных формах национального самоопределения
посредствам выборов или референдумов.
426
427
242
конфликтов (особенно на латентных его стадиях) выступает не сила, не административное
принуждение и даже не столько пропаганда и просвещение, сколько социальноэкономические меры, повышающие привлекательность гражданской интеграции по
сравнению с этническим изоляционизмом и сепаратизмом.
Чаще всего выделяются следующие преимущества интеграции для индивидов и
общностей:
- рост экономических выгод и возможностей, в результате возрастания
экономических связей, кооперации, реализации совместных экономических программ;
- повышение уровня защищенности и безопасности (как от внешних, так и от
внутренних угроз) на основе коллективных усилий за счет создания системы
предупреждения, предотвращения и урегулирования этнополитических конфликтов;
усиления роли и повышения эффективности деятельности общенациональной системы
защиты прав человека;
- увеличение возможностей для социальной и территориальной мобильности людей и
устранение барьеров для движения товаров, услуг, информации;
- возрастание возможностей для политической самореализации всех участников
сообщества, прежде всего для региональных элит за счет сближения этнических элит,
обеспечение их взаимодействия; формирование и развитие политических институтов для
координации этнополитических процессов;
- повышение взаимного доверия всех участников интеграции и рост предсказуемости
их поведения за счет сближения ценностей представителей разных национальностей и
формирование общих норм жизнедеятельности в процессе роста значимости
общегражданской идентичности.
Существует множество характеристик этнополитической интеграции, но одна из
наиболее точных, на мой взгляд, принадлежит Дж. Ротшильду, который дает ее
определение через выделение нескольких уровней интеграции: а)
политический -
признание разными этническими группами общества легитимности всей политической
системы, в которую они уже включены или хотят включиться; б) социальнопсихологический - связанный с осознанием выгод от совместного проживания в единой
системе, как правило, внутри государства; в) культурологический – как взаимная
культурная адаптация участников интеграционного процесса, хотя и требующая разных
усилий со стороны этнического большинства и меньшинств .428
В качестве конкретных форм этнополитической интеграции могут выступать: а)
федеративное устройство; б) автономии в рамках унитарного государства, например,
автономии в королевстве Испания;
в) экстерриториальные культурные автономии,
предусмотренные, например, российским законодательством или законодательством
428
Rotshild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework. N.Y. 1981. P.108-109.
243
Венгрии для меньшинств;429 г) другие формы этнокультурной и политической
самоорганизации различных этнических общностей.
Как правило, эти формы не
конкурируют, а дополняют друга, при этом федерализм становится все более
распространенной формой территориальной организации жизни этнически специфичных
сообществ в рамках национальных государств.
Децентрализация власти и автономизация регионов. Рост экономической,
политической и административной самостоятельности регионов и ячеек местного
самоуправления привел к тому, что на Западе все заметнее становится процесс
взаимопроникновения,
гибридизации
двух
основных
и,
как
казалось
ранее,
взаимоисключающих форм государственного устройства: унитарной и федеративной.
Точнее было бы сказать, что ныне в западной Европе, провозгласившей принцип «Европа
регионов», унитарных государств, в классическом смысле этого понятия, просто не
осталось. Сравним, например, Германию - федеративную республику и Испанию, которая
формально является унитарной монархией (более точное определение, которое используют
сами испанцы: «парламентская монархия - государство автономий»), но фактически
уровень федерализации Испании не ниже, чем Германии. Более того, система испанских
автономий
напоминает
собой
особый
тип
федераций
–
этнических
(или
этнолингвистических), подобных Швейцарской. Автономии Испании не только имеют
собственные законодательные органы и правительства, но и обладают правом
использования в качестве официальных языков как испанского (на основе кастильского),
так и языков титульных национальностей регионов – баскского, каталонского,
галисийского и других, на которых говорит около 1/3 населения страны. Разумеется,
каталонцы или баски живут не только в соответствующих регионах, также как, например,
в Российской Федерации татары живут не только в Татарстане, но осознавая это, испанские
политики и ученые-эксперты, в отличие от своих российских коллег
сомнение
необходимость
предоставления
права
на
сохранение
не ставят под
этнокультурного
своеобразия народам в местах их компактного проживания, справедливо полагая, что от
этого выигрывают все представители данной этнической общности (как баски) или
этнографической (как каталонцы). Художественная литература и учебники, кинофильмы и
компьютерные игры издаваемые, производимые, скажем, в Бильбао на баскском языке или
в Барселоне на каталонском доступны представителям соответствующих групп во всей
Испании. Точно так же, как и произведения татарской этнической культуры, созданные в
Казани, доступны татарам России и всего мира.
Элементы ( этнической) автономии
429
New Diasporas in Hungary, Russia and Ukraine: legal regulation and current politics. Ed.Illona Kisssand
Catherine McGovern //Open Sosiety Institute &Constitutional and Legal Policy Institute. Budapest, Hungary 2000
244
возникают практически всегда в местах компактного проживания групп, исторически
сформировавшихся на данной территории (т.е. автохтонных, не иммигрантских групп).
Сегодня такие автономии существуют во многих государствах Европы, включая унитарную
(не федеративную) Финляндию.
Характерно, что не только на Западе, но и во многих других станах, трудно найти
примеры того мистического ужаса перед этническими элементами в федеративных
отношениях, который в последние годы становится все заметнее в России. Подобные
настроения проявились и в ходе уже упоминавшихся ситуационных анализов в фонде
«Либеральная миссия». Некоторые из его участников выражали следующие сомнения в
целесообразности сохранения элементов этнической федерации в России: во-первых, по их
мнению,
этнические
асимметричность
федерации
порождают
сепаратизм;
во-вторых,
создают
государственного
устройства,
поскольку
республики
обладают
некоторыми правами, которых лишены края и области, в-третьих, затрудняют развитие
гражданского общества и, в-четвертых, вообще недостойны особого внимания, поскольку
охватывают не более 12-15% населения страны.
С большей частью этих аргументов я не согласен. Начну с проблемы сепаратизма,
который, на мой взгляд, не имеет прямого отношения к типу государственного устройства
и проявляется в унитарных государствах еще чаще, чем в федеративных. Так, за
независимость боролась Польша в Российской империи и Эритрея в Эфиопии, сепаратизм
прогрессирует в Шотландии или на Корсике, и во всех случаях мы говорим о территориях,
которые не являются частями федеративных государств. Вместе с тем сепаратизм
совершенно не заметен в современной Швейцарии – одной из старейших федераций в мире,
субъекты которой (кантоны) выделены по этнолингвистическому принципу. Появление
сепаратизма обусловлено большой совокупностью факторов, главным из которых, на мой
взгляд, являются, накопление в исторической памяти
народов травм, связанных с
воспоминаниями или актуальными ощущениями насильственного характера удержания
меньшинств в составе многонационального государства. Сепаратизм может принять форму
насильственных действий («национально-освободительных» войн) при наличии в
общности политических активистов, актуализирующих память об исторических обидах
народа, формирующих программу действий «борцов за независимость». В унитарном
государстве такие предпосылки практически всегда приводят к вооруженным конфликтам,
а в федеративном - повышение уровня автономии может частично или даже полностью
погасить сепаратизм, однако бывают ситуации, когда
возможностей автономии уже
недостаточно для того, чтобы остановить инерцию сепаратизма, поэтому федерализм не
всегда способен воспрепятствовать развитию сепаратистских тенденций. Вместе с тем не
245
имеют никаких исторических оснований утверждения о том, что сам по себе федерализм
(включая и такую его разновидность как этнические федерации), провоцирует
сепаратистские настроения. В то же время, можно с уверенностью утверждать, что
необоснованный отказ от федеративного устройства, скажем, произвольное упразднение
автономии или понижение ее статуса сверху, решением только центрального
правительства, во всех известных исторических случаях неизбежно приводил к
вооруженным конфликтам. Самые известные примеры такого развития событий
демонстрирует недавняя история Нагорного Карабаха, Южной Осетии, Косова. И в этом
смысле популярные у некоторых партий, особенно у ЛДПР, идеи всеобщей губернизации
страны не только беспочвенны по своему обоснованию, но и чрезвычайно опасны.
Тотальная губернизация уже была в Российской истории, однако она не погасило
накопления недовольства этнических меньшинств на национальных окраинах империи.
«Ибо, - как пишет историк – Польша оставалась Польшей, Литва Литвой, назови ее хоть
Виленской губернией».430
Асимметричность нашей федерации, сегодня многих пугающая, на мой взгляд, не
составляет реальной проблемы, поскольку для федераций такой принцип построения
является скорее правилом, чем исключением. При этом асимметричными могут быть как
этнические, так и сугубо территориальные федерации. Примером может служить ФРГ, в
составе которой Бавария и Саксония имеют особый статус, получили права на
самостоятельные международные действия и в своих конституциях именуются не землями,
как другие субъекты федерации, а государствами.431 Асимметричность такой федерации как
США определяется не только наличием в ее составе свободно присоединившейся
территории Пуэрто-Рико, но и особым статусом штата Луизиана, исторически
сохранившим право на свободный выход из федерации (другие штаты подобным правом не
обладают). В Канаде особый статус имеет не только франкоязычный Квебек, но и
англоязычный штат Онтарио. Эти и множество других примеров показывают, что
асимметрия федерации сама по себе не ослабляет ее интегративные возможности и
зачастую позволяет снимать определенные противоречия между федерацией ее
отдельными регионами.
В чем же проявляются этнические аспекты федерализма в России? Суть их мы можем
понять, если проследим генезис таких специфических территориальных образований, как
республики и округа. Они были созданы как механизм этнической, этнокультурной
Там же. С.122.
Подробнее см. .Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской
России.// Москва: Центр общечеловеческих ценностей. 2003. С.148
430
431
246
самозащиты определенной части этнических сообществ, а именно - территориально
локализованных групп этноса, сохранивших свои исторические ареалы и этнические
границы, и эту функцию этнические автономии выполняют до сих пор. Уровень
демографического воспроизводства одних и тех же этнических групп внутри республик,
как правило, выше, чем за их пределами.432 Что касается сохранения национального языка
и культурных норм, то здесь преимущества национальных автономий не вызывает
сомнений. И дело даже не в том, сколько денег выделяют власти республик, скажем, на
национальные школы, вполне вероятно, что Оренбургская область выделяет на татарские
школы больше денег в расчете на одного татарского жителя, чем Татарстан. Однако в силу
многих обстоятельств, прежде всего, концентрации носителей этнической культуры,
сохранения элементов традиционной культурной среды, престижности национальной
культуры и других факторов, реальная степень сохранности этнокультурных компонент в
республике, естественно, выше. Для этнических общностей проживающих за пределами
автономий или не имеющих таковых вовсе, мировая практика и законодательство России
предусматривают другие формы культурной самореализации – экстерриториальные
культурные автономии. Они, как справедливо отмечает А.В. Тишков, не заменяют, а
дополняют этнофедеративные отношения.433 Тот факт, что лишь менее половины
нерусских народов проживает на территории тех или иных форм автономий, не может
поставить под сомнение саму необходимость сохранения сложившейся системы
федеративных отношений. Да это малая часть населения России, но одна из самых
проблемных и как гласит закон Либиха, общая устойчивость системы определяется
устойчивостью слабейшего ее звена. В этом смысле пример Чечни очень показателен.
Главное же, что в России уже есть территориально концентрированные группы, у них уже
есть свои автономии и всякий знает, что терять значительно сложнее, чем не получить того,
что ты хочешь. Поэтому попытки радикальной смены принципов национальногосударственного устройства, связанные с пересмотром конституции и отменой
предусмотренных ею таких форм административно-территориальных образований, как
республики и автономные округа, чрезвычайно опасны. Негативные последствия таких
реформ очевидны, а возможные выгоды весьма сомнительны. Мировой опыт показывает,
что урегулирования противоречий между этническими автономиями и центральным
правительством или между разными субъектами федерации легче достигнуть не за счет
повышения жесткости конструкции государственного устройства, а наоборот – за счет
Белозеров В.С.Формирование диаспор Северного Кавказа //. Вопросы географии и геоэкологии.
Материалы научной конференции "Университетская наука - региону" апрель, 1999, Ставрополь. 1999, с. 42.
433
Тишков. В.А.Этнология и политика. М: «Наука» С.45-46
432
247
повышения ее гибкости. Это же демонстрирует и недавний опыт России. В период, который
можно назвать инерцией распада СССР, распространившейся и на Российскую Федерацию,
российские власти стали использовать договоры между центрами и регионами как
механизм согласования их интересов. Эта идея родилась спонтанно и ее инициаторы,
вероятно, даже не подозревали, что во многих странах, которые не зря называют себя
федеративными, действуют некие похожие механизмы. Многие западные теоретики
полагают даже, что федерализм – это не столько раз и навсегда установленный законом
порядок распределения ответственности между центром и регионами, сколько механизм
согласования интересов. Один из классиков канадского федерализма сенатор Юджин
Форси говорит: «Канадский федерализм – это, прежде всего, дебаты».434 На том же
принципе строятся взаимоотношения автономий и центра в Испании. Здесь главную роль в
механизме согласования интересов играет Конституционный суд. И устойчивость
швейцарской федерации сохраняется тоже, благодаря действию системы механизмов
согласования интересов федерации и кантонов. Разумеется, канадские, испанские и
швейцарские механизмы согласования интересов центра и субъектов федерации
отличаются от тех, которые были изобретены при Ельцине, прежде всего тем, что
упорядочены и формализованы. Ведь при Ельцине договоры скорее напоминали сговор
одного барина, столичного, с другими - региональными и со временем в России все больше
ощущалась необходимость такого же, как в Западной Европе, демократического
упорядочения форм взаимоотношений центра и регионов. Вместо этого систему
согласования интересов просто разрушили в ходе строительства «вертикали власти».
Однако требования реальной политики заставляют возвращаться к изобретениям времен
Ельцина. Как ни критиковали представители администрации Путина идею договоров о
разграничении полномочий между центром и регионами, но сами стали готовить подобный
договор для урегулирования отношений с Чечней. Напомню, что и во времена Ельцина
идея подобных договоров родилась в подобной же ситуации и, прежде всего, для решения
чеченской проблемы.
Этнические федерации не идеальная форма государственного устройства. Главный их
недостаток состоит в том, что в пределах
воспроизведение
неравных
отношений
национальных республик возможно
между
этническим
большинством
и
меньшинствами. Однако, осознавая теоретическую возможность возникновения такой
проблемы, следует все же конкретизировать зону ее вероятного проявления. Дело в том,
что этнополитические ситуации в разных республиках сильно отличаются друг от друга.
Цит по.Тишков. В.А Proet et Contra этнического федерализма в России. //Федерализм в Росси. Казань
2001. С.24-25.
434
248
Как справедливо отмечает В Тишков: «В ряде республик (Алтай, Бурятия, Карелия, Коми,
Мари Эл, Мордовия, Удмуртия, Хакасия) в силу разных причин… представители титульной
национальности никак не могут быть отнесены к разряду правящих. Руководство этих
республик, а также состав правящих структур, в том числе и выборных, не носят
моноэтнического характера и не построены по принципу этнической избирательности.»435
Руководителями большинства из этих республик являются русские, и в некоторых из них,
например, в Удмуртии и в республике Алтай имеет место недостаточное представительство
как раз титульных национальностей в составе республиканской политической элиты.
Далее, сам факт занятия высоких должностей представителями той или иной
национальности, не может служить основанием для утверждения, что эти люди действуют
в интересах «своей» этнической группы. Даже в самых скандальных изданиях «желтой
прессы» мне не встречались упоминания того, что, скажем, Э. Россель отдает преимущества
немцам, А. Тулеев – казахам, а Н. Федоров – чувашам. Вместе с тем, для того, чтобы в
принципе не допустить возможность формирования этнократических кланов, важна не
столько пропорциональность представительства разных этнических групп в составе
политической элиты, сколько относительная деактуализация этнических форм интеграции,
по сравнению с объединениями, создающимися на гражданской основе. И перспективы для
этого в большинстве российских республик ничуть не меньше, чем в краях и областях. Во
всяком случае, нынешний уровень развития гражданских институтов в Чувашии или в
Татарии, ничуть не меньше, чем в Краснодарском крае или в Ульяновской области. В целом
распространенные ныне представления о том, что этническая форма федерации
препятствует развитию гражданского общества, как правило, не подкрепляется серьезными
аргументами и является обычным мифом. Многие проблемы этнических федераций просто
мистифицированы экспертами, особенно теми, кто занимается подобными сюжетами,
походя, в перерыве между занятиями иными делами. Впрочем, существует и историческая
обусловленность того, что некая проблема обрастает мифами. Так, в начале прошлого века
у многих мыслителей существовало убеждение, что монархия не совместима с
демократией. Однако ныне исторический опыт показывает, что такие королевства как
Швеция или Дания, не уступают по уровню демократичности республикам, например,
Италии или Греции и уж во всяком случае - республике Туркмения. Во всех названых
случаях монархия перестала быть реальным самодержавием (авторитарной властью) и
сохраняется, в основном, как дань культурной традиции, как некая декоративная форма. В
перспективе,
435
не исключено, что и нынешние, содержательные различия между
Тишков. В.А. Этнология и политика. М: «Наука» С.151
249
республиками, краями и областями России сгладятся, останутся лишь сами эти названия
как формальная культурная оболочка и, одновременно, как важный для живущих здесь
народов символ сохранения культурной традиции.
Беру на себя смелость утверждать, что совершенствование федеративных отношений
в России не требует радикальной ломки сложившихся форм. Необходимо лишь полнее
адаптировать их к обслуживанию как этнокультурных, так и общегражданских задач
развития российского общества. И подобный подход может быть реализован в
модернистском проекте этнополитической интеграции. Думаю, что этот процесс должен
развиваться поэтапно, а преобразования необходимо осуществлять как можно более
деликатно с учетом баланса интересов разных этнических общностей. В этом случае первая
фаза интеграции могла бы состоять в достраивании каркаса единых связей и отношений в
рамках федерации при сохранении нынешней специфики ее субъектов, а в последующем
интеграционный процесс все больше перемещался бы на внутриклеточный уровень,
сосредоточиваясь на усилении гражданской самоорганизации региональных общностей.
Этнополитическая интеграция это не состояние, а процесс, который необходимо
постоянно поддерживать, прежде всего, за счет расширения возможностей для
самореализции индивидов и общностей. Интеграция должна охватывать разные сферы
жизнедеятельности людей и общества, при этом, интеграция в одних сферах неизбежно
стимулирует аналогичные тенденции в других. Так, социально-политическая интеграция
активизирует интеграцию в ценностно-нормативной сфере, которая, в свою очередь,
стимулирует развитие всего интеграционного процесса. Интеграция во внешней политике
благотворно сказывается на интеграционных процессах во внутренней политике.
Например, в Болгарии долго весьма болезненной оставалась проблема турецкого
меньшинства, в Румынии – венгерского, а к Венгрии предъявляли претензии почти все ее
соседи за ее, скажем так, «чрезмерно активный» подход к защите своих соотечественников
за рубежом. Однако когда эти государства поставили себе цель интеграции в Европейское
сообщество, они, стремясь соответствовать обязательным нормам, принятым в Сообществе,
довольно быстро и успешно, продвинулись в решении проблем национальных меньшинств
в своих странах и в изменении политики по отношению к своим зарубежным
соотечественникам.
В числе требований, которые предъявляет ЕС для своих членов, выступают и
принципы мультикультурализма и политической корректности.
Мультикультурализм – это совсем свежая концепция, которая вошла в научный
оборот лишь в конце 80-х годов и уже в силу своей молодости пока не имеет серьезной
теоретической основы. Сам этот термин крайне не определен, хотя и употребляется
чрезвычайно широко и последнее время все более часто во многих странах мира.436 Даже
правительства тех стран, которые провозгласили мультикультурализм в качестве
См. например Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. Под ред. В.С.Малахова и
В.А.Тишкова. РАН. Институт этнологии и антропологии. Институт философии. Москва.2002.
436
250
официальной политики (Канада и Австралия) существенно не прояснили специфические
черты этого концепта. В обоих случаях он используется сугубо инструментально: в Канаде
– в качестве инструмента урегулирования отношений между франкофонами Квебека и
англоязычным большинством остальных провинций, а в Австралии - для привлечения
иммигрантов, поток, который к началу 1970-х годов сильно уменьшился, что повлекло за
собой неблагоприятные последствия для экономической и демографической ситуации в
стране. Тем не менее, при всей теоретической неопределенности этого концепта, его
популярность заложена в основном постулате, признающим самоценность культурного
разнообразия страны (региона, всего мира)
и принципиальную невозможность
(недопустимость) ранжирования культур (в том числе этнических) по принципу: «низшая»
- «высшая»; «главная» - «второстепенная» или «государствообразующая» - «прочие».
Опыт последних десятилетий доказал несостоятельность как советской, так и многих
западных этнополитических доктрин, постулировавших стирание этнических различий и
затухание этнического самосознания народов под воздействием индустриализации,
урбанизации и глобализации. Напротив, этническое самосознание лишь обостряется в
результате сопротивления указанным унификационным тенденциям. Вместе с тем, оно
возрастает также под влиянием демократизации общества, при увеличении возможности
свободного волеизъявления граждан.
Этнические общности, как впрочем, и любые другие социальные и культурные,
конечно же, нельзя отождествлять с биологическими организмами, однако они имеют свои
внутренние
механизмы
функционирования.
Это,
прежде
всего,
коллективные
представления, пусть даже, во многом и мифологизированные, а именно: историческая
память как комплекс значимых исторических и культурных событий, воспринимаемых как
символы истории народа; общая «историческая территория» или память о ней как о родине
(прародине); один или несколько элементов общей культуры, чаще всего это язык и
некоторые культурные традиции; та или иная мера этнической солидарности, которая
может быть использована для политической мобилизации и, конечно же, общее
самоназвание, как самое устойчивое в комплексе культурных свойств. 437 Весь этот
комплекс свойств или их часть, обеспечивает возможность поддержания этнической
самоидентификации (самоопределения) как индивида в группе, так и одной этнической
общности по отношению к другим. Изменения характера отношений между группами, в
свою очередь, ведет к изменению этнических свойств, выступающих в качестве маркеров
этнических границ. Этнические свойства, безусловно, пластичны и в предыдущих главах я
подчеркивал неизбежность их исторических изменений. Вместе с тем, я считаю, сам
феномен этничности весьма устойчивым и полагаю крайне маловероятным возможность в
437
Smith A. Theories of Nationalism. // London. 1986.рнг
251
обозримом будущем полной деэтнизации как человека, так и человечества. То, что часто
называют утратой этничности, на самом деле, обычно, сводится лишь к сжатию поля
культурных свойств, либо к перемене этнической самоидентификации, реже - к ее
усложнению за счет формирования множественной этнической идентичности, а чаще всего
связано с относительной деактуализацией этничности, по сравнению с другими формами
идентификации, такими как гражданская, профессиональная, политическая и .т.д. Однако
и в этом случае, какие-то элементы этничности сохраняются, хотя бы потому, что люди в
своей повседневности мыслят и говорят на каком-либо этническом языке, а не на
искусственном эсперанто. Язык же это не только средство коммуникации, но и система
смыслов, всегда имеющих и некую этническую окраску.
В современных же условиях России можно говорить не только о высокой
сохранности этнического самосознания, но и настоящем буме этнического самосознания.
Одним из следствий его роста является политическая активизация этнических элит,
увеличение числа общественных и политических организаций, инициативных групп,
выдвигающих
от
имени
народов
политические
требования
и
формулирующих
политические лозунги или программы. Этот процесс развивается в России под
воздействием как общемировых тенденций, так и ряда специфических обстоятельств. Из
последних наиболее существенным является эффект «цепной реакции», когда политизация
этнических элит союзных республик бывшего СССР быстро перекинулась на элиты
российских автономий, а затем распространилась на другие этнические общности.
В России этот процесс оценивается негативно не только властями, но и значительной
частью экспертного сообщества. Здесь почти как догма утвердились два взаимосвязанных
представления: во-первых, что политизация этничности непременно ведет к политическому
экстремизму и, во вторых, что место этническому своеобразию есть только в традиционной
культуре, понимаемой крайне узко как создание ансамблей песни и танцев или проведение
культурных фестивалей. Между тем попытки «затолкнуть» этническую активность только
в сферу фольклора нигде в мире не увенчались успехом. Этничность нельзя отменить, а ее
политизацию нельзя (опасно) запрещать. Вместе этого ее можно направить в
цивилизованное русло. В большинстве демократических стран сложились этнические
организации, которые отстаивают интересы своих, членов и поддерживают на выборах те
или иные партии или кандидатов в сенаторы, в губернаторы или в президенты. В Америке,
например, стены офисов армянских и еврейских, мексиканских, итальянских, китайских и
прочих организаций буквально увешены портретами их лидеров, пожимающих руки
губернаторов, конгрессменов, сенаторов или даже президента страны. И в подавляющем
большинстве случаев политики сами ищут поддержки у таких организаций. Политизация
252
этничности сама по себе не боле опасна, чем
появление профессиональных,
конфессиональных, женских или молодежных организаций, ставящих перед собой некие
политические задачи. Развитие каждой
из них может привести к политическому
экстремизму, если их активность направлена на доказательство свой исключительности и
достижение неких преимущественных прав и привилегий. Однако эти же организации
могут
содействовать
становлению
и
развитию
гражданского
общества
если
сосредоточивают свою деятельность на решение общегражданских задач и развиваются в
рамках демократических норм.
В этой связи полезно опираться на идеи «политической корректности». Сам этот
термин
возник
давно,
во
всяком
случае,
задолго
до
появления
концепции
мультикультурализма, но сейчас, по характеру основного использования, может
рассматриваться как частный случай этой доктрины. Под политкоректностью в рамках
мультикультурного проекта понимают, прежде всего, система моральных предписаний
(иногда подкрепляемых некими институциональными нормами). Эти предписания
преследуют следующие цели: во-первых, порицают действия или высказывания, которые
могут быть восприняты как психологически травмирующие представителями иных
культур, во вторых, одобряют действия, направленные на привлечение и вовлечение
расовых, этнических и конфессиональных меньшинств в наиболее престижные сферы
жизнедеятельности (политику, бизнес, искусство и др.)
Подчеркиваю - политическая корректность предполагает, прежде всего, опору на
моральные культурные нормы, а не на правовые предписания. Никто, никакие законы не
предписывали президенту Клинтону или президенту Бушу включать в свои администрации
представителей разных рас, этнических и конфессиональных групп. Последние
американские президенты добиваются этого, исходя из сложившейся к настоящему
времени нормы политической культуры в Америке, а также из своих представлений о
политической целесообразности. В нынешних условиях эффективно управлять страной
может лишь администрация, отражающая культурное разнообразие общества. И несмотря
на то, что проблему этнического представительства нельзя абсолютизировать и не стоит
преувеличивать, президенты российских республик должны понимать, что
в целях
обеспечения благоприятного психологического климата в республиках и роста взаимного
доверия между народами, нельзя управлять республикой, не включая в ее руководство
заметного числа русских, составляющих в некоторых из названных регионов численно
наибольшую группу населения. Но одновременно и федеральной власти стоило бы
расширить представительство разных народов России в аппарате федеральных ведомств.
Примеры такого подхода демонстрируют не только западные страны, но и некоторые
253
полиэтнические
страны
Востока,
имеющие
солидные
традиции
политической
парламентской культуры. Показателен в этом отношении пример Индии, политическая
элита которой (объединение правящей партии "Бхаратия джаната парти" и большинства
оппозиционных партий, кроме левых сил) впервые в истории
этой страны добилась
избрания в качестве президента представителя исламского меньшинства Абдул Калама.
И в США и в Индии политическая корректность и политическая целесообразность
продиктовали
необходимость
добровольного
самоограничения
этнического
большинства в целях поддержания и усиления интегративных процессов.
Для объяснения сути этого принципа сошлюсь на пример, который часто приводит в
своих публикациях и публичных выступлениях В.Тишков. Ядром испанской гражданской
нации и этническим большинством страны являются кастильцы, которые не только не
требуют для себя каких-то преимущественных прав, не добиваются для себя автономии,
предлагая ее меньшинствам ( баскам, каталонцам и др.), но даже и от своего самоназвания
отказались в пользу общегражданской и, в этом смысле национальной, интеграции.
Подобный подход жизненно необходим и для России. Я далек от мысли предлагать русским
забыть о своем самоназвании и нужды такой нет. Как уже отмечалось, рост русского
этнического самосознания также можно было бы рассматривать как положительное
явление, если бы оно не сопровождалось увеличением страхом и фобий, а главное, так
называемым «эксклюзивным мышлением», выражающимся в одиозном лозунге: «Россия
для русских».
Неблагоприятное психологическое самочувствие этнического большинства его
неудовлетворенность, тревожность, ожидание угроз со стороны других нардов, в сочетании
с активной эксплуатацией этих настроений влиятельными политическими силами –
являются, на мой взгляд, главной из современных проблем этнической политики России.
Люди, называющие себя «защитниками» русского народа, чаще всего, как раз и заняты тем,
что с изощренностью разжигают реальные и мнимые обиды этнического большинства
страны. По сути, они занимаются формированием у большинства психологических
комплексов, присущих обычно меньшинствам. Реальное оздоровление этнополитической
обстановки в стране и улучшение психологического самочувствия русских людей может
быть обеспечено не за счет создания неких институциональных условий для защиты
большинства от меньшинств, а на путях формирование у большинства представлений о их
роли в этнополитической интеграции общества, той интеграции, в которой большинство
объективно заинтересовано в наибольшей мере и механизмов интеграции, в том числе и
необходимости создания климата доверия меньшинств к большинству. И здесь я хочу еще
раз вернуться к идее «государство образующий народ».
Неоднократно я высказывал свое крайне негативное отношение к этой идее, поскольку
она подразумевает юридическое закрепление за этнической общностью некоего особого
статуса в государстве, как это предусмотрено в проекте федерального закона «О русском
народе». Такой подход противоречит самому духу конституции страны и ее букве, а
254
главное, сразу же, при одной лишь постановке вопроса вызывает рост подозрительности
других народов. Вместе с тем, я поддерживаю (об этом также не раз говорилось и в это
работе) идею просвещения всего российского общества в духе осознания им объективно
наибольшей роли этнического большинства в процессе гражданской интеграции народов
России. Такая роль предполагает не присвоения этническому большинству особого статуса,
как ордена или другой награды, а наоборот – осознанного и добровольного отказа
представителей этнического большинства от части своих преимуществ, обусловленных
самой их численностью.
Речь идет не только о том, что большинству стоит потесниться в институтах
центральной власти, чтобы интегрировать во властную элиту представителей других
этнических групп, но и о необходимости затратить некие усилия в освоении культуры
братских народов. Так, в последние годы в России уменьшается доля русских, в
национальных республиках, которые владеют языком титульной национальности или хотят
его освоить.438 Это наряду с сокращением газет и книг на национальных языках,
национальных школ, создает у меньшинств ощущение возврата к советской политике
недобровольной русификации. И хотя многие из отмеченных процессов имеют другую
природу и вызваны, прежде всего, экономическими причинами (при общем сокращении
тиражей всех газет и книгоиздания в стране, больше всего пострадала пресса и
книгоиздания на национальных языках, при общем свертывания сети школ – национальные
школы, а миграционные процессы увеличили долю русских недавно переселившихся в
республики, не знакомых с ее культурой и т.п.), однако и политические решения
усугубляют эскалацию таких подозрений. Уже упоминавшийся закон, навязывающий
кирилицу в качестве графической основы всех языков народов России в практическом
отношении абсолютно не имеет смысла (русские, не знающие татарского языка не смогут
прочитать татарскую газету, даже написанную на кирилице), но как уже отмечалось резко
взвинтил этнополитическую ситуацию в ряде республик и недобрым воспоминанием
откладывается в исторической памяти. Принцип самоограничения большинства
предусматривает иную политику, когда федеральная власть требует от своих чиновников в
республиках обязательное знание языка титульных народов и поощряет, стимулирует
интерес русского населения республик к его изучению. Такая ориентация не только
увеличивает доверие к большинству со стороны меньшинств, но и служит для них
примером, побуждает к ответным действиям по самоограничению, необходимому для их
аккультурации. Трудно ожидать, что иноэтнические мигранты первыми откажутся от
привычных для них культурных традиций, если большинство не подаст пример
необходимого самоограничения.
См. Дробижва Л.М, Паин Э. А. Особенности этнополитических процессов и этнической политики в
современной России.// Политические и экономические преобразования в России и Украине. Отв. ред.
В.Смирнов. М.: «Три квадрата» С.242
438
255
В отечественной литературе и прессе о политике мультикультурализма и
политкорректности пишут в основном в негативных тонах.439 Такие публикации
переполнены примерами ошибок и перегибов в осуществлении этих программ в США и в
Европе. Действительно, программа мультикультурализма первоначально развивалась как
сугубо инструментальный и экспериментальный проект, т. е. методом проб и ошибок. Как
уже отмечалось, лишь недавно началось теоретическое осмысление таких программ и
можно не сомневаться, что это приведет к коррективам политической практики. Вместе с
тем, публикации в жанре описания «ошибок» и «вредного опыта», уже сейчас, в
значительной мере, дезинформируют российских читателей, многие из которых и сами
рады услышать что-то нехорошее про «них». Зачастую это форма самоутверждения: когда
не удается самоутвердится на основе своих достижений, то принижают чужие.
В чем же проявляется неадекватность подобных аналитических материалов?
Во-первых,
описание
«провалов»
(во
многом
мнимых)
политики
мультикультурализма, не сопровождается оценкой ее реальных успехов, а они весьма
впечатляющие. Например, в США до начала осуществления этого проекта, направленного,
прежде всего, на устранение расовых предрассудков, страна постоянно находились под
угрозой расовых волнений и бунтов, сопровождавшихся многочисленными жертвами и
большими разрушениями. В Вашингтоне, еще в 60-е годы, чуть ли ни в двух - трех
километрах от Белого дома, в результате бунтов и поджогов выгорали целые кварталы
жилых домов. Но вот уже почти 40 лет Америка не знает расовых беспорядков такого
масштаба.
Во-вторых,
авторы,
описывающие
негативные
стороны
политики
мультикультурализма, даже не задумываются над тем, что эта концепция является лишь
частью проекта этнополитической интеграции и выполняет в ней сравнительно скромную
функцию, а именно: обеспечивает климат доверия. Поэтому некоторые ее побочные
следствия, например, такие как понижение интереса какой-то части меньшинств к
аккультурации, вследствие получения ряда льгот, компенсируются другими механизмами.
Скажем, пожилые китайцы в чайнатаунах или пожилые евреи, выходцы из республик
бывшего СССР, на Брайтон бич, могут сегодня прожить в своих замкнутых кварталах, на
пособия, не обучаясь английскому языку и не предпринимая попыток интегрироваться в
американское общество. Однако статистика и наблюдения показывают, что молодежь
получившая в Америке образование и квалификацию, как правило, покидает эти районы и
переселяется в более престижные и с меньшим уровнем традиционного социального
контроля. Поэтому этнические районы и кварталы постоянно сжимаются. В Вашингтоне
439
Малахов. В. Зачем России мультикультурализм? // Мультикультурализм и трансформация
постсоветских обществ. Под ред. В.С.Малахова и В.А.Тишкова. РАН. Институт этнологии и антропологии.
Институт философии. Москва.2002. С.129
256
площадь однородных афро-американских кварталов уменьшилась в конце 90-х в несколько
раз. На Брайтоне остаются в основном старики или совсем недавние переселенцы. Быстро
изменяется расовый и этнический состав нью-йоркского Гарлема. К тому же на него с
разных сторон наступают кварталы престижной застройки. Этому способствует рост цены
на землю и снижение государственных программ на социальные пособия меньшинствам,
(особенно заметных с приходом к власти Дж. Буша), а также политика властей,
стремящихся не допускать добровольной сегрегации людей. Или другой пример: появление
в 80-х годах этнически или расово однородных учебных заведений, которые трудно
признать позитивным явлением. Однако и этот процесс сильно затормозился и, возможно
даже, пойдет вспять. Такие учебные заведения, имеют низкие рейтинги, их выпускники не
конкурентоспособны на рынке труда, и по мере сжатия этнически и расово однородных
районов получают все меньшие возможности для самореализации, поэтому расово
однородные
университеты
пользуются
все
меньшей
популярностью.
Все
это
свидетельствует о том, что насос интеграции действует сильнее тех факторов, которые
направлены на сохранение культурной замкнутости меньшинств. При этом, важнейшую
роль в сближении культур и ценностей членов общества выполняют механизмы
демонстрационного эффекта и социальной мобильности, подталкивающие меньшинства к
включению в жизнедеятельность открытого общества.
В России же замкнутость эмигрантских меньшинств возрастает и вовсе не в результате
добровольной сегрегации или сыплющейся на них государственных субсидий и других
благ.
Отмечаемый
практически
всеми
социологическими
исследованиями
рост
ксенофобии, приводит к нарастанию самой обычной, отнюдь не «позитивной»
дискриминации меньшинств.
При этом у нас практически полностью отсутствуют
механизмы компенсации социальных издержек этих негативных процессов. Федеральная
миграционная служба, занимавшаяся абсорбцией мигрантов, ликвидирована. Милицейские
органы,
попечительству которых
передана
миграционная
политика,
занимаются
свойственными им запретительно-ограничительными функциями. Рынок жилья дорожает,
трудности
натурализации
мигрантов
всех
национальностей,
включая
русских,
увеличиваются. В результате положение мигрантов ухудшается, мигрантофобия быстро
нарастает, а вероятность тех самых бунтов, от которых избавилась Америка – повышается.
Ж.А Зайнчковская, сравнивая положение мигрантов в Америке и в России отмечает,
что даже самая обездоленная часть мигрантов в США (сезонные работники на
сельскохозяйственных плантациях) имеют более приемлемые условия жизни, чем
квалифицированные рабочие в Москве. Она пишет : «Я видела как в Калифорнии живут
рабочие, приехавшие из латиноамериканских стран. Это просто сарай на сваях, но с
257
отдельным входом, эдакие конурки метров по двадцать, а под крышей стоит автомобиль,
это как бы гараж. Так и у нас, муниципалитеты должны строить дома гостиничного типа,
общежития, сдавать их в аренду предприятиям. Но у нас человек не может нормально снять
дешевое жилье, получить кров над головой. Допустим, троллейбусные парки Москвы, за
которыми мы ведем мониторинг...в общежитии была одна койка на двух шоферов – один
ездит, другой спит».440
Участники семинара, на котором выступала Ж..Зайончковская, были единодушны в
том, что при любых, даже самых жестких ограничениях миграции в Россию, ей ближайшие
годы не избежать нового притока мигрантов в объеме до 500 тыс. человек в год из стран
СНГ, поскольку основной причиной миграции, остается перепад в уровнях жизни между
Россией и другими странами Содружества. Потребности экономики требуют еще большего
объема мигрантов. По мнению Зайнчковской – свыше 600 тысяч в год при нынешнем
уровне экономического развития и до миллиона в случае наращивания темпов роста
производства. При этом неизбежно будет увеличиваться доля иноэтнических мигрантов. В
90-х годах до 80% мигрантов составляли русские, но постепенно демографические ресурсы
этой категории мигрантов исчерпываются, следовательно, в составе мигрантов будет
увеличиваться доля представителей народов Кавказа и Средней Азии.
Приток нескольких миллионов мигрантов в ближайшие годы может угрожать ростом
межэтнических конфликтов и общим ухудшением социальной обстановки в стране , если
власти, общество, включая, конечно, и представителей экспертного сообщества, не будут
готовы к восприятию идей мультикультурализма и не выработают не его основе программы
интеграции меньшинств в Российское общество. Выступавший на упомянутом семинаре
В.Мукомель,
отметил,
что
наибольший
рост
этнофобий
отмечен
в
наименее
урбанизированных областях Северного Кавказа (Ставропольский край, Краснодарский
край). «Происходит это не только потому, что эти регионы испытывали большой приток
мигрантов. В последние годы приток иноэтничных мигрантов идет в другие регионы – в
Поволжье, на юг Урала и на юг Западной Сибири. Но говорят больше об этих проблемах на
Северном Кавказе, именно потому, что здесь нет мультикультурных традиций»441
Столь же неэффективна и также далека от лучших мировых образцов и российская
политика по отношению к иной категории этнических меньшинств – представителей так
.Зайончковская. Ж Из стенограммы выступление на семинаре Фонда «Либеральная миссия»:
«Миграционная политика в контексте национальных проблем» Москва. 20.02.2003 г.
440
Мукомель. В. И. Из стенограммы выступление на семинаре Фонда «Либеральная миссия»:
«Миграционная политика в контексте национальных проблем» Москва. 20.02.2003 г.
441
258
называемых титульных народов (т.е. давших свое название) республик и автономных
округов.
Этапы реализации проекта этнополитической интеграции. Во всей совокупности
этнополитических проблем России лишь «чеченская проблема» в настоящее время носит
эксклюзивный характер и должна решаться исключительными методами, прежде всего,
политическими. Все прочие этнополитические проблемы могут быть урегулированы в
рамках единой программы.
Слом привычных стереотипов общественного сознания и утверждение новых идей,
таких
как
«добровольная
национальная
интеграция»,
«гражданская
нация
и
«мультикультурализм» - это сложный и длительный процесс для любой страны. Скорее
всего, в России утверждение нового этнополитического мышления может быть более
длительным и сложным, чем на Западе и потребует сравнительно продолжительного
времени. Впрочем, и в США ослабление расовых предрассудков заняло целую эпоху и
процесс этот происходил сложно, особенно на его начальных этапах.
Что же произошло в Америке? Почему те же законодательные акты, которые
десятилетиями не обращали внимания на расизм, вдруг стали инструментами борьбы с ним.
Те же судьи, которые спокойно взирали на вопиющие проявления сегрегации, сегодня
строго карают даже самые слабые проявления расовой некорректности. Кто-то может
сказать, что все началось с проявления политической воли лидера страны, президента
Дж.Кеннеди, который не побоялся обеспечить федеральную защиту конституционных прав
представителей разных расовых групп. Именно при нем студента негра Джеймса Меридита
сопровождал в университет отряд национальной гвардии. Однако Кеннеди пошел на это
тогда, когда твердо знал, что его действия получат поддержку избирателей самых
многонаселенных районов Америки, прежде всего, ее крупнейших индустриальных
центров, мегаполисов. Так, что же привело к росту толерантности белого протестантского
большинства, большинства американцев?
Решающую роль в сломе негативных стереотипов массового сознания сыграли
интеллектуалы - лидеры общественного мнения и, разумеется, стоявшие за ними
финансовые круги, владеющие средствами массовой информации. Именно они, осознав
опасность раскола общества, угрозу политической стабильности в государстве и всего, что
за этим последует, объявили настоящую информационную войну расизму. Получается, что
вначале интеллектуальная элита обеспечила культурно-ценностную перенастройку
общества, затем властная элита закрепила этот процесс институционально-нормативными
средствами, а массовые движения, институты гражданского общества превратили реформу
259
в норму общественной жизни, когда она перестала восприниматься как реформа,
превратившись в естественный самоорганизующийся процесс модернизации общества.
Указанная последовательность событий имеет, скорее всего, универсальный характер, во
всяком случае, для этнополитической сферы. Не случайно теоретики этнополитической
интеграции обычно выделяют три ее основных этапа: «этап интеллектуалов» - начало
интеграции, когда она поддерживается и продвигается преимущественно усилиями
интеллектуалов; «этап политиков» - вовлечение в интеграционные процессы политической
элиты, осознающей, что их действия будут признаны морально легитимными;
«этап
массовых движений» - обеспечение широкой массовой поддержки идеи и практики
интеграции.442 На первом этапе основным являются интеллектуально-информационные
ресурсы, на втором - институциональные, на третьем - ресурсы общественной активности,
самоорганизации.443
«Этап интеллектуалов». Он
обычно начинается с моральной легитимизации
национальной консолидации и конструирования образа "МЫ", т.е. с ответа на вопрос «Кто
мы и чего хотим?» Ныне суть этого вопроса связана с выбором между традиционалистским
и модернистским проектом развития России, а также с определением образа
«конституирующего иного».
Образ «они» всегда предшествует образу «мы»», поэтому
общность не может
сплотиться без представления о конституирующем ее «ином», т.е. о внешних вызовах.
Однако совсем не обязательно, чтобы этот «иной» выступал в негативном образе, не нужно
объединяться «против», можно объединяться «за». Например, за то, чтобы совместными
усилиями занять более достойное место в мировом сообществе. Однако в нынешних
условиях, когда внешеполитические вызовы беспокоят преимущественно элиту, а народ
заботят, в основном, внутренние проблемы страны, решающее значение для гражданской
интеграции и формирования гражданской нации имеет задача формирования образа «мы»
во внутренней политике. И здесь главное избавить этническое большинство от
навязываемого ему образа «народа-страдальца», которого все обижают, а власть должна
защитить. Этническое большинство должно осознать, что в гражданском государстве «мы»
большинства и есть власть, поэтому большинство не нуждается в чьей-то внешней защите,
и способно само защитить и себя и тех, кто слабее «нас», а, главное, в «наших» интересах
нужно проявить инициативу и возглавить процесс гражданской интеграции всех народов.
442
Deutsch K. Analysis of International Relations N.Y. 1968. P. 195-200.
Многие из мероприятий, которые мы в аналитических целях отнесли к разным этапам, на практике могут
осуществляться параллельно, поэтому понятие "этап" используется нами с определенной долей условности.
Вместе с тем, соблюдение общей последовательности выделенных стадий процесса интеграции необходимо.
Идея интеграции может быть легко дискредитирована без достаточной подготовки проводимых
мероприятий, особенно при имитации активности
443
260
В Советском союзе «Дружба народов», как бы ни привлекателен был этот лозунг, была не
более, чем кампанией властей, которая перемежалась с другими более увлекательными для
них программами по борьбе с «врагами народа». Реальная дружба, кооперация народов
может утвердиться лишь на основе движения снизу.
Одной из частных, но важных задач моральной легитимизации национальной
консолидации является утверждение ее базовых терминов. Прежде всего, в политическом
лексиконе, а затем и в массовой речи должно закрепиться единое название общности. Мало
вероятно, что в нынешних условиях чеченцы, татары, якуты или другие народы России
станут назвать себя русскими. На мой взгляд, в качестве общего названия гражданской
общности больше подходит термин «россияне», который не связан с этнической
спецификой, это полный аналог терминам "американцы", или «швейцары» да и термину
«советские люди», который в быту не носил идеологической окраски и просто обозначал
граждан одной страны. Президент Ельцин пытался внедрить название «россияне»,
постоянно используя его в своих выступлениях. Нынешние власти не используют его и этот
термин пока не прижился в обществе. Между тем утверждение единого названия было бы
верным индикатором сдвигов в гражданской и культурной консолидации российского
общества.
Эмоциональная поддержка интеграции. Разумеется, важнейшей задачей политики
интеграции должно стать содействие воспитанию этнической толерантности россиян. Не
вызывает сомнений необходимость концентрации интеллектуальных усилий государства и
общества для противодействия идеологии этнической исключительности и враждебности к
другим народам. Это чрезвычайно сложная задача, поскольку на стороне этнонационализма
выступают укоренившиеся стереотипы массового сознания, легкая ранимость и
возбудимость национальных чувств народа. Не случайно начальный этап национализма
связан с эмоциональным «разогревом» этнического сообщества постоянным обращением к
историческим травмам и к воспоминаниям былых обид. В тех случаях, когда представители
государственных организаций втягиваются в подобную историческую перепалку,
пытаются заменить, исходя из благих побуждений, «плохую» историю «хорошей»,
противопоставить воспоминаниям о взаимных обидах историю дружбы народов - все эти
попытки, как правило, терпят неудачу. Более эффективным технологическим приемом,
противодействующим этническому размежеванию, является подведение черты под
историю раздора и проведение эмоционально насыщенных актов, символизирующих
закрепление национального примирения или национального согласия. Например,
воздвигнутый в Испании памятник всем жертвам гражданской войны, стоявшим по разные
261
стороны баррикад, имел огромное значение для процесса национального примирения в
стране.
Трудно переоценить ту роль в моральной легитимизации идеи мултикультурализма и
в преодолении расовой сегрегации в США, которую сыграл кочующий из фильма в фильм
образы позитивных героев - белого и чернокожего. Впоследствии «пантеон героев»,
созданных массовой культурой, расширился и сегодня включает «хороших парней» китайцев, мексиканцев и др.
Сходные приемы эмоциональной поддержки процессов
этнополитической интеграции целесообразно использовать и в России.
Программное закрепление интеграции. Действенным инструментом достижения
национального согласия является перевод акцентов в межнациональных отношениях с
прошлого на настоящее и будущее. В этом смысле чрезвычайно важно привлечение
интеллектуальных элит, представляющих разные этнические общности к разработке
совместных договоров и программ общественного развития. Общепризнанным примером
эффективности подобных соглашений стал знаменитый пакт «Монклоа», положивший
основу консолидации испанского общества после длительного периода диктатуры.
Интеллектуальная подготовка интеграции состоит также в разработке концепций,
планов, системы показателей, законов и других нормативных документов, содействующих
процессу межнационального сотрудничества, на основе общегражданского единства.
«Этап
политиков»
Формирование
общероссийской
политической
элиты,
включающей в себя представителей этнических элит народов России, является
центральным звеном этнополитической интеграции. Основным инструментом этого
процесса является инкорпорация этнических элит в федеральные органы власти. Речь идет
вовсе не о выделении жестко закрепленных законом национальных квот или процентных
норм (такая практика во всем мире доказала свою несостоятельность), а о развитии
политической культуры, требующей учета многообразия этнической структуры общества
при формировании органов власти. Разумеется, учет этнического фактора, возможен только
после определения деловых качеств претендентов.
Важным элементом в проведении политики этнополитической интеграции должна
стать ротация кадров. При этом речь идет не только о «вертикальной» ротации, при которой
способных чиновников из национальных регионов приглашают на работу в Центр, но и о
«горизонтальной». Перемещение федеральных чиновников из одних регионов на работу в
другие должно стать не эпизодическим явлением, а общим правилом.
Формирование
политических
институтов.
Этнополитическая
интеграция
предполагает как создание новых специализированных институтов, организующих и
262
координирующих
указанный
процесс,
так
и
совершенствование
деятельности
существующих.
Новыми институтами могли бы стать, помимо Ассамблеи народов России, еще и
федеральная служба раннего предупреждения и урегулирования конфликтов. В
совершенствовании нуждается федеральная система защиты прав человека, начиная с
упорядочения
функций
многочисленных
государственных
организаций
и
служб
федерального уровня и устранения дублирования в их деятельности. Необходима и ее
координация на основе единой программы. Требует радикального совершенствования
система государственной поддержки развития национальной школы, высшего образования
и национальных СМИ.
Распределение обязанностей и ответственности между различными звеньями
управления. Сферой преимущественной ответственности федеральной власти является
обеспечение интеграционных процессов; предотвращение и урегулирование конфликтов;
протекционизм по отношению к этническим общностям и группам, не обладающим
достаточными ресурсами для самосохранения, а также защита прав человека на всей
территории России. Сохранение и развитие национальной самобытности народов - сфера
преимущественной ответственности региональных властей, иных звеньев управления, а
также
общественных
организаций.
национально-культурному
Федеральная
саморазвитию
народов,
власть
призвана
обеспечивая,
содействовать
прежде
всего,
благоприятный политико-правовой климат и поощряя процессы этнополитической
интеграции общества.
Этап массовых движений. Этнополитическая интеграция станет реальностью,
только в том случае, если будет подхвачена многочисленными институтами гражданского
общества.
Важнейшей формой самоорганизации граждан в сфере национально-культурного
развития и, одновременно, разновидностью общественного самоуправления является
национально-культурная автономия (НКА).
НКА могут развиваться в двух основных формах: экстерриториальной (национальные
ассоциации, союзы, общества) и территориальной (национальные районы, общины,
землячества).
Первоначально в национально-культурной автономии видели, в первую очередь,
форму удовлетворении культурных, духовных потребностей дисперсно расселенных
этнических общностей. Однако в ряде случаев НКА могут выступать как форма
политического представительства и правовой защиты этнических меньшинств и коренных
малочисленных народов.
263
В местах компактного расселения этнических общностей, особенно в сельской
местности,
национально-культурная
автономия
может
совпадать
с
территорией,
находящейся в ведении органов местного самоуправления. Этот уровень управления
занимает промежуточное положение между государством и обществом, поскольку
ежедневно и ежечасно соприкасается с населением, ощущая влияние общественных нужд
и интересов. В силу своей двойственной, общественно-государственной природы местное
самоуправление может иметь огромное значение в качестве субъекта организации
взаимодействия государственных и общественных институтов в сфере национального
развития.
Органы местного самоуправления могут играть особо важную роль в регионах с
высокой мозаичностью этнического расселения – как в Дагестане; в республиках, где
региональная власть нестабильна; в большинстве автономных округов, не справляющихся
с задачей защиты прав и интересов коренных малочисленных народов.
Важную роль в развитии этнополитической интеграции общества призваны сыграть
общественные организации и независимая пресса. Средства массовой информации должны
также помочь обществу понять истинные причины возникновения межнациональных
конфликтов. Однако абсолютно нетерпимы те случаи, когда пресса берет на себя роль суда,
безапелляционно определяющего виновность одной из сторон конфликта. Подобные
публикации не раз приводили к обострению межнациональных отношений.
Непременным условием успеха политической интеграции является открытость,
ясность и последовательность государственной национальной политики, осторожность и
постепенность в её реализации. Политическая интеграция - это процесс, при котором
федеральной власти необходимо постоянно завоевывать и заслуживать доверие
региональных и национальных групп населения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационное
исследование
показало,
постсоветской России лишь отчасти соответствует
что
этнополитическое
развитие
классической модели
перехода
социумов в процессе модернизации от имперского типа государства и общества
к
государству-нации.
Такое соответствие проявилось, прежде всего, в том, что Советский Союз, как
непосредственный политический предшественник современной Российской Федерации, по
своему государственному и общественному устройству мог быть отнесен к так называемым
вторичным империям. Это особые, появившиеся в XX в., модификации классических
империй, сохранившие их главную сущность - авторитаризм, и производные от него
264
свойства политики -
экспансионизм и колониализм как стремление насильственного
удержания территории. Россия же ни по своему государственному устройству, ни по
сложившемуся типу политической системы, ни по характеру сложившейся политической
практики не может быть причислена ни к одной из разновидностей империй.
Вместе с тем, отмеченное направление политического транзита в рамках теории
модернизации, имеет в России свои особенности. Их, выявление и объяснение, как раз и
стало основным научным вкладом автора в теорию этнополитического транзита.
Российская Федерация – уже не империя, но еще не государство-нация, прежде всего
по тому, что в нашей стране пока не сложилось гражданское общество («гражданская
нация»), являющееся, с точки зрения теории модернизации, основным компонентом в
конструкции: «государство-нация». Такая нация не сформировалась ни на культурноценностном, ни на институциональном уровнях. Пока не проявился даже базовый,
отправной фактор такого развития – устойчивое преобладание общероссийской
гражданской идентичности населения по сравнению с этнической, региональной,
конфессиональной и т.п. Не определена и, во многом, непонятна и траектория такого
движения.
Просматривающаяся в Российской Конституции ориентация власти на развитие
гражданской нации, объединяющей весь многонациональный (многоэтнический) народ
страны, не конкретизирована в политической практике и пока слабо воспринимается не
только в массовом сознании, но и в элитарных кругах
Определение направления движения России в сторону формирования гражданского
общества как гражданской нации представляет собой теоретическую проблему, хотя бы
потому, что известны различные исторические модели такого движения. В одних случаях
(например, во Франции XVIII в.) переход от абсолютизма к гражданской нации, к идее
народного суверенитета произошел без опоры на этнический национализм. Во многих
других странах, этнонационализм служил
трамплином на пути к осознанию идей
гражданской нации. Такой путь был характерен для большинства государств, бывших
колоний, провинций неких империй. И, наконец, опыт третьего рейха демонстрирует
модель использования этнического национализма уже не в колонии, а в метрополии для
возрождения империи. Автор предполагает, что третья из названных моделей является
высоко вероятной в случае развития этнического национализма в бывших центрах империй
и применительно к этническим общностям, выступавшим в прошлом в роли «цемента
империи».
Диссертационное
исследование
показывает,
что
в
России
все
большую
популярность получают различные модели этнического национализма, основанные, как на
265
идеях превосходства одного «государствообразующего народа» над другим, так и на идеях
этнического сепаратизма. При этом подобные идеи взаимосвязаны и усиливают друг друга.
Исходно высокий уровень этнической толерантности всех народов и, прежде всего,
представителей этнического большинства России ослабевает. Динамика этносоциальных и
этнополитических процессов в постсоветский период свидетельствует об ослаблении и
других, сложившихся в СССР факторов этнополитического сближения. Прежде всего, для
большинства этнических общностей характерен рост этнического самосознания в форме
усиления тревожности и обострения восприятия оппозиции «мы» - «они». У русских
тенденция роста этнического самосознания проявилась заметно позже, чем у других
народов, однако темпы роста этнического самосознания представителей этнического
большинства страны сегодня выше, чем у других народов. Большинство народов догоняет
или уже догнало русских по уровню образования и социального развития. Уменьшение
удельного веса русских в составе населения федерации и утрата ими статуса «социального
лидера» в стране – весьма болезненный процесс, осложняющий межнациональные
отношения. На общий рост этнополитической дивергениции
повлиял процесс
этнотерритрниального размежевания народов России. В условиях тенденции “стягивания”
народов к национальным очагам возрастает опасность территориального размежевания
народов и возникновения этно-территориальных конфликтов
Несмотря на то, что вооруженные сепаратистские движения сегодня ограничены
только территорией Чеченской Республики, они, тем не менее, представляют наибольшую
опасность в ряду этнополитических проблем России.
Государственная политика России в этнополитической сфере неоднократно
менялась на протяжении последнего десятилетия. При этом лучшие результаты были тогда,
когда федеральная власть склонялась к поиску компромиссов с представителями
региональных и этнических элит, а не уповала на силовое решение соответствующих
проблем.
В целом же российская национальная (этническая) политика оставалась крайне
противоречивой. Так, создание вполне современного и соответствующего мировым
нормам законодательства зачастую сопровождалось множеством не правовых действий
федеральных и региональных властей в отношении различных этнических групп. Меры,
которые могут быть восприняты как поддержка некой доминирующей этнической
общности, сочетаются с действиями, свидетельствующими о стремлении развивать в
России мультикультурное общество равноправных народов.
Итак, на рост этнической и этнополитической мобилизации народов России повлиял
комплекс факторов, среди них:
266
-
кризис идентичности, вызванный радикальной переменой всей системы
жизнедеятельности после распада СССР;
-
затянувшийся,
болезненный,
управленческих
ошибок,
процесс
сопровождавшийся
множеством
реформирования
постсоветского
общества;
-
изменение этнодемографической структуры населения России;
-
растущее территориально- этническое размежевание населения;
-
этническая окраска социально-экономической конкуренции;
-
чередования этнической мобилизации одних народов, оказывающие
заражающее воздействие на другие.
С ростом этнического самосознания, также как и конфессионального, у
представителей этнических меньшинств растет и региональное самосознание, при
некотором ослаблении общероссийского. У русских заметна другая тенденция – с ростом
этнического самосознания растет и общероссийское сознание.
По самой своей природе этническое сознание политически нейтрально, но может
приобрести
политическую (этнополитическую) направленность под влиянием элит,
которых в науке принято называть «этническими антрепренерами». Сам этот термин имеет
преимущественно негативное звучание, однако, в действительности влияние этнических
элит не обязательно противоположно целям модернизации общества, в том числе и целям
формирования гражданской нации – все зависит от политической ориентации элит и их
фундаментальных интересов в конкретных исторических условиях.
В условиях России рост этнического национализма во
всех его формах не
способствует укреплению единства страны и общества, поскольку рост общероссийского
самосознания, у этнического большинства носит эксклюзивный характер, сопровождается
усилением поддержки лозунга «Россия для русских». Такую
поддержку не следует
трактовать в буквальном смысле как стремление изгнать другие народы с территории
России, оно лишь свидетельствует о стремлении к обеспечению неких преимущественных
условий для этнического большинства, по сравнению с другими народами. Такого рода
требования, в значительной мере, сконструированы политической элитой, навязывающей
общественному мнению идеи о необходимости различного статуса в России для
«государствообразующего» народа и «государствообразующей религии», по сравнению с
прочими народами, для
«хозяев»
по сравнению с « гостями» (так определяются
иноэтнические мигранты).
Утверждение современной трактовки понятия нация в России чрезвычайно
затруднено по множеству причин. Среди них языковая традиция, в которой закреплено
267
отождествление этничности и нации. Эта традиция исторически мотивирована: если в
России никогда не было гражданского общества, то не могло появиться и представлений о
гражданской нации. Впрочем, в русском языке в ограниченном виде присутствует
понимание нации как общества, например, в весьма популярном в советские времена
термине «национализация (обобществление) собственности». В то же время, нужно
признать, что этот термин не оказывает влияние на традиционное для России понимание
нации, хотя бы потому, что реально на практике национализация означала не столько
обобществление, сколько огосударствление собственности. Вот эта советская практика
огосударствления всей общественной жизни делает более вероятным переход от
этнической трактовки нации не к общественной, а к государственнической, при которой
«нация» воспринимается как синоним государства.
Проблемы нациестроительства в России осложняется неустойчивым, волнообразным
характером ее модернизации, с заметными тенденциями к откату на путь традиционализма.
Одним из проявлений этого отката, на взгляд диссертанта, является и доктрина
строительства
«вертикали
власти»
или
«рецентрализации»,
проявляющаяся
в
восстановлении унитарной, по своей сути, вертикали управления регионами России, с
использованием моделей управления, доказавших свою несостоятельность еще в советское
время.
Однако традиционалистский откат не ограничивается только сферой политики, он
проявляется также в идеологии, в инверсии основных идеологем в эпоху Путина, по
сравнению с эпохой Ельцина, а также во влиянии смены политических и идеологических
концепций на рост ксенофобии как этнополитической формы массового проявления
традиционализма.
Вызывает особую тревогу тот факт, что в начале 2000-х молодежь впервые за многие
годы наблюдений проявляет больший уровень ксенофобии, чем люди пожилого возраста.
Урбанизация также пока не обнадеживает, поскольку уровень ксенофобии в малых и
особенно в средних городах выше, чем в сельской местности. Оживающие ныне
национальные движения выступают не под демократическими знаменами как в былые
времена, а больше склонны к сочетанию этнического национализма с религиозным
фундаментализмом.
Инерционные этнополитические процессы в России развиваются по принципу
этнополитического маятника, основной механизм действия которого сводится к тому, что
нарушение баланса интересов любой из сторон межэтнических отношений (этнического
большинства и этнических меньшинств) различными политическими силами приводит к
дестабилизации не только самих этих отношений, но и всей политической жизни в стране.
268
В эпоху «стабилизации» межнациональные отношения в России преимущественно
оцениваются как ухудшившиеся.444 Такую оценку нельзя отнести к реакции только на некие
управленческие
решения
конкретной
администрации.
Существует
и
инерция
этнополитических процессов, которая проявляет себя в определенное время.
Однако
предпосылки роста межэтнической напряженности и роста потенциала этнического
сепаратизма не случайно совпали со сменой российского руководства. Новые власти еще,
более произвольно и неосмотрительно, чем прежние, вторгаются в сложную сферу
межэтнических отношений, раскачивая этнополитический маятник. Можно предположить,
что он уже качнулся или в ближайшее время может качнуться в сторону новой волны
протестной активизации этнических меньшинств.
Вместе с тем угроза нового цикла этнических конфликтов, пока является лишь
гипотетической, и существуют возможности ее избежать.
Нынешний рост этнических страхов и усиление влияния негативных стереотипов
среди этнического большинства – это всего лишь массовые настроения, меняющиеся со
временем в режиме колебания маятника. Такие настроения всегда сопровождают времена,
наступающие после крутых политических перемен - в периоды застоя. В условиях же
стабильного развития этническая идентификация менее актуальна, чем иные: гражданская,
профессиональная, политическая и др. Само осознание этнических различий между «мы» и
«они», в таких условиях не воспринимается как несправедливость и тем более не служит
причиной для конфликтов. В наши дни в тех регионах России, в которых наблюдается рост
производства, его техническое перевооружение, происходит становление новых отраслей и
связанный с этим приток рабочей силы, власти активно содействуют межэтническому
сотрудничеству и противостоят этническому экстремизму.
Развитие экономики, гражданского общества (в том числе и повышение роли
гражданских лиц в обществе), становление федеративных отношений и местного
самоуправления – все это, безусловно, может содействовать нормализации межэтнических
отношений. Однако было бы глубочайшим заблуждением надеяться на то, что «невидимая
рука рынка» или демократизация политики сами по себе приведут к решению
межэтнических
проблем.
Для
устранения
значительные государственные усилия
негативных
последствий
необходимы
и разработка программы этнополитической
интеграции.
Теоретики обычно выделяют три ее основных этапа: «этап интеллектуалов» начало интеграции, когда она поддерживается и продвигается преимущественно усилиями
444
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Пресс-выпуск№3, 30 января 2001.
269
интеллектуалов; «этап политиков» - вовлечение в интеграционные процессы политической
элиты, осознающей, что действия будут признаны морально легитимными;
«этап
массовых движений» - обеспечение широкой массовой поддержки идеи и практики
интеграции. Важнейшую роль
могут
сыграть
в «запуске» механизмов этнополитической интеграции
лидеры общественного мнения
-
«культуртрегеры прогресса и
толерантности».
Необходимость осознания природы перемен, происходящих в России и, в частности,
причин усиления традиционалистских тенденций в обществе, стимулируют научные и
идеологические дискуссии.445 Безусловно, правы те социологи, которые говорят, что в
новую эпоху смещается сама ось публичной политики - уходит в прошлое противостояние
между «демократами» и «коммунистами».446 Вопрос лишь в том, что же сегодня пришло на
смену
прежней
оппозиции
и
становится
основным
содержанием
современной
идеологической полемики? На мой взгляд, основным ее предметом, пока слабо
осознаваемым сторонами дискуссии, является вопрос о нации, точнее о взаимоотношении
общества и государства. Традиционалисты отстаивают идею огосударствления нации
(общества), модернисты, напротив, предлагают проект национализации (обобществления)
государства. Если государство не будет национализировано, то его могут приватизировать
в своих интересах те или иные корпоративные группы, для которых лозунги этнического
национализма станут лишь прикрытием, как это часто бывало в истории. Можно также
образно
определить
эти
различия
как
противоположность
проекта
укрепления
вертикальных опор государства, проекту сооружения горизонтального каркаса нации
(общества).
Эта дискуссия между традиционалистами и модернистами, вовсе не сводится к тому,
что одна сторона выступает за сильное государство, а другая поддерживает анархию. Ее
суть - в различии понимания того, в чем состоит сила государства (в интенсивности
подавления и подчинения или в способности заинтересовывать общество и развивать
инициативу его членов). Различны и предлагаемые механизмы достижения целей, по сути
дела, общих как для традиционалистов, так и модернистов – роста консолидации общества,
укрепления единства страны и обеспечения условий для ее экономического развития.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Официальные документы и статистические материалы
1. Демографический ежегодник России. М., 1991- 1999
2. «Договор об общественном согласии» М.:1994 г
Западники и националисты: возможен ли диалог? Материалы дискуссии фонда «Либеральная миссия». М.: ОГИ. 2003.
446
«Общественное мнение 2002». Ежегодник. По материалам исследований 1989-2002 гг.// Москва.:
ВЦИОМ. 2002. С.42.
445
270
3. Договоры и Соглашения о разграничении полномочий с республиками, краями и
областями Российской Федерации . см.: Асимметричная Федерация: взгляд из
центра республик и областей// Рук проекта Л..М .Дробижева М.: Институт
социологии РАН. 19 . а также Федерализм власти и власть федерализма// под ред.
М.Н. Губогло . М., 1997.
4. Выборы в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации 1995–1997 гг. Электоральная статистика. М., 1998
Европейская Декларация о хартии народов и регионов, принятая в Карлсруэ в 1996
г., Charta Gentium et Regionum, Muenchen, 1996
5. Народы России (энциклопедия). М., 1994
6. Материалы Всесоюзных переписей населения 1959, 1979, 1989 гг. РГАЭ, фонд
1562, опись 336, ед. хр. 5512-5514, 4845-4847, 7505-7508, 7331-7336.
7. «Численность и миграция населения России» 1990 – 2002 гг.
8. Российский статистический ежегодник 1999
9. Парижская хартия всей Европы от 21 октября 1990 г., Charta Gentium et Regionum,
Muenchen, 1996,
10. Политические и социально-экономические итоги 2001 года. Администрация
Астраханской области, Астрахань, 2002,
11. Политические партии Татарстана. http://socarchive.narod.ru/bibl/polros/Tatar/partiitat.html
12. Послание Президента России Владимира Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации 2000 ГОДА Москва, Кремль 8
июля 2000 года
13. Послание Президента России Владимира Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации 2001года. Москва, Кремль3
апреля 2001 года
14. Послание Президента России Владимира Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации 2003 г Москва 16 мая.2003
Выступления государственных деятелей
1. Владимир Путин: Ксенофобии и религиозному экстремизму необходимо поставить
непреодолимые преграды. Об этом заявил президент России Владимир Путин на
встрече с представителями Федераций еврейских общин РФ в Кремле. / Информация
Страны.Ru 20 Марта 2002 http://religion.russ.ru/news/20020320-n1.html
271
2. Выступления депутатов Государственной Думы на парламентских слушаниях “О
проекте федерального закона “О русском народе”. 25 мая 2001 г. Информационноаналитический бюллетень № 30, 1.06. 2001 Институт стран СНГ.
3. Речь И.В. Сталина на встрече с командующими фронтами 25 мая 1945 года.
«Правда», 1945, 25 мая
Книги, брошюры, статьи в сборниках и журналах
1. Абдулатипов Р. Россия на пороге XXI века. Состояние и перспективы федеративного
устройства. М., 1996.
2. Абдулатипов Р. Сущность нации – этноса: ответ сторонникам безнациональности.
М., 1999
3.
Абдулатипов Р. Управление этнополитическими процессами: вопросы теории и
практики. М., 2001
4. Авксентьев В. Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы.
Ставрополь 2001
5.
Алексахина Н. Национально-языковая ситуация в Российской Федерации.//
Этнополитический вестник. М., 1995. № 6.
6. Артановский С..Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние
культур. Л., 1967.
7. Арутюнов
С.А.,
Чебоксаров
Н.Н.
Передача
информации
как
механизм
существования этносоциальных и биологических групп человечества. - Расы и
народы т. 2. М., 1972
8. Арутюнян Ю.В (Ред.) Русские: этносоциологические очерки. М., 1992
9. Арутюнян Ю.В. Постсоветские нации. М., 1999
10. Ахиезер А. Культурные основы этнических конфликтов// Общественные науки и
современность 1994 №4
11. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование действительности, 1995.
12. Богоявленский Д. Этнический состав населения России // Население и общество.
Ноябрь 1999. № 41.
13. Боден Ж. Шесть книг о государстве.// Антология мировой философии. В 4-х т. Т.2.
М., 1965.
14. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983
272
15. Бурдье П. Социология политики. М., 1993
16. Волкан В. (США), Оболенский А. (РФ). Потребность иметь врагов и друзей. Диалог
о психологии национальных конфликтов. Дружба народов. 1992. № 7.
17. Верховский А. Беспокойное соседство: Русская Православная Церковь и путинское
государство// Россия Путина. Пристрастный взгляд. – М.: Центр «Панорама» 2003.
18. Витковская Г. Вынужденная миграция и мигрантофобия.//Нетерпимость в России:
старые и новые фобии. Под ред. Г. Витковской и А. Малашенко; Моск.Центр
Карнеги. - М.:1999
19. Галлямов Р.Р. Постперестроечная эволюция политических элит российских
республик: этнический аспект // Этнопанорама. 2000. № 1.
20. Гасанов Н.Н., Зачесов К.Я., Казимов А.К. Национальный вопрос: иллюзии и поиск
истины. Социально-политический журнал. 1993. № 3.
21. Гегель. Философия права. // Сочинения Т.7. М.-Л., 1933.
22. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.
23. Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Путь. 1992. # 1.
24. Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации (Наброски к теории).//
Полис, 2001.№1 .
25. Гельман
В.Я.
"Transition"
по-русски:
концепции
переходного периода
и
политическая трансформация в России (1989 - 1996). //ОНС, 1997, .№4 .
26. Грищенко В.В Русские среди русских: проблема адаптации вынужденных
мигрантов и беженцев из стран ближнего зарубежья в России М.: 1999
27. Гобл П. Советская национальная политика. Проблемы Восточной Европы. 1994.
28. Гордон Л.А., Плискевич Н.М. Развилки и ловушки переходного времени.//Полис,
1994, # 4,5.;
29. Губогло М.Н. Переломные годы Т.1. Мобилизованный лингвицизм. М., 1993.
30. Гудков Л. Комплекс «жертвы»: особенности массового восприятия россиянами себя
как этнонациональной общности // Экономические и социальные перемены:
мониторинг общественного мнения. 1999. № 3.
31. Гудков Л.Д. Антисимитизм в постсоветской России // Г.Витковская. А. Малашеко
(ред.) Нетерпимость в России: старые и новые фобии. М 1999.
273
32. Гудков
Л.Д.
Русский
Мультикультурализм
и
неотрадиционализм
трансформация
и
сопротивление
постсоветских
обществ.
переменам//
Под
ред.
В.С.Малахова и В.А.Тишкова РАН. Институт этнологии и антропологии. Институт
философии. Москва.2002.
33. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989.
34. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990.
35. Гумилев. Л.Н. Иванов К.П. Этнические процессы: два подхода к изучению//
СОЦИС. 1992. №1.
36. Джунусов М.С. Методологическое введение к изучению социально-политических и
межнациональных конфликтов. М., 1991.
37. Дородницын Л. Национальное государство или империя. Какой путь мы выберем?
Независимая газета. 1993. 28 декабря.
38. Дробижеав Л.М. (Ред.) Социальное неравенство этнических групп: представление и
реальность// Отв. Ред. Дробижева Л.М. М. 2002
39. Дробижева Л. Интеллигенция и национализм: опыт постсоветского пространства. //
Этничность и власть в полиэтнических государствах. Отв. Ред. В.А.Тишков. Москва:
«Наука»
40. Дробижева
Л.М.
Социальные
проблемы
межнациональных
отношений
в
постсоветской России. М., 2003.
41. Дробижева Л.М., Аклаев А.Г., Короблева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация и
образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М., 1996.
42. Дробижева Л.М., Паин Э.А. Особенности этнополитических процессов и
становления этнической политики в Современной России // Политические и
экономические преобразования в России и Украине
Ред. В.Смирнов.Woodrow
Wilson International Center for Scholars. Kennan Institute. Москва.: «Три квадрата».
2003.
43. Дробижева
Л.М.,
Паин
Э.А.
Социальные
предпосылки
распространения
экстремизма и терроризма, // Социально-психологические проблемы борьбы с
международным терроризмом. Под. Ред. В.Н. Кудрявцева, М. «Наука». 2002
44. Дубин Б. В. Запад для внутреннего пользования // Ксмополис.№1(3) весна 2003.
274
45. Дубин Б.В. Православие в социальном контексте// Экономические и социальные
перемены: Мониторинг общественного мнения. 1996. №
46. Знаменский
А.А.
Этнонационализм:
основные
концепции
американского
обществоведения // США. Экономика, политика, идеология. 1993. # 8
47. Зорин В. Ю. Национальная политика в России: история проблемы, перспективы. М.,
2003
48. Зорин. Ю.В., Паин Э. А. Активизация гражданского общества как основной фактор
противодействия этнополитическому экстремизму в России// Век толерантности,
2003, №6, с.51-60
49. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве.
М., 1997
50. Здравомыслов
А.Г.
К
вопросу
об
изучении
национальных
конфликтов.
Национальные отношения в современных условиях. М., 1988.
51. Зубов А.Б. Советский Союз: из империи в ничто? Полис. 1992. № 1-2; 1992.
52. Зубов А., Салмин А. От конфронтации к консенсусу. Предлагаем новую
политическую модель межнациональных отношений. Новое время. Приложение
"Перестройка и национальные проблемы". 1989.Декабрь.
53. Иванов В. Межнациональная напряженность в региональном аспекте. Социс. 1993.
№ 7.
54. Калинина К.В. Институты государственной власти – регулятор межнациональных
отношений. М., 1995
55. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения.// Сочинения в 6 т. Т.6. М.,
1966 С. 562
56. Кант И.К вечному миру // Сочинения в 6 т. Т.6. М., 1966
57. Карпенко О. Языковые игры с «гостями с юга»: «кавказцы» в российской
демократической прессе 1997-1999 гг. // Мультикультурализм и трансформация
постсоветских обществ/ Под ред. В. Малахова, В. Тишкова. М.: Институт этнологии
и антропологии РАН, Институт философии РАН
58. Картунов О. В. Втсуп до Етнополитологii. Киiв, ( укр язык.) 1999.
59. Козлов В. И. Главный национальный вопрос в России вчера и сегодня. Этнополис.
1992. № 2. С.97-109.
275
60. Козлов В.И. Национализм, национал-сепаратизм и русский вопрос. Отечественная
история. 1993. № 2. С.44-64.
61. Кон Г. Азбука национализма (1). // Проблемы Восточной Европы. 1989.
62. Кон Г. Азбука национализма (2). // Проблемы Восточной Европы. 1994.
63. Кон И.С. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М.,
1959 .
64. Коротеева В.В. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? // Pro et
contra. Том 2, лето 1997. # 3.
65. Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках М., 1999
66. Котанджян Г.С.
Этнопсихология консенсуса-конфликта. Цивилизационные
проблемы теории и практики. М., 1992.
67. Крыштановская. О.В. Режим Путина: либеральная милитократия? // Pro et Contra.
2002. Том 7. № 4.
68. Лапин Н.И Как чувствует себя, к чему стремятся граждане России: Аналитический
доклад. М., 2002
69. Левада Ю.А От мнений к пониманию. - М., 2000
70. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1997 Лысенко В.Н. От
Татарстана до Чечни ( становление нового российского федерализма). М., 1995.
71. Локк Дж. Сочинения: В 3 т. - М., 1988.
72. Малашенко А. Исламское возрождение в современной России. – М, 1998.
73. Малинова. О. Европа как конституирующий иной России.// Доклад на научнопрактической конференции «Россия и Европейский союз». г. Калининграде 4-6 июля
2003 года
74. Макиавелли. Н Государь. М., 1990
75. Марченко Г.И. Методологические подходы к исследованию этнополитических
явлений// Вестник Московского ун-та. Сер 12. Политические науки. 1995. №1-2.
76. Межнациональные отношения в регионах Российской Федерации (по данным
социологических исследований)// Сб. статей. Отв.ред. В.Н.Иванов. М., 1992.
77. Мельвиль А.Ю. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и
процедурного подходов к демократическим транзитам.// Полис,1998, # 2.;
276
78. Мельвиль А.Ю Демократические транзиты (теоретико — методологические и
прикладные аспекты) М. 1999.
79. Миллер А.И. Теория национализма Эрнеста Геллнера и ее место в литературе
вопроса // Национализм и формирование наций. Теории — модели— концепции. М.,
1994.
80. Миллер А.И. Бенедикт Андерсон: национализм как культурная система //
Национализм и формирование наций. Теории — модели — концепции. М., 1994.
81. Михайлов В.А. Принцип "воронки", или механизм развертывания межэтнического
конфликта. Социс. 1993. № 5.
82. Михайлов В.А. Национальная политика России как фактор государственного
строительства. М., 1995
83. Мукомель В. Вооруженные межнациональные и региональные конфликты:
людские потери и социальные последствия // Идентичность и конфликт в
постсоветских государствах. М.: Московский центр Карнеги. 1997. С. 301.
84. Мусина Р. Ислам и межэтнические отношения в современном Татарстане // Иман
нуры 1996.№ 4
85. Мухаев Р.Т. Модернизация посткоммунистических режимов: ее специфика и
возможности в России (опыт сравнительного анализа).// Вестник Московского унта, сер. 12, социально-политические исследования, 1993, # 3.; 1;
86. Мухарямов Н.М. Вопросы теории этнополитического анализа. Казань, 1996.
87. Нарочницкая ЕА. Национализм: история и современность. М., 1997.
88. Национальный вопрос и межнациональные отношения в СССР, история и
современность. Материалы "круглого стола" журнала "Вопросы истории" (2021.02.89 г.). Вопросы истории. 1989. № 5. С.3-97; № 6..
89. Национальный вопрос в современном политическом развитии ("круглый стол") //
Рабочий класс и современный мир. 1989. № 3.
90. Национальный вопрос: заочный круглый стол // ПОЛИС 1995.№1
91. Национальные меньшинства. Правовые основы и практика обеспечения прав лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам в субъектах юга Российской
Федерации.// Под ред. В. Мукомеля. - М.: Центр этнополитических и региональных
исследований (ЦЭПРИ). 2003
277
92. Общественное мнение - 2002. По материалам
исследований 1989-2002гг.,
Ежегодник. - М.: ВЦИОМ, 2002.
93. Ожиганов Э.Н. Сумерки России. М.,1996
94. Ожиганов Э. Системный кризис власти в СССР. Об искусстве прогнозирования
политических событий. Общественные науки и современность. № 2. С.41-47.
95. Осипов А.Г. Идеологический фактор в процессе формирования самосознания малых
этнических групп// Права и статус национальных меньшинств в бывшем СССР. М.,
1993.
96. Паин Э. «Татарстанский договор» на фоне «чеченского кризиса»: проблемы
становления федерализма в России // Год планеты: Политика. Экономика. Бизнес.
Культура. Институт мировой экономики и международных отношений РАН. М.:
Республика, 1995. С. 163–168.
97. Паин Э. (Ред.) Концепция государственной политики России в зонах этнических
конфликтов на территории СНГ. М.: ЦЭПРИ. 1994.
98. Паин Э.А. Этнические конфликты и пограничные споры на южных рубежах России
// Безопасность России XXI век. Отв. Ред. А. Загорский. М., 2000.
99. Паин Э.А Социальная природа экстремизма и терроризма. // «Общественные науки
и современность» № 4, 2002
100.
Паин, Э. Попов. А. Принятие политических решений в вопросах
использования силы в США и России. // Азраеэл Дж. Паин Э. (Ред.) Как делается
политика в США и России М,.1996
101.
Попов. А. Причины возникновения и динамика развития конфликтов. // Олкот
М., Тишков В. (Ред.) Идентичность и конфликт в постсоветских государствах.
Московский Центр Карнеги. 1997.
102.
Паппэ Я. Нефтяная и газовая дипломатия России. // Pro et contra. №2, том 3
1997
103.
Поппер К. Открытое общество и его враги М.. 1992. Т.1
104.
Празаускас А.А. Рецензия на книгу: Brrrbaker. Nationalism Reframed //
Этнографическое обозрение. 1997. N 6.
105.
Радаев В. В., О. И. Шкаратан «Социальная стратификация». - М., 1996
278
106.
Расизм в языке социальных наук. на конференции» Под ред. В.Воронкова.
О.Карпенко, А.Осипова. Санкт-.Претебург. 2002
107.
Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между
людьми. //Антология мировой философии: В 4 т. Т.2. М., 1965. С. 562-563.
108.
Руткевич М.Н. О двух аспектах межнациональных отношений // СОЦИС.
1991. № 3.
109.
Сетон-Уотсон Х., Урбан Дж. Национализм и его аспекты.// Проблемы
Восточной Европы. 1994.
110.
Сикевич З. Этническая неприязнь в массовом сознании россиян //
Г.Витковская. А. Малашеко (ред.) Нетерпимость в России: старые и новые фобии.
М 1999
111.
Соловьев В. В. Национальный вопрос в России. Соч. в 2 т. Т.1.М.,1990
112.
Соколов Э.В. Культура и личность. Л., 1972
113.
Соколов С. К вопросу о положении с языком и культурой украинского
национального меньшинства в Российской Федерации // Диалог украинской и
русской культуры в Украине. Киев: Фонд поддержки русской культуры. 1999
Семенов В.М., Иордан М.В., Бабаков В.Г., Самаганов В.А. Межнациональные
противоречия и конфликты в СССР (опыт социально-философского анализа). М.,
1991.
114.
Сиск
Т.
Распределение
власти
в
полиэтнических
государствах:
принципиальные подходы и используемые практики // Доклад на международном
семинаре «Предотвращение смертоносных конфликтов; стратегии и институты». М.,
14–16 августа 1996 г.
115.
Соколов С. К вопросу о положении с языком и культурой украинского
национального меньшинства в Российской Федерации // Диалог украинской и
русской культуры в Украине. Киев: Фонд поддержки русской культуры. 1999.
116.
Солдатова. Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998.
117.
Тейлор Э. Первобытная культура. СПб, 1872 (М., 1939)
118.
Тишков В.А. Забыть про нацию // Этнографическое обозрение. 1998. # 5.
119.
Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997.
279
120.
Тишков
В.А.
Этничность,
национализм
и
государство
в
посткоммунистическом обществе // Вопросы социологии. 1993. М 1/2.
121.
Тишков В.А. Этнический конфликт в контексте обществоведческих теорий //
Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения.
Часть I. М., 1992.
122.
Тишков В.А Этнология и политика. М., 2001
123.
Уткин А. В России недостает западного человека.// Западники и
националисты: возможен ли диалог? Материалы дискуссии фонда «Либеральная
миссия». - М.: ОГИ. 2003.С.108.
124.
Филиппова Е.И. Проблемы адаптации русских беженцев в российском селе
(взаимоотношения с местным населением) // Миграционные процессы после распада
СССР. Под Ред. Дж. Азраэла и Ж.Зайончковской. М.: Ин-т народнохозяйственного
прогнозирования РАН. 1994
125.
Шевцова Л. Политические зигзаги посткоммунистической России. - М., 1997
126.
Шнирельман В. А.. Страсти по Аркаиму: арийская идея и национализм //
Олкотт М. Б., Семенов И. (ред.). Язык и этнический конфликт. М.: Гендальф. 2001.
127.
Шнилерман. В. А. О новом и старом расизме в современной России. //
Вестник Института Кеннона в России. Вып.1. М., 2002
128.
Штомка П. Социология социальных изменений// Пер. с англ. Под ред.
В.А.Ядова – Москва, 1996
129.
Червяков В., Шапиро В., Шереги Ф. Межнациональные конфликты и
проблемы беженцев. Части 1, 2. М., 1991.
130.
Чеснов Я.В. Название народа: откуда оно?// Этнографы рассказывают. От в
ред. Ю. В. Бромлей. М., 1987
131.
Чеснов Я.В. Социально-экономические уклады и этнические традиции в
агроэтнографии // «Советская этнография» 1972, №4.
132.
Фомичев П.Н. Социологические теории национализма. М., 1991.
133.
Хаванова О. Два века европейского национализма. Что дальше? (Эрик Хобс-
баум. "Нации и национализм после 1780 г.: программа, миф, реальность") //
Национализм и формирование наций. Теории — модели — концепции. М., 1994.
134.
Хантингтон. С. Столкновение цивилизаций // Полис. - 1994. №1
280
135.
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998.
136.
Эмин В. Региональные конфликты и международные организации. М., 1991
137.
Этингер Я. Межнациональные конфликты в СНГ и международный опыт.
Свободная мысль. 1993. № 3
138.
Язькова. А.А. Национально-этнические проблемы (российский и мировой
опыт их регулирования) М., 2003
139.
Янов А.Л. Патриотизм и национализм в России 1825-1921. – М., 2002
140.
Ясин Е.Г. Модернизация экономики и система ценностей. // Доклад. К 4-й
Международной
научной
конференции.
Модернизация
экономики
России:
социальный аспект. Москва, Госуниверситет Высшая школа экономики, 2-4 апреля
2003 г
141.
Abramson Y. On Sociology of Ethnicity and Social Change: A Model of
Rootedness and Rootedlessness// Economic and Social Review.- 1976.Vol. 8.#1
142.
Anderson В. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism. L, 1983 (второе издание 1991).
143.
Armstrong 1. Nations before Nationalism. Chapel Hill, 1982.
144.
Armstrong Л,Towards а Theory of Nationalism: Consensus and Dissensus //
Periwal S. (е4.) Nations of Nationalism. Budapest, 1995.
145.
Avineri. S. Hegel’s Theory of the Modern State. - Cambridge 1972
146.
Banks N. Ethnicity: Anthropological Constructions. London; New York, 1996.
147.
Ваrth F.(ed.) Ethnic Groups and Boundaries. Bergen, 1969.
148.
Ваrth F. Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity // Vermeulen
Н., Govers С.(eds.) The Anthropology of Ethnicity. Beyond "Ethnic Groups and
Boundaries". The Hague, 1994.
149.
Birnbaum P. Dimensions du Nationalisme // Birnbaum P.(ed.) Sociologic des
Nationalismes. Paris, 1997.;
150.
Brass P. Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison. New Delhi, 1991.
Bhabha H(ed.) Nation and Narration. L., 1990.
151.
Breton А., Galeotti 6., Salmon P., Wintrobe R. Nationalism ап4 Nationality.
Cambridge, 1995.
281
152.
Breuilly J. Nationalism and the State. Manchester, 1982 (второе издание 1993)
153.
Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge
(Mass.), 1992.
154.
Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the
New Europe. Cambridge, Mass., 1996.
155.
Brubaker R. Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism // Hall 1(ed.)
The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism. Cambridge, 1998.
156.
Bunce V. Should Transitologists be Grounded -Slavic Review, 1995, vol. 54,# 1;
157.
Bunce V The East Versus the South.- Post- Soviet Affairs.?1998? Vol 14.,,# 3
158.
Calhoun С. Ethnicity and Nationalism // Annual review of Sociology. 1993. М 19.
Calhoun С. Nationalism. Minnesota, 1997.
159.
Connor, W. Nation-Building or Nation-Destroying? // World Politics. Vol 24. 1972.
No 3.
160.
Connor, W. Ethnonationalism: the Quest for Understanding. Princeton, 1994.
161.
Dahrendorf, R. Reflections on the Revolution и Europe. London: Chatto & Windus,
1990
162.
Deutsch К. Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the
Foundations of Nationality, Cambridge (Mass.), 1953 (второе издание 1966).
163.
Deutsch K. Analysis of International Relations N.Y. 1968
164.
Deutsch К. Nationalism and its Alternatives. – N.Y.1969
165.
Deutsch .K. Political Community at the International Level. Problems of Definition
and Measurement. - N.Y., 1954.
166.
Di Palma Go..То Craft Democracies Reflections on Democratic Transitions ап4
Beyond. Berkeley: University of California Press. 1990.
167.
Durkheim E. Representation individuelles et representgtions cjllectives. // “ Revue
de Metafysique et de Morale” London. 1898
168.
Eisenstadt, S. N. Tradition, Change and Modernity. New York. 1973;
169.
Eisenstadt, S. N. 'Studies of modernization and sociological theory // History and
Theory, 1974, 13.
282
170.
Eisenstadt, S. N. 'The breakdown of communist regimes and the vicissitudes of
modernity// Daedalus (Spring 1992).
171.
Emerson, R. From Empire to Nation: The Rise of Self Assertion of Asian and
African Peoples. Cambridge: Harvard University Press, 1960
172.
Eriksen Т. Ethnicity and Nationalism. Anthropoiogical Perspectives. L., 1993.
173.
Fishman J. Language and Nationalism: Two Integrative Essays. Rowley (Mass.),
174.
Frobenius L. Erlebte Erdteile. B. 1. Frankfurt-am- Main 1925.
175.
Geertz С. The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in
the New States // Geertz С. (ed.) Old Societies and New States. New York, 1963.
176.
Gellner Е. Thought and Change. L., 1964.
177.
Gellner Е. Nations аnd Nationalism. Oxford, 1983.
178.
Gellner E. Encouters with Nationalism. Oxford, 1994.
179.
Gellner E. Introduction // Periwal Х(ed.) Notions of Nationalism. Budapest, 1995.
180.
Greenfeld L Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge (Mass.), 1992.
181.
Groch М. Social Preconditions of National Revival in Europe. Cambridge, 1985.
182.
Gusfield, J. R. Tradition and modernity: misplaced polarities in the study of social
change // American Journal of Sociology, 1966(January).#72P. 352
183.
Haas E. The Uniting of Europe. - Stanford (Caliph) 1961
184.
Habermas J. L’espace public: archeologie de la publicite comme dimension
constitutive dela socite boudeois. Paris, 1986.
185.
Hall J. Nationalisms, Classified and Explained // Periwal S. (Ed.) Notions of
Nationalism. Budapest, 1 995.
186.
Handler
R.
On
Sociocultural
Discontinuity:
Nationalism
and Cultural
Objectification in Quebec // Current Anthropology. Voi. 25. No 1. 1984.
187.
Handler R. Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison (Wise.),
1988.
188.
Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // The International System after the
Colapse of the East-West Order. 1994.
189.
Hantington, S.P. Political Order in Chenging Societies. New Haven: Yall
University Press, 1968.
283
190.
Hantington S.P. How Countries Democrativze. — Political Science/ Quarterly, vol
53, по 1,1991 P.92;
191.
Hayes С. Essays on Nationalism. New York, 1966 (впервые напечатано в 1929
г.).
192.
Hobsbawm Е. Nations and Nationalism Since 1780: Program, Myth, Reality.
Cambridge, 1990 (второе издание 1992).
193.
Hobsbawm Е., Ranger Т. (eds.) The Invention of Tradition. Cambridge, 1983.
194.
Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict.- Berkley, Cal., etc. 1985
195.
Hutchinson J., Smith А. (eds.) Ethnicity. Oxford Reader. Oxford, 1996.
196.
Hutchinson 1., Smith А. (eds.) Nationalism. Oxford Reader. Oxford, 1994.
197.
Jaffrelot С. Les Modeles Explicatifs de ГОп81пе des Nations et du Nationalisme //
Delannoi G., Tagieff Р.-А. (eds.) Theories du Nationalisme. Paris, 1991.
198.
Kahn Н. The Idea of Nationalism. New York, 1944.
199.
Kahn Н. Nationalism. Its Meaning and History. New York, 1966.
200.
Kedourje Е. Nationalism. Oxford, 1960.
201.
Kellas J. The Politics of Nationalism and Ethnicity. - L.-1991
202.
Lapidus G.W, Zaslavsky V, with Goldman P. (Ed) From Union to Commonwealth:
Nationalism and Separatism in the Soviet republics. Cambridge, 1995
203.
Linz J and Stepan А. Problems of Democratic Transition and Consolidation.
Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore, London,1996
204.
Malinowski B. A Scientific Theory of Culture. New York, 1960
205.
Маnn М. А Political Theory of Nationalism and Its Excesses // Penwal S. (ed.)
Nations of Nationalism. Budapest, 1995.
206.
Marshall M.G. Systems at risk: Violence, Diffusion, and Disintegration in the
Middle East // Wars in the Midst of Peace: The International Politics of Ethnic Conflict /
Ed. By Carment D. James P. - Pitsburg, PA, 1997.
207.
Marciniak, W.Rozgrabione Imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie
Federacji Rosyjskiej. Wydawnictwo Arcana. Kraków 2001
208.
McFaul .М. State Power Institutional Chang and the Politics оf Privatization in
Russia. World Politics,1995, vol. 47, # 2.
284
209.
В. Moore Jr. Social Origins of Democracy and Dictatorship// Lord and Peasant in
the Marking Modern World, Boston: Beacon Press, 1966;
210.
Motyl А. (ed.) Thinking Theoretically about Soviet Nationalities. New York, 1992.
211.
Mukomel V and Payin E. The Causes and Demographic-Social Consequences of
Interethnic and Regional Conflicts in the post-Soviet Union // In the Population Under
Duress. The Geodemography of Post-Soviet Russia. Ed. By George J. Demko, Grigory
Ioffe, Zhanna Zayonchkovskaya. Westviev Press. 1999.
212.
Nairn T. The Break-Up of Britain: Crisis and Neo-Nationalism. L., 1977 (второе
издание 1990).
213.
Nairn T. Faces of Nationalism: Janus Revisited. L., 1997.
214.
Nationalism, Ethnic Identity and Conflict Management in Russia Today// Edited by
G.Lapidus CISAK Stenford University, 1995
215.
New Diasporas in Hungary, Russia and Ukraine: legal regulation and current
politics. Ed.Illona Kisssand Catherine McGovern // Open Sosiety Institute &Constitutional
and Legal Policy Institute. Budapest, Hungary 2000
216.
Nielsson. G.
States and “Nation-Group//Tirikian E.,Rogowski R. (Ed) New
Nationalisms of the Developed West. – L., 1985. P.27-28.
217.
О'Donnell G. Delegative Democracy. — Journal of Democracy vol 5, по 1,1994.
218.
O' Connell, J. 'The concept of modernization', in: Black, 1976.
219.
Parenti M. Ethnic Politics and Persistence of Ethnic Identification.// American
Political Science Review (APSR)/-1967. Vol.61.#3.
220.
Parsons T. The Social System. New York 1951.
221.
Rabushka A., Shepsle K. Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic
Instability. Columbus, 1972
222.
Renan Е. Qu'est-ce qu'une Nation? Discours et conferences par Ernest Renan. Paris,
1887.
223.
Rothman J.Resolving Identity-Based Conflicts. – San Francisco.1997
224.
Rotshild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework. N.Y. 1981
225.
Rostow D.А. Transitions to Democracy - Toward а Dynamic Model.-"
Comparative Роlitics", 1970, vol. 2, # 3;
285
226.
Przeworski А. Democracy and the Marcet. Political and Economice Reforrms in
Easten Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press,1991
227.
Pye L. Communication and Political Development. Princeton, 1963; Eisenstadt, S.
N. Tradition, Change and Modernity. New York. 1973;
228.
Seton-Watson H. Nations and States. L., 1977.
229.
Smith А. Theories of Nationalism. L., 1971.
230.
Smith А. The Ethnic Origin of Nations. Oxford, 1986. Smith А. National Identity.
I., 1991.
231.
Smith А. Memory and Modernity: Reflections on Ernest Gellner's Theory of
Nationalism // Nations and Nationalism. Vо1. 2. 1996. No. 3.
232.
Smith А. Nationalism and Modernism. L., 1998.
233.
Smith D. with Sandberg K.I., Baev P. and Hauge W. The State of War and Peace.
Atlas. L.: Penguin, 1997
Schmitter Ph. with Karl Т,. The Conceptual Travels ог Tranzitologists and
234.
Consolidologists: How Far to the East Should. They Attempt to Go? — Slavic Review,
vol. 53, # 1, 1994;
235.
Snyder А, Encyclopedia of Nationalism. New York, 1990.
236.
Sollors W. Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. - N.Y.
1986.
237.
Sztompka, P. Agency and progress; the idea of progress and changing theories of
change // J. Alexander and P. Sztompka (eds), Rethinking Progress, 1990, London: Unwin
Hyman
238.
Tambini О. Explaining Monoculturalism: Theory of Nationalism // Critical Review.
Vol, 10. 1996. М 2.
239.
Tilly Ch.(ed.) The Formation of National States in Western Europe. Princeton,
1975.
240.
Tilly Ch. States and Nationalism in Europe 1492-1992 // Theory and Society. Vol.
23. 1994. No. l.
241.
Tiryakian, Edward А.. 'On the significance of de-differentiation', in: Shmuel N.
Eisenstadt and Н. J. Heckle (eds), Macro-sociological Theory, Beverly Hills
286
242.
Thomas W..L. .Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. N.Y.:
Knopf, 1938
243.
Van den Berghe. P.L. Protection of Ethnic Minorities: A Critical Appraisal //
Protection of Ethnic Minorities.- N.Y. 1981
244.
Van den Berghe. P.L. The Ethnic Phenomenon. - N.Y. 1987
245.
Verdery С. Wither Nation and Nationalism? // Daedalus. Summer 1993.
246.
Verdery С. Ethnicity, Nationalism and State-Making. Ethnic Groups аnd
Boundaries: Past and Future // Vermeulen Н., Со~ею С. The Anthropology of Ethnicity.
The Hague, 1994.
247.
Weber М.Economy and Society. New York . 1968.
248.
Weber М. From Мах Weber: Essays in Sociology; Genh Н., Wright Mills С. (eds.).
L., 1948.
249.
Williams В. А Class Act: Anthropology and the Race to Nation Across Ethnic
Terrain // Annual Review of Anthropology. Vol. 18. 1989.
Статьи в периодической печати и в интернет-изданиях
1. Аверкин Сергей, Бессарабова Анна, Миронова Галина, Литвинов Александр,
Семенова Елена: ЕСТЬ ЛИ "КАВКАЗСКАЯ КРЫША" У РЫНКОВ?
/Комсомольская правда (Москва) N196, 24.10.2001
2. Алксандров Ю. Дикое поле // Новое время .№11. 16 марта 2003
3. Атаку на правительство поддержат полпреды.//АПН 14 мая 2003 16:45
C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.IE5\O5QJO1Q3\Latyshev's 3-year
speech-14-5-03.htm
4. Бондаренко В. Народ Вседержитель// «Завтра» № 1(318) 4 января 2000
5. Жириновский В. Что мы предлагаем. Предвыборная программа ЛДПР. –
"Юридическая газета", N 40-41,1993
6. Говорящий ночной голова: лосей на переправе не меняют?// Кандидат . Ру:
11.03.2003 http://www.kandidat.ru/nf_det_hronicles_971.ht
287
7. Жириновский В, .Надежден Б «О Законе о русском языке как государственном»
http://www.integrum.ru/webpush/personal/w5068991.htm - 52К - 08.02.2003
8. Интервью А. И. Солженицына газете “Вечерний клуб”// Мир за неделю, № 17, 2027. 05. 2000 г
9.
Из "Кодекса чести" партии "Русское национальное единство" // Русский порядок.
1993. 19 декабря. С.28.
10. Информация
11. ИНТЕРФАКС. Москва. 9 сентября
12. НТВ, "Герой дня", 03.09.98.
13. ТАСС-НОВОСТИ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР РОССИИ от 23.09.98.
14. Телеканал НТВ, БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, 29.09.98, 08:35.
15. Эхо Москвы, ГОСТЬ ДНЯ, 02.09.98; 14:17.
16. Эхо Москвы, ИНТЕРВЬЮ, 28.09.98, 15:35.
17. Калашникова М "Путин хочет иметь сильную власть, как в Татарстане" Президент
Шаймиев Минтимер предлагает альтернативу институту полпредов Независимая
газета 02.12.2000.
18. Казак А ( пресс-служба УВД Иркутской области) / Восточно-Сибирская правда
(Иркутск), N171-172 08.09.2001
19. Кара-Мурза. А. Россия в треугольнике: “Этнократия - империя - нация”//
http://www.mos.ru/~boris/jhjbh.htm
20. Кеворкова Н. Церковные иерархи за преподавание теологии // Gazeta.RU 11.10.2002.
http://www.gzt.ru/rubricator.gzt?rubric=novosti&id=19050000000003188
21. КИТАЙСКАЯ МАФИЯ В МОСКВЕ. Оренбургские губернские ведомости
(Оренбург) , N01528.08.
22. Ключевский. Кэ 40 объектов федерации вместо 7 федеральных округов // Газета РУ.
26.05.2003 http://www.gzt.ru/rub.gzt?rubric=novosti&id=31550000000012595
23. Коновалов Валерий. ГУБЕРНАТОРЫ ПЕРЕГОРАЖИВАЮТ СТРАНУ. Известия,
22.09.1998, с. 1.
24. Коргунюк
Ю.
"Современная
российская
многопартийность
//Полит.
Ру
http://www.polit.ru/docs/475786.html
288
25. Кубанская пресса лидирует по числу националистических высказываний
21/12/2002. http://kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/543257.html
26. Кутковец Татьяна, Клямкин Игорь «НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ В НЕНОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ»
http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=257
27. Краснодарские чекисты не забыли свое славное прошлое. // Новая газета 21.03.2002
28. Леонтьев М. Наша страна самостоятельный проект.// «Россiя» 31 марта 2003г
29. .Литой
Александр
ЛУЧШЕ
БЫТЬ
ПАЛАЧОМ,
ЧЕМ
ДУРАКОМ
Макаров Ахмад Кто придет на смену генералам? / "Современная мысль" Исламский
конгресс России http://www.islamua.net/islam_ua/news/general.shtml
30. Митрополит Кирил: «Россия – православная, а не «много конфессиональная»
страна// Радонеж. 2002. №8
31. «Модернистский
проект:
спрос
и
предложение»
01.10.2002.
http://www.liberal.ru/issue.asp
32. Общественность Карелии выступила против перехода на кириллицу.// Известия.Ru
11.12.2002
33. Политический
коментарий
агентсва
«Никола
М»//
http://www.nikkolom.ru/article/news_itogi_23_29_06_01.htm
34. Рыбкин И. Дубнов В. Мы живем в режиме спецоперации…// Новое время. 2003,
№5.С.15
35. Севастянов М.,
Червоненко Д. ГЕРОИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Тверская 13
(Москва) , 24.01.2002
36. Станкевич С.. Явление державы. //.Российская газета, 23 июня 1992
37. Сухова С. "Надо быть осторожнее в реформе госвласти. Губернаторы надеются, что
президентские
полпреды
-
это
ненадолго.//
"Сегодня"
2000.11.25.
Татарская азбука: кириллица или латиница? Дискуссии вышли на новую стадию //
TatNews.Ru 12.01.2003
38. Шахрай С. Федерализм по-казански // Независимая газета. 27 февраля 2001 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Изменение национального состава России в 1989–1999 гг.
(в тыс. чел.)*
289
Народы
1989 г.
Прирост
за 1989–1999 гг.
1999 г.
России
Перепись
Общий
естественны
миграцион
оценка
й
ный
Всего
147021,9
-653,0
-3850,8
3197,8
146368,9
Русские
119865,9
-1982,4
-4622,8
2640,4
117883,5
Татары
5522,1
298,8
88,1
210,7
5820,9
Украинцы
4362,9
-61,3
-233,7
172,4
4301,6
Чуваши
1773,6
63,0
43,9
19,1
1836,6
Башкиры
1345,3
128,1
90,0
38,1
1473,4
Белорусы
1206,2
-54,2
-75,5
21,3
1152,0
Мордва
1072,9
-45,8
-69,6
23,8
1021,1
Чеченцы
899,0
186,0
175,4
10,6
1085,0
Немцы
842,3
-257,7
-1,8
-255,9
584,6
Удмурты
714,8
12,4
5,2
7,2
727,2
Марийцы
643,7
25,3
17,0
8,3
669,0
Казахи
635,9
55,3
68,8
-13,5
691,2
Аварцы
544,0
113,2
108,8
4,4
657,2
Евреи
536,8
-228,9
-101,0
-127,9
307,9
Армяне
532,4
342,3
34,8
307,5
874,7
Буряты
417,4
39,6
38,8
0,8
457,0
Осетины
402,3
68,1
20,5
47,6
470,4
Кабардины
386,1
47,1
46,2
0,9
433,2
Якуты
380,2
51,9
51,8
0,1
432,1
Даргинцы
353,3
77,9
74,4
3,5
431,2
Коми
336,3
-6,0
-6,8
0.8
330,3
Азербайд
335,9
126,8
64,0
62,8
462,7
Кумыки
277,2
51,1
50,1
1,0
328,3
Лезгины
257,3
72,5
51,9
20,6
329,8
Ингуши
215,1
46,7
44,1
2,6
261,8
Тувинцы
206,2
32,4
32,2
0,2
238,6
Молдаване
172,7
15,7
13,6
2,1
188,4
Калмыки
165,8
12,4
11,9
0,5
178,2
Карачаевцы
150,3
18,7
17,6
1,1
169,0
жанцы
290
Коми-
147,3
-1,2
-1,4
0,2
146,1
Грузины
130,7
42,2
5,2
37,0
172,9
Узбеки
126,9
10,7
5,2
5,5
137,6
Карелы
124,9
-18,0
-18,9
0,9
106,9
Адыгейцы
122,9
7,4
6,4
1,0
130,3
Лакцы
106,2
16,3
12,9
3,4
122,5
Табасараны
93,6
25,0
24,0
1,0
118,6
Хакасы
78,5
3,2
2,6
0,6
81,7
Балкарцы
78,3
8,3
7,4
0,9
86,6
Ногайцы
73,7
9,3
9,1
0,2
83,0
Литовцы
70,4
-5,2
-2,9
-2,3
65,2
Алтайцы
69,4
6,8
6,3
0,5
76,2
Черкесы
50,8
4,7
4,1
0.6
55,5
Латыши
46,8
-6,5
-6,7
0,2
40,3
Эстонцы
46,4
-6,3
-6,9
0,6
40,1
Киргизы
41,7
-3,5
2,8
-6,3
38,2
Туркмены
39,7
0,7
3,4
-2,7
40,4
Таджики
38,2
26,6
2,1
24,5
64,8
Прочие
981,6
-22,5
56,6
-79,1
959,1
пермяки.
Богоявленский Д. Этнический состав населения России // Население и общество ноябрь
1999. № 41.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Результаты социологических исследований региональной и общероссийской
идентинтичности жителей России (Башкотртостан, Татарстан, Якутия и
Оребрургская обл.)
291
Схема 1. Распределение ответов на вопрос:"Кем Вы
себя чувствуете в большей мере?..."
Башкортостан
60
55
55,0
село
город
город
село
50
43,9
44,1
43,8
43,8
город
село
40
31
27,9
30
23,8
30,9
27,8
23,8
20
15,7
город
15,8
13,6
10
5,7
5,7
село
13,5
6
5,36,3 5,36,06,3
0
В основном башкортостанцем
В основном россиянином
башкиры
татары
русские
292
Схема 2. Распределение ответов на вопрос: "Кем
Вы себя чувствуете в большей мере?..."
Татарстан
80
город
70
село
67,1
сел
город
62,5
60
50
город
42,8
село
40,4
40
город
31,7
30
27,9
29,3
село
23,3
23,7
22,1
20
10
5,9
3
5,2
4,2
4,8
2
0
В основном И тем и другим
татарстанцем в равной мере
татары
В основном
россиянином
Ни тем, ни
другим
русские
293
Схема 3. Распределение ответов на вопрос: "Кем Вы
себя чувствуете в большей мере?..."
Саха (Якутия)
90
85
80
77
село
70
город
60
57,1
город
город
48,3
50
село
село
40
30,6
30
22,4
20
13,8
16,3
город
село
17,7
11,9
6,6
10
1,4
0,9
2,4
1,8 2
0
В основном якутянином
В основном россиянином
якуты
русские
294
Схема 4. Распределение ответов на вопрос: "Кем Вы
себя чувствуете в большей мере?..."
город
45
село
Оренбургская область
41,3
40
35
39,1
37,938
город
34,7
село
30
28,227,4
город
село
25
22,6
20,4
21,2
20
село
16,4
15
город
12,3
9
10
10,9
7,7
5,5
5
0
В основном И тем и другим В основном
оренбуржцем в равной мере россиянином
русские
Ни тем, ни
другим
татары
295