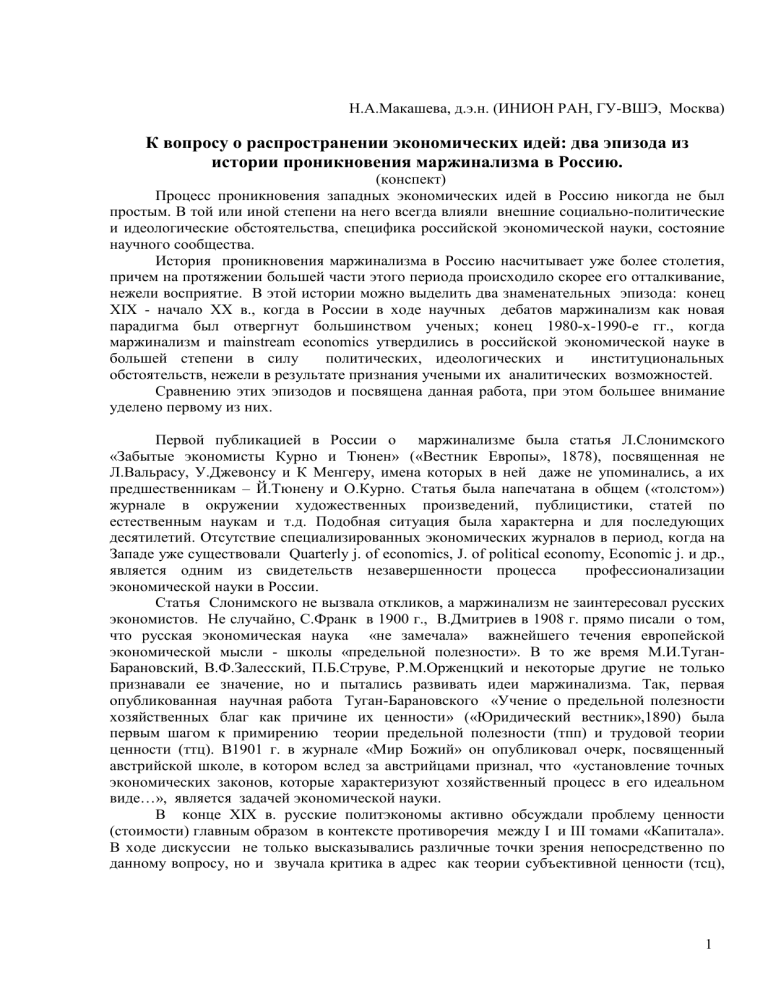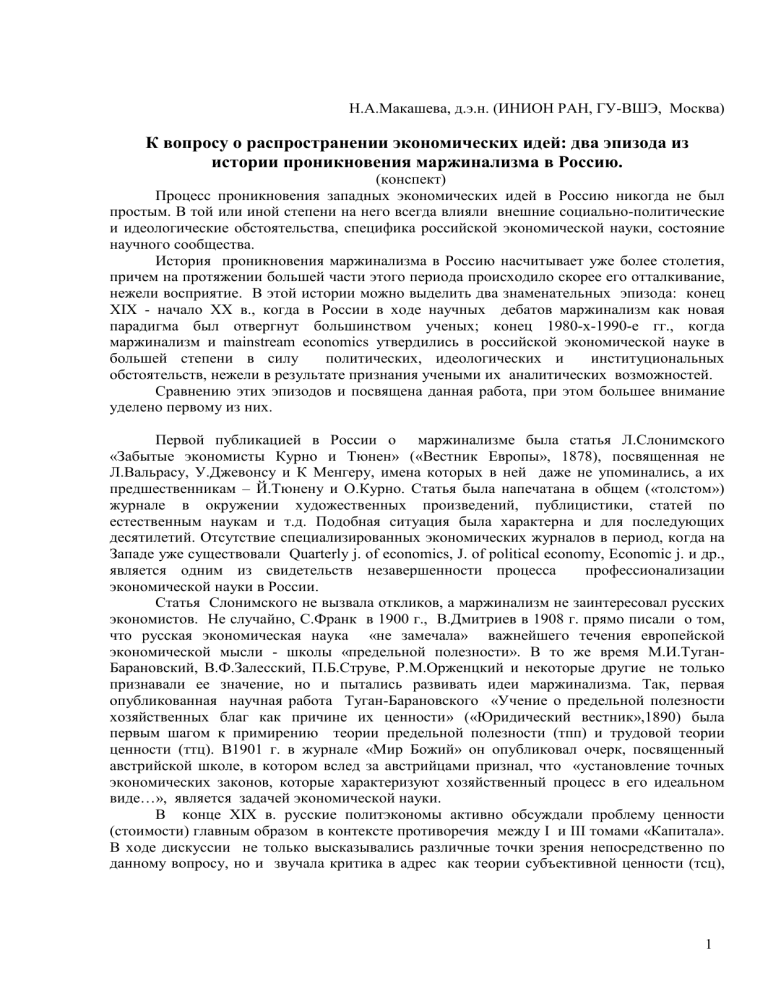
Н.А.Макашева, д.э.н. (ИНИОН РАН, ГУ-ВШЭ, Москва)
К вопросу о распространении экономических идей: два эпизода из
истории проникновения маржинализма в Россию.
(конспект)
Процесс проникновения западных экономических идей в Россию никогда не был
простым. В той или иной степени на него всегда влияли внешние социально-политические
и идеологические обстоятельства, специфика российской экономической науки, состояние
научного сообщества.
История проникновения маржинализма в Россию насчитывает уже более столетия,
причем на протяжении большей части этого периода происходило скорее его отталкивание,
нежели восприятие. В этой истории можно выделить два знаменательных эпизода: конец
XIX - начало XX в., когда в России в ходе научных дебатов маржинализм как новая
парадигма был отвергнут большинством ученых; конец 1980-х-1990-е гг., когда
маржинализм и mainstream economics утвердились в российской экономической науке в
большей степени в силу
политических, идеологических и
институциональных
обстоятельств, нежели в результате признания учеными их аналитических возможностей.
Сравнению этих эпизодов и посвящена данная работа, при этом большее внимание
уделено первому из них.
Первой публикацией в России о маржинализме была статья Л.Слонимского
«Забытые экономисты Курно и Тюнен» («Вестник Европы», 1878), посвященная не
Л.Вальрасу, У.Джевонсу и К Менгеру, имена которых в ней даже не упоминались, а их
предшественникам – Й.Тюнену и О.Курно. Статья была напечатана в общем («толстом»)
журнале в окружении художественных произведений, публицистики, статей по
естественным наукам и т.д. Подобная ситуация была характерна и для последующих
десятилетий. Отсутствие специализированных экономических журналов в период, когда на
Западе уже существовали Quarterly j. of economics, J. of political economy, Economic j. и др.,
является одним из свидетельств незавершенности процесса
профессионализации
экономической науки в России.
Статья Слонимского не вызвала откликов, а маржинализм не заинтересовал русских
экономистов. Не случайно, С.Франк в 1900 г., В.Дмитриев в 1908 г. прямо писали о том,
что русская экономическая наука «не замечала» важнейшего течения европейской
экономической мысли - школы «предельной полезности». В то же время М.И.ТуганБарановский, В.Ф.Залесский, П.Б.Струве, Р.М.Орженцкий и некоторые другие не только
признавали ее значение, но и пытались развивать идеи маржинализма. Так, первая
опубликованная научная работа Туган-Барановского «Учение о предельной полезности
хозяйственных благ как причине их ценности» («Юридический вестник»,1890) была
первым шагом к примирению теории предельной полезности (тпп) и трудовой теории
ценности (ттц). В1901 г. в журнале «Мир Божий» он опубликовал очерк, посвященный
австрийской школе, в котором вслед за австрийцами признал, что «установление точных
экономических законов, которые характеризуют хозяйственный процесс в его идеальном
виде…», является задачей экономической науки.
В конце XIX в. русские политэкономы активно обсуждали проблему ценности
(стоимости) главным образом в контексте противоречия между I и III томами «Капитала».
В ходе дискуссии не только высказывались различные точки зрения непосредственно по
данному вопросу, но и звучала критика в адрес как теории субъективной ценности (тсц),
1
так и трудовой теории ценности (ттц), а также высказывались соображения в пользу
синтеза этих двух теорий.
Хотя сторонники синтеза (Струве, Франк, Туган-Барановский) не были единодушны,
они признавали главенствующую роль экономического (оптимизационного) принципа;
ограниченность ттц как универсальной теории ценности, зависимость объема и структуры
производства от объема труда и его распределения между отраслями. То, что ттц была
обращена на объективную сторону процесса определения ценности, а тсц
– на
субъективную, позволяло им рассматривать эти теории не как альтернативные, а как
дополняющие друг друга. При этом фактически речь шла не о ттц Маркса, а о теории
издержек Риккардо. Выражением идеи синтеза стала «теорема» Туган-Барановского,
гласящая, что субъективные ценности благ пропорциональны их трудовым ценностям
(стоимостям).
Однако сторонники компромисса не были единодушны. Так, Струве и Дмитриев
отказывались признать самостоятельное значение проблемы ценности, полагая, что
экономиста должна интересовать только проблема цены. Туган-Барановский предлагал
рассматривать проблему ценности не с теоретической, а с методологической и этической
точек зрения. Он утверждал, что теория Маркса является полезной методологической
фикцией, указывающей на социальную природу прибыли и ценности. В то же время,
стремясь к выяснению универсальных
закономерностей хозяйственной жизни, он
предлагал сосредоточиться на прибавочном продукте, величина которого зависит от
производительности капитала, а распределение определяется «социальными отношениями
за пределами рынка». Подобный подход позволял в частности уйти от вопроса,
преследовавшего марксистов: как в рамках одной
теории согласовать рост
производительности труда и органического строения капитала, неизменность нормы
эксплуатации и тенденцию нормы прибыли к понижению.
Идея синтеза привела некоторых ее сторонников к таким понятиям, как
«субъективная общественная ценность» и «общественная полезность». Последняя, по
мнению Франка, выражала «субъективную оценку благ отдельными членами общества, но
только с точки зрения интересов и потребностей общества». В явном виде функцию
общественной полезности использовал в 1902 г. Н. Столяров при доказательстве «теоремы»
Туган-Барановского. Идея общественной функции полезности вызвала критику некоторых
русских марксистов, утверждавших, что в этом случае нарушается методологическое
единство теории, а само понятие «общественная функция полезности» является внутренне
противоречивым. Заметим, что подобную критику вполне можно было адресовать и
некоторым западным экономистам, например, К.Кнису или Э. Селигмену, которые в это же
время пытались выразить социальный аспект ценности через понятие «общественной
предельной полезности».
Идею общественной функции полезности с позиций методологического
индивидуализма критиковал Струве. Он видел в последнем фундамент теоретической
экономии, в отличие от Туган-Барановского, который принимал методологический
индивидуализм, исходя из этических установок, близких к Канту.
Как поиски объединяющей теории ценности, так и установка на отказ от
рассмотрения проблемы ценности в пользу анализа проблемы цены вызвали резкую
критику со стороны большинства русских экономистов. В конечном счете, водоразделом
оказалась не столько теория, сколько методология. Представление об экономической науке
как о социальной дисциплине, призванной исследовать общественные отношения в сфере
хозяйства и с этих позиций трактующей ценность, противостояло представлению о ней как
о дисциплине, занятой исследованием цен и объемов. Чтобы принять маржинализм как
2
аналитический метод и теорию предельной полезности как теорию ценности, требовалось
признать самостоятельное значение чистой теории. Российские экономисты за
исключением, быть может, экономистов-математиков не были к этому готовы. Этот факт
отражал недостаточную профессионализацию российской экономической науки, а также
исторически обусловленный интерес российских экономистов к социально-экономическим
проблемам.
Методологическая
позиция,
которую
предполагал
маржинализм,
рассматривалась ими не только как ограниченная, но и как уводящая анализ в ложном
направлении.
Заметим, что в указанный период против наметившегося парадигмального сдвига
выступали и представители формирующегося инстититуционализма. В отличие от
марксистов, опасавшихся утраты экономической наукой социального содержания,
институционалисты критиковали маржиналистов за
отказ
от рассмотрения
экономических явлений как процессов социального взаимодействия.
В середине 1980-х годов после десятилетий безраздельного господства марксизма
научное сообщество российских экономистов вновь столкнулось с проблемой восприятия
западных идей. Продолжительное и основанное на политико-идеологическом фундаменте
доминирование марксизма привело к тому, что «критическая традиция» была утрачена
даже в рамках марксистской политэкономии; советская политэкономия, отгородившись от
мировой науки, превратилась в особую науку, ориентированную не столько на получение
нового знания, сколько на комментирование марксистских текстов. Как и раньше,
экономисты не замечали происходящего в экономической науке на Западе, обращаясь к
последней только, чтобы ее критиковать.
Когда в конце 1980х-гг. начался активный процесс проникновения западной
экономической науки, выбор в пользу mainstream economics был сделан, но не в результате
решения научного сообщества, признавшего ее аналитические преимущества, а под
воздействием внешних обстоятельств. Большинство российских экономистов не были
готовы принять mainstream в силу неподготовленности, инерции мышления,
институциональной структуры науки и образования, опасения относительно перспектив
собственной профессиональной карьеры. Не удивительно, что проводниками западного
образа экономического мышления стали не профессиональные экономические, а «толстые»
литературные журналы.
Отношение к западной экономической науке определялось в ходе дискуссии о
сравнительных преимуществах капитализма и социализма как экономических систем.
Деградация плановой системы делала преимущества рыночной очевидными. В глазах
многих это свидетельствовало и о преимуществах западной экономической науки. При
этом ни ее сторонники, ни противники не были подготовленными к тому, чтобы понять
суть, ограничения и возможности той или иной западной теории. Отчасти этим объясняется
наивная вера в существование некой правильной теории, способной дать ответы на все
актуальные вопросы, а также доверие к рекомендациям западных экспертов, выбор которых
часто был случайным.
«Антизападники» эпохи трансформации уже не ссылались на Маркса, а приводили
этические, исторические и религиозные аргументы. Они охотно критиковали mainstream за
абстрактный характер, формализм, методологический индивидуализм и т.д. Ключевыми
словами были: «уникальность России», «нравственная сторона хозяйственной
деятельности», «соборность русского сознания» и т.д.
Важную роль в проникновении западных экономических идей в Россию сыграли
институциональные факторы, в частности, создание различных научных и
3
просветительских фондов, поддерживающих как научные исследования, так и публикацию
экономической классики. Не менее важным, по крайней мере, с точки зрения освоения
основ mainstream economics, были и преобразования в сфере образования. При этом на
первом этапе сдвиги, инициированные сверху, воспринимались, а во многом и были
таковым, как результат внешнего давления, а не переосмысления взглядов самим
преподавателями. Этим обстоятельством, а также общей неподготовленностью
большинства преподавателей
можно объяснить появление «гибридных курсов»,
объединяющих элементы различных, часто противостоящих друг другу теорий,
невысокий уровень преподавания и т.д.
Российская экономическая наука и сегодня в основном остается изолированной,
актуален и вопрос о ее профессионализации. Процесс интеграции в мировую науку идет
крайне медленно, по-прежнему остается открытым вопрос, сможет ли она разрушить стену,
столь долгое время отделяющую ее от мировой науки.
4