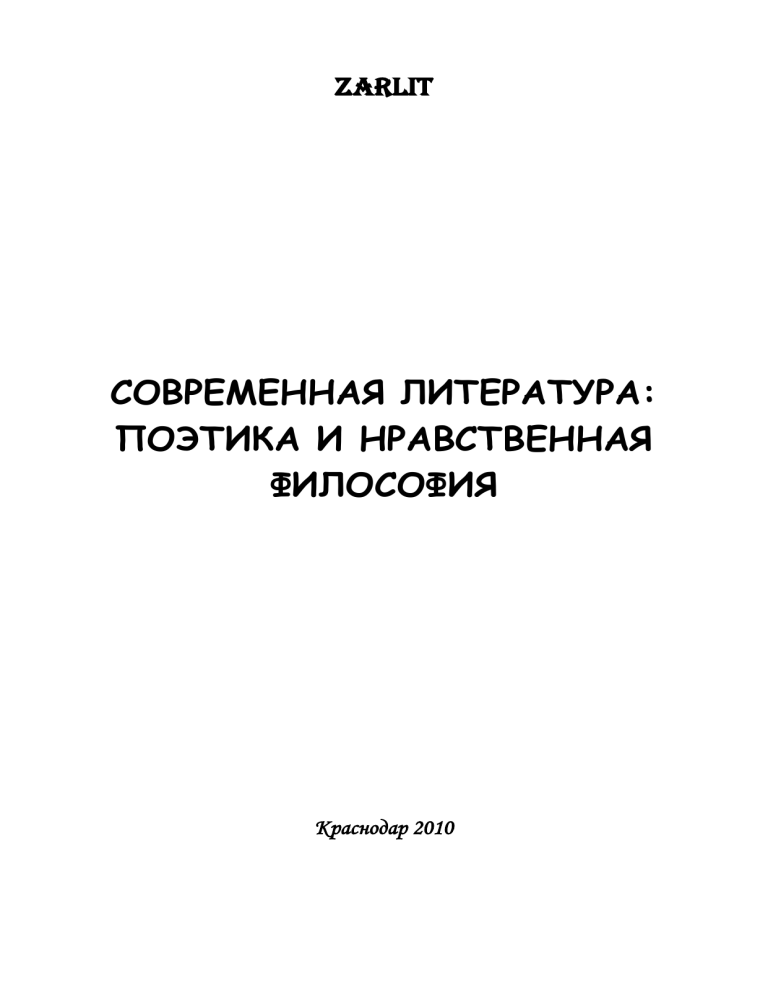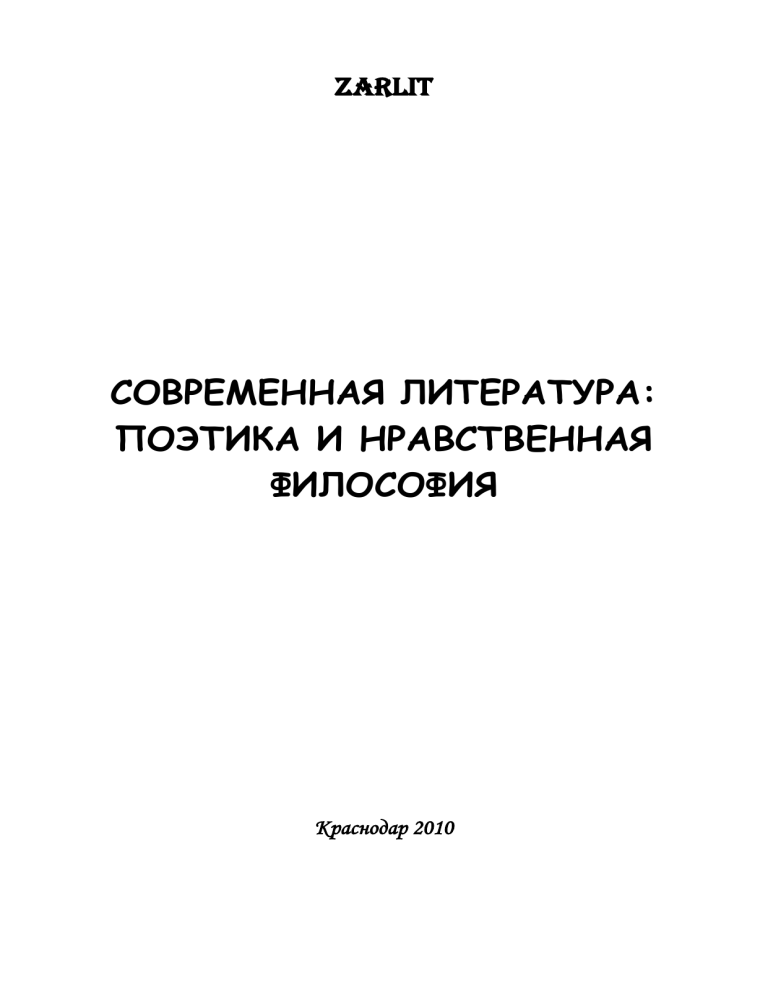
ZARLIT
СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ПОЭТИКА И НРАВСТВЕННАЯ
ФИЛОСОФИЯ
Краснодар 2010
УДК 82.17
ББК 83.3 (3): 87.7
Современная литература: поэтика и нравственная философия / Под ред.
А.В. Татаринова. Краснодар: ZARLIT, 2010.
Сборник научных статей и творческих работ, посвященных теоретическим и
практическим проблемам современной художественной литературы, объединил
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов Кубанского государственного университета. Адресуется профессиональным и стихийным гуманитариям, видящим в словесности силу, созидающую миры и способную активно
воздействовать на нравственное сознание читателя.
УДК 82.7
ББК 83.3 (3): 82.7
2
«СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: ПОЭТИКА И НРАВСТВЕННАЯ
ФИЛОСОФИЯ» КАК ЕДИНЫЙ ТЕКСТ
Современный литературный процесс – хороший повод для того, чтобы
филологам собраться вместе, преодолев свои статусные (профессор и студент),
кафедральные (специалист по русской и специалист по зарубежной литературе)
границы, выйти на время за пределы личных интересов и сложившихся установок (защитник классики – апологет постмодернизма), научных направлений
(литературовед – лингвист). Оставаясь в рамках своих гуманитарных символов
веры, сетуя на снижение качества словесности последних десятилетий, мы забываем, что сами основы нашей научной и образовательной деятельности размываются тогда, когда современное аттестуется как упадок, деградация, забвение традиций. Если сейчас, в начале нового тысячелетия создается плохая литература, изменившая великому прошлому, это значит, что завтра отпадет
необходимость в ее изучении, а наша профессиональная деятельность будет
протекать в пространстве большого музея, в котором наступит нездоровый диктат архаики – прекрасной, несомненно живой, не способной решить всех проблем новых времен, закономерно наступающих в свой черед. Совсем необязательно утверждать, что романы и поэмы, появляющиеся в наши дни, уникальны
в своем качестве. Действительно, как сказал один саркастичный писатель,
шекспиров ныне не очень много. Впрочем, их мало всегда. Вряд ли это повод
для грусти. Присутствие множества художественных текстов, вызывающих
улыбку, негодование или простую радость творческого чтения, должно активизировать филолога в важном деле интерпретаций и сопоставлений, в воссоздании литературного процесса, в понимании того, чего же сейчас желает родная
для всех нас литература. Он есть, имеет серьезное значение – в контексте тех
гуманитарных прорывов и катастроф, которые произошли за последние сто лет,
но он не так очевиден, как во времена, уже обосновавшиеся в программах и
учебниках. Чтобы литературный процесс был по-настоящему, необходима активность профессионального читателя, в сознании которого и происходит диалог авторов/текстов/героев/эпох, способный привести не только к диагностике
эпоса/лирики/драмы, но и к выводам, имеющим сверхфилологическое значение. В художественном тексте религия и политика, психология и педагогика,
становление законов и философских знаний о мире присутствуют в подвижных
формах, во внутренней жизни сюжета, подчас опережая развитие обособленных
областей знания. Изучая то, что пишется сейчас, мы получаем шанс увидеть то,
что будет потом. Для подготовленной встречи с будущим Пелевин, Уэльбек,
Проханов или Кундера не менее важны, чем аналитические программы телеканалов.
Идея собраться вместе в рамках сборника, посвященного современности, была высказана преподавателями кафедры зарубежной литературы Кубанского государственного университета, которые прежде выступали совместно в трех выпусках «Дидактики художественного текста» (2005, 2007, 2009).
Теперь число участников возросло. В книге собрано тридцать семь статей, авторов – тридцать четыре. Десять преподавателей, шесть аспирантов, один маги3
странт, семнадцать студентов. Представлены три факультета нашего университета: филологический, романо-германский, факультет журналистики. Свои работы предложили студенты всех пяти курсов очного отделения филологического факультета КубГУ. Это не самые плохие цифры, если учесть, что со дня
приглашения коллег к участию в совместном проекте до издания книги прошло
три месяца. Активность (особенно, студенческая) показывает, что заявленная
проблема имеет смысл.
Впрочем, дело не в цифрах. О чем можно сказать, рассматривая состоявшийся сборник статей как единый текст? Критерием распределения работ по
разделам могло стать восприятие каждой из них как явления экспрессивного,
аналитического или теоретического стиля. Во многих случаях это разделение
действительно присутствует, но не всегда. Более объективным знаком классификации мы посчитали не манеру письма, а объект, определяющий сюжет
научного или научно-публицистического исследования. В первом разделе
(«Анализ и интерпретация современного художественного текста») интерес авторов вызвало одно произведение, ставшее основой литературоведческих суждений. Во втором разделе («Сопоставительный анализ художественных текстов
и литературных миров») познание современности происходит в сравнении двух
произведений или рассмотрении того или иного литературного факта последних десятилетий в контексте художественных явлений, сформировавшихся ранее. В третьем разделе («Авторские модели мира и теоретические проблемы
современного литературного процесса») акцент сделан на целостном восприятии современного писателя как комплексного явления индивидуальной поэтики
и на самых разных аспектах литпроцесса, имеющего прямое и косвенное отношение к решению теоретических вопросов. Это не значит, что в первых двух
разделах теоретические вопросы вовсе не поднимаются.
Отдельные работы посвящены таким не самым знаменитым прозаикам
современности, как Шишкин, Лихачев, Бутин, Лазарчук, Барикко, Маккарти,
Перес-Реверте, Лунтиал. Закономерен интерес к Павичу, Сорокину, Паланику,
Уэльбеку, Прилепину, Барнсу. Удивляет отсутствие Пелевина, радует присутствие Юрия Кузнецова. Очень много Бегбедера, который предстает в нашем
издании в достаточно разных контекстах, сигнализируя о том, что эпатажные
сюжеты, не отличаясь художественной силой, могут вызывать закономерный
литературоведческий интерес. Уже из заголовков статей видно, что проза притягивает больше, чем поэзия и драматургия, а роман остается ключевым жанром, способным объемно свидетельствовать о нашем мире. В контексте современности продолжают оставаться классики XX века, создающие динамичное
пространство между классикой и новой словесностью: Джойс, Мисима, Борхес,
Кортасар, Маркес.
Рассматриваются теоретические проблемы: литературной теологии и
апокрифического дискурса, жанровых модификаций, сюжетных трансформаций, повествовательных кодов, разных форм неканонической поэтики – неосинкретизма и необарокко, например. Выделяются такие мощные риторические
потоки современной словесности, как массовое искусство и детская литература,
рок-поэзия и православный роман, проза мифологического реализма и поэзия
4
концептуализма. Интерес у авторов вызывают альтернативные, далекие от
классического психологизма, модели нравственно-философского присутствия,
художественной дидактики в современном литературном процессе: неогностицизм и художественный апофазис, негативный катарсис и конфессиональная
поэтика, экстремизм в сдерживающих берегах искусства и эсхатологическая
проповедь.
Не везде есть научное совершенство, но иногда можно обойтись и без
него. Есть погружение в поэтику – в целостность внутренних законов современных художественных миров, присутствует и нравственная философия –
рассмотрение стратегий обращения произведения к внутреннему миру читателя, способного воспринять литературный текст как сложный урок, не сводимый
к простым указаниям правильных путей. Статьи и эссе, рецензии и выступления, сформировавшие сборник, скучными назвать нельзя.
Спасибо всем, кто откликнулся на призыв нашей кафедры. Профессора
и доценты оставили на время сферы своих научных интересов, чтобы сказать
слово о современных текстах. Студенты смогли выйти из тем курсовых работ,
чтобы сообщить нам о своем понимании Цоя и Паланика, Бегбедера и Веллера,
Маркеса и Прилепина. Благодаря этим усилиям издание состоялось. Чем оригинальнее будут ваши предложения о дальнейшем сотрудничестве студентов и
преподавателей, чем смелее и настойчивее мы станем мыслить и писать, тем
реже злые языки будут говорить, что филологический факультет морально
устарел. Тот, кто не чувствует мощи литературного творчества и слов, ей посвященных, давно придавлен плитой собственного рационализма. Нам повезло,
им нет.
А.В. Татаринов
5
Раздел I. Анализ и интерпретация
современного
художественного текста
С.Н.Чумаков*
Гомер и Барикко, или Как сегодня сделать «Илиаду»
Давняя и устойчивая практика творческого обращения к сюжетам и образам литературной классики сохранится, безусловно, и в XXI столетии. Скрытая или явная перекличка эпох всегда будет одним из мощных стимулов всякого подлинного новаторства, о чем в свое время убедительно говорил Т.С.
Элиот в статье «Традиция и индивидуальный талант». В частности, можно
ожидать, что привлекательными для современных писателей и поэтов останутся апробированные и как бы освященные временем произведения грекоримской древности с их высоким художественным мастерством и богатой, основанной на яркой мифологии архетипичностью. В последние 2-3 десятилетия,
которые мы связываем с началом новейшего периода литературы, уже появились оригинальные, основанные на разнородном античном материале произведения Кристы Вольф, Анри Бошо, Джона Барта, Милорада Павича, Кристофа Рансмайра, К.С.Льюиса, Сары Грейси, Виктора Пелевина и ряда других авторов.
Среди первоисточников античных сюжетов, неизменно интересующих
писателей и поэтов Нового времени, особое место всегда занимали гомеровские поэмы. Х.Л. Борхес выделял в мировой литературе всего четыре магистральных истории, из которых две первые связаны именно с Гомером: об
укрепленном городе, который штурмуют и обороняют герои («Илиада»), и о
возвращении («Одиссея»).
С тем большим интересом несколько лет назад было воспринято появление в русском переводе небольшого произведения уже завоевавшего европейскую популярность итальянского автора А. Барикко под интригующим и многообещающим названием «Гомер. Илиада» [1].
По материалам электронной энциклопедии, Алессандро Барикко (Alessandro Baricco, р. 1958) – известный итальянский писатель, драматург, журналист, эссеист, литературный и музыкальный критик. После литературного дебюта в 1991 году его художественные произведения (на сегодня их более десяЧумаков Станислав Николаевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы КубГУ
*
6
ти) переведены на множество языков. Обладая ученой степенью по философии
и закончив консерваторию по классу фортепиано,
автор активно проявляет себя в различных областях творческой деятельности,
является одним из соучредителей школы литературного мастерства, осуществил несколько театральных и кинопостановок по своим сценариям, выступал
и в роли режиссера. В московских студиях с успехом шел его моноспектакль
по повести «1900. Легенда о пианисте [Novecento]». В России публикуется с
2001 года [См. 2].
Уже эта справка свидетельствует о тяготении Барикко к работе на стыках
литературы и других форм искусств, что, безусловно, повлияло на характер
его «Илиады».
Первое, что обращает на себя внимание в данном тексте, - это двойственность, неопределенность и некая ускользаемость авторского определения его
жанровой природы. В книжном издании «Иностранки» произведение определяется как роман, против чего автор как будто не возражает и в предисловии
даже ссылается на некогда популярного теоретика романа Д. Лукача. В то же
время в поясняющих частях книги не раз подчеркивается ее изначальная ориентация на «публичное чтение «Илиады» [1, 5; 7; 8; 164], что вплотную сближает
сочинение с адаптированным театральным сценарием. Подобный замысел
можно, конечно, понять и даже приветствовать, ведь и гомеровская «Илиада»
изначально предназначалась для декламации. Да и жанровая интерференция
становится все более характерным явлением в современной литературе. Однако
роман и сценарий имеют все же достаточно разную природу.
Практически заявленная «двужанровость» затрудняет критический подход к сочинению. Одно дело - комментировать публичное чтение, к тому же с
разделением на роли, с оценкой декламации и, видимо, игры актеров, очень вероятного музыкального сопровождения, с учетом возможных театральных эффектов и т.п. Осуществить это можно лишь после прослушивания/просмотра
спектакля, а первоочередное право на выводы следует предоставить театральным рецензентам. Другое дело – оценивать произведение как роман, неизбежно затрагивая при этом ряд специфических историко-литературных, аналитических и научно-филологических вопросов. Но однозначного выбора дальновидный А.Барикко нам не предоставил, рассчитывая, возможно, на то, что недостатки текста как романа могут обратиться в его достоинства как сценария, и
наоборот. Поэтому рассмотрим оригинальное творение итальянского автора в
условном качестве романа для публичного чтения (!), а основное внимание
уделим оценке его художественного уровня в соотнесении с подлинной «Илиадой».
В своей переработке гомеровской поэмы А. Барикко трансформирует ее
гекзаметрическую поэзию в прозу. Видимо, это его право и как сценариста, и –
тем более – как романиста, хотя непривычно, конечно, по замечанию одного из
российских критиков, вместо чеканного «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына» читать что-то вроде «Гектор и его союзники приказали своим людям вооружиться» [см. 4]. Впрочем, оказывается, что писатель даже не сам переводит «Илиаду» в прозаический модус (это было бы достаточно нелегким
7
трудом), а пользуется одним из уже имеющихся итальянских подстрочных переложений, которое он счел «стилистически близким своему собственному
восприятию, а затем принялся вносить в него свои собственные изменения»
[cм. 1, 5].
Итак, переложение переложения… Вторичная вторичность, что также
можно считать одним из признаков новейшей литературы и о чем Барикко говорит легко и непринужденно, как о норме, откровенно раскрывая в предисловии к книге и другие механизмы своей творческой лаборатории. Воспользуемся
его симпатичной искренностью.
«Я начал с сокращения текста, иначе чтение растянулось бы на неприемлемую для современной публики длину» [1, 5]. Значит, все-таки публичное
чтение, а не роман? Или роман, но для современной «публики», которая не
любит больших объемов чтения? Так или иначе, но в исходные посылки автора изначально входит принцип адаптации, ориентации на облегченность восприятия, на требования и возможности массовой аудитории. Объективности
ради отметим, что для театральной инсценировки или радиопостановки сокращение прототекста оправданно: «Илиада» Гомера – далеко не самое легкое и
простое произведение мировой литературы, в том числе и по причине своего
объема. Что же касается романов «по мотивам» поэмы, то возможно множество их вариантов, для которых большой объем препятствием быть не может.
(Средневековые «Романы о Трое» насчитывали десятки тысяч строк).
Сокращение опорного произведения требует осмысленных позиций по
отбору материала. В этом отношении итальянскому автору следует воздать
должное: такие позиции, пусть некоторые из них и спорны, сложились у него
достаточно четко. В частности, он скрупулезно, подобно старательному ученику, сохраняет т.н. основную сюжетную линию «Илиады» (гнев Ахилла и
последствия этого гнева). Мы специально сопоставили содержание соответствующих эпизодов с текстом Гомера, - существенных расхождений, кроме нескольких незначительных событийных перестановок, не нашлось.
А.Барикко сознательно отказался от многочисленных гомеровских повторов. Увы, что бы мы ни говорили о важной роли этого приема в фольклорных
произведениях, сегодня, особенно в сокращенных прозаических переложениях
классики, повторы, оказавшиеся вне родной стилистической среды, действительно утратили бы значительную долю своей художественной функциональности.
Другое дело, что вместе с повторами исчезли великолепные гомеровские
метафоры и сравнения. Это стало неизбежной платой за перевод поэмы в прозаическую форму.
Особого комментария требует принципиальный отказ итальянского писателя от всех без исключения эпизодов, где в «Илиаде» появляются боги. По
мнению автора переложения, «для современного восприятия они оказываются,
пожалуй, наиболее чуждым элементом, из-за которого постоянно прерывается
рассказ и замедляется развитие событий, иногда невероятно стремительное
(…). Как только мы выносим богов за скобки, в «Илиаде» появляется прочная
мирская основа. В гомеровском тексте человеческий поступок всегда следует
8
за божественным деянием, дублируя его и спуская, так сказать, на землю.
Несмотря на то, что в «Илиаде» божественный промысел стоит за любым, даже самым пустяковым происшествием, в ней в то же время ощущается стремление объяснить действия героев их собственной волей. А значит, если мы
удалим из текста богов, останется не столько осиротевший и необъяснимый
мир, сколько человеческая история, где люди проживают свою судьбу так,
как будто разгадывают зашифрованное послание при помощи секретного кода,
почти полностью им известного. В конце концов, выбросить богов из «Илиады» быть может, и не самый удачный ход для понимания гомеровской цивилизации,
но, как мне кажется, отличный способ возвращения этой истории на орбиту
современных повествований» [1, 6-7].
Звучит, как будто, убедительно. Но дело в том, что боги у Гомера – не
просто традиционный элемент тогдашней цивилизации, и далеко не всегда они
выступают лишь в роли кукловодов, по своей прихоти управляющих Троянской
войной. В не меньшей степени они персонифицируют те непостижимые случайности, которыми преисполнено человеческое существование. Решения,
поступки, даже прихоти и капризы богов формируют, по сути, то, что позднее
станут называть подтекстом и сферой подсознания геройного мира. Отказавшись от мифа, от божественной составляющей двуединого художественного
пространства Гомера, Барикко делает более одноплановыми и образы земных
персонажей, которые действительно нередко стремятся корректировать своей
волей божественные предзнаменования. Кроме того, с устранением богов
утрачивается мотивировка ряда ключевых ситуаций произведения. Складывается, например, впечатление, что молодой и более чем здоровый Ахиллес в
интерпретации итальянского автора неоднократно испытывает на поле боя серьезные проблемы со зрением, сначала в поединке с Энеем, затем при первом
столкновении с Гектором. У Гомера троянским героям помогают избегнуть гибели Посейдон и Аполлон. В трактовке Барикко с Пелеевым сыном происходит нечто совершенно необъяснимое: «… Ахиллес внезапно застыл, будто
ослеп, будто что-то случилось с ним, и растерянно оглянулся кругом» [1, 134];
«Ахиллес … с криком устремился вперед, потрясая копьем. Но снова взгляд
его затуманился и что-то произошло у него в голове. Три раза он бросался вперед, но как слепой, будто густой туман окружал его» [1, 136]. Столь же необъяснимым образом взбешенный поток реки Скамандр, преследующий Ахилла, внезапно останавливается перед бог весть откуда взявшейся стеной огня (у
Гомера эту стену воздвигает Гефест). Неубедительно, заурядным страхом, мотивировано у Барикко поведение вовсе не трусливого благородного Деифоба,
всецело преданного своему брату Гектору, отважно выступающего ему на помощь, но потом внезапно исчезающего (у Гомера облик Деифоба принимает
Афина, постоянно покровительствующая Ахиллесу).
Подробно излагать эпизоды с участием богов писателю, возможно, и не
следовало, но не мешало бы во всех необходимых местах кратко обозначать
присутствие высших сил. Примерно так, как это сделано со знаменитым эпи9
зодом определения жребия Гектора и Ахилла: «…Значит, боги еще не решили,
чем завершится этот бой, еще не достали жребий победителя…» [1,144].
Очередным элементом модернизации гомеровской «Илиады» становится
смена повествовательных моделей. В отличие от эпической объективности своего великого предшественника, Барикко вроде бы стремится к подчеркнутой
лирической субъективности. С этой целью он делит текст на 17 главок, написанных от лиц 22-х персонажей (в 2-х главках
по 2 повествователя, в одной – 4). Имена повествователей в основном соответствуют главным персонажам гомеровского эпоса, за исключением Хрисеиды и
кормилицы Астианакса, которые у Гомера голоса лишены, а также певца Демодока, образ которого Барикко заимствует из «Одиссеи» ради создания целостной картины Троянской войны.
Подобные изменения повествовательной формы вполне допустимы в переработке, но, к сожалению, у итальянского автора они имеют чисто внешний
характер. Своей «субъективной» прозой рассказчики повторяют практически то
же, что Гомер излагает высокой поэзией. (Хрисеида, правда, умудряется рассказать о том, что произошло в греческом лагере уже после того, как она его
покинула). Дополнительного лирического эффекта не возникает, ибо он и не
может возникнуть от одной лишь механической перемены повествующего лица. Постоянно чувствуется характерная для Барикко ориентация на усредненную аудиторию, чего писатель и не думает скрывать. Показательно, как сам он
оценивает в предисловии свое новаторство:
«Я сделал рассказ субъективным. Выбрав нескольких персонажей «Илиады», я заставил их рассказывать историю от первого лица и заменил ими постороннего (!- С.Ч.) рассказчика – Гомера. Это чисто технический прием,
например, фраза «Отец взял дочь на руки» в моем тексте звучит так:
«Отец взял меня на руки». … Наделение персонажа даже скупыми индивидуальными чертами спасает его в глазах аудитории от скучной безликости (главные герои Гомера скучно безлики? – С.Ч.). Современной
«публике гораздо проще воспринимать рассказ от лица человека, пережившего излагаемые события» [1, 7].
В заслугу себе А. Барикко ставит и стиль своего переложения. Он стремится использовать живой разговорный язык, «а не язык ученых», старается
«исключить из текста все архаизмы, затемняющие смысл сказанного» [1, 7]. В
целом ему это удается. Мы отметили лишь одну фразу, которой отнюдь не помешала бы легкая архаизация: «Тебе же, скотина, морда собачья, на это плевать…» (обращение рассерженного Ахиллеса к Агамемнону; 1, 13). В соответствующем месте русского перевода Н.Гнедича - «человек псообразный»… Но
это смотря на чей вкус.
Итальянский писатель стремится также «найти ритм, соответствующий
описываемым событиям, то стремительно несущимся вперед, то, наоборот,
замедляющим свой ход» [1,7]. Эпическое спокойствие Гомера сегодня неактуально, и Барикко, имеющий музыкальное образование, с поставленной задачей
справляется. Ритмика его текста действительно разнообразна; удачно найдена
и ведущая, приглушенно трагическая, интонация.
10
Стремясь, видимо, выйти за рамки простого пересказа, его создатель
«не устоял перед соблазном дописать немного от себя». Эти добавления немногочисленны (в сумме – не более 4-х страниц), разнесены по главкам, в печатном издании выделены курсивом и в ряде случаев призваны «проговаривать
те оттенки смыслов, которые в «Илиаде» не звучат открыто, но спрятаны
между строк» [1, 8]. Некоторые детали Барикко позволяет себе заимствовать у
античных филологов и мифографов, а также из послегомеровского эпоса. Казалось бы, тут и открываются перспективы по-настоящему творческой работы,
способные приблизить жанрово аморфное повествование к какому-то подобию
оригинального произведения. На деле же, авторские вставки, хотя они высокопарно сравниваются пересказчиком со «стальными и стеклянными элементами
отреставрированного готического фасада» [1, 8], ничего существенного к изложению не добавляют, а иногда, как и контаминации с негомеровскими источниками, лишь запутывают восприятие отдельных образов и мотивов «Илиады».
Так, совершенно необоснованно в текст вторгается мотив неуважительного и
даже презрительного отношения к старикам и старости, абсолютно несвойственный гомеровскому миру: «Война – это страсть стариков, посылающих в
бой молодых» [1, 17]; «Старики часто внушают нам страх» [1, 32]. Почемуто особенно достается мудрому Нестору, который у Барикко оказывается виновным в том, что его обликом воспользовался лживый Сон, посланный Зевсом Агамемнону (еще одна издержка отказа от мифологической сферы): «Я
обернулся, отыскивая Нестора (…). Я хотел заглянуть ему в глаза. И в его
глазах увидеть (…) безумие жаждущего битвы и ярость оправдывающего ее»
[1, 26].
Один из эпизодов, отсутствующий у Гомера, до предела затемняет и без
того не простой образ Елены Аргивской: она трижды обходит вокруг втащенного в город Троянского Коня и зовет спрятавшихся внутри героев (в т.ч. Менелая!) голосами их жен… Не заставив греков преждевременно обнаружить себя, она тут же предает и троянцев, подавая условный сигнал ахейскому флоту… Итальянскому автору следовало бы знать, что в послегомеровской традиции образ Елены подвергался крайне противоположным оценкам, но смешивать эти крайности в одном произведении не следует.
И другие гомеровские образы, хотя они и «субъективированы» пересказчиком, далеки от целостного воплощения.
Трудно, например, понять, почему Ахиллеса можно считать «поэтической апофеозой Древней Греции». Из пересказа исчезают всякая философская
мотивировка поведения этого героя, связанная с ним тема смысла жизни, сложнейшая диалектика между личным и общим, тонет в скороговорке святой
принцип справедливости, едва ли не главный и для Ахилла, и для самого Гомера.
Не акцентирован образ Агамемнона как героя, великого в прошлом, но
уже «испорченного властью». Расплывчата внутренняя суть Терсита и
Патрокла. Неясно, почему эти персонажи вошли в мировую культуру в
контрастном сопоставлении, ярко сформулированном Ф.Шиллером:
Нет великого Патрокла;
11
Жив презрительный Терсит.
(Пер. В.А. Жуковского)
В целом, ожидаемого углубления индивидуально-лирического начала в
трактовке образной системы не происходит. Отказавшись от Гомеровой формы, автор упорно сохраняет лишь «букву» при мотивации поведения героев
поэмы. Персонажи «Илиады» выглядят у итальянского писателя более обыденными и упрощенными, ибо лишаются не только присущего им языка, но и
многих нюансов личностных характеристик.
И, наконец, какие же идеи выводит на первый план и пытается развить в
своем произведении А.Барикко? Прежде всего – это тема войны и мира, действительно одна из ведущих в «Илиаде» как военно-героическом эпосе. Удивляет, однако, что комментарий этой темы помещен в авторском послесловии,
озаглавленном «Другая красота. Заметки о войне». Видимо, текст недостаточно говорит сам за себя, требуя дополнительных пояснений. Но двойственны и
пояснения.
По мнению интерпретатора, «Илиада» - это прежде всего «гимн войне»,
«памятник войне». «Она была создана, чтобы воспеть воюющее человечество,
и воспела его настолько ярко, что не затерялась в веках и дошла до нынешнего
поколения людей, продолжая славить торжественную красоту и внезапный порыв – то есть именно то, чем всегда была и будет война» [1, 164-165]. Такая
трактовка поэмы Гомера уже выдвигалась на первый план в 30-40-е годы минувшего столетия, причем именно в Италии, тогдашний политический лидер
которой призывал соотечественников возродить в себе воинственный дух
Ахилла и Гектора. Вольно или невольно пацифист Барикко переносит подобный подход и в нашу современность: «… шок от войн двадцатого века не
ослабил у человека инстинкт войны. «Илиада» рассказывает об этой системе
ценностей и таком способе восприятия мира и кладет в их основу нечто искусственное и совершенное – красоту. Красота войны, каждой ее отдельной детали, провозглашает ее центральное положение в человеческом опыте и утверждает, что это единственный способ для человечества действительно существовать» [1, 170-171].
Если в рассуждении о неистребимости войн как таковых есть большая
доля горькой истины, то приписывать воспевание красоты войны Гомеру – явное преувеличение. Можно много говорить о подлинном переживании факта
войны в «Илиаде»: оно, безусловно, является глубоко трагическим. «Тягчайшее бремя томительной брани», как говорит в поэме ее самый мощный и «красивый» герой.
Несмотря на вышеприведенные декларации, Барикко и сам не может отрицать гуманистического пафоса перелагаемого им произведения и, наряду с
гимном войне, видит в нем «между строк» «упорное стремление и неоспоримый призыв к миру» [1, 166; 168]. Об этом же свидетельствует ряд его общих
замечаний о гомеровской поэме, одни из которых давно известны (объективность Гомера в изображении противоборствующих сторон), другие – относительно новы (роль женщин в прямом озвучивании миротворческих стремлений), третьи – оригинальны и свежи (долгими беседами и прениями воины пы12
таются оттянуть, насколько возможно, сражение; они подобны Шахразаде,
отсрочивающей казнь разговорами; слово – это оружие против войны: см. 1,
167). Эти наблюдения лишний раз подчеркивают, что «Илиада» Гомера – отнюдь не памятник войне, но выражение чаяний о мире. И когда Барикко акцентирует в своем
переложении миротворческие мотивы, он не создает новой
версии, но в иной форме пересказывает то, что уже содержится в тексте древнегреческого поэта.
Подведем некоторые итоги.
В жанровом отношении произведение итальянского писателя – конечно,
не роман. Для этого статуса ему недостаёт концептуальной интерпретационной
новизны. Незначительные вариации в трактовке образной системы «Илиады»
такой новизны не обеспечивают, а определение «роман-пересказ» - сомнительно и двусмысленно.. Хотя автор и полагает в предисловии, что ему удалось выполнить поистине циклопическую работу – «построить из гомеровских кирпичей более плотную стену» [см.1, 6], - на это можно ответить словами Гомера о
стене, воздвигнутой ахейцами перед своими кораблями:
«… Не по воле бессмертных воздвигнуто было
Здание то …» [XII, 8-9].
Сочинение итальянского писателя является несомненно художественным,
не без таланта расписанным в лицах, но всего лишь сокращенным вариантом
«Илиады», адаптированным к уровню массового читателя и несопоставимым с
первоисточником. По большому счету, это полуприкладная литература, не так
уж далекая от популярных сегодня пересказов мировой классики, предназначенных для нерадивых школьников и студентов. Безусловно, текст может рассматриваться как сценарий для публичного чтения и, вполне возможно, в процессе театрализованной рецитации он заиграет новыми красками. Он легко читается и в одиночестве, «про себя…». Именно это настораживает, ибо создает
иллюзию необременительного приобщения к сложному произведению. Не каждый человек, ознакомившийся с «Илиадой» Барикко, обратится когда-либо к
Гомеру, считая свой «долг» перед классикой выполненным.
На наш взгляд, итальянский автор выразил своей книгой еще почти незримую, но явно нарождающуюся тенденцию в новейшей литературе. Это
стремление не только и не просто к пересказу, переложению, но именно к
упрощенной художественной переработке сложных и объемных классических
произведений, которые кажутся современному читателю чрезмерно «трудными». Имеется в виду переработка не для детей, а для взрослых. Данное стремление может скрываться под благовидным предлогом «популяризации». Но
фактически речь идет о другом: не начинается ли эпоха переписывания мировой литературы заново, в упаковке с надписью «готово к употреблению»?..
Под этот процесс уже почти подведена теоретическая база, которой узаконены
цитатность, вторичность, имитации, римейки, симулякры, и всё это обосновывается идеями исчерпанности литературы в целом, философской и художественной «пустотности» и т.п.
Кстати, Барикко искренне признается в предисловии, что работа над переделкой «Илиады» вовсе не была для него какой-то безальтернативной по13
требностью, «зовом души», а в его планах – проведение подобной операции и
над произведениями других классиков: «Возможно, я бы до сих пор мучился
выбором между «Илиадой» и «Моби Диком», если бы Моника Вот (очевидно,
знакомая автора – С.Ч.) с присущим ей несравненным оптимизмом не решила,
что сначала я сделаю (!-С.Ч) «Илиаду», а потом займусь «Моби Диком» [1, 9].
В перспективе, можно ожидать, наступит черед Данте, Милтона, Пруста, гётевского «Фауста»… В конце концов и Джойса мало кто одолевает до
конца… К счастью, выбор пока велик.
Если Вы уже читали Гомера, можете полистать небесталанную книжку
Барикко. Если Вы Гомера еще не читали, - срочно читайте Гомера. Да и знакомство с романом Мелвилла не откладывайте в долгий ящик.
Литература
1.Барикко А. Гомер. Илиада: Роман / Пер. с ит. Е.Кисловой. М.: Иностранка,
2007.
2.Барикко, Алессандро. Материал из Википедии – свободной энциклопедии;
http:ru.wikipedia.org/wiki/
3.Гомер. Илиада / Пер. с древнегреч. Н.Гнедича. М.: Художественная литература,1978.
4.Смирнов Д. Итальянец надругался над Гомером // Комсомольская правда,
2007, 18 ап- реля; http://www.inostranka.ru/ru/text/3620/
14
Ю.В. Гончаров*
Испытание «зверем», или Человек эпохи Apocalypsis
(Опыт эссеистского прочтения романа
К. Маккарти «Дорога»)
Если «Дорога» (2006) – это первая в вашей читательской биографии
встреча с современным и, можно сказать, довольно успешным американским
романистом Кормаком Маккарти (год рождения 1933) [1], то по прочтении ее, а
возможно даже и несколько раннее – по мере чтения книги, у вас наверняка
возникнет уверенное ощущение встречи с большим писателем, откликнувшимся, в частности, на один из самых волнующих сегодняшнее человечество вопросов – способно ли оно вообще выжить в условиях какого-либо глобального
катаклизма, некоего апокалипсиса, вероятность которого научная мысль сегодня нисколько не отрицает.
Кроме того, на наш взгляд, это не просто встреча читателя с большим писателем, но и с несомненной, очередной, если не самой крупной, его творческой удачей, отмеченной, кстати, и самой престижной в США литературной
премией имени Джозефа Пулитцера.
Предлагаемый читателю опыт, наш опыт, прочтения «Дороги» следует
считать, скорее всего, непосредственным, едва ли не импульсивным, читательским откликом, предполагающим в качестве наиболее адекватной жанровую
форму некоего литературоведческого эссе.
Итак, «Дорога» - это роман о выживании человека в чрезвычайно неблагоприятных для него условиях после глобальной катастрофы, постигшей нашу
планету, в частности Соединенные Штаты, за несколько лет до описываемых в
нем событий. Однако подобное впечатление может сложиться лишь у такого
читателя книги, который слишком торопится с выводами и не привык должным
образом задумываться над прочитанным. Задумываться настолько, чтобы как
можно основательнее, во всех подробностях соотнести, согласовать свое читательски-душевное впечатление от общения с художественным текстом с определившимся итогом собственной последующей рефлексии по поводу прочитанного, связанной уже не столько с эмоциональным, сколько с интеллектуальным его переживанием.
Вспомним, для примера, во многом аналогичную борьбу за выживание,
которую ведет Робинзон Крузо на необитаемом острове, пусть и в гораздо более предпочтительных, по сравнению с героями «Дороги», условиях, за исключением, может быть, его столь продолжительного полнейшего человеческого
одиночества. На первый взгляд, все, что он делает, это только естественные
усилия живого существа, борющегося за право продлить свое существование.
Однако герой романа английского писателя всего лишь отчасти озабочен собственно физическим выживанием. Основная мысль раннего просветителя Дефо
Гончаров Юрий Васильевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной
литературы КубГУ
*
15
неизмеримо глубже – его довольно-таки обыкновенный, простой «моряк из
Йорка» фактически отстаивает свое право на подлинно человеческое существование, которое невозможно осуществить вне «очеловеченной» природной среды.
Благодаря ежедневному, целенаправленному труду Робинзона на острове
возникает столь необходимый ему «островок цивилизации». Его созидание и
«бытие в нем» позволяют герою книги реализоваться не столько физически,
сколько главным образом духовно, нравственно, то есть, по сути, самоосуществиться человечески полноценно и даже, можно сказать, личностно.
Иначе говоря, на первый взгляд, «чисто» литературный «сюжет о выживании» у автора «Робинзона Крузо» при более внимательном и обстоятельном
его рассмотрении со всей очевидностью «оборачивается» авторским утверждением философической по своему масштабу и типично просветительской по
своему характеру соответствующей мысли о человеческой природе. Причем,
она, эта мысль, весьма органично связана с авторской верой в буквально ничем
не ограниченные человеческие возможности, которые в свою очередь постигаются и реализуются самим человеком главным образом благодаря его всемогущему разуму.
Насколько мы помним, цивилизаторская деятельность Робинзона на острове начинается с того, что он вкапывает деревянный столб, по обе стороны которого он ежедневно делает зарубки, – «таким образом я вел мой календарь,
отмечая дни, недели, месяцы и годы».
Не исключено, что по-своему продолжая традицию Дефо, автор «Дороги»
уже во втором абзаце на первой странице книги упоминает календарь в качестве непременного атрибута цивилизованного бытия, с той лишь разницей, что
именно отсутствие у его героя ясного, точного представления о текущем календарном времени подсказывает читателю, насколько же далеко за пределами
нормальных условий для подлинно человеческого бытия складывается реальная жизнь героя и его сына на данный момент повествования.
«С первым проблеском света он поднялся и, оставив мальчика досыпать,
вышел на дорогу и сел на корточки, и стал изучать местность к югу от них. Ни
души, ни звука, ни следа Божьего присутствия. Решил, что сейчас октябрь, но
не был твердо уверен. Очень уже давно не вел календарь. Они двигались на юг.
Еще одну зиму здесь не пережить» (курсив наш. – Ю.Г.).
Очень трудно в нашем положении не поддаться искушению и не провести
параллель к процитированному фрагменту, как впрочем, и ко всему роману,
обратившись к отрывку из очень известной новеллы, а точнее, и ко всей новелле, «Любовь к жизни» Джека Лондона, знаменитого соотечественника сравнительно недавнего пулитцеровского лауреата. Она вышла, кстати, в свет ровно за
сто лет до появления в печати «Дороги». Кому-то из наших читателей подобное
обстоятельство, возможно, покажется до некоторой степени символическим и
таким образом прибавляющим «нечто» к уже наметившейся перекличке двух
произведений. Во всяком случае, на наш взгляд, можно не без основания говорить еще об одной традиции, мимо которой не прошел Маккарти. Судите сами.
16
«… в то время как тусклый диск солнца медленно скрывался на северозападе, он успел рассчитать – и не один раз – каждый шаг того пути, который
предстояло проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы».
Однако приведенная очевидная «хронотопная» перекличка двух сюжетов
– всего только внешняя сторона их внутренней, глубинной связи. Последняя же
находит свое выражение, с нашей точки зрения, преимущественно в своеобразной типологической общности гуманистического звучания каждого из них. Она
безоговорочно свидетельствует о более чем заметной преемственности автора
«Дороги» гуманистической традиции знаменитого предшественника в постановке и решении весьма существенного для обоих вопроса о том, что есть человек и его любовь – влечение к жизни.
В новелле Д. Лондона любовь к жизни представлена как смутное, загадочное чувство-инстинкт, свойственное каждому человеку или же человеку вообще. Но вместе с тем оно в одном, очень важном для автора, отношении переживается героем и его товарищем Биллом принципиально различно. Различие
это заявляет о себе уже в самом начале повествования, когда Билл без какихлибо колебаний оставляет на произвол судьбы своего спутника, подвихнувшего
ногу. Теперь он для Билла не что иное, как серьезная помеха в таком первостепенной важности для него деле, как его собственное выживание, то есть выживание любой ценой, в частности ценой товарищества.
Так начинают рваться нити, соединяющие душу человека с духовными
началами его бытия, что неминуемо влечет за собою обращение человека в животное, каковым в перспективе для автора и становится Билл. В повествовании
она намечена скупо, довольно опосредованно, но со всей определенностью.
Как помнит читатель, герой дважды на своем пути наталкивается на обглоданные кости. В первом случае это останки олененка, которого загрызли
волки. Доводящий до безумия голод и жажда жизни принуждают героя обглодать их еще раз. Во втором же случае кости и мешочек с золотом подсказывают
герою, что это все, что осталось от Билла. «Он отвернулся. Да, Билл его бросил,
но он не возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал бы, будь
Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше» (курсив наш – Ю.Г.).
Первая и, в особенности, Вторая мировые войны «открыли» в человеке
нечто «такое», что заставило цивилизованный мир взглянуть на так называемую человеческую природу заметно по-иному. Это уже был гораздо более
настороженный по сравнению с началом века, взгляд, подчеркнуто актуализирующий «теневую» сторону человеческой натуры.
В качестве наиболее показательного в этом отношении примера следует
назвать, пожалуй, «Повелителя мух» У. Голдинга. Животное начало у тамошних подростков-«биллов», заброшенных на остров, кстати, также катастрофой,
авиакатастрофой, обретает явно выраженный хищный оскал. На смену животному пришел зверь. И вот уже в финале повествования «биллы» буквально волчьей стаей устремляются в погоню за своим недавним товарищем по несчастью
с тем, чтобы догнать и растерзать его.
Значит, где-то там, в глубинах инстинктивной памяти человека, до своей
поры дремлет зверь как постоянная потенциальная угроза человеку в человеке.
17
Эту, для кого-то, возможно, ужасающую, правду о себе должен знать и помнить
каждый из нас. К. Маккарти, по нашему глубокому убеждению, настойчиво и в
очередной раз напоминает эту мысль сегодняшнему читателю, и «мотив зверя»
становится таким образом одним из основополагающих, если не единственно
определяющим лейтмотивом всей его книги.
Время действия в романе, как подсказывает заголовок нашего эссе, – та
самая «година искушения», которую пророчил Иоанн Богослов, и которая, по
его словам, «придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле»
[3,10]. Такому испытанию подвергаются на страницах романа два основных
персонажа – отец и его маленький сын, появившийся на свет уже без привычного солнечного света, то есть в условиях после катастрофы. Причем можно с
достаточным основанием говорить в данном случае об испытании ничем иным
как искушением, а точнее – искушении зверем. Этому искушению в основном
подвергается отец, в связи с чем, по воле автора, именно ему отводится центральное место в системе образов романа.
В параллели с библейским текстом угадывается, на наш взгляд, некоторая
авторская заданность. Обратимся к «Откровению». Первым упоминается
«зверь, выходящий из бездны» [10,7]. Затем приходит черед зверю, вышедшему
из моря, то есть бездны морской. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге Агнца, закланного от создания мира» [13,8].
И, наконец, еще один – «другой зверь» – выйдет из земли, то есть бездны земной. «И дано ему было вложить дух в образ зверя (вышедшего из морской бездны – Ю. Г.), чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был
всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» [13,15].
К слову, другой зверь «говорил как дракон», тот самый «великий дракон,
древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную» [12,9]. Все они, как мы видим, составляют некое единство, с которым –
вспомним Голдинга – ассоциативно связывается тот же Вельзевул, известный
еще и как «повелитель мух».
Встреча героя романа, а заодно и читателя, со зверем происходит уже в
первом абзаце повествования. «Ночью ему снился сон. Во сне они бродили по
пещере. Ребенок вел его, держа за руку. Как пилигримы из сказки, проглоченные гранитным чудовищем и затерявшиеся в его чреве… Они ходили по пещере, пока не очутились в каменном зале с черным древним озером. На дальнем
берегу сидело какое-то непонятное существо. Оно оторвало морду от воды, так
что стала видна мокрая пасть, и уставилось на свет невидящими белесыми,
словно паучьи яйца, глазами. Потом повело головой, будто стараясь унюхать
то, чего не могло увидеть. Бледное, голое, полупрозрачное, припало к земле –
алебастровые ребра отбрасывали гигантскую тень на камни позади. Его кишки,
его бьющееся сердце. Мозги, пульсирующие в стеклянной колоколообразной
черепной коробке. Повертело головой, затем глухо завыло, повернулось к ним
спиной и беззвучно и неуклюже ускакало в темноту».
«Сновидческий» характер описания встречи со «зверем», предполагающий соответствующую метафорику и символику, по-своему посвящает нас в
«пещерные» глубины человеческого «я», в ту «бездну», где обитает «зверь»,
18
как символическое воплощение нашего «зоологического» эго с такими естественными для него реквизитами, как ненависть, слепая злоба, жажда насилия и
жестокость.
К началу движения основных персонажей романа с севера на юг «зверь»
покидает «бездну» и воцаряется на земле. «К тому времени продуктовые запасы истощились, и убийство вступило в свои права. Вскоре дошло до того, что
по земле стали рыскать толпы людей, готовых сожрать твоих детей у тебя на
глазах. В городах бесчинствовали банды заросших грязью грабителей, они рыли тоннели в развалинах, вылезали из-под обломков – на черных лицах сверкают зубы и белки глаз, – тащили за собой в нейлоновых сетках обгоревшие банки с неизвестной едой, будто нахватали их в распределителях в преисподней».
С течением времени для героя становится едва ли не обычной картина,
когда «на щетине травы – засохшие пятна крови и серые кольца кишок там, где
жертву освежевали и откуда потом утащили. Дальше стена «украшена» бордюром из человеческих голов: все на одно лицо, усохшие, с дикими улыбками и
крохотными глазками в провалившихся глазницах».
Бывшие когда-то людьми теперь внушают ужас – их любовь к жизни
обернулась ненавистью и жестокостью по отношению к себе подобным. «Армия в кедах, идут строем. Вооружены трехфутовыми кусками труб в кожаной
обмотке. Шнуры на запястьях. У некоторых в трубах по всей длине продернуты
цепи, закрепленные на концах. Не просто трубы, а настоящие костоломы…
Мальчик лежал, уткнувшись лицом в сплетенные руки, охваченный ужасом.
Прошли мимо в двухстах футах. От их поступи земля слегка дрожала. Громко
топали. Вслед за ними двигались телеги, набитые добычей. Телеги тащили рабы, впряженные вместо лошадей, за ними – женщины, человек двенадцать или
около того, некоторые – беременные. Замыкала шествие резервная группа
мальчиков-катамитов, практически обнаженных несмотря на холод».
С одним из таких «бывших людьми» герой сталкивается вплотную, и читатель получает возможность вглядеться в «бывшее лицом» – «Черные круги
запавших глаз. Будто из глазниц человеческого черепа смотрит дикий зверь»
(курсив наш – Ю. Г.).
Что же может помочь человеку сохранить в себе человека в условиях,
наводящих на героя время от времени «Не просто чувство безысходности и пустоты, нет. Ощущение, что мир сокращается до размеров ядра атома. Названия
предметов медленно испаряются из памяти вслед за самими предметами. Исчезают цвета. Породы птиц. Продукты. Последними ушли в небытие названия
вещей, казавшихся незыблемыми. Он и предположить не мог, что они окажутся
такими хрупкими. Сколько их уже безвозвратно исчезло? Даже неизреченные
вечные истины лишаются смысла. Силятся сохранить тепло, мерцают недолго и
исчезают. Навсегда.»?
В целом роман дает вполне внятный ответ на такой вопрос – любовь, но
не просто к жизни, а к человеку. В частности, отцовская любовь как великое
чувство ответственности за судьбу своего собственного духовного начала, которое отец вкладывает подобно единственному в своем роде и потому бесценному капиталу в ребенка.
19
В нем, в этом ребенке, дополнительно обретает он и свою самость, и свое
будущее. Да, в романе отец сумел и успел передать сыну лучшую часть самого
себя, и теперь борьба за жизнь и благополучие сына одновременно становится
и его борьбой за человека в себе. Она ведется им не только с внешними обстоятельствами, но в не меньшей, если не в большей степени со «зверем», который
настойчиво пытается при малейшей ему уступке выйти из «бездны».
И время от времени ему это удается. К примеру, когда он смотрит «на
спящего мальчика: провалившиеся щеки в грязных разводах. Попытался подавить в душе звериную злобу. Бесполезно» (курсив наш – Ю.Г.).
Временами этот зверь выходит из «бездны» и овладевает им: когда он не
помогает тому несчастному, которого они обгоняют по дороге, и когда он
настигает вора, укравшего их тележку с продуктами и одеждой, и заставляет
того раздеться догола на холодном ветру. «Папа, мы убили его», – позже скажет ему с упреком мальчик. Все тот же зверь «заговорит» в нем, когда он будет
ранен стрелой в ногу и поднимется на этаж добить раненного им стрелка, но на
этот раз он сумеет вернуть зверя в «бездну» и пощадит стрелявшего.
Именно мальчик и его отношение к отцу оказываются своеобразным камертоном относительного нравственного, а, следовательно, и должного в поведении отца. Мальчик, образно говоря, – это, зажженная отцом горящая свеча,
пламя которой отец пытается поддержать и сохранить. Ее праведный свет озаряет жизненную дорогу обоих. Подобная ассоциация совершенно не случайна,
так как периодически мальчик напоминает отцу о том, что они «несут огонь».
В контексте романа мотив «несения огня» обретает расширительный
смысл, и борьба уже за такой огонь выходит за рамки истории и судьбы двух
основных персонажей, символически связывая их историю и судьбу с историей
и судьбой человечества, которое, согласно заключительным словам повествования, «еще только делало свои первые шаги». Как нам представляется, приблизительно к такой мысли и стремится привести К. Маккарти своего читателя,
вступившего на одну дорогу вместе с его героями, дорогу, ведущую в конечном
итоге к свету.
Литература
1. Маккарти К. Дорога / Пер. с англ. Ю. Степаненко // Иностранная литература,
2008, № 12.
20
М.П. Блинова*
Особенности повествовательной структуры
постмодернистского детективного текста (на примере
романа А.Переса-Реверте «Фламандская доска»)
Одной из основных черт постмодернистских текстов стало сближение с
массовой литературой, о котором писал еще Л. Фидлер, призывая «разрушить
границы, засыпать рвы» между массовым и элитарным [4]. Это находит свое
выражение не только в активизации сюжетности произведения и ироническом
обыгрывании приемов, но также приводит к использованию определенных
жанров массового чтения, в частности детективов.
Начало данной традиции было заложено «классиком» постмодерна
У.Эко, который строит свой роман «Имя розы» именно как детективное повествование, что отнюдь не случайно. Детектив строится на активном вовлечении в текст читателя, который пытается решить заложенную в произведении
загадку параллельно с героями, тем самым принимая игру, предложенную автором. Сама же идея игры – характерная особенность постмодерна. Более того,
анализируя ход повествования и пытаясь «вычислить» преступника, читатель
волей-неволей подчиняется тезису Деррида «Весь мир - текст», поскольку
начинает воспринимать описанное как реальность, стирая в своем сознании
границы текста.
В то же время постмодернистский детектив – удивительный пример
«двойного кодирования», поскольку авантюрная интрига может сочетаться с
введением в текст аллюзий, реминисценций, цитат, образующих подтекстный
иронический уровень повествования. Тем самым усиливается «детективность»
жанра: читатель должен решить не только внешнюю сюжетную загадку, но и
расшифровать скрытый, собственно постмодернистский, слой письма, увидеть
иронию в использовании традиционных приемов. Благодаря этому строится
особая модель «детектива в детективе», где зачастую основной становится
именно внутренняя, скрытая игра с читателем.
Элементом этой игры становится и само обращение к жанру детектива –
текстовой модели, в которой априори есть смысловой центр – развязка сюжетной интриги. Но один из основных принципов постмодернизма – децентрация,
разрушение семантического ядра повествования, превращение текста в ризому
[2]. В итоге постмодернистский детектив становится примером парадоксального самопародирования, иронического обыгрывания своих же основных принципов.
Одним из интересных примеров постмодернистского детектива является
роман А. Переса-Реверте «Фламандская доска». Текст начинается с подчеркивания загадки, лежащей в основе детектива, причем данный мотив утраивается,
упоминаясь в названии главы, эпиграфе и начале повествования, превращаясь
Блинова Марина Петровна – кандидат филологических наук, преподаватель кафедры зарубежной литературы КубГУ
*
21
в ироническое обыгрывание самого себя. Эпиграф из стихотворения Х.-Л. Борхеса («Всевышний направляет руку игрока. Но кем же движима Всевышнего
рука?»[3]) вводит в повествование второй постмодернистский слой: имя Борхеса как знак интеллектуальной игры и цитации, к тому же – аллюзия на роман
«Имя розы» У. Эко, где «преступник» носит имя Хорхе. Содержание эпиграфа
задает образ экзистенциальной игры и непознаваемости вселенной.
Эпиграфы к остальным частям текста образуют особый глубинный уровень повествования, ассоциирующийся с общей темой игры, которая находит
реализацию в мотивах шахмат, детектива, языка. «Шахматный» слой эпиграфов
связан с именами Каспарова и Набокова, которые указывают на метафизическую сущность данной игры: «Белые и черные фигуры, казалось, воплощали
противостояние между светом и тьмой, между добром и злом, заключенное в самом человеческом духе» [3] и др. Символика шахматной игры активно
используется в современной литературе, в частности, в рассказах М. Павича,
становясь постмодернистской метафорой человеческой жизни. Перес-Реверте
также обращается к данному образу, реализуя в своем тексте все возможные
варианты его интерпретации. «Детективный» слой - это аллюзии на романы А.
Конан-Дойля, но данные через восприятие американского логика Р. Смаллиэна,
автора «Шахматных приключений Шерлока Холмса». Так шахматы и детектив
соединяются уже на уровне эпиграфов.
Образ парадокса и иной реальности возникает в эпиграфах из
Д.Р. Хофштадтера («Знамени не может быть, поэтому оно не может развеваться. Это развевается ветер» [3]) и Л.Кэррола. Причем сами эпиграфы зачастую
обыгрываются в тексте - к примеру, героиня видит себя в зеркале: «Бледноватое пятно лица, нечетко обрисованный профиль, большие темные глаза:
Алиса заглянула в комнату из своего Зазеркалья» [3]. Неоднократно герои
романа Реверте упоминают Шерлока Холмса и доктора Ватсона, сопоставляя
себя с ними. Подобное обыгрывание может происходить и на уровне стиля: так,
в первой части, которой предшествует эпиграф из Борхеса, имитируется его
стиль и его модель текста, которая часто строится на основании ссылок и цитат:
«Упоминает ван Гюйса в тысяча четыреста пятьдесят четвертом году Бартоломео Фацио, близкий родственник Альфонса V, в своей книге "De viribus
illustris" ["О мужах достославных" (лат.)], именуя его "Pietrus Husyus, insignis
pictor" [Пьетрус Гусиус, знаменитый живописец (лат.)]. Другие авторы, особенно итальянские, называют его "Magistro Piero Van Hus, pictori in Bruggia"
[Мастер Пьеро ван Гус, живописец из Брюгге (лат.)]…» [3]. В итоге эпиграфы
в романе Переса-Реверте, помимо традиционной функции обобщения содержания части, становятся особым средством игры с читателем и в какой-то степени
деконструкцией основного текста, поскольку иронически интерпретируют текстовые события.
Мотивы игры и текста становятся основными для построения всего повествования. Героиня Хулия, реставратор, стремится определить смысл таинственной фразы «Кто убил рыцаря?», которая становится заметной при рентгеновском просвечивании картины со знаковым названием «Игра в шахматы».
Мотив скрытой надписи также приобретает символический смысл, указывая на
22
присутствие подтекста, тайных смыслов в самом романе Реверте, а нанизывание слоев, виртуальных реальностей повествования станет ключевым для
структуры данного текста.
Первый слой связан с картиной, которая становится своеобразным проводником в прошлое, к событиям 15 века. Они показаны с разных сторон: в сухих исторических справках и отчетах и через эмоциональное, образное восприятие героини, которая начинает ощущать свое присутствие в этом виртуальном
мире изображения. Внутренний сюжет картины: любовный треугольник, убийство рыцаря – начинает накладываться на реальность героев, причем автор показывает возможность разного распределения ролей. Беатрисой Бургундской,
совершившей убийство, временами ощущает себя Хулия, ею же оказывается и
Сесар, который убивает возлюбленного Хулии. В современную реальность
включаются фрагменты текста якобы от лица Беатрисы, причем их можно истолковать и как поток сознания Хулии, которая постоянно думает об этом сюжете. Сам текст заканчивается также фрагментом о Беатрисе, доживающей свои
дни в одном из монастырей, - реальность картины оказывается сильнее настоящей, а ее сюжет расширяется, получая новую жизнь в сознании персонажей.
С темой картины связан искусствоведческий пласт текста: подобно У.
Эко, включившего в «Имя розы» тексты средневековых рукописей, аллюзии на
них, Перес-Реверте конструирует «научный» слой, используя специальную лексику реставраторов, описание технических и коммерческих особенностей их
работы. Сама тема реставрации становится знаковой для Реверте, связываясь на
уровне подтекста с постмодернизмом: «…Хулия обладала редким даром никогда не забывать главного принципа: ни одно произведение искусства не может быть возвращено к своему первоначальному состоянию иначе, как ценою
нанесения ему более или менее серьезного ущерба» [3]. Возможно, по мнению
Реверте, постмодернизм - это и есть своеобразный способ «реставрации» культуры, которая невозможна без «ущерба», игры и иронии.
Постмодернистская идея цитации также связана с темой искусства и
находит свое выражение в образе антиквара Сесара, который может восприниматься как аллюзия на роман «Портрет Дориана Грея» О.Уайльда. Роскошная
обстановка квартиры Сесара, описание красивых вещей, утонченность жестов,
нетрадиционная ориентация героя создают образ уайльдовского эстетизма. Для
Сесара, как и для Уайльда, искусство становится выше жизни, и его убийства –
лишь стремление рассказать «историю», создать захватывающий текст, в постмодернистском понимании равный жизни.
Мотив искусства связан и с тремя фигурками – персонажами комедии
дель’арте, которых с детства любит Хулия. Октавио, Лусинда и Скарамучча
являются воплощениями определенных человеческих типов, и сами герои
начинают ассоциироваться с данными масками, а весь сюжет – с театральным
представлением. Интересно, что после смерти Сесара Хулия забирает фигурки
как знак всей истории.
В целом слой текста, связанный с картиной, строится как расширяющийся: стираются четкие границы между реальностью и изображением, а персонажи романа чувствуют себя героями картины. Сама картина в определенном
23
смысле становится текстом – динамичным повествованием, что отражает идею
Деррида. К тому же можно заметить, что каждый из героев живет в своем «тексте»: для Хулии – это картина, Сесара – вещи, Муньоса - шахматы.
Не менее важен «шахматный» уровень повествования, заданный названием картины и постепенно становящийся основным. В шахматной партии на
картине зашифровано убийство, а саму надпись можно интерпретировать и как
«Кто съел белого коня?» Детектив сводится к разгадке шахматной партии, которая после нахождения правильного ответа продолжается уже в реальной
жизни - так текст становится игрой, а затем и действительностью.
Эпиграфы и рассуждения героев о шахматах подчеркивают символизм
игры и получают буквальную реализацию в тексте: эпиграф из Набокова «Ибо
что есть в мире, кроме шахмат?» - предшествует началу реальных убийств по
законам шахматной партии. Шахматы позволяют также показать относительность восприятия, разрушить границы времени и пространства: «Я имел в виду
саму жизнь - эти шестьдесят четыре клетки черных ночей и белых дней, о которых говорил поэт... А может быть, наоборот: белых ночей и черных дней.
Все зависит от того, с какой стороны от игрока поместить изображение...
Или зеркало… » [3]. Подобные идеи сближают Реверте с М. Павичем, в рассказах которого шахматы зачастую символизируют нелинейность бытия.
Образ шахматной игры получает у Переса-Реверте и неожиданную интерпретацию, воплощая современный подход к познанию мира, построенный
на идее неопределенности: «…Мы можем только формулировать гипотезы, делать предположения, но не прикасаясь к фигурам» [3]. В этом плане шахматы
можно сопоставить со знаменитой ситуацией «кота Шрёдингера»: делая ход,
мы выбираем один из вариантов будущего, разрушая неопределенность. Именно поэтому блестящий шахматист Муньос не выигрывает партий – он не хочет
ставить точку, ему важен как раз процесс, сама неопределенность игры: победа
для него «…всего лишь малоприятная точка в конце игры, вынужденное возвращение к действительности» [3].
В то же время мотив шахмат подвергается и постмодернистскому обыгрыванию: описание шахматного сражения Муньоса – аллюзия на рассказ
П.Зюскинда «Поединок», о чем свидетельствует знаковый параллелизм деталей. Иронический подтекст звучит во фрейдистском толковании процесса шахматной игры, постмодернистское кодирование есть и в названии романа –
«Фламандская доска»: слово «доска» ассоциируется с шахматами.
Разные уровни повествования связаны системой переходов, в качестве
которых выступает сама картина, мотив зеркала, образ мадонны Возрождения,
возникающий при описании и Хулии, и героини картины. Зеркала, как и в
текстах Борхеса, расширяют пространство действия и показывают относительность времени: «Она и сама любила глядеться в зеркало в золоченой раме: ей
начинало казаться, что она находится по ту сторону некой волшебной двери, распахнутой сквозь пространство и время...» [3]. Мотив зеркала выражен и
в повторяемости уровней: жизнь отражает шахматную партию на картине, взаимоотношения героев романа – треугольник персонажей фламандской доски.
24
Эта же повторяемость присутствует в параллелях между элементами
сюжета и музыкальными шифровками, инверсиями Баха, о которых рассказывает владелец картины сеньор Бельмонте: «Это сочинение состоит из двух частей, и каждая из них повторяется. Тоника первой части - "соль", а заканчивается она в тональности "ре"... Чувствуете? Теперь дальше: кажется, что пьеса
кончилась в этой тональности, но вдруг этот хитрец Бах одним прыжком
опять перебрасывает нас к началу, где тоникой опять является "соль", а потом
снова переходит в тональность "ре". Мы даже не успеваем понять, каким образом, но это повторяется раз за разом...» [3]. То же самое происходит и в сюжетной структуре романа Реверте, недаром Хулия замечает, что «картина словно бы раз за разом возвращается к одному и тому же, ведя созерцающего ее
внутрь самой себя» [3].
Данный образ повтора очень важен для постмодернизма, который использует принцип цитирования и аллюзий, и в этом плане очень показательным
является образ «лестницы, ведущей в никуда, к началу себя самой», появляющийся на рисунках Эшера. Эта лестница становится у Реверте символом и
структуры его текста, и всей постмодернистской литературы.
С другой стороны, это реализация идеи фрактальности, также заложенной в данном романе: разные уровни повторяют сами себя - реальность картины, шахматной партии накладывается на жизнь, отдельные мотивы включают в
себя свои элементы, эпиграфы вновь цитируются в тексте. В итоге весь текст
строится как фрактал – вложенные однотипные структуры, причем это задано
уже в первой фразе текста: «Неоткрытый конверт - это загадка, содержащая в
себе другие загадки» [3].
Интересно, что многослойность текста намеренно показывает героиня,
рассуждая об уровнях прочтения картины: «Уровень 1. Обстановка внутри
картины. Пол в виде шахматной доски, на котором находятся персонажи. Уровень 2. Персонажи картины: Фердинанд, Беатриса, Роже. Уровень 3. Шахматная доска, на которой двое из персонажей разыгрывают партию. Уровень 4.
Фигуры, символизирующие всех трех персонажей. Уровень 5. Нарисованное
зеркало, в перевернутом виде отражающее партию и персонажей» [3]. Эти
уровни прочитываются и в романе Переса-Реверте: описание картины – герои –
тема шахмат и убийства как продолжение партии – фигурки дель’арте – текст
романа как зеркало. Подобное обнажение приема можно интерпретировать как
постмодернистскую деконструкцию текста, подсказку читателю в интеллектуальном разгадывании смысла текста.
Финал романа также строится на принципе парадокса и деконструкции:
преступление, зашифрованное на картине, разгадано довольно быстро, но это
не ставит точку в повествовании, а становится лишь шагом на пути к уже реальным убийствам. Определенный в финале «преступник» Сесар, оказывается,
сам нанимает Муньоса, поскольку только этот гениальный шахматист может
его вычислить, а сам Сесар стремится проиграть: «Вы и начали играть именно
для этого: чтобы оказаться побежденным. И последний, милосердный, удар вы
получаете от своей собственной руки…»[3].
25
Так разрушается традиционный вариант детектива, где добро так или
иначе побеждает зло, - в романе Реверте одной из целей Сесара было показать
относительность добра и зла. Сам Сесар, внешне постмодернистский андрогинный персонаж, лишенный четкой половой принадлежности, также предстает
как соединение двух начал, добра и зла, мужчины и женщины, разных героев
картины.
Еще одним «постмодернистским» мотивом преступления становится
желание включить Хулию в текст, «историю»: «…Мне пришлось придумать
для тебя самую необыкновенную историю, какую только я мог изобрести. Приключение, которое ты не забудешь до конца своих дней. И прибавь к
этому открытие того факта, что Добро и Зло не разграничены, как белые и
черные клетки шахматной доски» [3]. Элементом иронии становится то, что
сообщником Сесара является компьютер, придумывающий шахматные комбинации. Подобный парадоксальный финал словно замыкает сюжет и одновременно оставляет его открытым: Реверте не уточняет, как поступят герои с фламандской доской, возвращаясь к сюжету картины, с которого начинается повествование.
В целом роман А.Переса-Реверте можно считать весьма интересным
образцом постмодернистского детектива. При внешнем сохранении определенных жанровых правил автор не только строит свое произведение как многослойную структуру, соблюдая закон «двойного кодирования», но и в какой-то
степени идет дальше У.Эко, деконструируя текст изнутри: «преступник» равен
«следователю», сюжет возвращается к исходной точке, оставаясь открытым. В
то же время главный акцент делается на «внутреннем детективе» текста – поиске читателем смыслового центра произведения, интеллектуальном путешествии
по различным уровням повествования. И в итоге центра как такового не оказывается, текст оказывается фракталом, замкнутым на самом себе. Игровая природа детектива дублируется у Реверте мотивом шахматной игры, которая подчиняет себе реальность. В итоге детектив, оставаясь жанром массовой литературы, не случайно оказывается востребованным и «классиками» постмодерна:
на примере романа А.Переса-Реверте можно увидеть, как органично соединяются элементы развлекательности с основными идеями постмодернизма и его
специфическими приемами, превращая детективное повествование в вариант
современного рационального катарсического эффекта.
Литература
1. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскриптум), Как избежать разговора: денегации
// Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Минск, 2001.
2. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодерна. СПб., 2000
3. Перес-Реверте А. Фламандская доска // OCR Anatoly Eydelzon
http://members.telocity.com/anatolyey/
4. Фидлер Л. Пересекайте рвы, засыпайте границы // Современная западная культурология: самоубийство дискурса. М., 1993.
5. Эко У. Заметки на полях «Имени Розы» //Иностр. литература. 1998, № 10
26
Ветошкина Г. А.*
Вещь и человек в художественном пространстве
Ч. Паланика
(на материале романа «Беглецы и бродяги»)
Творчество Ч. Паланика – объект противоречивый и неоднозначный. Для
кого-то из читателей он является культовым автором, пророком новой литературы и культуры. Для других его творчество, его язык и образная система абсолютно неприемлемы. Роман «Беглецы и бродяги» (2003) не самый известный и
популярность его среди поклонников писателя невысока. Комментаторы и литературные обозреватели часто называют эту книгу документальной. Типичные
отзывы о ней на сайте поклонников писателя звучат так:
«Где тут проза?»
«Роман оказался краеведчески - автобиографическим».
«Это что угодно, но никаким образом не литература. Обычная документальная
книга про свой город».
«Книга о людях и вещах, но в основном они совершенно неинтересны» [5].
Нам представляется необходимым поспорить с такой точкой зрения. На
наш взгляд, роман, хотя и стоит особняком в ряду других текстов автора, но является достаточно интересным как с дидактической, так и с художественной
точки зрения.
Представляя в одном из интервью замысел романа, Паланик отмечает:
«По контракту я должен был написать путеводитель по Портленду, и моей задачей было представить город как смесь интересных людей. У города короткая
история, но самые необычные люди Соединенных Штатов переселялись в
Портленд. В качестве достопримечательностей у нас не здания, а сумасшедшие.
Когда книга был закончена, издатель попросил мои собственные истории» [3].
В романе Паланик демонстрирует «кусочки из жизни» (именно так называется колонка в местной портлендской газете, которую ведет Катарина Данн –
героиня, которой автор дает право «представлять» Портленд читателю). Автор
распускает края жизненного полотна на бахрому историй. Жизнь предстает калейдоскопом. Один рисунок жизненной истории сменяется другим, этот следующим и так до бесконечности. Ведь сколько людей, столько и историй. Более
того, каждый человек предстает минимум в трех лицах, является как герой минимум трех романов сразу. В самом начале повествования автор пишет: «У
каждого, кто живет в Портленде, есть три жизни как минимум. У каждого, по
меньшей мере, три разные личности» [1, 7].
«Подшивая размохрившиеся края» в конце текста, подводя итоги, раскрывая свою концепцию повествования, Паланик пишет: «Каждая книга – это
собрание коротких историй, и когда я работал над этой книгой, я выслушивал
столько рассказов самых разных людей об их трех жизнях. Почтальон – анарВетошкина Галина Александровна – кандидат филологических наук, преподаватель кафедры зарубежной литературы КубГУ
*
27
хист-священник. Танцовщица – писатель-политический организатор. Писатель
– папа-смотритель слонов. <…> тут на каждом углу поджидает история» [1,
249].
Да, действительно, книга очень похожа на документальную, однако путеводитель для Паланика не что иное как особый жанр (как у М. Павича романсловарь, роман-кроссворд, у П. Корнеля роман-комментарий и т.п.). Подобная
жанровая организация художественного пространства помогает автору не только показать Портленд как совершенно особый город Соединенных Штатов, но
и на его примере нарисовать портрет современной потребительской цивилизации с её особым подходом к природе, к вещи, к человеку. В американской литературе этот прием не нов. Достаточно вспомнить У. Фолкнера с его «местечковыми» романами, которые, с одной стороны, очень национальны (в них довольно подробно показан местный колорит), с другой – универсальны.
Еще одна задача романа «Беглецы и бродяги» – признание в любви к городу, в котором прошла юность. Паланик пишет: «Самое большее, что я могу –
просто записывать… детали. Запоминать их, переносить на бумагу. Отдавать
дань уважения в каком-то смысле. Эта книга не Портленд, штат Орегон. В лучшем случае это подборка мгновений в обществе интересных людей. В это году
мне предстоит побывать в Англии, Шотландии, Франции, Италии, Испании
плюс к тому – в сорока городах в Америке и Канаде, но я всегда возвращаюсь
домой, в Портленд.
Я не знаю, что это – любовь или привычка, – но здесь у меня все друзья.
Здесь мой дом. Я переехал в Портленд в 1980 году, потому что здесь часто идут
дожди. <…> Я переехал в Портленд, потому что здесь сыро и сумрачно…Я
приехал в Портленд, потому что хотел познакомиться с новыми людьми.
Услышать новые истории. Теперь это моя работа: собирать и перебирать истории» [1, 250].
Паланик не просто «собирает и перебирает истории», он выкладывает из
этих историй мозаичные картины о людях и о вещах, как справедливо отметил
один из авторов на сайте поклонников писателя. Однако, в противовес мнению
одного из фанатов, нам представляются небезынтересными эти истории.
На первый взгляд, роман состоит из перечисления и описания достопримечательностей Портленда: музеев, интересных зданий, ресторанов и кафе,
парков и скверов, зоопарков и питомников, магазинов, в которых можно приобрести сувениры и др. Перечисление и описание объектов торговоразвлекательного и музейно-туристического бизнеса сопровождаются номерами телефонов и электронными ссылками. Глава о кафе и ресторанах включает в
себя даже рецепты особо интересных блюд, подаваемых в этих заведениях. Однако все перечисляемые вещи, здания, заведения сами по себе неинтересны и
скучны. Оживляют эту мертвую картину граждане Портленда, его люди, которых Паланик называет «беглецы и бродяги» (в оригинале – fugitives and refugees – «беглецы и беженцы»). Именно они являются главными героями романа.
Автор пишет: «Эта книга – как бы собрание моментальных снимков из портлендской жизни. Такой фотоальбом, но на словах. От убийц с топорами до
пингвинов, фитиширующих на ботинки. От подпольных опиумных притонов до
28
экскурсионных пожарных выездов и живых секс-шоу. В официальной истории
Портленда вы ничего этого не найдете. От разбуянившихся Санта Клаусов до
Самоочищающегося Дома. И это только верхушка айсберга под названием
Портленд, штат Орегон. Мифы. Слухи. Истории с привидениями. Кулинарные
рецепты. Немного истории, немного легенд. И люди, конечно же, люди – чистосердечные, замечательные, дружелюбные. Прекрасные люди, которым, может быть, стоило попридержать язык» [1, 14].
Кто же они, жители Портленда? Чем они живут, чего хотят и от чего бегут? В начале романа автор дает им следующую характеристику: «…все, кто
хочет начать новую жизнь, едут на запад, через всю Америку к Тихому океану.
А из всех западных городов жизнь дешевле всего в Портленде. То есть мы,
портлендцы, – самые тронутые из всех тронутых. Неудачники из неудачников.
Все, кто с большим прибабахом, тут и оседают, – говорит Катарина Данн. – Все
мы здесь – беглецы и бродяги» [1, 8].
Продвижение на Запад – популярный мифологический мотив для американской истории и культуры. Именно на Запад в поисках новых земель продвигались первые переселенцы. Именно на Запад или к морю, в поисках свободы
бегут герои многих американских авторов (Р. П. Уоррена, Дж. Апдайка и др.).
Почему же Паланик называет своих героев неудачниками? Они не вписываются
в систему официальной культуры. Неформалы, не желающие становится винтиками всеобъемлющей и всесильной системы потребления, они постоянно
нарушают правила приличия, тишину и спокойствие мирных обывателей.
Автор рисует город, в котором люди ищут освобождения от насилия цивилизации потребления и гламурной официальной культуры. Совершенно не
случайно в романе часто упоминается так называемое Какофоническое общество (Cacophony Society). Оно представляет собой «беспорядочно собранную
сеть индивидуумов, которых объединяет стремление к получению опыта, лежащего вне рамок общественного «мэйнстрима», через ниспровержение кумиров, шуточные проделки, искусство, исследования, выходящие за рамки общепринятого, и бессмысленное безумие» [6]. Именно по таким принципам и живут любимые герои Паланика (сам он, кстати, также является активным членом
этого общества).
В соответствии с принципами Какофонического Общества выполнено
большинство романных сцен и зарисовок. Так, например, описание съемок видеоклипа группы «Кавалькада звезд» (или просто КЗ) к песне «Мясник» из
«Открытки 1985-го»; рассказ о путешествиях по портлендскому подземелью; о
поездке в кафе «Апокалипсис» на «первый обед после ядерной катастрофы»
(Открытка 1995-го); реклама уличных гонок [1, 190]; гонки диких кошек [1,
219]; рассказ о костюмированной вечеринке для мопсов в рамках ежегодного
паб-марафона «По барам с мопсом» [1, 225], рассказ о Церкви Элвиса [1, 179180] и т.д.
В духе Какофонического общества дается описание многих вещей в романе. Вот как выглядят, например, машины «преподобного» Чака, одного из
портлендских чудаков: «… «форд-торино» 1973 года выпуска, весь обклеенный
знаками, предупреждающими о различных опасностях, и раскрашенный желто29
черными полосами по типу предупреждающей ленты. К кузову автомобиля
прилеплены гильзы от винтовки. Сломанные очки. Часы. Осколки зеркала.
Предупреждающие знаки. Плюс к тому – дохлые рыбины и скелеты оленей,
выкопанные преподобным Биллом. И ещё – бессчетное количество сосок от
детских бутылочек. <…> Тема этого автоколлажа: «Вещи, которые запросто
доведут до беды». Сидения обтянуты мехом рыси с чучелами настоящих голов.
Вторая машина преподобного Чака – «Иисус Крайслер» – это «крайслерньюпорт-роял», украшенный ржавыми дверными ручками. Гильзами от патронов с картечью. Часами. На крыше красуется ржавая металлическая модель моста «Золотые ворота». Рядом с ней – воздухозаборник турбины, выложенный
мозаикой из стразов, стекляшек и зеркальных осколков и похожий на огромную
сверкающую корону. Капот оклеен элегантными тиснеными обоями под золотую парчу. На лобовом стекле – пластмассовая фигурка с подсветкой. Лик
Иисуса» [1, 180-181].
Художественные принципы и приемы, которыми руководствуется Паланик в данном романе, близки тем принципам, которые выдвигали в свое время
концептуалисты, понимавшие искусство и жизнь как арт-деятельность. Вещи в
тексте Паланика превращаются в артефакты.
Соединяя воедино разнородные предметы, герой Паланика создает артефакты, идея которых в противопоставлении себя и своего образа жизни обществу, живущему в соответствии с предписаниями системы. Разъезжая таким образом по городу, герой чувствует себя свободным от условностей. Он убежден,
что «на таких машинах ездить приятней и проще. Можно нарушать правила, и
тебе ничего за это не будет. Можно ехать на красный. Парковаться в неположенном месте. Можно не пропускать никого на перекрестках без светофора» [1,
184]. Вырванные из привычного контекста и помещенные в новый, привычные
вещи у Паланика становятся волшебными. Они вырывают человека из унылой,
серой обстановки, заставляя окунуться в атмосферу сказки и праздника, снова
оказаться в детстве. Почувствовав себя снова ребенком, человек-обыватель
раскрепощается, к нему (пусть на мгновение) возвращается способность удивляться и радоваться жизни просто потому, что она есть.
Любимое пространство Паланика – игровое, поскольку игра – единственный (в отличие от других общественных проявлений) вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в результатах, а в самом процессе. В
ХХ-м веке именно играющий человек обнаруживает свою сущность. Игра для
Паланика становится синонимом свободы человека от прагматизма потребительской цивилизации. В игре интересен не результат, а процесс. Именно поэтому он с большим удовольствием приводит в тексте такой игровой проект
Какофонического общества как «Буйство Санта Клаусов» (иначе – «Красная
волна» или «Красный прилив»), когда «каждый год на Рождество члены различных Какофонических обществ съезжаются в Портленд: народ из Германии,
Австрии, Ирландии и из всех штатов Америки, все – в почти одинаковых красных костюмах. Всех зовут Санта Клаус. Нет ни мужчин, ни женщин. Ни старых, ни молодых. Ни белых, ни черных. Более 450 Санта Клаусов съезжаются в
город и отрываются на протяжении семидесяти двух часов непрерывного весе30
лья. От караоке до катания на роликах. От политических протестов до уличного
театра. От стриптиз-клубов до рождественских гимнов. Они расхаживают по
городу, звеня колокольчиками от саней и потрясая бутылками «Windex»…» [1,
201].
Совершенно не случайно, на наш взгляд, в качестве маски выбирается костюм Санта Клауса. Ведь Рождество в Западном мире вообще и в Соединенных
Штатах в частности давно перешло из разряда праздников мистических, духовных в разряд календарных, гламурных. Для большинства обывателей оно стало
частью потребительской системы ценностей. К этому дню приурочиваются
распродажи, его использует целая индустрия, торгующая рождественской символикой. К Рождеству компании планируют увеличение своего товарооборота
за счет подарков и т. д. и т. п.
Акции, подобные «Красному приливу» – с одной стороны, осознанный
или неосознанный протест против подобного положения вещей, с другой –
возможность почувствовать себя другим, на 72 часа выйти из своего привычного облика. Отказавшись от собственной воли стать звеном единого организма.
Избавиться от одиночества, почувствовав рядом плечо друга и единомышленника.
Описание противостояния полиции и Санта Клаусов шокирует и ломает
привычные представления о положении вещей: «Ситуация патовая: полиция
стоит плотной цепью вдоль южной стены центра «Lloyd». Санта Клаусы – на
другой стороне улицы лицом к противнику. Стоят, взявшись за руки, вдоль северной ограды парка Холлидей. <…> Санта Клаусы скандируют:
– Йо-хо-хо! Мы не уйдем!
Они «пускают волну». Туда-сюда, из одного конца строя в другой, от угла
до угла. Они кричат:
– Быть Санта Клаусом – это не преступление!
Полицейский кричит в мегафон, что «Lloyd Center»- это частная собственность, и всякий Санта, кто перейдет через улицу, тут же отправится в
тюрьму. Санта Клаусы кричат:
– Раз, два, три…Счастливого Рождества!
Над полицейскими – плотная линия детей и родителей, приникших к перилам на крытой автостоянке. Ещё только шесть вечера, а на улице уже темно.
Темно и довольно холодно, так что видны облачка пара от дыхания людей. На
бульваре образовалась пробка. Машины еле ползут. Но никто не сигналит – видимо, от удивления» [1, 202-203].
Нанизывая истории одну за другой, Паланик очень часто руководствуется
приемами контраста и парадокса, сопоставляет картины официальной и контркультур. Так, например, во время открытия ежегодного официального Фестиваля роз в Портленде проводится Парад под звездным небом («Открытка из 1988го»)– «красочное шествие» «с подсвеченными платформами на колесах, марширующими оркестрами прочими обязательными атрибутами больших уличных шествий. <…> Там также представлен годовой «урожай» принцесс Фестиваля роз. Они все стоят на большой движущейся платформе – все как одна в розовых бальных платьях – и машут зрителям» [1, 102].
31
В противовес официальной, автор тут же приводит неофициальную ситуацию: герой и его подруга принимают решение выступить с «политическим»
заявлением и «выразить категорическое несогласие с мыслью о том, что женщин можно использовать в качестве выставочных экспонатов» [1, 102]. Они тут
же решают обрядить бракованный манекен в «розовое шифоновое платье из секонд-хенда «St. Vincent de Paul», что на бульваре Пауэлл» [1, 102] и отправится
с ним в открытой машине на парад. Манекен, по их мнению, выглядит великолепно: «Ярды и ярды летящего розового шифона ниспадают подобно ангельским крыльям. На спине платья – отчетливый отпечаток протектора шины,
наводящий на мысли об очень зловещем конце изумительной ночи на студенческом балу» [1, 102]. Все это «великолепие» по замыслу героя и его подруги
должно будет раскрыть обывателям «подлую сущность Фестиваля роз как института дремучего женофобства и шовинизма» [1, 102-103]
В «Открытке их 1992-го» Паланик вновь возвращается к Фестивалю роз и
демонстрирует его обратную, неофициальную сторону. Во время прогулки на
велосипеде герой видит те платформы, которые участвовали в Параде, спустя
почти сорок восемь часов после их звездного часа: «Ржавые трактора и открытые грузовички тянут их на прицепе по извилистому маршруту по тихим улицам и закоулкам…, где их разберут до следующего фестиваля» [1, 160]. Они
уже не так привлекательны как раньше: «Цветы завяли и смялись. Десятки тысяч цветов. <…> Вместо королевы Роз, представителей органов местной власти
всех мастей теперь на этих платформах едут какие-то длинноволосые парни,
передавая друг другу косяк. Улыбаются, машут руками. Едут немолодые мамаши в спортивных костюмах, с младенцами на руках, в окружении детей постарше. Машут руками. Улицы абсолютно пусты. Некому помахать им в ответ.
Теперь вместо оркестров на этих платформах – радиоприемники размером чуть
ли не с чемодан. Грохочет зубодробительный рок. Гремит гангста-рэп. Густой
сладкий запах увядших цветов мешается с запахом сладких крепленых вин
<…> Пахнет подгузниками и марихуаной» [1, 160-161]. В данном эпизоде
жизнь поворачивается к герою своей изнаночной стороной.
В романе «Беглецы и бродяги» очень заметна авторская любовь к изображению вещей, на которых лежит отпечаток времени. Их выстраивается целая
вереница: старые манекены, старые журналы, двери, люстры, старая мебель,
одежда, старые пылесосы, копилки, машины, паровозы и даже бензоколонки.
Все они становятся достоянием истории, застывшим временем. Совершенно не
случайно все эти вещи помещаются Палаником за стены музеев – хранилищ
времени. Именно там они должны быть законсервированы для потомков на века. Размышляя о трансформации времени в постмодернистском искусстве, М.
Эпштейн отмечает: «Постмодернизм – теоретически самая изощренная форма
захоронения времени под предлогом его сохранения и увековечения в бесчисленных повторах и отсрочках. <…> Поствременье – это остановленное мгновенье, гигантски раздувшийся мыльный пузырь времени, на тонкой пленке которого стилистически играют и отражаются отблески всех прошедших и будущих времен» [2, 85]. Музейные вещи в тексте романа – лишь пародия на веч32
ность. Несмотря на все усилия людей спасти их от смерти, старые вещи покрываются ржавчиной и рассыпаются в пыль.
Особое место занимает в романе образ старого, отслужившего свое корабля. «Открытка из 1989-го» с его историей расположена в самой середине
романа. Автор дает довольно подробное описание: «…пароход «Монтерей»,
позаброшенный и позабытый пассажирский лайнер», «без пассажиров и топлива», «белый корпус покрыт пятнами ржавчины и птичьим пометом. В каютах
жарко и пыльно. Когда корабль качается…двери хлопают по всему судну. …на
столах в ресторане осталась посуда. На плите в кухне – кастрюли и сковородки.
<…> К началу лета эта глыба железа и стали впитала в себя весь жар лета.
Корпус не остывает даже по ночам, а внутри там – настоящее пекло…<…>. В
танцевальном зале стулья и столики стоят по периметру деревянного танцпола,
покоробившегося от жары. Паркет как будто вздымается волнами. В кадках
вдоль стен – высохшие пальмы, живые растения, мумифицированные за несколько десятилетий калифорнийской жары. Земля под ними сухая, как тальк.
Под ногами хрустят осколки фарфора и винных бокалов. В кухне, где все отделано нержавеющей сталью, остались кастрюли с присохшей едой как минимум
тридцатилетней давности» [1, 110].
Мифологема плавания и символика корабля довольно частотны в мировой литературе: «Сказание о старом мореходе» Кольриджа, «Пьяный корабль»
А. Рембо, «Труп в трюме» Г. Ибсена, «Моби Дик» Г. Мелвилла и др. В данном
контексте образ корабля в романе Паланика представляется глубоко символичным: мертвый корабль, мумифицированный от жары, с больным СПИДом
гомосексуалистом на борту. Даже тот факт, что корабль собираются переоборудовать под роскошный круизный лайнер, который будет ходить на Гавайи, в
данном контексте выглядит не вполне утешительно.
Подводя итоги, следует сказать, что роман Ч. Паланика «Беглецы и бродяги», несмотря на свой внешний «документализм», имеет довольно развернутую и четко выраженную художественную структуру. Он не только знакомит
читателя с личным, авторским Портлендом, но и представляет авторское видение современной потребительской цивилизации. Герои Паланика предстают
чудаками, неформалами, которым чужд обывательский дух системы потребления. Противопоставляя себя формальной культуре, они выстраивают собственную жизнь как череду артефактов, которые помогают сохранить свежесть восприятия мира, способность радоваться ему и удивляться. Паланик не идеализирует своих героев, они постоянно становятся объектами авторской иронии.
Вещи в художественном пространстве романа, с одной стороны являются
знаками цивилизации (манекены, копилки, пылесосы, паровозы, трамваи, бензоколонки и т. д.), с другой, символизируют собой застывшее время. В романе
нет новых вещей, все – старые, наполненные историями. Как и люди, вещи могут иметь несколько ипостасей, зависящих от угла зрения, ситуации и предназначения.
Романы Ч. Паланика неоднозначны и по художественной структуре, и по
рецепции, однако все они продиктованы авторским стремлением разобраться в
том, что происходит вокруг. Свое авторское кредо он выразил так: «Мне все
33
еще хочется думать, что мир становится лучше. Хотя я знаю, что нет. Мне все
еще хочется, чтобы люди вокруг стали лучше, хотя я знаю, что этого никогда не
будет. И мне по-прежнему хочется думать, что я могу что-нибудь сделать, чтобы люди и мир все-таки стали лучше» [4]. Роман «Беглецы и бродяги» вносит
свой вклад в решение этой проблемы и предлагает нам еще один шанс.
Литература
1. Паланик Ч. Беглецы и бродяги. М., 2009.
2. Эштейн М. Знак пробела. М., 2004.
3. http//fantlab.ru/article 165
4. www.libo.ru/libo3392.htm/
5. my.mail.ru/communiti/knigi/tag/%cf.
6. chemodanov.livejournal.com/2237.www.rinobar.ru/literature/fightclub.php.
34
Е.С. Носикова*
Рассказ Х.Л.Борхеса «Deutsches requiem»
в контексте работы Ф.Ницше «Антихристианин»
«Немецкий реквием» – одно из самых известных произведений
И.Брамса. В связи с этим у читателя может возникнуть предположение о том,
что фабула рассказа имеет отношение к музыке. Однако это не так. В «Немецком реквиеме» Борхеса речь идет о нацизме. Это своеобразная исповедь заместителя коменданта концентрационного лагеря, ожидающего казни. Нельзя не
отметить, что фашизм – лишь одна из рассматриваемых в нем проблем, за которой стоит вопрос о моральной ценности одной из трех мировых религий. Высказанная главным героем мысль о недужности христианства, наведшего на
мир «таинственную хворь», является точкой интенсивности, организующей
повествование, которое в данной статье будет рассмотрено, прежде всего, в
контексте философии Ф.Ницше. Это обусловлено не только авторской отсылкой к работам вышеназванного философа, но и своеобразной инверсией его
идей в исследуемом нами произведении. Агрессивная богобоязнь, ощущение
кризисности христианства, свойственные Ницше, достаточно сложное отношение к данной религии самого Борхеса, а также создаваемый им внутри произведения диалог контекстов позволяют взглянуть на рассказ с так называемой
точки невозврата (предельной насыщенности смыслом) в надежде получения
некой истины.
Главный герой – Отто Дитрих цур Линде – потомок воинов, отличившихся во многих сражениях. Образ его складывается в основном благодаря перечню предпочитаемых им в период ученичества авторов (Шопенгауэр, Ницше,
Шпенглер). Известно, что он был ранен и стал калекой, а спустя некоторое
время назначен заместителем коменданта концентрационного лагеря. Автор
показывает нам лишь одну из его жертв, поэта Давида Иерусалема, в чем-то, на
наш взгляд, даже схожего с Иисусом Христом. «Это был мужчина лет пятидесяти. Обойденный благами этого мира, гонимый, униженный и поруганный, он
посвятил свой дар воспеванию счастья…»[1, 265] Имя данного героя несет
большую смысловую нагрузку, являясь намеком на знаменитый библейский
персонаж – царя Давида. Кроме того, заключенный, как уже было сказано, является поэтом, царя Давида традиционно считают автором псалмов. Псалом в
переводе с греческого означает «хвалебная песнь», и подопечный Отто славит
жизнь во всех ее проявлениях. Для главного героя он становится объектом безграничной и, на первый взгляд, необоснованной ненависти. Автор передает его
ощущения следующим образом: «Я пережил вместе с ним агонию, я умер вместе с ним, в каком-то смысле погубил себя вместе с ним; так я сделался неуязвимым» [1, 266]. В этом мы видим некий ужасающий способ возвыситься, воскреснуть, «сделаться неуязвимым», погубив свою душу. Тот же метод в своих
«Духовных упражнениях» рекомендует и И. Лойола: тому, кто хочет воскрес*
Носикова Екатерина Сергеевна – аспирант кафедры зарубежной литературы КубГУ
35
нуть со Христом, необходимо вместе с ним умереть. Упоминание об Игнатии
Лойоле в данном тексте возникает не случайно. Дело в том, что ранение, сделавшее Отто калекой и изменившее тем самым ход его дальнейшей жизни, в
некоторой степени схоже с фактами биографии
вышеупомянутого католического святого. Кроме того, И. Лойола – основатель ордена иезуитов, ратовавшего за возвращение былого величия католической церкви и никогда не отличавшегося истинным христианским милосердием. Широко известен их девиз:
«цель оправдывает средства», который, кстати, получает свое воплощение и в
тексте Борхеса: «Чтобы воздвигнуть новый порядок, нужно многое разрушить;
теперь мы знаем, что среди этого многого – наша Германия. Мы пожертвовали
не просто жизнью: мы пожертвовали судьбой любимой Отчизны. Пусть другие
клянут и плачут; моя радость в том, что наша жертва не знает пределов и не
имеет равных» [1, 267]. Стоит отметить и то, что орден иезуитов, по утверждению С.В. Вострикова, – одно из обществ, являвшихся предтечей нацизма.
Главный герой на протяжении повествования постоянно возвращается к
теме религии, несмотря на то, что теологию считает «фантастической наукой»,
а все связи с христианством разорванными. Однако существует большая разница между верой и наукой о ней. Т.Манн в статье «Философия Ницше в свете
нашего опыта» отмечает: «Познать историческое явление - значит убить его.
Именно таким путем научное познание покончило с религией, которая теперь
находится при последнем издыхании. Историко-критическое исследование
христианства, – говорит Ницше, болея душой за уходящее прошлое, – без
остатка растворило христианство как религию в науке о христианстве» [6]. От
забавной науки и отказывается герой Борхеса. Доводы книжников его не
убеждают, а поступки имеют своей целью антирелигиозный катарсис, попытку
преодоления того, что не оставляет и мешает жить, травмы не только физической (ранение), но и душевной (ощущение себя неполноценным человеком, калекой). Обратим внимание на обстоятельства полученного героем ранения. Оно
происходит «в улочке за синагогой». Разве нельзя считать знаковым моментом,
определившим дальнейшую судьбу героя, ранение неподалеку от священного
места? Сам автор акцентирует внимание читателя на неслучайности всего происходящего. В тексте упоминается богословское утверждение, согласно которому каждый наш шаг является объективацией воли Всевышнего, а ослабление
её ведет к неминуемой гибели. Свою позицию Отто излагает следующим образом: «никто не смог бы существовать, никто не сумел бы выпить воды и отломить хлеба, не будь всякий наш шаг оправдан. Для каждого это оправдание
свое…Я жил, ожидая беспощадной войны, которая утвердит нашу веру. И мне
было достаточно знать свое место – место простого солдата этих грядущих
битв» [1, 264]. Однако его понимание логики жизни оказалось ошибочным. Философские идеи Шопенгауэра приводят его к мысли о том, «что все наши несчастья добровольны». Вера в существование «индивидуальной телеологии»,
вероятно, и «сближает нас с богами», но не исключает возможности влияния
случая или судьбы. Отто, размышляя над тем, что заставило его «искать пули и
увечья», понимает, что все дело в невыносимой тяжести той самой веры, от которой он якобы отказался. Этому предшествовали годы учения, о которых чи36
татель может судить лишь по выбору предпочитаемых им авторов: Шопенгауэр, Ницше, Шпенглер и др. «Вначале меня занимала теология, но от этой фантастической науки (и христианской веры как таковой) мой ум навсегда отвадили Шопенгауэр – с помощью прямых доводов, а Шекспир и Брамс – неисчерпаемым своеобразием своих миров… Году в 1927-м в мою жизнь вошли Ницше и
Шпенглер» [1, 263]. В работе Шпенглера «Закат Европы» дается перечень характерных особенностей так называемого фаустовского человека, с которыми
главный герой категорически не соглашается и даже пишет статью под названием «Расчет со Шпенглером» «… Самое последовательное воплощение черт,
именуемых этим литератором фаустианскими, - не путаная драма Гете, а созданная за двадцать веков до нее поэма «De rerum natura» [1, 263], в которой,
кстати, есть строчки, посвященные взаимоотношениям человека и религии:
В те времена, как у всех на глазах безобразно влачилась
Жизнь людей на земле под религии тягостным гнетом…
Так в свою очередь ныне религия нашей пятою
Попрана, нас же самих победа возносит до неба… [5]
Возвращаясь к работе Шпенглера, отметим, что фаустовского человека
он наделяет такими чертами, как: этический монотеизм, моральный императив, то есть стремление насадить мораль, претендующую на «всеобщее и вечное значение», непрестанная борьба за все сферы существования. «Все фаустовское стремится к исключительному господству», но при этом «дабы наложить на мир форму своей воли, фаустовский человек жертвует самим собой»
[3, 527]. Ярким примером такой личности является Ницше, философии которого Шпенглер дает довольно критичную оценку. «Ницше – противник «стадной
морали», не способен ограничить свое рвение самим собой». Для этого ему
необходимо все человечество. Ему свойственно желание быть «одновременно
скептиком и пророком, критиком морали и ее провозвестником» [3, 530]. У героя рассказа Борхеса Ницше, напротив, вызывает неподдельный интерес. В
частности, он заимствует у философа идею необходимости для любой переломной эпохи «людей нового типа».
Обратим внимание и на то, во имя чего воевал главный герой – Отто Дитрих цур Линде: «Мир погибал от засилия евреев и порожденного ими недуга –
веры в Христа» [1, 267]. По утверждению Т.Манна, «Ницше ставит в вину христианству прежде всего то, что христианство неслыханно подняло значение человеческой личности и таким образом сделало невозможным принесение ее в
жертву… Принцип христианства несовместим с принципом естественного отбора» [6]. Христианство как болезнь, упадок, кризис, яд, постепенно отравляющий волю, душу, делающее безжизненным тело, становится объектом «Антихристианина». «Сострадайте слабым», - призывает христианство. «Пусть
гибнут слабые и уродливые – первая заповедь нашего человеколюбия. Надо
еще помогать им гибнуть… Сострадая, слабеешь… Сострадание разносит заразу страдания», - говорит Ницше [2, 19]. Герой Борхеса проходит проверку жалостью и милосердием. Сострадание для него – принесенный христианством
недуг, который необходимо излечить, слабость, которую нужно преодолеть.
Поддавшись ей один раз, погибнешь навсегда. Однако, по сути, это и есть пси37
хология ничтожно слабой личности, пытающейся найти для себя доказательство собственной силы. В застенке «предательская жалость искушает нас давно
забытой любовью». «Жалость к высшему – последний грех Заратустры. И я,
признаюсь, почти совершил его, когда к нам перевели из Бреслау известного
поэта Давида Иерусалема», - говорит герой Борхеса [1, 265]. «Жалость к высшему…» Эти слова, на наш взгляд, являются лишь одним из примеров признания им собственной неправоты и бессилия. Обратим внимание на описание заключенного: «Мужчина с незабываемыми глазами, пепельным лицом и почти
черной бородой, Давид Иерусалем выглядел типичным сефардом, хоть и принадлежал к ничтожным и бесправным ашкенази» [1, 265]. Г.Зеленина в работе
под названием «Наикратчайшая история сефардов» утверждает, что «когда-то
сефарды были самым многочисленным, самым богатым и самым интеллектуально авторитетным еврейским субэтносом» [4]. Осознание естественного
(правда, отнюдь не физического) превосходства противника, ощущение сохраняемой им духовной силы, умение не просто принимать этот мир, но и славить
его, радоваться каждой мелочи «со страстью ювелира», не дает покоя Отто. Он
медленно и методично доводит своего подопечного до самоубийства. «Не знаю.
Понял ли Иерусалем, что я убил его, убивая в себе жалость» [1, 266]. Сострадание – это одна из форм подчинения, Ницше же считает достойным существования лишь то, что способствует возрастанию в человеке воли к власти. «Что
дурно? – Все, что идет от слабости» [2, 19]. По его мнению, единственно возможной является жизнь по ту сторону «Севера, льда, смерти», жизнь на пределе
сил и возможностей, которая позволит показать твою истинную суровую природу и, по убеждению героя Борхеса, «совлечь с себя прогнившую плоть ветхого человека, чтобы облечься в новую». Все, что препятствует этому, смертельно опасно. Христианское зло заключается в том, что силу оно считает пороком
и, меняя полюса главных человеческих ценностей, предпочитает смерть или,
как говорил Розанов, «отказ от жизни здесь во имя жизни там». «Нечего приукрашивать христианство – оно вело борьбу не на жизнь, а на смерть с высшим
типом человека, оно предало анафеме все основные его инстинкты и извлекло
из них зло – лукавство в чистом виде: сильный человек – типичный отверженец» [2, 20]. Христианство предлагает познать некую истину, которая «сделает
нас свободными». Ницше же утверждает обратное: там, где главенствует «адвокат небытия» (т.е. жрец), истина a priori вывернута наизнанку. К тому же загробное существование не может быть столпом утверждения жизни. Любой богослов - гений избыточной интерпретации, действующий исключительно в
своих интересах, ведь пока существует спрос на грех, неизбежным будет и
предложение на его искупление. Христианство неминуемо увеличивает пропасть между человеком и миром, оперируя лишь потусторонними понятиями,
не подлежащими верификации. От действительности бежит тот, кого она не
устраивает. Формула христианства – «преобладание чувств неудовольствия над
чувствами удовольствия». Бог становится в нем «символом костыля для усталых людей», «спасительным якорем для тонущих», богом нищих и грешников.
«Он как был евреем, так им и остался, богом закоулков, богом темных углов,
38
мрачных лачуг… Его мировой империей остается подземное царство, подполье – souterrain, лазарет, гетто» [2, 32].
Борхес предлагает читателю героя-антихристианина, однако при этом
дает ему понять, что у такого рода философии попросту нет будущего. Текст
начинается с перечисления геройски погибших предков, но перечень их подвигов, открывающий рассказ, резко обрывается откровенным признанием самого
Отто: «Что до меня, я буду расстрелян как изверг и палач. Суд высказался по
этому поводу с исчерпывающей прямотой, я с самого начала признал себя виновным…» Контраст между предком-героем и потомком- трусом – явное свидетельство вырождения. Увечность Отто также является символом нежизнеспособности. Гибнет его брат, уничтожены родовой особняк и лаборатория.
«Осажденный всем миром, погибал Третий рейх: он был один против всех, и
все – против него» [1, 266]. Гибнут отдельные представители, а вместе с ними и
вся нежизнеспособная система. Неожиданно для себя герой понимает, что рад
крушению былых идеалов. «Я рад поражению, - думалось мне, - поскольку
втайне чувствую себя виновным и только так могу искупить содеянное» [1,
267]. Мир неизбежно погибает от «веры в Христа», а некогда привитые ему
меч и беспощадность обратились против тех, кто был уверен в их необходимости. Так Отто Дитрих цур Линде говорит о своих соратниках:
«… Мы подобны искуснику, соткавшему лабиринт и обреченному блуждать в нем до конца дней, или царю Давиду, осудившему чужака и обрекшему его на смерть, но
вдруг в озарении слышащему: «Этот человек - мы» [1, 267].
Еще раз подчеркнем, что в исследуемом нами произведении практически
каждая деталь имеет отношение к религии, формируя соответствующий подтекст. Обратим внимание на название. Реквием – это плач по погибшим, заупокойное католическое богослужение. В рассказе мы видим плач по нации, принесшей себя в жертву ложным идеалам. Брамс впервые использовал характерные для жанра реквиема библейские тексты не на латыни, а на немецком языке, что еще раз подчеркивает в данном произведении необоснованное стремление сверхнарода к мировому господству. Тексту предшествует эпиграф, взятый
из Книги Иова: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться». Упоминание данного источника является авторским намеком на возможность, а, быть может, и
необходимость сопоставления Отто и Иова. Герой Борхеса страдает, страдает и
Иов. Отказ Отто от христианства и его ненависть по отношению к Давиду
Иерусалему, который становится для него символом всего, что он «ненавидел в
своей душе», можно считать своеобразным бунтом против Бога. Но является ли
Иов бунтарем? А. Сопровский в статье под названием «О Книге Иова» дает
следующий комментарий: «Когда же велик Иов? Он и прежде, и теперь велик.
Его величие в его вере… Богобоязненность Иова не была «нравственностью»,
как его дерзание не есть декадентский «бунт». Нравственность – беспочвенна,
общеобязательна для всех, безлична. Бунт безбожен. Страх же Иова, как и его
дерзание, есть интимное отношение к личному Богу. Дерзая, Иов не «отрицает» Господа, но перед лицом Его отстаивает свою правду» [7].
Отто тоже отстаивает свою правду. Он уверен в том, что принесенная
жертва не напрасна, однако она ничем не вознаграждается. Мнимый Бог лож39
ных идеалов не спасает. Иов же получает возможность начать жизнь заново.
Искалеченная (в прямом и переносном смыслах) жизнь заставляет героя рассказа Борхеса отступиться от Бога и только лишь бунтом доказывать право на
свое существование. Осознавая ошибочность избранного пути, признавая свою
вину, Отто не может раскаяться. «Я рад поражению, - думалось мне, - потому
что конец близок и у меня нет больше сил». «Я рад поражению, - думалось мне,
поскольку оно настало, поскольку им проникнуто все, что было, есть и будет,
поскольку исправлять и оплакивать случившееся – значит покушаться на ход
вещей» [1, 267]. Религия – слишком тяжелая ноша, нести которую может далеко не каждый, потому что «погибнуть за веру легче, нежели жить ею одною;
сражаться с хищниками в Эфесе не так тяжело (ведь столько безымянных мучеников прошли через это), как стать Павлом, слугой Иисусу Христу; поступок
короче человеческого века…» [1, 264-265]
В данном произведении Борхес выступает в несвойственном ему амплуа.
Нет ничего удивительного в том, что писатель, не признающий свою принадлежность к религии, показывает читателю героя – антихристианина. Однако это
всего лишь одно из авторских проявлений скрытой дидактики. Путем отрицания и сведения к нулю христианской морали, он приводит читателя к выводу о
ее необходимости. Кстати, вышеупомянутые слова о неизбежном различии веры и науки о ней, на наш взгляд, применимы и к личности автора, который,
считая теологию не только фантастикой, но и предметом изучения, так и не
смог доказать (в своем творчестве) отсутствие объекта. Христианская слабость побеждает нехристианскую силу, еще раз доказав свою жизнеспособность (даже в творчестве агностика - Борхеса).
Литература
1. Борхес Х.Л. Deutsches requiem / Пер. Б.Дубина // Собрание сочинений: В
4 т. Т. 2/ Хорхе Луис Борхес. СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2005.
2. Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов / Сост. и общ. ред.
А.А.Яковлева. М., 1990.
3. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. В 2 т.
Т. 1./ Пер. с нем. К.А. Свасьяна. М., 1998.
4. Зеленина
Г.
Наикратчайшая
история
сефардов.
http://www.migdal.ru/times/98/17251/
5. Лукреций.
Из
поэмы
«О
природе
вещей».
http://www.lib.ru/POEEAST/LUKRECIJ/lukrecii1_1.txt
6. Манн
Т.
Философия
Ницше
в
свете
нашего
опыта.
http://www.nietzsche.ru/read-305.php
7. Сопровский А. О Книге Иова. http://www.goldentime.ru/hrs_text_032.htm
40
А.П. Фисун*
Особенности дискретного повествования
в романе Х. Лунтиала «Последние сообщения»
В романе финского писателя Ханну Лунтиала «Последние сообщения»
мы из более чем тысячи sms-сообщений узнаем о жизни топ-менеджера финского отделения Microsoft, Теему, который оставляет свою работу, чтобы совершить паломничество по местам своей разгульной юности. Путь его лежит
через Стокгольм, Амстердам, Париж, Барселону на Восток, на остров ШриЛанка, где Теему тратит на спасение ста деревень три из четырех миллионов
долларов, пропавших со счетов Microsoft. Интересно, что сюжет выстраивается
не в тексте, а в сознании читателя, текст – лишь последовательность сообщений, это реплики героев, из которых мы по крупицам творим произведение.
Роману предшествует обращение автора, где говорится о том, что он получил текст sms-переписки почти случайно и что это – материалы расследования, систематизированные полицией. Таким образом, автор слагает с себя обязанности творца, он создает атмосферу собственной безоценочности, оставляя
нас наедине с тысячью sms-сообщений. Вообще, предисловие можно посчитать
достаточно избитым приемом, используемым не один век. Но в постмодернистском тексте обращение к читателю несет совершенно иную функцию. Это не
способ обмануть публику, заставив ее поверить в реальность описываемого
лишь уверениями писателя. Это – реализация тезиса Р. Барта о «смерти Автора», попытка полного исчезновения, превращения в невидимого бога текста.
Имитация жизни достигается иным путем, нет сюжетного или событийного отражения реальности, имитация происходит за счет реорганизации, мутации
формы повествования. В качестве иллюстрации можно вспомнить романыдневники, роман-словарь. В данном случае мы имеем дело с романом-smsперепиской.
Ткань произведения состоит из сообщений героев, и каждое sms представляет собой отдельный текст, они составляют своего рода мозаику. Естественно, что при таком построении синтагматика текста максимально редуцируется, и мы можем говорить о дискретном повествовании. Для него будет характерна непоследовательность (диалоги Теему переплетаются, они не происходят в режиме «входящее - исходящее» сообщение, на какие-то sms ответ приходит незамедлительно, а на какие-то – много позже). Нет и привычной непрерывности – иногда Теему не отвечает несколько дней, и некоторые входящие
сообщения теряют свою актуальность. Читатель погружается в систему текста,
лишенную исходных координат, его движение не обусловлено авторской волей,
а структура повествования представляет собой ризому – любая точка пространства текста может оказаться его центром. Читатель, проникая в пространство
романа, как раз и оказывается точкой притяжения осколков повествования
(«…читатель – это человек без истории, без биографии, без психологии, он все*
Фисун Анастасия Павловна – студентка V курса филологического факультета КубГУ
41
го лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный
текст» [2, 390]). Нелинейное повествование здесь достигает своего апогея, ориентированное на клиповое мышление, оно подстроено под структуру сознания
современного читателя. Череда sms подобна сменяющимся кадрам, складывающимся в нашем представлении в определенную картину, у каждого в свою. В
одном из своих интервью Милорад Павич говорил, что есть мириад способов
прочесть «Хазарский словарь», но ими никто не пользуется. Можно сказать,
что Павич жаловался на неактивность читателя, выбирающего классический
способ прочтения. Роман «Последние сообщения» не ставит нас перед такого
рода выбором, потенциальное множество здесь переходит из внешнего фактора
(воля читателя, способ прочтения) в фактор внутренний. Именно в нашем сознании возникает возможность нескольких вариантов сюжета. Благодаря дискретности повествования достигается максимальная открытость произведения.
Текст выходит за рамки сказанного, и читатель вовлекается в процесс непрерывного домысливания сюжета. Это борхесовский «сад расходящихся тропок»:
в зависимости от того, какое мнение ты приобретешь о герое по ходу романа,
зависит и финал. В конце романа читатель остается на распутье, так как возникает несколько финалов. И встает вопрос, умер герой от рака легких, выполнив
свою благотворительную миссию, или оставшийся миллион он потратил на
операцию в Кувейте, о которой ему говорил друг Рокка, а его молчание – знак
того, что он теперь живет под другим именем, умерший для родных; есть и еще
один вариант: Теему собирался сделать операцию, но не успел. Все варианты
равны в своих правах, все варианты равнодоказуемы и равнонедоказанны, и как
раз читатель, отягощенный правами главного арбитра, ведет счет этой игры.
Таким вот образом исчезнувший повествователь поселяется в читателе и вводит
свой текст в реальность. Можно сказать, что у этого романа нет сюжета в привычном понимании, а есть лишь множество интерпретаций выстраиваемого
текста.
Автор не дает оценку героям, не характеризует их прямо или косвенно
своим словом. В тексте вы не найдете описания внешности, характера, нет и
внутренних монологов героев, но тем не менее, действующие лица – не ходульные персонажи, они представляются нам живыми людьми, наделенными определенным набором качеств. Получается, что читатель составляет характеристику героев лишь на основе их собственной речи. Например, Рокка, рассказывая о
себе, старается спровоцировать на это же и Теему; Лииса, сестра героя, обсуждая с ним лишь собственные проблемы, пытается найти в брате надежную опору. Немаловажно и графическое оформление сообщений. Читая первое сообщение Кайсы, матери Теему, мы понимаем, что перед нами человек, оторванный
от современной коммуникативной действительности: прописные и заглавные
буквы в ее сообщении поменяны местами. Пекка, друг Теему, фонтанирующий
энергией архитектор, пишет свои сообщения исключительно большими буквами, пренебрегая знаками препинания, когда же он смертельно пьян, он исключает и пробелы. Благодаря такому оформлению создается образ нетерпеливого,
чрезмерно активного человека. Сообщения главного героя всегда предельно ясны и открыты. В конце романа он пишет одинаковые sms трем людям: жене,
42
сыну и другу. Герой смертельно болен и лишен сил, его усталость и выражается
в рассылке одинаковых sms самым важным для него людям. И если графическая оформленность сообщения является характеристикой персонажа, то его
повторяемость – это характеристика внутреннего состояния.
Мир sms-переписки героев – мир глубоко интимный, лишенный лжи и
фальши. Но в это внутреннее пространство часто вмешиваются внешние, негативные, факторы, такие как требования шантажистов, информация об убийце,
угрозы ревности с неизвестного номера. В своем обращении к читателю автор
говорит о том, что вопрос морали – главный в сложившейся ситуации. Можно
сказать, что «Последние сообщения» – роман о дружбе, равноправии, почтительном отношении к людям, о помощи им, но с другой стороны, это роман о
зависти, недоверии, подозрении и жадности. Получается некая бинарная оппозиция: мир, поделенный на негативный и позитивный полюса, которым соответствуют внешний и внутренний миры героев. Роман Ханну Лунтиала только
благодаря необычности повествовательной манеры, дискретности нарратива,
мы можем отнести к постмодернистским произведениям. Внутренняя же сторона романа построена на классических представлениях о добре и зле, чести и
долге, она лишена иронии, столь необходимой постмодернизму, а игра автора с
читателем основывается на желании сотворчества.
Литература
1. Лунтиала Х. Последние сообщения. М., 2008.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
43
Е.С. Теплинская*
Художественная модель человеческих отношений
в романе Дж.Барнса «История мира в 10 ½ главах»
Одним из влиятельных направлений в европейской, американской и русской литературе второй половины XX века является постмодернизм. Его основные принципы: игра с читателем, интертекстуальность, представление мира как хаоса, ирония по поводу существующих
форм человеческих отношений – казалось бы, бросают вызов традициям
классической литературы. Но вместе с тем во многих современных
текстах прослеживается тенденция к возвращению традиционных аксиологических моделей, что можно рассмотреть на примере романа английского писателя-постмодерниста Дж.Барнса «История мира в 10 ½ главах».
Роман состоит из 10 глав, которые связаны между собой скорее
на интуитивном уровне, с помощью аллюзий, реминисценций, общих
идей. Автор балансирует на грани атеизма и религиозного верования.
«История мира в 10 ½ главах» официально признана первым значительным романом британского постмодернизма. Барнс появился в самое что
ни на есть «нужное время» [6], а именно в пору расцвета постмодернизма – тот период, когда фразы вроде «я вас люблю» звучат избито и банально, поскольку были уже тысячу раз сказаны другими писателями и
поэтами в своих книгах, и уже не способны никого удивить. Один из
главных теоретиков постмодернизма У.Эко в «Заметках на полях «Имени Роза» так описывает данную ситуацию: «Постмодернистская позиция
напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей "люблю тебя
безумно", потому что понимает, что она понимает (а она понимает, что
он понимает), что подобные фразы - прерогатива Лиала. Однако выход
есть. Он должен сказать: «По выражению Лиала - люблю тебя безумно»
[7].
Благодаря ироничной интонации (в описании сердца, по поводу поведения животных, о фотографиях жениха и невесты и т.д.),
утонченному, временами даже циничному, стилю повествования («...вся
эта болтовня о носе Клеопатры годится только для самых сентиментальных...»), Барнсу удается говорить о важных вещах, затрагиваемых
им проблемах, не впадая в такие крайности, как сентиментальность и
пафосность. «Я считаю, что моя творческая задача – отражать окружающий мир во всей его правоте и противоречивости», − говорит писатель
[6]. Сформулированная так творческая задача не нова для английской
литературы. Еще в конце XIX века, когда доминирующим художественным методом был реализм, в Англии возникла дискуссия об «искренно*
Теплинская Елена Сергеевна – студентка IV курса филолгического факультета КубГУ
44
сти в английской литературе», основной вопрос которой состоял в том,
насколько существующий художественный метод отражает действительность. Роман викторианский - основной в английской прозе XIX
столетия - как будто бы воссоздавал действительность, но на самом деле
строился на строго определенном наборе клише и штампов. Попыткой
воссоздания истинной реальности стала художественная практика английских модернистов - Джеймса Джойса, Вирджинии Вулф и др., предложивших новую повествовательную технику, отражающую многообразие мира. Но постмодернисты решили, что литература должна ориентироваться не на реальность, а на другие тексты. В постмодернистском сознании мир представляется как текст. В постмодернистском контексте
современной литературы слова Барнса, определяющие цель его творчества, приобретают очень актуальное звучание. Такая позиция писателя,
который интересуется проблемами современности и человека в ней,
усложняет его отношения с постмодернизмом.
Взятые вместе, его книги являются своеобразной реконструкцией
столь распространенного в английской литературе прошлых веков жанра
нравоописательного романа. Причем нравоописательность проявляется
сразу в нескольких аспектах. Во-первых, писатель воссоздает нравы, то
есть обычаи жизни современных британцев, размышляет над таким понятием, как «englishness» или «britishness» («английскость», «британскость») [4]. Английская жизнь освещается сразу с нескольких сторон, снаружи и изнутри. Во-вторых, Барнс постоянно ставит своих героев перед выбором между нравственным и безнравственным, моральным
и аморальным. Персонажи книги не положительные или отрицательные
герои, а люди, сталкивающиеся в жизни с проблемами насколько обычными, настолько и нерешаемыми; их поступки, вынесенные на суд читателя, не могут быть оценены однозначно. Перед человеком, открывшим
книгу, возникает множество точек зрения, противоречивых мнений о
любви, дружбе, доверии, семейной жизни и так далее. И читатель вновь
должен выполнить непростую задачу - выбрать для себя ту версию, которая
кажется
ему
наиболее
близкой
к
истине.
Повествование создается из отдельных фрагментов, которые мы сами
постепенно складываем, чтобы получить картину, в надежде докопаться
до истины, правды. Тем не менее, книга создает в сознании читателя
многообразную, но завершенную картину действительности. Барнс подчеркивает, что «История мира» не сборник новелл, она «была задумана
как целое и выполнена как целое» [6].
Аллегории, разбросанные по тексту, аллюзии на другие главы,
связывающие события, отстоящие друг от друга во времени и пространстве (древесные черви, Ноев ковчег и др.), они и удерживают единство
повествования. Книга построена на повторяющихся фразах, мотивах и
темах. Такая структура романа отвечает взгляду на действительность писателя-постмодерниста, в понимании которого окружающий мир – это
хаос. В романе Барнса налицо и все характерные внешние признаки
45
постмодернизма – цитирование произведений литературного наследия
(Ветхий завет), переосмысление элементов культуры прошлого (миф об
Ионе, Ноев ковчег, произведения изобразительного искусства).
Автор предлагает читателю разные частные истории. Здесь политические события уходят на задний план, здесь нет изложения исторических фактов и событий, но есть истории, пережитые отдельными людьми, для которых их частная жизнь важнее политики.
Барнс в своем романе затрагивает и поднимает многие вопросы и
проблемы: от глобальных человеческих до мелких бытовых. Одной из
них можно назвать проблему отношений в семье, взаимоотношений людей.
Его герои очень разные, поэтому и отношения с людьми они
строят по-разному. Обратимся к главе, которую рассказывает Кэт Феррис. Их взаимоотношения с Грегом не были полны любви и нежности.
Главная мысль, которую неоднократно повторяет Кэт, рассказывая об их
совместной жизни, что у них «не хуже, чем у других»: «Мы жили не так
уж плохо». Он ее «поколачивал», называл дурой, считал, что мужчины
выше по развитию, чем женщины. Она называет его «самым обыкновенным олухом». Затем она заболевает и попадает в клинику, в которой
доктор объясняет ей, что причина проблем − разлад с Грегом, и из-за того, что она возлагала на него большие надежды, считала его последним
шансом, у нее развился «устойчивый синдром жертвы». Она придумала
историю, чтобы убежать от реальности, которую не хотела принять. Такую модель современных отношений между мужчиной и женщиной
изображает Барнс в романе.
В шестой главе показаны отношения между отцом и дочерью.
Они не понимали друг друга всю жизнь, они не сходились во мнениях,
но, тем не менее, сильно были привязаны друг к другу, их «связывала
глубокая взаимная симпатия». И именно из-за любви к отцу Аманда
поехала искать Ковчег.
В 8 главе рассказ ведется от лица актера Чарли. Он из джунглей отправляет своей возлюбленной открытки, письма полные искренности, любви, нежности, в них чувствуется тоска по любимой. Он хранит ее фотографию на своей груди. Чарли описывает помимо трудностей, с которыми он сталкивается, еще и какой он видит дальнейшую
жизнь. Чарли пишет о том, что он хочет завести семью, детей, уехать за
город и жить там. Но когда он не чувствует взаимности, он резко меняет
свое отношение.
В 9 главе описаны отношения супружеской пары Бетти и
Спайка Тиглера. Только из-за его известности, славы, богатства жена и
остается рядом с ним.
Самая важная часть романа, которая помогает определить точку
зрения автора на любовь, семью – это «Интермедия». «Интермедия»
(это и есть ½ главы, заявленной в названии) – размышления о любви.
Она написана от лица самого писателя. В каждой из глав появляется
46
свой повествователь − это маска, под которой скрывается автор. Единственный случай, когда можно поверить, что Барнс говорит от своего
имени, − «Интермедия». В интервью Александру Стюарту Барнс поясняет, что эта часть задумывалась «прямой и простой», и далее продолжает:
«Иногда думаешь: нет, я просто напишу правду» [5]. В «Интермедии»
автор, казалось бы, излагает читателю свою позицию, но вопросов возникает довольно много: как же это могло случиться?; когда вы поняли,
что влюблены?; почему вы влюбились?; за что любите теперь?; чья вина,
что все сложилось именно так?; что же теперь с вами будет? и т.д. Каждый персонаж стремится найти ответы, а вместе с героями ищет ответы
и читатель. При этом автор не собирается отвечать хоть на какие-то вопросы, вносить определенность; его задача − постановка проблемы.
Барнс втягивает нас в эти рассуждения незаметно, делая их непосредственными участниками.
Начинается с описания деталей ЕЕ сна, прилива чувств, которые у него возникает, когда он наблюдает за ней: «Мои глаза щиплет
от слез, и я едва сдерживаюсь, так мне хочется разбудить ее и напомнить о том, как я ее люблю».
Барнс цитирует разных писателей и поэтов, которые писали и
говорили что-то о любви, затем он выражает свое отношение к сказанному ими. Например, фраза писательницы Мейвис Галант: «Тайна, которую представляет собой любящая пара, это, пожалуй, единственная
настоящая тайна, еще не раскрытая нами, и когда мы раскроем ее, литература, − да и любовь тоже, − будет уже не нужна». И автор сначала
сомневается в правильности ее суждений, а потом все-таки с ней соглашается.
Барнс говорит еще и о том, что слова «Я тебя люблю» не надо
произносить часто и просто так, они должны храниться в железном ящике и произносить их нужно только от всего сердца, не надо разбрасываться ими. «Я тебя люблю не должно звучать слишком часто, становиться ходкой монетой, пущенной в оборот ценной бумагой, служить
для нас источником прибыли». К любви, ее словам нужно относиться
бережно и трепетно.
Любовь ему не представляется каким-то легким, обыденным
делом. Он понимает, что она нуждается в созидании со стороны обоих.
Он поднимает такие вопросы как: «Делает ли любовь нас счастливыми?», «Благодаря любви все идет как надо?». И сам на них затем отвечает, что нет. Он не пускается в пафосные речи об этом чувстве, он довольно рационально и реалистично смотрит на это, понимает, что «любовь может счастья и не дать». Можно просидеть годы не под тем «гаражом», не в той «машине» и прождать пока «откроются двери». Он пишет, что многим это чувство представляется в виде «волшебной палочки, которая в мгновение ока распускает запутанные узлы, наполняет
цилиндр платками, а воздух хлопаньем голубиных крыльев», но автор
далее высказывает свое мнение на этот счет: «моя любовь отнюдь не
47
обязательно сделает ее счастливой», «она может лишь раскрыть в ней
способность к счастью», то есть любовь – это еще не счастье, а только
одна из предпосылок к нему. Любовь – это не «полезная мутация, которая помогает человечеству в его борьбе за существование». Мы можем
прожить и без нее. Однако «благодаря ей мы обретаем индивидуальность, обретаем цель», «возможно, и любовь так важна потому, что необязательна». Он придерживается той точки зрения, что не надо бояться
любви, нужно жить и любить, только прожив этот отрезок жизни, можно
действительно понять и убедиться, любите ли вы друг друга. В реализме
XIX века у английского писателя Ч. Диккенса в романе «Дэвид Копперфилд» заложена такая же идея: главный герой, только осмелившись признаться в своих тайных чувствах, обретает счастье.
Барнс понимает и иронизирует над тем, что люди испытывают одни и те же чувства и эмоции, но полагают, что до них не испытывал такого никто: «Благодаря ей мы − это нечто большее, чем просто
мы». Он не предлагает готовых ответов и решений: «Я не знаю, что
лучше − осторожная любовь или безрассудная, что надежнее − любовь
с полной мошной или без гроша, что сильнее – любовь в браке или вне
оного». Он сам далее и говорит, что это «не книга полезных советов»: «Я
не могу сказать вам, любите вы или не любите». Каждый сам должен в
себе искать ответы, делать выводы, никто не сможет помочь ему, кроме
самого себя. В «Интермедии» Барнс раскрывает взаимосвязь любви и
истории: «Наша случайная мутация так важна, потому что необязательна. Любовь не изменит хода мировой истории (...), но она может сделать
нечто гораздо более важное: научить нас не пасовать перед историей...»; любви и правды: «Любовь и правда − это жизненно важная связка. (...) Любовь заставляет нас видеть правду, обязывает говорить правду...».
Он не дает описаний, портретов, главное, что нужно – это полагаться на себя, доверять своему сердцу, быть верным себе. Именно
любовь пробуждает в душах чувство сострадания, терпимости: «Любя,
мы обретаем недюжинную способность к сочувствию, обязательно
начинаем видеть мир иначе», «мы любим не ради того, чтобы помочь
миру избавиться от эгоизма; но это одно из непременных следствий
любви».
В его размышлениях чувствуется тоска по настоящему, глубокому чувству, при всей своей постмодернистской иронии ощущается
его вера в идеал Любви, семьи. Все это довольно сильно его сближает с
викторианством, национальной традицией, с той моделью семейных отношений, которая реализована у Диккенса. В произведении «Дэвид Копперфилд» в конце романа автор рисует картину семейного тихого счастья, в окружении друзей, детей и любимой жены. Эти описания полны
теплоты и нежности. В «Приключениях Оливера Твиста» также есть подобные мотивы и темы.
48
В романе Барнсу удается то, что редко встречается в современной
английской литературе: рассказать самыми простыми словами о самых
простых, но, в то же время, и самых сложных вещах, втянуть читателя в
беседу о том, из чего складывается наша повседневная жизнь, из чего, в
конце концов, состоит человеческое бытие, − о любви, счастье и душевной боли, о доверии и предательстве, о том, что значат для человека
брак, семья, дом.
«Вы должны раз и навсегда усвоить, что жизнь каждого человека уникальна и в то же время вполне заурядна» [6], - декларирует свое
жизненное кредо Джуллиан: все, что случается с нами и кажется чем-то
необыкновенным, уже сотни раз случалось с другими, и потому надо попытаться как-то это пережить. Возможно, причина притягательности и
обаяния книги, причина ее неослабевающей уже десять лет популярности кроется именно в том, что она имеет глобальный, общечеловеческий
смысл.
Литература
1. Барнс Джулиан. История мира в 10 ½ главах // Иностранная лите-
ратура. №1. 1994, с.67 -232.
2. Диккенс Ч. «Дэвид Копперфилд» ДЕТГИЗ. 1953, с. 775.
3. Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» Комсомольская
правда. 2007, с. 380.
4. Кочеткова Н. «Я не драматург, не денди, не гомосексуалист» //
Известия. 2007,
5. Стюарт А. Интервью с Дж.Барнсом // «Los Angeles Times Book
Review». 1989.
6. Тарасова Е., Табак М., Бондарчук Д., Фрумкина С., Горбачева М.,
Романова А. Круглый стол «Феномен Дж.Барнса» // Иностранная литература. 2002, №7.
7. Эко У. Заметки на полях «Имени Роза» Симпозиум. 2007, с. 57.
49
В.А. Поддубская*
Буддистская картина просветления в произведении
Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
В 1970 году Ричард Дэвис Бах, тогда еще никому неизвестный начинающий американский писатель, опубликовал повесть-притчу «Чайка по имени
Джонатан Ливингстон». Бах по профессии был летчиком, он служил в американской авиации, и, может быть поэтому, небольшая по объему книжка удалась
ему как эффектный и зрелищный иммельман: он рассказал в ней людям о полете и о птице. Птицу звали Джонатан Ливингстон. И птица эта была морской
чайкой. Именно - морской. В названии повести Бах так и написал - Seagull,
морская чайка. Русские переводчики почему-то решили, что все чайки - морские, и оставили морскую чайку просто чайкой.
Чайка была отнюдь не простая! Она умела летать не так, как все. Она
научилась так после трудных, упорных и изнурительных полетов. Ею двигала
мечта. Ее толкало вперед чувство неведомого. Чайка была любопытной и дерзкой. Она экспериментировала - и добилась того, о чем никогда даже не помышляла ни одна другая заурядная чайка из Стаи. «Это был Прорыв, незабываемый,
неповторимый миг в истории Стаи и начало новой эры в жизни Джонатана. Он
продолжал свои одинокие тренировки, он складывал крылья и пикировал с высоты восемь тысяч футов и скоро научился делать повороты... Джонатан был
первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа» [1, 26].
Стая не приняла чайку, принесшую весть о том, что можно летать со
скоростью ветра. «Мы станем существами, которым доступно совершенство и
мастерство! Мы станем свободными! Мы научимся летать!» [1, 27], - призывал
собратьев Джонатан. Но... Стая отвергла его. Мало того, она его изгнала. И обрекла на одиночество.
Однажды одинокого Джонатана догнали две сияющие, лучезарные птицы. Они умели летать так, как он. С ними он поднялся с Земли в великолепную
серебряную страну, которая называлась Небо. И там у него оказался наставник,
которого звали Салливан. И там у него появились ученики. Он продолжал
учиться сам, бесстрашно и упорно. И учил тому, что достиг сам, других, Начинающих. Но вскоре его потянуло на Землю, он не мог без нее... И он вернулся...
В своей стае он обнаружил чайку по имени Флетчер Линд, и Флетчер
стал его любимым земным Учеником. Учеников становилось, несмотря ни на
что, все больше. И в один прекрасный день Флетчер сам стал наставником «зеленой молодежи».
А затем Джонатан покинул Флетчера, чтобы тот мог сам как наставник
заниматься со своими учениками. «Предела нет, Джонатан?», - спрашивает
встревоженный Флетчер покидающего его учителя. И, не получив ответа, решает продолжать совершенствоваться, насколько хватит сил...
*
Поддубская Вероника Антоновна – студентка V курса филологического факультета КубГУ
50
Ричард Бах впервые назвал птицу по имени. Простую морскую чайку.
Люди никогда ранее не называли птиц таким образом. Это было собственное
имя чайки, а не придуманное ей людьми - для того, чтобы окликать кличкой
прирученного или привязанного одомашненного питомца. Люди в этой притче
вообще отсутствовали. Они даже не подозревали, что на Земле живет чайка по
имени Джонатан Ливингстон!
Рассказывают, что автор не любил разговоров о замысле притчи. Вот
что пишут комментаторы: «Ричард Бах и по сей день утверждает, будто идея
книги... принадлежит не ему, и поэтому отказывается давать какие-либо разъяснения относительно ее метафизического смысла» [4].
Автор притчи о чайке (о морской чайке Джонатан Ливингстон!) Ричард
Дэвис Бах является прапраправнуком великого и мудрого, скромного и упорного музыканта Иоганна Себастьяна Баха.
Рассказывают также, что Ричард Бах был в молодости летчиком-ассом и
любил делать фигуры высшего пилотажа на своем биплане.
Сам Бах утверждал, что новелла написана под впечатлением реальных
полётов «потрясающего» пилота Джона Ливингстона. И, если взять его биографию, то мы найдем целые фрагменты в «Чайке», взятые Бахом из нее.
Чайка – птица, ставшая романтическим символом. Ее образ восходит к
народно-поэтическим представлениям о душе белой и черной, крылатой и бескрылой, живой и погибшей. Образ вольной птицы символизирует стремление
человека к свободе, протест против гнетущей действительности, незащищенность страдающей личности. А «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» американского писателя Ричарда Баха, тоже ставшая знаменитой, – символ беспредельных возможностей того, кто умеет мечтать, верит в совершенство и любит
жизнь.
Кто-то увидит историю о бесконечном стремлении гения постичь тайну
совершенства, кто-то - воплощение знаменитой фразы: «Художник, воспитай
ученика, чтоб было у кого потом учиться». А кто-то - реализованное в аллегорических образах учение Будды о достижении полной свободы тела, речи и
ума.
Мы обращаемся к философии буддизма неслучайно. Чайка, парящая над
морем, - в большинстве культур считается символом свободы. В буддизме же
известны практики «вхождения в образ» того или иного существа. И именно
полет чайки используется для достижения ощущения свободы.
Влияние философии буддизма сказывается и в том, что Джонатану
свойственно ощущение пространства как блаженства, он ищет не власти, а истины, к нему приходит внутреннее, сверхчеловеческое зрение, и конечный результат его опытов - полное просветление, состояние совершенства, высшая
радость [2].
Как и Будда, Джонатан учит своих последователей методам достижения
просветления, перехода из одного мира в другой, чтобы, пробудившись от коллективного сна, они увидели, что нет никакой границы между миром обусловленности и миром ничем не обусловленного существования, и что мир с самого
начала един.
51
Герои этой притчи, не исключая и Джонатана, нарисованы весьма схематично. У них одна страсть - полёт, одна судьба: изгнание из Стаи - обретение
Учителя - настойчивый труд - просветление (постижение истины) - достижение
совершенства.
Система образов построена на противопоставлении серой Стаи (восемь
тысяч глаз) и чайки Джонатана с его семью учениками (число «8» как отражение восьми заповедей буддийского образа жизни - Благого восьмеричного пути).
О Джонатане мы узнаём вначале только то, что он «голодный, радостный, пытливый», о его единомышленниках - ещё меньше: наставник Салливан
и старейший Чанг - воплощение мудрости, изгнанник Флетчер Линд, «очень
молодая чайка», - «сильный, ловкий и подвижный», Мартин Уильям - «незаметный» и «маленький», Кэрк Мейнгард - с поломанным крылом, а ЧарльзРоланд - «удивлённый, счастливый и полный решимости завтра подняться ещё
выше». Эти образы очень мало индивидуализированы, что, впрочем, вполне соответствует выбранному автором жанру притчи.
Интересная деталь: чайки обретают имя и фамилию, только когда становятся изгнанниками, когда Стая прогоняет их. Почему? Не потому ли, что
они обретают в этот момент свою индивидуальность и бессмертную душу?
Трёхчастная композиция произведения отражает три ступени духовного
самосовершенствования Джонатана Ливингстона:
I часть - постижение истины, идеи свободы;
II часть - достижение совершенства;
III часть - стремление поделиться знанием высшей истины с учениками,
чтобы они тоже воплотили собой идею Великой Чайки, всеобъемлющую идею
свободы.
В то же время чётко просматривается треугольник земля - небеса - земля, причём «небеса - это не место и не время. Это достижение совершенства».
В широком понимании образ Джонатана Ливингстона ассоциировался с
Икаром – с полетом вопреки всем страхам. Однако при более глубоком рассмотрении, как и в любом произведении постмодернизма, в «Чайке по имени
Джонатан Ливингстон» обнаруживается целый культурный пласт буддизма.
Система образов построена на противопоставлении серой Стаи (восемь
тысяч глаз) и чайки Джонатана с его семью учениками (число «8» как отражение восьми заповедей буддийского образа жизни - Благого восьмеричного пути).
Как и Будда, Джонатан учит своих последователей методам достижения
просветления, перехода из одного мира в другой, чтобы, пробудившись от коллективного сна, они увидели, что нет никакой границы между миром обусловленности и миром ничем не обусловленного существования, и что мир с самого
начала един.
Изгнанничество и избранничество, смерть и воскресение, проповедь, чудеса, ученики - очевидна сознательная модификация сюжета в жанр притчи и
«остранение» путем перенесения в иную и уже аллегорическую действительность.
52
Проповеднический жанр «Джонатана» не избавляет его от необходимости
в защитной иронии. Повторение известных евангельских и буддистских ситуаций не кажется невыносимой банальностью лишь благодаря пародии и самопародии.
Очертания традиционного евангельского мифа подновлены и подправлены в истории необыкновенной чайки за счет идей буддизма, и дзэн-буддизма в
особенности. Но ведь прививка Востока к Западу, некоторых существенных положений буддизма к стволу христианской культуры – тоже одна из заметных
особенностей восстания культуры против прагматизма «общества потребления». И одинокая чайка, стремящаяся трудным путем бескорыстного совершенствования к преодолению времени, пространства и смерти, на поверку оказывается не одинока.
Удивительная история притчи о чайке по имени Джонатан Ливингстон
обнаруживает, таким образом, некоторые общие черты с той неоромантической
волной, которая из отдельных и очень разновеликих брызг и всплесков никак
не может слиться в девятый вал, потому что идеализм ее изначально подорван,
омрачен уроками истории и окружающей действительности. Он представляет
собой нечто вроде иллюзии, сознающей свою иллюзорность.
Литература
1. Бах Р. Избранное. Том 1. Пер. с англ. К.: София, 1994, с. 17-53.
2. Бах Р. Чайка по имени Джонатан Ливингстон// http://lib.ru/RBACH/seagull.txt
[17 апреля 2010].
3. Парус-77: Сб. литературно-художественных и публицистических произведений для подростков. М.: Молодая гвардия, 1977, с. 266-284.
4. Тулина Л.Е. Без притчи века не изживёшь: Приёмы работы с притчей на
уроках развития речи // Русский язык в школе. 1997. № 6, c. 9-15.
53
А.П. Муха*
О романе Л. Петрушевской «Номер Один, или
В садах других возможностей», или попытка объять
необъятное
Какой, однако, разветвленный лабиринт
этот двор сверху. Гнездо расходящихся троп.
Л.С. Петрушевская,
«Номер Один, или В садах других возможностей».
Не знаю, было ли правильно начать (один Пелевин не считается) свое
знакомство с русским постмодернизмом с Л.С. Петрушевской и ее закрученных
полусказочных романов, или это была ошибка, но всё же. Отвращения не вызвало, есть только желание идти вперед, на подвиги. Читать необъятное «Сердце Пармы» Иванова, например.
Фабула романа «Номер Один, или В садах других возможностей» может
занять добрую половину исследования, но без нее никак. «Выпрямленный сюжет» таков: некий ученый-энтомолог Иван Крупевич (изучает он северную исчезающую народность под названием «энтти») отправляется в новую экспедицию, предварительно взяв с собой сотрудника своего же института, Юру Кухарева. В самолете Иван (он же Иван Царевич, Уйван Крипевач, Номер Один…)
рассказывает помощнику об уникальных особенностях «мамотов» – шамановпрорицателей энтти (славятся эти шаманы тем, что могут ходить в нижний мир
– то есть говорить с духами умерших, ну и в верхний – к богам – иногда) и
обещает познакомить коллегу с одним из них, своим другом Никулаем, который по совместительству еще и директор местного энтомологического музея, и
актер бродячего театра, и верховный мамот Никифор – но об этом позже, об
этом еще никто не знает.
Случается так, что не отличающийся чистоплотностью коллегаэнтомолог развязывает круг кошмарно-мистических событий, из которых в
разные стороны, хаотично и неупорядоченно, разрастается сюжет, и в череду
абсурдных событий втягивается не только вороватый Юра, но и бедный (и
честный) Иван Крупевич.
Сначала Юрий спаивает мамота, а потом снимает на видеокамеру ночное
пение Никулая – эту кассету потом можно будет очень выгодно продать… Но
это еще полбеды. На следующий день ученые едут в Долину Сидящего, где, по
легендам энтти, находится вход в Нижнее Царство (ну, или Царство Мертвых)
из Среднего Царства (то есть мира людей). Еще, если верить энтти, в этой долине обитает мифический мамот Никифор, но его показать Никулай отказывается, хотя на вход в царство мертвых дает посмотреть без проблем.
*
Муха Анна Павловна – магистрант кафедры истории русской литературы КубГУ
54
А дальше происходит следующее: нечистый на руку Юра похищает
«третий глаз» (магический камень) у статуи, охраняющей вход в полузатопленное подземелье. Лучше бы этого ему не делать. Естественно, Иван
не знает о краже.
Следующей ночью Юра исчезает. Утром – и того хуже: Номер Один
находит труп энтти, но лицо обезображено – кто это, понять невозможно.
Пружина закручивается и закручивается: оказывается, что Юрий взят в
плен и за него требует выкуп начальник местного лагеря пожизненных
смертников. Зэков, в общем. Затем чучуны (те еще персонажи; по словам
Первого, похожи на йети, по поверьям энтти – спасшиеся от смерти существа, несущие в себе злых духов) казнят артистку бродячего театра Варвару, а Иван, незамеченный, снимает это всё на камеру, оставшуюся от
Юры.
В общем, у Ивана Крупевича остается неделя, а потом съедят его
коллегу в тюрьме, потому что заключенных оставили умирать от старости,
а не от голода, – питаться же чем-то надо: «Начальник сказал так: осужденные говорят, что приговор был к пожизненному заключению, а не
казнить голодом. Им и за бунт ничего не дадут, и за похищение, и за людоедство, и дальше не сошлют. Уже там край света…».
Под далеко не оптимистическим флагом происходят и дальнейшие
события, о которых, надо говорить либо долго, либо никак. Но попробуем.
Иван Крупевич-Царевич срочно возвращается в Москву, где ищет помощи
и материальной поддержки у директора своего НИИ, но, конечно, таковой
не дожидается, а, выражаясь языком всё того же романа, «нарывается на
сплошное кидалово».
Директор обещает дать денег, но с условием (так обычно в сказках
бывает, а откуда взялся Иван Царевич? Из сказки, конечно). Нужно Ивану
всего-то ничего: написать долговую расписку, а затем отвезти энную сумму долларов по определенному адресу, ну а потом оставшуюся за курьерские услуги зарплату смело потратить на вызволение Юры из плена.
По дороге выясняется: подставили Ивана. В трамвае из его пиджака
крадут деньги воры, он гонится за ними – потом множество мелких, но
очень важных подробностей – в общем, невообразимым образом (или
очень даже вообразимым, Иван даже книжечку по этой практике как-то
мамоту Никулаю подарил) происходит метемпсихоз. Звучит сложно, на
деле все легко и просто: это реинкарнация, перерождение души умершего
в новое тело, одна из основополагающих концепций индийских учений,
индуизма, например.
Словом, Иван умирает и его душа переходит в тело вора Валеры,
причем личность Ивана не подавляется полностью личностью Валеры –
хотя чем больше времени проходит, тем сложнее вспомнить, откуда во
внутреннем монологе вора с самим собой периодически выскакивают всякие ученые словечки и термины.
На том, дело, конечно, не ограничивается, душа Ивана претерпевает
еще несколько перерождений или метемпсихозов, причем каждый из них
55
предваряется бумажками со странными надписями вроде "М-психоз
06:00-06:05" [1].
После череды сложных и страшных превращений и прорывов в наш
мир чего-то совершенно мрачного и ирреального (Ивану, конечно, дается
возможность побывать и в загробном мире энтти) выясняется, что это все
– игры и забавы мамота Никулая (он же Никифор), а может, и не игры –
он, как говорит сам, хочет привлечь внимание всего мира к тому, что его
народ умирает не без помощи мифических чучун, а чучуны эти – вовсе и
не мифические, это начальник тюрьмы выпускает зэков на волю буквально голыми на мороз, и так, потихоньку вырезая энтти (а это странный
народ, культ смерти они проповедуют, и когда их убивать начинают, не
сопротивляются, а помочь тонущему утонуть – это вообще почетная
вещь), зэки-«чучуны» и выживают.
В общем, глобальные цели Никулая неподвластны простой логике и
прогнозированию, а в сюжете романа он своей – конкретной – цели (вернуть глаз Сидящему) достигает. Восстанавливается и относительная справедливость относительно Юры и Ивана: Юру (с другой душой, но кто там
будет разбираться) Никулай обещает вернуть маме, сына Крупевича - инвалида Алешу – обещает вылечить, сам Иван уже никому ничего не должен (еще бы, директор НИИ убит не без его стараний), загвоздка только
одна – Номер Один потихоньку становится чучуной, человеком, побывавшем в мире мертвых и вернувшимся обратно на землю – а потому он
подлежит изгнанию. Биографию он свою, будучи уже не в своем теле, потихоньку забывает и очень боится, дописывая последнее письмо своей
жене, что она его – нового – не узнает и не поймет всего того, что с ним
произошло.
Если кратко, то фабула романа такова.
А что по поводу сюжета? Да, он не слишком классичен (если не сказать больше). События складываются в более или менее логическую последовательность только с последней строкой текста. Можно даже сказать, что во время чтения романа сознание и ум читателя претерпевают не
менее захватывающий метемпсихоз, чем душа главного героя романа,
следя за стилевыми изменениями текста и пытаясь угадать, кто же говорит
сейчас и что за загадочное «бызы» (самое страшное проклятие энтти, на
самом деле) упоминает герой через слово. Но вернемся к сюжету.
В принципе, зная, о чем произведение, можно и проанализировать его
на наличие таких сюжетных элементов, как экспозиция-завязка-развитие
действия и т.д., и всё это в тексте будет. Просто определенные части линейной конструкции в данном романе меняются местами, что, естественно, вносит свой вклад в общую атмосферу хаоса и абсурда, усиленно автором воссоздаваемую.
Действительно, стоит только посмотреть, с чего начинается роман:
диалог Номера Первого и Второго. О чем они говорят? Юрий (кто это вообще?) в заложниках, скоро его не будет в живых, нужен выкуп. Автор
обрушивает на читателя одновременно и море информации, и тотальную
56
недосказанность, которую продлевает до самого последнего слова, еще и
точку в конце романа не ставит. Нет точки.
Итак, эта первая глава («Беседа») может восприниматься как завязка.
Но куда тогда денутся все события до? Кража камня, похищение Юрия,
исчезновение Никулая? Эти коллизии вынесены за внешнюю границу текста (читатель не является со-участником, свидетелем описанных выше ситуаций), но именно они и составляют завязку данного сюжета.
Что характерно – обо всех этих событиях мы узнаем постфактум: из
e-mail’а Ивана и из неразборчивых писем на обрывках бумаги, - двух
вставных эпизодах («Письмо с реки Юзень» и «E-mail»), которые дают
нам наиболее полную картину происходящего, и фабулу-то как раз можно
выудить именно из них, ибо Иван – автор писем, постепенно теряющий
память и душу чучуна, – делает попытку зафиксировать всё, что знает, и
неоднократно повторяет одно и то же несколько раз, словно чтобы закрепить свое распадающееся на кусочки «я», зацементировать свою готовую
распасться идентичность.
Таким образом, можно, конечно, проанализировать весь сюжет, но он
настолько самобытен, что пришлось бы уделить внимание только ему, что
в коротком обзоре особенностей романа Петрушевской не представляется
возможным. Остановимся на нескольких положениях: да, сюжет реализуется в тексте совершенно необычным образом. Безусловно, в нем присутствуют все элементы, но они перемешаны и отданы на откуп читателю:
мол, разбирайся сам, что тут случилось сначала, что потом, чего вообще
не было, и чем, самое главное, всё закончилось (а закончилось-то всё потерей языка равно цельности сознания героя, но об этом позже). Вообще,
акцентируя внимание на архитектонике романа (то есть тому, как структурировал произведение сам автор) почему-то приходит на ум такое же
внешне нелогичное построение глав в «Герое нашего времени». Так что о
классичности можно, конечно, поспорить. Смотря что считать образцом
классики…
Вопрос о сюжете и композиции романа может легко перейти в более
широкий вопрос: а роман ли это?
Начало текста построено как драматическое произведение, то есть
пьеса: есть только имена, точнее, номера героев (Первый, Второй) и их
реплики. В следующих главах происходит переход к более традиционному повествованию от третьего лица, в которое все время прорывается сознание героя (и тогда мы видим текст то от лица «я», то от «мы»: «Срочно
нужно зеркало. Кто мы»). Есть и отдельные главы (письма жене – «Письмо с реки Юзень», «E-mail»), в которых Иван, находясь в более или менее
стабильном состоянии и не претерпевая метемпсихоз, выступает в роли
рассказчика, и его сознание не двоится или троится. В роман так же периодически вклиниваются авторские ремарки («взволнованно», «Пауза. Нет
ответа»), что придает произведению театрализованный, какой-то даже
карнавальный тон. Конец текста вообще тонет в бессвязном бормотании
57
Ивана, лихорадочно набирающим свой e-mail, который остается незавершенным.
Тело романа Петрушевской (то есть его форма или композиция) складывается хаотично, мозаично, тяжело. Полифоничность вроде бы разрушает текст, но в то же время и воссоздает его, многоголосие становится
основным приемом поэтики «Номера Одного, или в Садах других возможностей»: разрозненность и ветвящаяся структура сюжета; разные стили рассказчика, переходящего во все новые тела; прыгающее время и зыбкое пространство, а точнее, много времен и пространств сразу; наконец,
разнородные главы, этот роман составляющие.
Содержание, на мой взгляд, отлично демонстрирует нам, что это всётаки роман. Герой романа, по Тамарченко, и это отличительное свойство
романа как жанра, всегда является «носителем и реализатором самобытного смысла развертывающейся жизни, т.е. субъектом самоопределения»
[2, 86]. Здесь уж, как ни в каком другом романе, вопрос самоопределения
играет явно решающую роль. Что, как не психологические перерождения
сознания героя мы наблюдаем? Значит, роман? Роман.
Другое дело, что герой у Петрушевской выписан совершенно необычным образом. Такое ощущение, что его внешность автор категорически усредняет и вообще охотно бы без нее обошелся. Наверное, это естественно – ведь от героя, в конце концов, на протяжении романа остается
одна душа, которая гуляет по разным телам. Забавно: облик Ивана Крупевича описывает он сам где-то в конце второй главы после первой реинкарнации, в теле вора Валеры оглядывая свою предыдущую оболочку.
Основная нагрузка описывания героя ложится на его речь. Фактически, это всё, что от него остается. Происходит удивительная вещь: оказывается, что со сменой тела меняется и язык, но в него периодически вклиниваются (бессознательно) словечки предыдущего тела, и эти языковые
уровни, как и сознания персонажей, всё наслаиваются и наслаиваются, погребая душу «изначальную» (Ивановскую) под своей тяжестью.
Такое «сужение» характеристики присуще не только образу главного
героя Ивана Крупевича, но и остальным персонажам – директору НИИ
(Номеру Второму), Дяде Ване, Никулаю-уолу. Портретные характеристики даются автором неохотно, когда уже, в сущности, без этого совсем не
обойтись. А ситуация «совсем не обойтись» на протяжении романа почти
не меняется: или кто-то дает показания поздно прибывшей милиции, и
необходимо указать особые приметы вора/убийцы, или нужно опознать
новый труп всё тем же блюстителям правопорядка.
Необходимо отметить: да, герои сужаются до слова, до одной характеристики через речь, но зато какая это речь! Мы наблюдаем, как душа
ученого-энтомолога развоплощается, проходя через тело вора, в чучуну
(недочеловека). Изменения внешнего облика – вторичное по отношению к
внутреннему, а главный выразитель внутренних метаморфоз – речь, говорение (пусть даже в себе, с самим собой). Кстати, создается впечатление,
что Иван говорит сам с собой именно для того, чтобы не потерять свое
58
первое, истинное «Я» - потому что если не вспоминать себя, не думать,
его собственная душа уйдет, и останется только один вор Валера и только
его речь. Его душа.
Среди персонажей этого романа, кстати, речь модифицируется, меняется, несет большую смысловую нагрузку только у Ивана и его последующих воплощений. На второй ступени вариативности стоит Никулай-уол
со своим ночным пением (хотя переводит его тоже Иван) и переходом в
тело Юры.
Речевые характеристики остальных персонажей стабильны и ограничены: набор штампов директора НИИ, детский лепет дяди Вани.
Кстати, важно отметить, что речь в этом романе – и форма, и содержание. Иван Крупевич меняется с помощью говорения и через него. В его
монологах – и художественная выразительность (вспомним перевод ночных пений Никулая-уола), и профессиональная терминология, и маргинальные жаргонизмы. Есть даже попытки словом изменять реальность:
переходя в тело Валеры, Иван начинает использовать поговорку своей бабушки («шуры-муры, ха» [1]), чтобы не сойти ума. Это самое «шурымуры» сближает русскую речь героя с заговорами и присказками энтти,
которыми тоже насыщен текст романа (взять хотя бы пресловутое «бызы»).
Конфликт романа, по сути, стоит совсем близко с проблемой речи.
Хотя конфликты могут быть реализованы на разных уровнях. На уровне
сюжета конфликт традиционен: потеря и обретение чего-либо (для Никулая), попытка вызволить друга из беды, которая оборачивается стараниями выжить самому (для Ивана Крупевича). Такое сказочное и экзистенциальное воплощение конфликтов, которые движутся друг к другу с разных сторон на протяжении всего текста.
Кроме того, в романе есть одна глава, которая так же может приблизить нас к пониманию конфликта произведения. Это третья глава, «В садах других возможностей». Ее название (как и название всего текста) отсылает нас к рассказу Борхеса «Сад расходящихся тропок». У Борхеса
смысл был в том, что время многомерно, и если в одном мире (то есть
времени) два встретившихся героя – друзья, то в другом они, возможно,
будут врагами. Или вообще не встретятся.
Петрушевская продолжает исследовать проблему времени и миров,
мира как компьютерной игры. Иван Крупевич пишет по ночам игрушку,
чтобы продать ее на запад, – помните? В ней герой может попасть в загробные миры разных конфессий.
Иван Крупевич на самом деле попадает только в один из вариантов
ада – в Нижний Мир энтти, реализованный, как компьютерная игра: «Внезапно ослепило глаза светом, зажмурился, ничего не мешает, хлоп-хлоп
сплющенными глазами, открыл осторожно, финал. Все поплыло быстро в
сторону, вся эта компьютерная игра, пленка полезла пузырями, продырявилась, распалась. Открылась стена. Обыкновенная, крашеная зеленой
59
масляной краской. Новый вариант ада. На ней было выведено скромное
маленькое ругательство, ручкой» [1].
Кроме того, как мы уже говорили, еще один конфликт романа связан
с проблемой речи. Иван говорит Никулаю, что вновь обретшая тело душа
может продержаться в новом теле недолго, от двух дней до недели. Почему она не теряет свою «самость» сразу же? Все дело в речи. Речь – та
эфемерность, в которой зиждется душа, речь – ее выразитель. Поэтому
еще один конфликт романа (как мне кажется) – попытка определить границы души, как бы это пафосно не звучало.
Еще один важный момент – разговор Ивана с Никулаем о религии.
Иван, на свою беду, рассказывает мамоту о Христе, а шаман решает не
только новым Христом стать (для энтти, естественно), но и, думается,
Ивану дать попробовать, что такое мучеником быть.
Все эти проблемы, выходя из сюрреалистического пространства одного только текста, обнажают многие вопросы, актуальные для современности. Это и проблема религии (точнее, христианства) и претензии к ней и
ее запретам («А чему он учил, спрашивает дальше Никулай-уол. Так хитренько. Я стал излагать учение Христа. И тут начал понимать, что его
слова сильно напоминают мне притчи энтти и их нравоучения. Ну, в
сущности, все религии мира учат добру и прощению, то есть тому, чего в
мире по определению нет. Как говорил такой философ Франк, наши перегородки до Господа не доходят» [1]) современного, «невоцерковленного»
сознания, и вопрос о потере идентичности и ее границах у отдельно взятого человека, и попытка преодолеть эсхатологический ужас перед смертью.
Кроме того, интересным вопросом (к проблематике романа так же
непосредственно относящимся) является авторская позиция и вообще
присутствие автора в романе.
Во-первых, хоть текст романа представлен как монологи-диалоги, и
третьеличной речи почти нет (она есть, но почти всегда это слова Ивана о
самом себе), но есть и название (с аллюзией), и даже оглавление, что сразу
заявляет (хоть и формально) о наличии авторского сознания в тексте.
Первая глава вообще написана в духе пьесы, причем Автор считает
возможным делать ремарки в скобках, описывая, КАК герой должен себя
вести. Далее по тексту такие ремарки тоже встречаются. Кроме того, несколько раз в роман происходит прорыв публицистической речи, и это
явно не слова Ивана, а вмешательство Автора в текст. Вмешиваясь в канву
повествования, Автор говорит о нашей реальности – о терактах, об утрате
идентичности народа (это, правда, про энтти, но слишком уж и на русских
похоже), о детях – «легких привидениях», у которых нет нормального
настоящего и будущего, и впереди – только деградация. Эти прорывы
публицистики выглядят очень органично в сюжете (то Иван о переживаниях Никулая за судьбу энтти рассказывает, то свою игру описывает), но
сам стиль письма меняется, предложения в устах главного героя воспри60
нимаются как-то инородно, отдельно от повествователя, и становится понятно: это из не романного пространства в текст заглянул сам Автор.
Вообще, можно долго рассуждать о романе Петрушевской, потому
что скажешь мало – и мучает чувство недоговоренности, незаконченности, и грозит претензия на исследование сбиться на сокращения и незаконченные фразы, точно как в e-mail’е Ивана. Поэтому ставлю не точку
(совсем не все сказано, и много можно еще сказать), слишком она однозначна – конец, финал, смысл романа раскрыт. Нет, не раскрыт. Пусть будет многоточие – Петрушевская многоточия тоже любит, почти так же как
отсутствие всяких знаков препинания
Литература
1. Л.С. Петрушевская. Номер Один, или В садах других возможностей.
http://webreading.ru/prose_/prose_rus_classic/lyudmila-petrushevskaya-nomerodin-ili-v-sadah-drugih-vozmoghnostey.html.
2. Тамарченко Н.Д. Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко.
– Т. 1: Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М.: Издательский центр «Академия», 2004.
61
С.В. Ротай*
Повествовательные стратегии в «романе-апокрифе»
Эрнста Бутина «Се человек»
Произведение Эрнста Бутина «Се человек. Роман-апокриф», отличающееся
большим объемом, состоит из двух книг. Первая была опубликована в 1997 году, вторая - в 2003 году. Все части романа вышли в журнале «Урал», с которым
можно познакомиться и в библиотеках, и на Интернет-портале «Журнальный
зал» [1]. Эрнст Бутин, родившийся в 1940 году, скончался в 2002 году. Вторая
книга романа-апокрифа вышла уже после смерти писателя. По нашей информации, журнальная публикация текста оказалась единственной. На сегодняшний
день книжного издания «Се человек» нет.
Заголовок, избранный Э. Бутиным, предоставляет достаточную информацию
для первого восприятия текста и для решения проблемы чтения текста или отказа от него. «Се человек» - евангельская конструкция, слова Пилата, призванные обратить внимание толпы на то, что перед ней стоит не Бог, не царь, а человек, избитый, умирающий, требующий снисхождения. Если рассматривать
заголовок как временно изолированную часть текста, можно сказать следующее. Во-первых, читателю дан сигнал о земном, человеческом ракурсе проблемы: избраны евангельские слова, которые подчеркивают уровень личности
Христа, понятный всем. Во-вторых, эти слова совсем не означают, что «человеческое» противопоставлено «божественному»: в контексте сцены суда у Пилата
слова «се человек» усложняют образ Иисуса. Сам Пилат, не верящий в Бога и
являющийся типичным римлянином-скептиком, видит в Иисусе земной образ,
можно сказать, гениального неудачника, близкого к смерти. Но евангелистповествователь использует эти слова не для противопоставления «Бога» и «человека» в личности Иисуса Христа. В-третьих, актуализирована позиция Понтия Пилата, одного из самых неоднозначных героев евангельского повествования. Это позиция может быть признана амбивалентной: скептицизм сочетается
с предчувствием метафизической основы Иисуса, равнодушие и опасение за
последствия своего милосердия – с желанием оправдать и спасти, ненависть к
судьям и палачам Иисуса сочетается с очевидным интересом к его личности,
со стремлением понять, почему столь значимый человек не ищет для себя земного царства и не собирается защищать разными способами свою жизнь.
Вторая часть заглавия – «роман-апокриф». Графически подчеркнуто, что это
даже не подзаголовок, а часть общего названия, единое целое с «се человек».
Апокриф – некая альтернатива канону. В нашем исследовании мы исходим из
научного предположения о том, что каждый художественный текст, претендующий на рассказ о священных событиях Нового или Ветхого Заветов, должен
быть назван апокрифом, как есть смысл назвать каждое повествование о Христе, не вошедшее в состав священного писания или священного предания. Э.
Бутин специально оговаривает этот момент, останавливая внимание читателя
*
Ротай Сергей Владимирович – аспирант кафедры зарубежной литературы КубГУ
62
на заданной апокрифичности произведения. Апокриф – неканонический текст,
но посвящен он принципиально «каноническим событиям». Апокриф, как правило, предоставляет альтернативную точку зрения на Христа, но остается в религиозном контексте. Классические апокрифы часто называют еретическими
текстами, но они не могут быть идентифицированы как атеистические произведения. В них всегда остается то или иное отношение к Богу, существующему
для автора. Классический апокриф – возможность для решения богословских
проблем, место для высказывания духовной позиции. Очень возможно, что Э.
Бутин термином «роман-апокриф», вынесенным в название, хочет подчеркнуть,
что для него важны именно религиозные проблемы, а не просто очередное изложение всем известного жизнеописания. Чему, какому жанру противопоставляет писатель свой текст, смысл которого изначально выражается в названии?
Классическому реалистическому роману, в котором на первый план выходит
частная жизнь человека, не исключающая, конечно, его реализации в социально-исторических контекстах. Апокрифу, который в лаконичной форме, свободной от решения собственно-художественных задач, обращается к проблемам
веры и религиозного истолкования священных образов. Историческому или
квазиисторическому повествованию (его пример – роман А. Лазарчука «Мой
старший брат Иешуа»[2]), в котором читатель может найти интересную иллюзию решения значимой для современной культуры проблемы «как все было на
самом деле». А. Лазарчук, например, избирает в качестве повествователя сестру главного героя, которая должна обладать всеми подробностями, позволяющими выстроить «правдивую» биографию. У Э. Бутина задействован повествователь, не включенный в непосредственные события произведения, а не рассказчик – заинтересованное лицо, участвующее в развитии сюжета.
Важное значение для определения методологических установок автора
имеет эпиграф. Интересно, что у каждой из двух книг романа свой эпиграф. И
надо отметить, что для каждого эпиграфа использованы две цитаты. Первый:
«Из того, что Я вам говорю, вы не узнаете, кто Я. (Евангелие от Фомы). Те, кто
со Мной, не понимают Меня. (Деяния Петра)». Второй: «Я не то, чем Я кажусь. Деяния Иоанна. Я то, что Я есть. Диатессарон Татиана». Какую полезную информацию содержат эпиграфы? Во-первых, между двумя эпиграфами
есть много общего. Все четыре цитаты указывают на некое сохранение внутренней тайны в образе Иисуса. Его нельзя узнать на основании его речей, ближайшие ученики не способны осознать характер его присутствия, его внешний
(кажущийся) образ не исчерпывает всей глубины содержания, Христос есть
Христос, но это вполне логичное утверждение лишь демонстрирует концептуальную непроясненность образа. Точнее сказать, выделяет сохранение «непознаваемого» как мотива возобновления новых поисков ответа на вопрос, кто
есть Иисус Христос. Видимо, так автор заявляет читателю о своем романе как
очередной художественной попытке приступить к этому поиску. Во-вторых, из
этого ограниченного, так сказать, познания, появляется мысль об относительности евангелий Нового Завета. Никаких особо выраженных нападок на «священное» у Э. Бутина нет, но эпиграфы недвусмысленно намекают на то, что в
христианской классике образ Иисуса не исчерпан, следовательно, художник,
63
назвав свой роман «апокрифом», имеет право говорить об Иисусе Христе какими-то иными, литературными словами. В-третьих, все источники четырех фраз
эпиграфа – апокрифы. Это еще раз подтверждает, что в основе методологии Э.
Бутина, создающего роман «Се человек», принципы апокрифического рассуждения о «священном», традиция религиозного восприятия жизни Иисуса, но без
полного согласия с тем, что сообщается в евангелиях Нового Завета.
Для определения авторских повествовательных принципов важно определить не только, что является формально-содержательной сущностью текста, но
и то, что в нем отсутствует. В данном случае, опираясь на канонические Евангелия (прецедентный текст для художественного апокрифа), необходимо прояснить отношение «Се человек» с повествовательными аспектами мира новозаветных Евангелий. Во-первых, надо отметить определенную корректность Э.
Бутина в отказе от заметной модернизации сюжетного мира. Нет в романе современных пластов лексики, отказывается писатель от явной модернизации точек зрения на события, нет у него желания использовать многообразные постмодернистские методики, например, введения сленговых конструкций в пределах формально древнего хронотопа или частой смены повествовательных инстанций, позволяющих создать коллаж из конфликтных «версий» евангельских
событий. Во-вторых, несмотря на большой объем произведения Э. Бутина, в
нем отсутствует значительная часть событий, связанных с евангельским сюжетом. Э. Бутина интересует не Евангелие в целом, не пересказ всех событий, а
лишь тех, которые концентрируются вокруг сюжетной кульминации – суда,
распятия и воскресения. Роман Э. Бутина имеет очень мало общих черт с романом М. Булгакова «Мастер и Маргарита», но, пожалуй, самой значимой общей
чертой является интерес авторов к блоку событий, связанных с судом и распятием. В-третьих, нет той неповторимой повествовательной концентрации на
образе Христа, которая отличает канонические тексты. Образ Иисуса (Равви) в
романе «Се человек» находится на очень высокой позиции, но величие личности, художественно изображенной в тексте, не препятствует фиксации мотивов,
вводящих образ в разнообразные психологические контексты. Нельзя сказать и
о том, что Иисус не абсолютно центральный персонаж анализируемого нами
произведения. Иуде, его мыслям, чувствам, словах, посвящен больший объем
текста. «Проблема Иуды» интересует писателя не меньше, чем «проблема
Иисуса».
Теперь надо сказать о том, что формирует сюжет, художественный мир романа-апокрифа. 1) Основные события – последние дни Иисуса перед казнью и
первые после воскресения. Но с помощью воспоминаний, которые появляются
в тексте часто и выделяются курсивом, создается сюжетный объем, рассказывается предыстория суда и распятия в основных моментах, значимых для психологической характеристики и Равви, и Иуды. Один из достаточно детализированных эпизодов, занимающих более десяти страниц, - «свадьба в Канне Галилейской», использованная автором для изображения конфликта Иисуса с семьей, для изложения его аскетической позиции, по сути отрицающей телесную
связь мужа и жены, для подробного воссоздания социального и семейнобытового контекстов, необходимых для становления сюжета «Се человек». 2)
64
Еще один прием – расширение контекстов, привлечение пространств/миров, не
свойственных каноническим текстам. В частности, расширительное значение
имеют беседы Иисуса с эллинами, а также «индийская тема», которая, прежде
всего, связана с мотивом Абсолюта в речах Иисуса. 3) В редких, но значимых
для общей философии текста, случаях в повествование включаются те или
иные данные из древних апокрифов. Так, в частности, беседа Иуды и Фомы о
том, что последний был продан Иисусом в рабство индийскому купцу для проповеди в далекой стране, восходит к сирийскому апокрифу «Деяния Фомы». 4)
Общая концепция текста формируется, на наш взгляд, взаимодействием двух
типов повествования о Христе – «Евангелия от Матфея» и «Евангелия от Иоанна». На первый взгляд, большее влияние оказывает «Евангелие Иоанна»: многие события романа Э. Бутина (например, свадьба в Канне, воскрешение Лазаря) связаны с этим произведением. Но есть в романе-апокрифе и специально
выделенный социальный аспект, мотив духовно-социальной революции, связанный с образом Иуды. Здесь надо отметить влияние «Евангелия от Матфея»,
более социально актуализированного текста. 5) Канонические Евангелия – лаконичные тексты, решающие главную задачу: рассказать о земной жизни Христа и сообщить основы его учения. Описаний, независимых от проповеди, там
практически нет. В «Се человек» описаний, отступлений, подробных характеристик, психологических комментариев очень много. «Пригубив вино, Равви
протянул было чашу Иуде, но, задержав руку, подумал-подумал и сделал еще
один, внушительный глоток» [1, 51], - эту фразу практически невозможно представить в Библии. Здесь, у Э. Бутина, есть и сомнение Иисуса, лексически выраженное трижды («протянул было», «задержав руку», «подумал-подумал»), и
подробное представление процессуальности, которая как бы растягивается во
времени, исключая динамизм, присущий каноническим рассказам об Иисусе
Христе. 6) Речи Иисуса, и это нечасто бывает в произведениях по евангельским
мотивам, сохранены в своей основе. Более того, речи приобрели серьезный
объем и, судя по всему, особое место в тексте. Неоднократно повествователь
останавливает наше внимание на реакции слушателей (прежде всего, учеников,
включая Иуду), которым слова Иисуса кажутся странными, сложными, скучными или чрезвычайно требовательными по отношению к простому человеку.
«Хватит нам иносказаний», - выступает романный Симон Кананит против использования Иисусом притчи. «- Отче! Авва!.. Прославь сына твоего, да и сын
твой прославит тебя. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить и ныне прославь меня отче, у тебя самого славою, которую имел я у тебя прежде бытия мира. – Как это: прежде бытия мира? – удивился Иоанна-Марк, и мысли его заметались. – Что же, он, назвавший себя на
вечере сыном человеческим, то есть просто-напросто человеком, был еще до
сотворения всего? В каком виде? …» [1, 58], - в этой сцене в Гефсиманском саду хорошо видно, как в центре конфликта Иисуса с миром оказывается смысловая тяжесть, непроясненность его речи. 7) Некоторые звенья сюжета, соотносимого с евангельским, прописаны особенно подробно. Это относится к событиям, связанным с образом Пилата, и с детализацией явления Иисуса после своего
воскресения. «Евангелие от Фомы», столь значимое для Э. Бутина уже в эпи65
графе, изображает Иисуса беседующим с учениками после своего воскресения.
Возможно, именно поэтому писатель так подробно представляет Равви после
воскресения. Впрочем, в апокрифическом «Евангелии от Фомы» фабула отсутствует, только – поучения Иисуса. Поэтика романа «Се человек» предусматривает сохранение фабулы произведения и тогда, когда Иисус появляется после
креста и смерти.
Основная особенность повествовательной структуры романа Э. Бутина –
центральное положение Иуды, которого никак нельзя назвать отрицательным
героем. Иуда практически не исчезает «из кадра» произведения, его внутренний
мир, реакция на деятельность Равви интересуют писателя, пожалуй, больше,
чем деятельность Иисуса. Заголовок, вобравший слово Пилата о Христе, может
быть отнесен не только к бутинскому Равви, но и к бутинскому Иуде. Сейчас
мы не ставим перед собой целостного описания концепции личности, нашедшей отражение в образе Иуды, скажем лишь о методологических последствиях
выдвижения этого героя в сюжетный центр повествования.
Несколько лет назад при значительной поддержке самых разных средств
массовой информации был опубликован в оригинале и тут же переведен на
многие языки коптский апокриф «Евангелие от Иуды». К этому времени роман
Э. Бутина был уже полностью опубликован. «Евангелие от Иуды», основная
идея которого была известна из разных источников давно и использована неоднократно в художественных текстах («Три версии предательства Иуды Х.Л.
Борхеса, «Последнее искушение» Н. Казандзакиса, «Евангелие от Иуды Г.
Панаса, «Безымянная могила» С. Эрдега), утверждает, что сам Иисус посылает
Иуду на мнимое предательство, тем самым возвышая его над другими учениками, не причастными к главной тайне, и вместе с тем решая проблему собственного ареста, осуждения и распятия. Эта основная идея – непричастность
Иуды подлому предательству и его особые отношения с Иисусом – присутствует в романе Э. Бутина, конечно, в принципиально ином событийном и мировоззренческом контексте.
Мы считаем, что одной из самых главных основ романа «Се человек» является не древний апокриф, даже не «Евангелие от Фомы», а художественное
произведение, рассказ-апокриф Леонида Андреева «Иуда Искариот». Выделим
основные точки соприкосновения двух текстов, которые разделяет временная
дистанция в восемьдесят лет. 1) В обоих произведениях образ Иуды сомневающегося, драматически раздвоенного занимает видное место. «Иуда обомлел:
Хаматвил говорил, что он провозвестник того, кто придет вслед за ним, а вслед
за ним пришел Равви. Значит, Равви, назвав Иоханана предтечей Мессии, готов,
наконец-то, объявить Мессией-Машиах себя?» [1, ], - акцентирует Э. Бутин
внимание на вопросительной интонации, характеризующей образ Иуды. 2) И в
рассказе, и в романе Иуда бесспорно выше других учеников Иисуса, которые
показаны снижено, с иронией, а у Андреева и с явным сарказмом. 3) Иуда в
обоих текстах – приверженец силового решения духовных и религиозносоциальных проблем, он – воплощение идеи революции, герой, который не думает, что жертва, распятие смогут спасти человечество.
66
Есть и очень важные отличия. У Андреева, избравшего принципиально лаконичный жанр, напряжение повествования значительно выше. Андреевский
Иуда интереснее своей особой креативной ролью в сюжете, по сути, Иисус оказывается в рассказе в контексте его плана. У Э. Бутина Иисус значительно
сильнее андреевского Иисуса, который лишен любых атрибутов силы и власти,
а также мессианского слова, имеющего большое значение в романе «Се человек». Для Андреева важна глобальная инверсия: Иуда не только лишен мотивов
корыстного предательства, но показан тем, кто создает последовательность событий, приведших к распятию. У Э. Бутина роль Иуды более скромна, но и его
роман в рамках процесса, который можно назвать «реабилитацией Иуды».
Литература
1. Бутин Э. Се человек. Роман-апокриф//Урал, 1997, № 5-6; Урал, 2003, № 8-10.
67
С.В. Ротай*
Идейно-художественный мир романа
Андрея Лазарчука «Мой старший брат Иешуа»
Роман Андрея Лазарчука «Мой старший брат Иешуа» был опубликован в
2009 году в издательстве «Эксмо» и не стал литературным событием, не смог
оказаться в центре дискуссий, посвященных сложным отношениям истории и
религии, литературы и Библии. Это может показаться странным, ведь заголовок
романа-апокрифа призван сразу же заинтересовать читателя, сделать твердый
шаг навстречу произведению. В-первых, имя «Иешуа» вызывает недвусмысленные ассоциации с евангельским Иисусом и самим своим присутствием обещает встречу с одним из центральных сюжетов всей мировой культуры. Вовторых, Лазарчук отдает предпочтение древнееврейской форме знаменитого
имени и этим ходом напоминает о булгаковском романе «Мастер и Маргарита»,
который продолжает оставаться одним из самых читаемых романов XX века. Втретьих, заголовок сообщает, что функции повествователя отданы не нейтральному лицу, а сестре главного героя, и ее присутствие в качестве рассказчика
призвано усилить концепцию объективности. Не каждый читатель поверит, что
литературное произведение призвано давать верную информацию, соответствующую действительно произошедшим историям, но в любом случае можно
надеяться на то, что сработает своеобразный «эффект присутствия». Он сделает
иллюзию сопричастности «истине» более правдоподобной. На эту иллюзию
сделана ставка и во введении к роману («От автора»). «Роман написан на основе перевода так называемого «Китирского кодекса», выполненного профессором Анатолием Павловичем Серебряковым, с разрешения переводчика и с
единственным условием: избегать прямого цитирования» [1, 5], - с этой фразы
начинается произведение Лазарчука, и можно сделать вывод о желании автора
направить мысль читателя на поиск «Китирского кодекса» или (что вполне
устраивает автора) на согласии с тем, что этот манускрипт действительно есть.
Нельзя сказать, что роман вызвал большой интерес. Для этого есть собственно литературные причины, методологические установки писателя. О них
мы будем подробно говорить ниже, поставив перед собой задачу оценить очередное произведение об Иешуа/Иисусе как современный роман-апокриф. Но
есть причины относительной неудачи и в самом выборе темы, в стратегии сюжета, определяемой уже названием «Мой старший брат Иешуа». Во-первых,
внимательный читатель быстро осознает, что полемика с Новым Заветом входит в писательские планы: Евангелие и христианская история ничего не знают
о сестре Иисуса, а заголовок, избранный Лазарчуком утверждает наличие сестры. Это, в принципе, может повысить интерес, но создается впечатление, что
есть у читателя-интеллектуала некоторая усталость от разнообразных «пересказов» священных событий, имеющих отношение к личности Иисуса. Дело даже
*
Ротай Сергей Владимирович – аспирант кафедры зарубежной литературы КубГУ
68
не в романе М.А. Булгакова. На рубеже веков на русском языке были изданы
романы португальца Ж. Сарамаго («Евангелие от Иисуса»), американца Н.
Мейлера («Евангелие от Сына Божия»), француза Э.-Э. Шмита («Евангелие от
Пилата»). К. Еськов опубликовал «Евангелие от Афрания». Евангельская тема
остается популярной, но указанные произведения лишь подтверждают тот
факт, что желание сказать нечто принципиально новое об Иисусе часто не совпадает с возможностями того, кто повествует. Одним словом, качество произведений, посвященных жизнеописанию создателя христианства, высоким
назвать нельзя. Во-вторых, у всех в памяти недавняя ситуация, сложившаяся с
текстом Д. Брауна «Код да Винчи». Не отличающийся художественными достоинствами роман был превращен во всемирный проект, имеющий и религиозно-философские, и финансовые аспекты. Линия «Иисус-Мария» была искусственно интерпретирована как сюжет исторический, что привело к спорам о характере Иисуса и сущности христианства, которые длились несколько лет. Вряд
ли можно предположить, что еще одно произведение, посвященное «разоблачению» христианства и не обладающее столь серьезной поддержкой средств
массовой информации, как роман Брауна, вызовет большой интерес. В-третьих,
именная сопричастность (Иешуа) популярному роману «Мастер и Маргарита»
не достигает своей цели. Роман М.А. Булгакова подчеркнуто литературен: об
истории Иешуа повествует Мастер. Литературность текста делает его художественный мир эстетическим фактом и не требует того или иного исторического
подтверждения. В произведении Лазарчука есть претензия на историзм. Читатель, способный отделить художественное от исторического, свободный от
наивности неразличения разных дискурсов, никогда не поверит в авторскую
имитацию или стилизацию реально состоявшегося события. В разделе «От автора» много говорится об именах и формах их написания, о географических
названиях, о календарных принципах и климате.
Исторический зачин кого-то может ввести в заблуждение или заинтересовать художественным историзмом как удачной литературной иллюзией. Но уже
первая глава ставит любые формы историзма под большое сомнение. Процитируем начало этой главы: «Одарил или наказал меня Господь тем, что каждое
утро я просыпаюсь двенадцатилетней девочкой, а каждый вечер умираю старухой, забывшей счет своих лет? Наверное, все же одарил в милости своей, потому что я ведь и есть на самом деле старуха, что забыла счет прожитых лет. А
видеть встающее солнце и петь, встречая его, - дано не всякой старухе, и даже
самой счастливой из старух. Я пережила уже всех, кто был со мной тогда, и
своих детей, и детей моих близких. Кто-то шепчется за спиной, что я проклята
на вечную жизнь и что я не одна такая… Чем дольше жизнь, тем больше слез и
потерь, а из радостей – только память» [1, 9]. Перед нами стилистическое несоответствие речи Деборы (сестры Иешуа, основного рассказчика) и принципиальных задач текста, претендующего на историзм. Во-первых, субъект повествования сразу же заявляет о себе как о самостоятельной проблеме текста, сообщает о том, что читателя ожидает концентрация внимания на художественности психологизма, на субъективизме ощущений рассказчика, корректирующих ход исторического повествования. Во-вторых, в подтексте приведенного
69
отрывка можно найти парадокс соединения памяти («единственной радости») и
старости (слово «старуха» употребляется трижды). Свою старость Дебора
склонна мифологизировать, сопрягать с детством и даже косвенно соотносить с
образом Агасфера-Вечного жида («я проклята на вечную жизнь…), обреченного на бессмертие-наказание. В-третьих, начало первой главы координирует
определенное настроение – минорное состояние рассказчика, печаль, плохо согласующуюся с необходимым объективизмом исторического повествования.
Позиция активного рассказчика имеет большое значение для автора, который не желает разделять героев своего произведения на главных и второстепенных. Роман, объем которого почти 350 страниц, можно представить как
единство двух частей, специально, впрочем, не выделенных. История Иудеи в
слабовыраженном контексте истории Римской империи остается предметом
изображения в обеих частях. Но в первой части образ Иешуа появляется крайне
редко, эпизодически. Значительную часть текста Иешуа далеко не на первых
ролях. Дебору интересуют истории иудейских царей, главным образом, Ирода,
дворцовые интриги, отравления, судьба Антигоны, убившей десятки приближенных к трону. Рассказчик настаивает на важности многих страниц, которые
напоминают отчет-воспоминания о тяжелых проблемам всех, кто причастен к
власти. Именно эта объемная часть текста призвана убедить в том, что Иешуа
приходит не из религиозного контекста, не из метафизической проблемы отношений человека с Богом. Дебора многократно возвращается к мысли о том, что
все, касающееся духовных идей, религиозных областей сознания, на самом деле
находится в пределах исключительно земного строительства. Иешуа Деборы,
чья речь управляется писателем, вполне реальный герой, исторически объяснимый человек, который может использовать религиозную лексику, но только в
символических целях, чтобы приподнять слушателей над социальноисторическим, бытовым уровнем.
Нельзя признать, что выбор повествователя-женщины случаен для Андрея
Лазарчука. Чем его можно объяснить? Во-первых, женский взгляд (как центральный ракурс текста) позволяет признать психологическую реальность выраженного внимания к подробностям, к разнообразным портретным, бытовым,
историческим деталям, к многочисленным контекстам. Происходит децентрация евангельский истории, о которой не может вспоминать читатель Лазарчука.
Гендерный аспект повествования способен мотивировать эту децентрацию,
безусловно значимую для писателя. Во-вторых, происходит обращение к любовной теме. Она имеет важное значение для авторского метода художественной апокрифизации классического христианского сюжета. Истории «Дебора –
Иоханаан» и «Иешуа – Мария» в общем объеме романа занимают не самое значимое место. Но в методологической концепции Лазарчука все выглядит совсем иначе. Любовные истории, в рамках которых оказываются герои, чьи образы вызывают обязательные ассоциации с «Иисусом» и «Крестителем», не
частные эпизоды, вполне соответствующие жанру романа. В данном случае
любовь мужчины и женщины – форма идеологической инверсии, предлагающей ввести узнаваемые образы в житейский контекст, отдаляющийся от метафизических проблем. Женщина-повествователь, рассказывающая о любви и
70
практически исключающая религиозный дискурс, воспринимается достаточно
органично. В-третьих, женская судьба, женские счастье и несчастье, любовь,
рождение и утрата детей, женская оценка истории, мужских конфликтов, борьбы за власть, войны и мира – особая концепция, меняющая акценты в сюжете.
В современной литературе феномен «женского взгляда на религиозные или
мифологические события появляется не впервые. Самый известный и яркий
пример – романы немецкой писательницы К. Вольф «Медея» и «Кассандра».
Спорный вопрос, можно ли называть романами-апокрифами тексты, созданные
на основе сюжетов, сложившихся в рамках античной культуры, не знающей, в
принципе, религиозного канона. Религиозного канона нет, но есть закономерное развитие мифологических сюжетов, которые могут иметь множество вариантов, но, как правило, сохраняют доминанты смыслов. Учитывая этот факт,
можно обратиться и здесь к термину «роман-апокриф». К. Вольф не пересказывает античные мифы о Медее и Троянской войне. Опираясь на знание читателем ключевых событий, немецкая писательница сталкивает условностандартное развитие мифологических сюжетов и новаторскую позицию героини-повествовательницы (Медеи, Кассандры), которая модернизирует известные истории. В данном случае автор использует женский взгляд на миф и историю как возможность заявить о «женской правде» (любви, семье, жизни), которая противостоит «мужской правде» (мифотворчеству, войне, культу эгоизма и
смерти). В романах К. Вольф активность повествователя приводит не только к
трансформации мифа, но и к признанию кризиса мифологического сознания в
целом. В романе «Мой старший брат Иешуа» кризисный характер мифологического мышления тоже важная данность текста, о чем подробнее будем говорить
ниже. В процессе чтения произведения Лазарчука читатель органично приходит
к мысли о том, что нет надобности прибегать к помощи религиозных и мифологических систем, чтобы объяснить события, случившиеся с Иешуа и вокруг него. К. Вольф в своей методологии ближе к гендерно выраженной психологии.
А. Лазарчук больше склоняется к историческим и социально-политическим мотивам. Но основное отличие методов Вольф и Лазарчука все-таки в ином.
Немецкая писательница создает гротескно-полемичную реальность, в которой
происходит идейное отрицание таких, например, героев, как Ахилл или Ясон.
Функция повествователя в «Медее» и «Кассандре» актуализирует настроение
своеобразной атаки на целостность древних сюжетов. У Лазарчука текст
несравненно спокойнее. И отрицание религиозно-мифологических контекстов
не сопровождается каким-то специальным напряжением рассказчика. И нет в
романе «Мой старший брат Иешуа» установки на четкое отрицание той или
иной давно сформировавшейся идеи.
Можно говорить о некоторой событийной вялости романа Лазарчука. Дело
не в ослабленной фабуле, этой ослабленности нет. В памяти Деборы возникают
десятки событий: дворцовые конфликты, деятельность Оронта как стратега,
спасающего Иоханаана и Иешуа, этапы бегства приемных родителей Иешуа от
преследователей, краткие истории судьбы многочисленных эпизодических героев, деятельность Иешуа и Иоханаана как народных правителей Иудеи, подготовка военных действий, поражение и смерть главных героев. Но самые разно71
образные события романа, художественно воплощающие концепты «любовь»,
«деятельность правителя», «жизнь царя», «социальное мессианство» и другие,
нельзя назвать ни эстетически яркими, ни идейно значительными, способными
стать доминантными для читателя. Несмотря на эмоции рассказчика (Дебора
испытывает самые разные чувства, не стремясь к «научно-историческому» повествованию), главное событие текста вряд ли может потрясти читателя. По законам литературной апокрифизации, которая программируется авторским выбором темы и необходимым взаимодействием с классическим сюжетом, таким
событием должна стать жизнь Иешуа/Иисуса, даже в том случае, если писатель
стремится уйти от художественной концептуализации этой жизни. Предположение о том, что ключевым событием должна оказаться судьба Деборы, ответственной за повествование, не кажется нам верным. «Старший брат Иешуа» занимает, в конце концов, позиции главного героя.
Главное событие романа А. Лазарчука можно представить следующим образом. Иешуа, сын Антипатра и внук Ирода, был спасен от уготованной ему
смерти стратегически мыслящим Оронтом и отдан для сбережения и воспитания в семью Иосифа и Марьям, которые не отделяли его от родных детей, от
дочери Деборы, например. Иешуа, зная о своем рождении и царском предназначении, вырос готовым к борьбе за власть. В свое время Оронт призвал к ней
Иешуа, Иоханаана, и борьба, больше похожая на явление гуманистов и практиков антифарисейского понимания жизни, протекала не среди аристократовинтриганов, а в народных массах. Вокруг Иешуа собрались не столько апостолы (целостного, «христианского» учения у Иешуа нет), сколько бойцы и просто
добрые люди, собирающиеся вернуть Иешуа его законную, рождением и
наследственностью предназначенную власть. Мирным путем, используя равнодушие и даже некое сочувствие Рима, сделать дело не удалось. Иешуа и его соратники проиграли, все были убиты.
На наш взгляд, слабость романа Андрея Лазарчука заключается в том, что
сюжет, изначально отличающийся сложнейшим двоемирием, отмеченный развитием речевой (дидактической) сферы, сведен к сюжету историческому, полностью умещающемуся в представления об одном из многочисленных эпизодов
борьбы за власть, пусть и в самых благородных контекстах. Исключение метафизической неоднородности повествования, религиозных контекстов, истолкование чудес Иисуса/Иешуа как ошибочных форм народного восприятия, невнимание к философской стороне образов, отказ от метафорической стороны
деятельности главного героя, который не только «деятель», но еще и художник,
лишает текст богатой внутренней формы, столь очевидной в канонических
Евангелиях. Социально-политическое пространство реализации судеб героев
значительно менее перспективно, чем пространство метафизическое, не вызывающее интереса у Лазарчука.
«Мой старший брат Иешуа» - в традициях реалистического метода. Вопервых, есть линейное повествование, хронологическая цепь событий, позволяющая воссоздать биографии героев. Во-вторых, автор стремится следовать
принципу историзма: имена, даты, личности царей, римских императоров, некоторые обстоятельства быта тяготеют к документальности или этнографиче72
скому соответствию реальности прошлого. В-третьих, есть стремление создать
психологические портреты героев, пусть и в редуцированных формах. Вчетвертых, отсутствует фантастика, метафизика, объективность религиозных
чувств. Но это не значит, что произведение А. Лазарчука мы можем без сомнений назвать полноценным реалистическим текстом. Сам замысел романа, в рациональной форме представляющей еще одну версию евангельских событий,
показывает актуальность для автора модернистской/постмодернистской игры
со «священным», которая для формирования анализируемого текста имеет гораздо большее значение, чем внешняя техника реалистического письма.
Литература
1. Лазарчук А. Мой старший брат Иешуа. М., 2009.
73
Е.Р. Ямалтдинова*
Гностическая мысль в романе В. Сорокина «Путь Бро»
Гностицизм, если говорить кратко, – это философия бунта против времени, смерти, неравенства и несправедливости. Бунт, основанный на представлении о том, что от всего перечисленного можно избавиться только разорвав цепь
судьбы и победив временность, несовершенное, но мощное подобие вечности.
Гностицизм − это и мифологическая система. Фактически гностический
миф повествует о том, что было до того «начала», с которого начинается Книга
Бытия, и простирается за пределы той истории, которая рассказывается в Евангелиях. Воскресший Спаситель дает верным гностикам новые заповеди и открывает тайный смысл того учения, которое он сообщил своим ученикам в образе человека. Именно эта особенность гностицизма более всего не устраивала
философски ориентированных христианских и эллинских мыслителей.
Для гностиков и того явления, которое мы называем гностицизмом, характерно, прежде всего, четкое противопоставление материального и духовного, между которыми иногда помещается душевное. Духовное совершенно, материальное принципиально дефектно и возникло в результате ошибки. Поэтому
человек чувствует себя в этом мире неуютно и не на месте. «Странник я в этом
мире», – говорит Василид. Но и мир по отношению к человеку также настроен
враждебно. Судьба в лице законов и социального неравенства, установленных
обществом, связала человека и лишила его возможности распоряжаться собой.
Будучи от начала совершенным и бессмертным, человек погрузился в мир и забыл свою истинную природу.
Все гностики без исключения говорят о «семени высшей природы», которое оплодотворяет способных принять его избранных. Подобно семени, упавшему в плодородную почву, гнозис развивается в душе и приносит плод – знание пути спасения. Напротив, тот, кто не способен воспринять это семя, подобен бесплодной почве – земному праху. Такой человек обречен на погибель.
Его ничто не спасет» [1, 1-16].
Философию гностического бунта исповедуют писатели разных времен. Не
исключением стал и наш современный писатель Владимир Сорокин с его еще
не всем известной трилогией «Путь Бро» — «Лед» — «23000». Мы остановимся на первой части трилогии – на романе «Путь Бро».
Данное произведение, стилизованное под классический семейный роман,
постепенно набирает темп. О рождении героя, его детстве и воспитании говорится очень детально, подробно описываются все и всё, что его окружало. Необычность героя Александра Снегирева подчеркивается датой его рождения
(датой падения Тунгусского метеорита – 30 июня 1908 г.), странными сновидениями (герой с детства видел один и тот же необычный сон), отрешенностью от
мира. Герой растет, и рядом развивается человеческая история – война и революция. Тунгусский метеорит дал перерождение герою, а взрыв снаряда, убив*
Ямалтдинова Евгения Рафаиловна– студентка IV курса филологического факультета КубГУ
74
ший родных Александра Снегирева, стал началом его пути. Началом пути к
небесному Льду и новому имени. Новое имя (Бро) заслоняет предыдущую
жизнь. Ширится круг людей Света, рождаются новые имена - Фер, Иг и т.д. Историческая жизнь, человеческая цивилизация постепенно вытесняются новыми
звукоподражательными именами. Сам человек перестает быть человеком, становится "мясной машиной". Утопия набирает силу и как будто затушевывает
обыкновенную художественную речь (стиль повествования резко меняется).
Пропадают, стираются узнаваемые реалии и образность. Советский Союз растворяется и зовется страной Льда, Германия - страной Порядка. И в финале романа утопия побеждает окончательно. По этой причине роман «Путь Бро»
можно соотнести с тайным союзом посвященных или с гностическими произведениями (например, Евангелие от Фомы, Евангелие детства и т.п.).
Что интересно автору? В первую очередь, Владимира Сорокина интересует гностическое понимание человека. «Для гностиков и того явления, которое мы называем гностицизмом, характерно, прежде всего, четкое противопоставление материального и духовного. Духовное совершенно, материальное
принципиально дефектно и возникло в результате ошибки. Поэтому человек
чувствует себя в этом мире неуютно и не на месте» [1, 1-16].
«И понял я суть человека. Человек был МЯСНОЙ МАШИНОЙ... Мы создали их миллиарды лет назад, когда были светоносными лучами. Мясные машины состояли из тех же атомов, что и другие миры, созданные нами. Но комбинация этих атомов была ОШИБОЧНОЙ. Поэтому мясные машины были
смертны...» [3].
Можно сделать вывод о том, что концепция человека, по Сорокину, заключается в следующем: главные герои (или избранные) и их последователи,
наделенные сверхъестественными способностями, не являются людьми, более
того они резко противопоставлены толпе и земному миру. «...Братья молчали.
Сердца их - тоже. И вдруг … я почувствовал беспомощность. Как только мое
сердце смолкло, я стал обычным человеком. И стал искать защиты у разума. С
момента пробуждения, когда я ударился грудью о глыбу Льда, меня словно поставили на колеса. И я катил и катил на них, не останавливаясь и не сомневаясь
ни в чем… Впереди нас лежал мир людей. И никто не проложил по нему колеи
для наших колес. Мир этот был суров и беспощаден» [3].
Братья и сестры Света ненавидят людей, и цель их пребывания на земле – ее уничтожение и продолжение самих себя (найти своих среди людей и
превратить их в лучи Света с помощью магического льда). Герои попадают в
мировую гармонию, где нет места биологической любви, биологическому продолжению рода. Они оказываются фактически бесполыми, становясь друг другу братьями и сестрами и нося звукоподражательные имена (главных героев
после превращения зовут Иг и Бро).
«Сердца наши стали говорить между собой. Это был язык сердец. Он соединял их. Это было блаженство. Никакая земная любовь, прежде испытанная
мною, не могла сравниться с этим чувством. Сердца наши говорили неведомыми, им одним понятными словами. Сила Света пела в каждом слове. Радость
Вечности звучала в них. Они звенели, текли, переливались, затопляли сердца. И
75
сердца говорили сами. Без нашей воли и нашего опыта. А нам оставалось лишь
впасть в забытье, обнявшись. И слушать, слушать, слушать разговор наших
сердец. Время остановилось. Мы исчезали в этом разговоре» [3].
В романе ощущается присутствие особого гностического стиля. Привлекает внимание описание чудодейственного льда из Тунгусского метеорита, с
помощью которого братья и сестры Света, случайно воплотившиеся на Земле
(ошибочная комбинация), искали и находили друг друга среди миллионов людей. А ведь у каждого из них была своя жизнь, которая утрачивала всякий
смысл после превращения в частичку Света, одного из 23.000 лучей (именно к
этой комбинации стремились главные герои). Да и сам ритуал превращения
был весьма необычен. Но самое интересное то, что они (эти лучи света) как
будто достигали нирваны, вычисляя друг друга среди серой массы людей. Это
была их главная и единственная миссия на земле. Более того, они свято верили
и знали, что только им (а больше и некому) необходимо спасать и самим спасаться от «мясных машин», т.е. людей.
Авторская позиция противоречива (как у любого гностического автора).
Роман воспринимают по-разному читатели и критики. Вот пример из одной
критической статьи: «…Путь последовательного моралиста-метафизика в финале приводит к необходимости уничтожения всего живого. И это не какое-то
вычитанное из книг знание, не игра с культурными аллюзиями. Сорокин действительно так живет и так ощущает, о чем и свидетельствует без лишних двусмысленных экивоков. Наверное, реальные гностики, …которые для нас слились в какой-то идеологический контур без деталей и обосновывающей их позицию нутряной правды, примерно так же и думали, чувствовали и выглядели — как Владимир Сорокин» [4]. По моему мнению, эта критическая статья
очень полно характеризует творчество Сорокина и его роман «Путь Бро».
Попробуем представить, что герой по имени Бро прочитал некоторые гностические тексты. Например, евангелие от Фомы. Какие логии стали бы для него самыми основными, возможно, даже кредо?
«Иисус сказал: Блажен тот, кто был до того, как возник. <…>
Иисус сказал им (ученикам): когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина
не был мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, - тогда
вы войдете в [Царствие]. <…>
Иисус сказал: Если вам говорят: Откуда вы произошли? - скажите им: Мы
пришли от Света, от места, где Свет произошел от самого себя…. Если вам говорят: Кто вы? - скажите: Мы его дети, и мы избранные Отца живого. Если вас
спрашивают: Каков знак вашего Отца, который в вас? - скажите им: Это движение и покой» [2].
Мне кажется, именно эти три логии выражают основную мысль автора и
являются ключевыми в понимании романа. Они несут всю смысловую нагрузку
пути Бро и произведения в целом.
76
Очевидно, что гностицизм продолжает волновать умы людей и сегодня.
Произведения, традиционно относящиеся к апокрифам, не лишены элементов
магизма, выражают необычную философию бытия, неоднозначно трактуют веру и своеобразно понимают и постигают Бога. А это всегда было интересно не
одному писателю (ведь к гностическому пониманию веры и попытке трактовать человеческую сущность обращались и Леонид Андреев ("Иуда Искариот"), и Борхес ("Три версии предательства Иуды").
Сорокин один из них. Именно этот писатель на страницах своих книг показывает «своего» Бога или свою веру в Свет; он также неоднозначно трактует
веру в высшие силы, а человеческое бытие считает бесполезным, потому что
тело материально и оно держит в своих оковах душу – духовное начало
(«Странник я в этом мире», – говорит Василид). Сорокин − гностик современной эпохи. Можно даже предположить, что в какую бы эпоху он ни жил и в какое бы время не создавал произведения, всегда был бы гностиком. Об этом говорит не только содержание его текстов, но и стиль, язык. В трилогии «Путь
Бро» — «Лед» — «23000» Владимир Георгиевич Сорокин предстает как мистик
и бунтарь (и бунтарь, наверное, прежде всего), и, конечно же, Гностик. Философии гностического бунта посвящено не одно произведение.
Литература
1. Афонасин Е.В. Античный гностицизм. Фрагменты и свидетельства //
Античный гностицизм и его критики. СПб., 2002, с. 1-16.
2. Евангелие от Фомы. http:// www.philosophy.ru /library/ evangel/f oma2.
html
3. Сорокин В.Г. Путь Бро // http://www.srkn.ru/texts/bro_part01.shtml
4. Шевцов В. Путь моралиста // http:// www.srkn.ru/ criticism/ shevtsov.
shtml
77
А.И. Гаврилова*
Повесть Михаила Веллера «Белый ослик»
как литературный апокриф
Повесть «Белый ослик» – одна из частей книги Михаила Веллера под
названием «Б. Вавилонская». По своей структуре это сборник, состоящий из
трех повестей, объединенных известным ветхозаветным кодом – «МЕНЕ,
ТАКЕЛ, ФАРЕС», а также из нескольких коротких рассказов под заглавием «И
РОССЫПЬЮ». «МЕНЕ, ТАКЕЛ, ФАРЕС» – это божественное послание, явленное Богом царю Валтасару и истолкованное ему пророком Даниилом: «И
вот что начертано: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН. Вот и значение слов:
МЕНЕ – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; ТЕКЕЛ – ты взвешен на весах и найден очень легким; ПЕРЕС – разделено царство твое и дано
Мидянам и Персам» (Дан. 5: 25-28). В ту же самую ночь войска мидян и персов
вторглись в город и овладели им. Валтасар был убит, правителем стал Дарий
Мидянин. Так пало царство Вавилонское.
На этот раз новым Вавилоном становится современная Москва. И именно
она в «Белом ослике» становится местом второго пришествия «Христа» – некоего чудака Кирилла Андреевича (имя Кирилл, по-видимому, дано герою не случайно: считается, что оно древнегреческого происхождения, уменьшительное
от Кир – «господин, владыка» или, по другим данным, происходит от персидского слова, означающего «солнце»).
Сюжет повести узнаваем и легко соотносим с евангельскими событиями:
въезд в город на ослице, проповеди, прощение блудницы, разговоры с учениками, распятие на кресте. Чем закончилась судьба Кирилла, не совсем понятно –
Веллер не дает однозначного заключения; но можно считать, что его миссия, по
крайней мере, в качестве проповедника Истины, на земле уже завершена.
Для чего же является в Москву «новый Иисус»? Сам Кирилл определяет
свою миссию так: «Сделать вашу жизнь (жизнь людей) хорошей». Для этого он
покупает в зоопарке ослицу, въезжает на ней по Ленинградскому шоссе в
Москву и прямо на дороге начинает «проповедовать» истину встретившимся
ему «ментам» и «браткам». Гаишнику он советует не брать деньги с бандитов –
«людей надо любить, а не грабить», бандитам – перестать сотрудничать с Германией и обогащать чужое государство за счет продажи просроченного товара
в родной стране. «Все вы вдумайтесь – на К о г о вы работаете», – говорит Кирилл, и этот Кто-то, возможно, – не только Запад в самом широком смысле этого слова.
Затем Кирилл встречает несчастного солдатика, появившегося с той стороны казенного забора, и по-братски разделяет с ним бутылку коньяка, колбасу,
«Сникерс» и пачку «Парламента». На прощание новоявленный Христос оставляет воину пятьдесят рублей и просит его не издеваться над будущими новобранцами, когда тот станет «стариком».
*
Гаврилова Анастасия Игоревна – студентка III курса филологического факультета КубГУ
78
Следующий шаг Кирилла – акт дарения осла ребятам на детской площадке. Условие подарка – любовь друг к другу, непротивление злу насилием
(если тебя ударили по одной щеке – подставь другую) и т.д. Однако проповедник отнюдь не находится «в контакте» с Русской Православной Церковью – даже наоборот. В ответ на предложенную ему молодыми людьми
брошюру «Путь к спасению» Кирилл произносит гневный монолог о сущности церкви: «Вы что, считаете себя последователями Христа?! Что, хоть ктото из тех, кто нес в мир христианство ценой своей жизни, носил шитые золотом одеяния? Или строил забитые золотом храмы? Или молился изображениям, нарисованным красками на досках? Это же та церковь, которая веками
благословляла оружие своих государств! И молилась за благоденствие кровососов-правителей. Собирала с простых людей налоги и пожертвования и
составляла себе богатство. Жгла инакомыслящих, продавала должности и
отпускала грехи за деньги. Церковь объявила себя посреднической фирмой
между людьми и Богом... бестолочи вы! Дилеры, супервайзеры, рекламщики... идиоты. А сегодня русская православная церковь – один из крупнейших
в стране торговцев табаком и алкоголем, выхлопотала себе налоговые льготы, учредила фирмы и зарабатывает миллионы на ввозимой водке и сигаретах! А вы – стадо заблудшее: вам что в комсомол, что в церковь – лишь бы
строем и с песней. Подите прочь, безмозглые торговцы!» И с этими словами
выбивает из рук одного из адептов кружку для пожертвований.
Все это выглядит весьма необычно и идет вразрез с общим ходом повествования. Становится понятно, что учение Кирилла совершенно расходится с главными постулатами христианства, согласно которым церковь –
Дом Божий. В таком случае, у Кирилла должна быть какая-то своя философия организации бытия.
Затем Кирилл пытается – чего уж далеко уходить от евангельского сюжета – наставить на путь истинный современную блудницу-проститутку, и,
наконец, решает организовать в школе, куда прежде устроился работать
дворником, бесплатный философский кружок. И учить детей тому, как
устроен мир, и как быть в нем счастливым.
И вот уже Кирилл Андреевич – гость известной передачи Владимира
Познера «Человек в маске». Наступает его «звездный час». И автор повести
Михаил Веллер, не мудрствуя лукаво, вкладывает в уста главного героя целую философскую концепцию – 18 тезисов и краткое резюме. Вот она, долгожданная Истина, «соль земли». В чем же ее суть?
Предельно кратко. Каждый человек по своей природе – «изменятель».
Он стремиться изменить жизнь вокруг себя, его удел – преобразовывать мир.
Главное для человека – потребность в максимальных ощущениях как позитивных, так и негативных. Счастье заключается не во внешних обстоятельствах, а во внутреннем гармоничном состоянии. Однако человек – двухуровневая система, он существует на уровне ощущений и на уровне действий. Поэтому он стремится к тому, чтобы сделать в жизни как можно
больше. И максимум, к которому стремиться человечество, – это уничтожение нашей Вселенной и создание Новой Вселенной.
79
При этом Кирилл настаивает на том, что никто до него не выдвигал подобной философии – ЭНЕРГОЭВОЛЮЦИОНИЗМА – и не сводил воедино
несколько философский идей и учений (не путать с компиляцией и плагиатом). Однако, как заметил Познер, ничего принципиально нового услышано
не было.
Последний вечер философского кружка – своеобразная «тайная вечеря»
– проходит печально. Кирилл произносит известную фразу о том, что истину
нельзя сказать так, чтобы ее поняли, ее можно только сказать так, чтобы в
нее поверили. А для этого необходимо… чтобы тебя распяли.
И Кирилл взрывает памятник Петру I работы Церетели. Так, что в Храме Христа Спасителя разбиваются витражи. И Кирилла, как и Иисуса, обвиняют в желании «разрушить храм». В качестве Понтия Пилата выступает
мэр Москвы Юрий Лужков. Они беседуют о политике, Лужков предлагает
Кириллу помилование, если тот раскается в своем поступке и прославит мэра на пресс-конференции. Кирилл отказывается, и Юрий Лужков умывает
руки – в прямом и переносном смысле.
Кирилла распинают на Поклонной горе. Совершенно буднично его выводят из «рафика» и водружают на крест. Идет мелкий дождик, вокруг креста собирается небольшая компания телевизионщиков и зевак. Кириллу задают несколько вопросов, снимают короткий репортаж, священник читает
молитву, и все расходятся. Ночью на площадку приезжает джип со знакомыми «братками», Кирилла живого снимают с креста и увозят в неизвестном
направлении.
В конце повести вдруг заговаривает подаренная Кириллом мальчику
ослица, и снова вкратце излагает философию энергоэволюционизма. Это
уже нисколько не удивляет читателя, поскольку животное сообщает, что ее
конюхом был Валаам – что тут удивительного? А Михаил Веллер опять
предстает перед нами как мастер иронии – даже по отношению к самому себе.
Повесть «Белый ослик» довольно эволюционна по своей структуре:
редко когда в произведении автору удается совместить художественный и
философский пласт, и оставить повесть повестью, не превратить ее в учебник по философии. Однако «философские» страницы воспринимаются читателем с большим мыслительным усилием по сравнению с собственно сюжетом. При этом философская концепция не «растворена» в произведении, не
просто вытекает из отдельных реплик и монологов героя, его поступков, мотивов и желаний – она концентрируется на нескольких страницах в виде тезисов. Возможно, именно это и усложняет процесс восприятия: философия
не «вжилась» до конца в повесть и кажется инородным вставным компонентом, уводящим читателя далеко от сюжета в дебри философских размышлений.
Кроме всего прочего, возникает закономерный вопрос: действительно
ли «новая» философия нова или же Веллер устами Кирилла Андреевича
просто зомбирует читателя, повторяя множество раз «никто не говорил,
что…»?
80
Вопрос щекотливый, поскольку проблема состоит в том, что именно
считать новшеством. Кирилл Андреевич сам признается, что многое из сказанного им мы уже слышали раньше, и это так. Истоки тех или иных теорий
или идей можно найти в разных философских течениях, например, в философии экзистенциализма и позитивизма. Однако, по словам Кирилла, никто
до него не сводил воедино все положения, никто не приходил к таким выводам – как к частным, так и общим. Поэтому мы можем считать, что новизна
заключается в уникальном соединении экстрактов философской мысли в неведомый ранее препарат.
Но вернемся к самой повести. Получается, что Кирилл, в отличие от
Христа, проповедник не религиозной, а философской истины. И восходит он
на крест не искупить собой все людские грехи и примирить своей смертью
Бога и человека, а чтобы в его Истину поверили. Кирилл не страдает за людей на кресте, не умирает на нем и не воскресает на третий день, а просто
исчезает в определенной точке координатной системы времени и пространства. То есть в повести отсутствуют чуть ли не самые важные для богословия аспекты: идея воскресения и идея спасения. Ведь именно во Христе побеждена смерть, и через Него она побеждается всеми верующими в Иисуса,
что, в конечном счете, дает людям надежду на спасение и жизнь вечную.
Отсутствие данных христианских доктрин в тексте вполне объясняется тем,
что Кирилл Андреевич – не Богочеловек, а человек, следовательно, никаким
божественным предназначением не обладает и спасать людей не обязан.
Еще одним интересным моментом является повод, по которому Кирилла Андреевича «приговорили» к распятию на кресте: он взорвал памятник
Петру I. Разумеется, Иисус Христос ничего такого, что могло бы стать прямым поводом к распятию, не совершал; Он был предан одним из своих учеников Иудой Искариотом и ночью взят под стражу фарисеями в Гефсиманском саду. И хотя люди, мало-мальски обладающие эстетическим вкусом,
понимают, что творчество Зураба Церетели и понятие Искусство находятся в
параллельных плоскостях, и поэтому никогда не пересекутся, это никому не
дает право вершить самосуд и взрывать памятники прямо в центре города,
даже если при этом никто не пострадает. Поэтому данный поступок отнюдь
не заслуживает поощрения. Церетели бы точно с этим согласился.
В целом после прочтения повести создается ощущение, что автор не
ставил перед собой цели создать литературный апокриф в том смысле, в котором мы его привыкли понимать. Иными словами, трансформация библейского сюжета здесь настолько велика, что связь с евангельскими событиями
происходит лишь на фабульном уровне, остальные аспекты никак не соотносятся: главное действующее лицо не Иисус Христос, а обычный человек с
именем и отчеством (то есть Веллер прямо указывает читателю на земное
происхождение героя), соответственно, в повести не затронуты идеи воскресения и спасения; наконец, Кирилла нельзя назвать религиозным человеком,
так как он верит только в свою философскую Истину. Кроме того, текст
буквально пропитан неподражаемой авторской иронией, что, безусловно,
спускает читателей с «неба» на «землю», переносит их с уровня богослов81
ских диспутов о смысле бытия на уровень самого бытия. Это ничуть не умаляет художественной ценности повести, не делает ее менее качественной и
не ставит под сомнение писательский талант Михаила Веллера. Просто не
следует переносить произведение на другой, не соответствующий ему уровень и пытаться найти в нем то, чего там нет, а именно: открывшуюся в «новой» философии истинную картину мироздания и прямое руководство к
действию в лице главного героя.
Литература
1. Веллер М. Белый ослик // Веллер М. Самовар. Б. Вавилонская. М., 2007.
82
Раздел II. Сопоставительный анализ
современных художественных текстов
и литературных миров
Е.В. Подзюбанов*
Путешествие на край ночи: от Бодлера до Бегбедера
Поразить читателя невероятной, неожиданной сценой, пошатнуть его
нравственные устои, облечь в словесную форму его тайные желания и мысли;
эпатаж как стилистический прием, как и все в художественной литературе, по
всей видимости, использовали еще греки, и до греков. Достаточно привести
пример гиганта страданий царя Эдипа.
Интрига, канва, эпоха − все меркнет, потрясенный до глубины души
читатель проецирует вероятность подобного катарсиса на свою жизнь и, даже
откладывая в сторону книгу, уже не может успокоиться и проветрить свои мозги. Как после короткого замыкания.
Но проходит время, и мы успокаиваемся, и даже самые страшные сцены
на расстоянии дней − как затянувшиеся раны: если и болят, то уже не так сильно. Мы привыкаем к ужасному, к безнравственному − ко всему. Homo привыкающий.
А потом новая книга, новая завязка, новая кульминация, новое потрясение занимают и захватывают читателя, и забыто то, что так возмущало, то, что
так пугало; на смену пришли иные страхи. Одна книжка убивает другую, сказал
бы В.Гюго.
Вот и соревнуются на площадках нашего сознания авторы всех времен и
национальностей, стремясь оставить неизгладимые впечатления, незарубцовывающиеся шрамы, и тем самым увековечить свои идеи.
Жан Вальжан в клоаке Парижской канализации, Гренгуар в петле виселицы королевства Арго, Жийат в объятиях осьминога сменяют друг друга, как
бусы на чётках нашей памяти. Подобные картины увеличивают шансы на затянувшийся успех.
До восхождения на трон современной литературы (конец 20 - начало 21
века) эпатаж носил эпизодический характер. Экспозиция, завязка, исторические
справки, лирические отступления предваряли внезапное появление эпатажа.
Порой писатели шли к нему на протяжении всего романа, как, например, в
Bête-Humaine ( «Человекоподобное-Животное») Э.Золя финальная сцена: поезд
освободившись от машинистов, сбросив их под свои колёса, мчится на полном
Подзюбанов Евгений Владимирович – преподаватель кафедры французской филологии
КубГУ
*
83
ходу, а ни о чём не подозревающие пассажиры продолжают веселиться в вагонах… Весь роман был прелюдией к такому заключительному аккорду выбивающему почву из под ног.
По иному действовали мастера классического эпатажа Гюго и Бальзак, их
техника больше похожа на то, как кошка, поймав мышь, играет с ней: то отпустит, дав надежду на спасение, то прихватит, давая почувствовать мощь своих
когтей и клыков.
Но так или иначе ставка делалась на эффект неожиданности, сцена, призванная изумить читателя, являлась либо кульминацией, либо одним из компонентов сюжета. Но пришли новые герои пера. Эпатажу на страницах их произведений стало тесно. Сюжет, фабула, эпилог и пролог − всё здесь стало эпатажем. При этом градус вызова, бросаемого нашей морали, стал крепчать. Стихотворение «Падаль» Бодлера, которое в эпоху появления «Цветов зла» воспринималось как верх эпатажа, или его же выходка в «Плохом стекольщике», могут показаться детской шалостью на фоне провокаций Ф. Бегбедера в «99 франках».
Здесь даже о самоубийстве действующих персонажей беременной Софи и
Марка Маронье автор сообщает как бы невзначай, с легкой иронией: «Больше
всего их смущало то, что они носили те же имена, что и персонажи бездарной
старой комедии − Марк и Софи. Но ни из-за этого же они решили покончить с
собой. А может всё-таки именно поэтому?».
Особого внимания требует отсутствие вопросительного знака в предпоследней фразе. Так она больше похожа на утверждение.
Эпатаж стал сценой обыденной жизни. Сразу после обсуждения рекламного ролика, где автор использует 90% мудреных терминов на квадратный сантиметр слова, и читатель едва улавливает смысл сказанного двумя «блондинками», злоупотребившими йогуртом, герой, ведомый нарконуждой, направляется
в клозет, и кровью, которая течёт из его носа, разрисовывает все зеркала, стены
и дверь, переходя при этом на компактный английский: “Pigs” (свиньи). «Я думаю, что камеры наблюдения увековечили этот славный миг. День, когда я
окрестил капитализм своей кровью».
Чтобы читатель не расслаблялся, вместо лирических отступлений автор
заряжает сюжеты порносайтов, с извращениями и без, просматриваемых одним
из второстепенных персонажей, который позднее сам запечатлит своё самоубийство консервной банкой сардин в прямом эфире веб-сайта.
Апогеем сего царства эпатажа можно считать сцену из главы «Мы» (истязания старушки на Майами). Сцену, которую даже в смелом и снятом вполне
в духе времени фильме не нашлось места. Автор рискует придать печатный вид
тому, о чём вряд ли отважится беседовать преподаватель со студентами. Рискует и выигрывает, если оценивать тираж книги. Книгопечатание убило нравственность, сказал бы классик.
Эпатаж – скрытый главный герой «99 франков». Поведение персонажей,
рекламные ролики и «зацепки», разрабатываемые ими, рекламные вставки, являющиеся порой открытым святотатством − всё в романе Бегбедера подчинено
стремлению удивить, изумить, потрясти, шокировать, вызвать возмущение.
84
На базе подобных книг можно было бы рисовать графики нарастающей
или убывающей степени эпатажа.
Однако хотелось бы отметить, что перегруженность романа сценамипотрясениями способна привести и к обратному эффекту. Убаюканный некогда преамбулами автора читатель застывал в изумлении, перечитывая сцену
неожиданной развязки в новеллах Мопассана, Моруа, Труайа.
Ныне, привыкая к провокационным пассажам, он начинает воспринимать
сцены эпатажа как нечто само самой разумеющееся. Теряет чувствительность.
И книга-учитель становится книгой-аниматором жизни. Книгам, делившимся с
нами мудростью, приходят на смену книги развлекающие нас.
Да, безусловно, герой Бегбедера хоть и вяло, но всё же пытается бросить
вызов той системе, винтиком которой он является. Пытается предостеречь коллег по несчастью от нарастающей империи искусственного разума, то приводя
статистику проводимых землянами в виртуальном мире часов, то сообщая конфиденциальную информацию из-за кулис рекламного мира. Можно предположить, что обилие сцен-провокаций направлено здесь на создание необходимого
колорита. Но слишком удавшиеся сцены если не затмевают, то заволакивают
плотной дымкой саму идею вызова, брошенного героем. Интонация, заданная
автором с самых первых строк и выдержанная до самого конца. («Выражаю
благодарность Мануелю Каркассрну, Жан –Полю Антовену и т. д. Вы тоже виновны в появлении этой книги»). Всё это складывается в общее ощущение, что,
увлекшись самим процессом создания талантливых провокаций, автор не придаёт уже большого значения идее бунта и необходимости что-то менять. А значит не за горами появление эпатажа ради эпатажа.
85
А.А. Арджанова*
Флоберовский код в творчестве Фредерика Бегбедера
Своим романом «Госпожа Бовари» Гюстав Флобер шокировал
общественность. Автора судили за «оскорбление общественной морали и
религии», Ватикан внес текст в «Индекс запрещенных книг». Обычным
читателям книга показалось неприемлемо натуралистичной и откровенной,
критиков и писателей удивил новый способ художественного мышления и
новая эстетическая программа автора. Сегодня роман воспринимается как
классический и по стилю, и по содержанию. Через 150 лет после публикации
«Госпожи Бовари» читающий мир саботирует другой француз – Фредерик
Бегбедер, воспринявший флоберовскую традицию в постмодернистском ключе.
Флобер предложил абсолютно новые принципы взаимоотношения автора
и текста. Он не обрамляет действие авторскими характеристиками, не
комментирует поступки героев, а растворяется в ткани повествования:
«Сегодня… я был одновременно мужчиной и женщиной, любовником и
любовницей и катался верхом в лесу... я был и лошадьми, и листьями, и
ветром». Лишая текст романа собственного голоса, дающего дидактические
наставления, он присутствует одновременно в каждом из героев – Шарлю дарит
свою несостоявшуюся карьеру провинциального врача, Эмме – чувство
постоянного недовольства реальностью. Он заявляет: «Эмма Бовари – это я!».
Флобер воспринимает процесс вживания в создаваемый роман предельно
серьезно: «Когда я описывал сцену отравления Эммы Бовари, я так явственно
ощущал вкус мышьяка и чувствовал себя настолько отравленным, что перенес
два приступа тошноты, совершенно реальных, один за другим».
Отсутствие авторитета Флобера в тексте не позволяет читателям
создавать однозначные оппозиции «положительный – отрицательный герой».
Автор придерживается принципа безоценочности: «Желание во что бы то ни
стало делать выводы – одна из самых пагубных и самых безумных маний
человечества»; «Романист не имеет права высказывать свое мнение… Разве Бог
высказывает когда-нибудь свое мнение?!».
Бегбедер, по собственному признанию, в своих романах конструирует
«лего из ego». Он прячется за маску героя, которая очень похожа на его
собственное лицо, - это все тот же тощий скандалист, делающий карьеру в
рекламном бизнесе, 7 раз в неделю посещающий вечеринки, пишущий книги в
перерывах между похмельями (все факты – из биографии Бегбедера).
Оказывается, что все идеи в тексте принадлежат и не автору вовсе, а его
двойникам. Даже в том случае, когда играющий постмодернист Бегбедер
уничтожает маску и становится героем собственного романа, смысл и сюжет
текста никак не меняется: « – Hello, mу friend Marc Marronnier!
– Марк
Марронье умер. Я убил его. Отныне здесь только я, а меня зовут Фредерик
Бегбедер».
*
Арджанова Анна Александровна – студентка V курса филологического факультета КубГУ
86
Зачастую Бегбедер сам становится героем своего произведения,
добровольно лишая себя авторитета автора как бога текста - ведь герои не
могут указывать читателю, как трактовать поступок или образ, авторитетно
давать оценки. Как и Флобер, Бегбедер не позволяет читателю создать
бинарные оппозиции на основе авторских характеристик. Но нужно помнить о
том, что он – постмодернист, акт познания и творчества для него носит игровой
характер. Сомнителен образ Бегбедера, страдающего похмельем заодно со
своим героем Октавом. Если Флобер очень серьезен в стремлении раствориться
в ткани своего романа, то Бегбедер же к такому творческому принципу
подходит с тотальной иронией, создавая и разрушая маски, повторяющие его
собственное лицо.
Оба пишут книги для того, чтобы уничтожить стереотипы существующей
действительности. «Всякий раз, когда я берусь за перо, я делаю это, чтобы с
чем-то покончить» – с этими словами Бегбедера Флобер не стал бы спорить. Он
всю жизнь пытался покончить с мещанством, буржуазностью, определяемой
«содержимым головы, а не кошелька», сосредоточенностью на материальной
стороне жизни и верой только в общепринятые ценности. Эстетические
принципы не позволяли Флоберу открыто заявлять о своем презрении к
мещанству в художественных произведениях (вспомним образ автора –
человека с фонарем, который только освещает фигуры героев и никак не
комментирует их поступки), но в письмах к Тургеневу, Жорж Санд, Луизе Коле
он выражает свое отношение к пошлости вполне определенно: «На плечи мне
навалились целые горы кретинизма. Бывали времена, когда Францию
охватывала пляска святого Витта. Ныне, полагаю, у нее слегка парализован
мозг». По словам современников, Гюстав был настроен очень решительно.
Анатоль Франс вспоминал: «Я не пробыл у Флобера и пяти минут, как
небольшая его гостиная, ... уже вся была залита кровью двадцати тысяч
зарезанных буржуа. …добродушный великан давил каблуками мозги
муниципальных чиновников Руана… Он обрушил целый поток брани на
современность. Он находил ее пошлой».
Враги Бегбедера – новые буржуа, одномерные управляемые потребители,
охваченные пошлыми, мелочными мечтаниями о «вечно лазурных небесах, о
неизменно соблазнительных красотках, об идеальном счастье, подкрашенном в
PhotoShop'е». Даже любовь потребители превратили в шаблон, значит, нужно
разрушить и ее: «Слышать, что любовь живет три года, неприятно; это вроде
как звонок будильника посреди эротического сна... но девушки видели
слишком много мыльных опер… И они ждут Прекрасного Принца, вбив себе в
голову дурацкий рекламный образ… В более совершенном мире
двадцатилетние девушки не клевали бы на такую туфту». Эмма ведь тоже ищет
своего героя романтического жанра – «храброго, как лев, и кроткого, как
ягненок». Флобер отвечает ей: «Нельзя искать идеал там, где его быть не
может». Бегбедер также говорит о том, что «сказки бывают только в сказках.
Правда куда непригляднее». Он утверждает, что идеала нет вообще, значит,
надо стать гедонистом: «Удовольствие имеет одно важное достоинство: в
отличие от счастья, оно существует».
87
Оба писателя выбирают иронию как оружие борьбы со стереотипами.
Флобер использует острую иронию, направленную на разрушение
конкретного, единичного шаблона - например, Родольф во вдохновеннопылком письме говорит, что он отдыхал в тени любви Эммы «словно под тенью
манцениллы» (ядовитого мексиканского растения). Флобер высмеивает
восприятие любви сознанием, воспитанным на романтической литературе.
Бегбедер применяет тотальную постмодернистскую иронию, направленную на
разрушение основ – сравнивая себя с Вальмоном, Октав пишет письмо
любовнице на загорелой спине своей новой подруги. Таким образом, Бегбедер
иронизирует над любовью вообще, а не над конкретным ее проявлением.
Безусловно, оба автора иронизируют и над собственными героями,
пытающимися бунтовать против стереотипов. Эмма выбирает измену,
адюльтер, «шаблоннейший из способов над шаблонностью возвыситься»,
Октав тоже остается в пределах системы, с которой воюет – он снимает
провокационный рекламный ролик «Тамара стоит на веранде…, она грациозно
сбрасывает майку, …начинает размазывать йогурт по щекам и груди... во все
горло грозя своему обезжиренному йогурту». Показательны и сцены
самоубийств героев. Эмма хочет умереть красиво и выбирает способ героинь
своих любимых романов – мышьяк. Но в результате читатель получает
натуралистичное описание мучительно-долгой смерти госпожи Бовари под
аккомпанемент похабной песенки нищего – такова горькая флоберовская
ирония. Бегбедоровский Марк тоже настроен решительно – он хочет «выпить
стакан кока-колы с анксиолитиками» и повеситься для верности: «Веревки у
меня нет, но есть галстуки от Пола Смита, можно связать вместе несколько
штук, будет самое то». И в выборе способа самоубийства также не обошлось
без стереотипов – красная банка колы – настоящая эмблема массового
сознания. В конце концов, самоубийством это можно назвать только в
кавычках - «Уже давно за полдень, и вид – глупее некуда: лежишь на полу с
гирляндой из галстуков вокруг шеи, а сверху смотрит приходящая прислуга».
По Бегбедеру, самоубийство – тоже стереотип, значит, и над ним можно
иронизировать в сниженном постмодернистском ключе. Иронизируя, Флобер
очень близко подходит к грани дозволенного, но все же остается в рамках
приличий, а Бегбедер играючи переступает черту, будто и не замечая ее.
Оба автора проводят ревизию стереотипов наивного читателя,
принимающего все сказанное на веру. Флобер уничтожает стереотипы
романтической литературы (мало того, что любовь Эммы к романам описана
иронически, ее любовники становятся воплощением обожаемых ею книжных
героев – мужчин байронического и вертеровского типов),
Бегбедер
высмеивает реалистический тип мышления, используя эпатирующий стиль
(«оригинальные словечки, англицизмы, прикольные обороты, рекламные
слоганы»), освещая маргинальные темы («найтклаббинг, секс, наркотики, рокн-ролл»), используя чисто постмодернистский прием «обнажения приема»
(«Всем привет, я автор. Добро пожаловать в мои мозги»; «Тут уместно
прибегнуть к фигуре умолчания. Это такой стилистический прием, который
позволяет ленивому автору не описывать все детально»).
88
Бегбедер активно использует самую известную художественную находку
Флобера – метод контрапункта – «параллельного переплетения и прерывания
нескольких разговоров или линий мысли».
Сравним сцену сельскохозяйственной выставки, в которой Родольф
морально соблазняет Эмму: « – … думал ли я, что сегодня буду с вами? – «
…семьдесят франков!» – Несколько раз я порывался уйти и все-таки пошел за
вами, остался. – «За удобрение навозом…» – И теперь уже останусь и на вечер,
и на завтра, и на все остальное время, на всю жизнь! – « …господину Карону –
золотая медаль!».
И телефонный разговор Октава с платонической возлюбленной,
проституткой Тамарой: «– Вчера вечером я сняла клиента в «Плазе»…
ОБОРУДУЙТЕ ВАШУ КУХНЮ НАШИМИ КОМБАЙНАМИ… ВЫБИРАЙТЕ
ХОРОШЕНЬКО, ВЫБИРАЙТЕ С УМОМ…. – Это еще что за хреновина? –
Ничего особенного, они время от времени запускают свою рекламу, а взамен –
все разговоры на халяву. У «CASTO» ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО! ПОКУПАЕМ
ВРАЗ И ДРУЖНО!... – А ты держишь мобильник у самого уха? Сотовые
телефоны разрушают ДНК… не хватало нам еще опухоли мозга. – Октав,
лапочка, у тебя нет мозга!.. «КОНТИНЕНТ». «КОНТИНЕНТ» - НАИЛУЧШИЙ
ПРЕЗЕНТ!..»
У Флобера семантически нагруженные реплики перемежаются пустой,
шаблонной, мещанской речью, у Бегбедера диалог героев прерывается
рекламными
слоганами,
символизирующими
стереотипы
сознания
потребителей.
Бегбедер также осмысливает метод контрапункта в чисто
постмодернистском ключе – «разговаривают» несколько слоев сознания Марка:
«Сволочь ли я? Зачем нужна смерть? Наделаю ли я в жизни тех же глупостей,
что и мои родители? Как бы мне получать ПОБОЛЬШЕ денег, работая
ПОМЕНЬШЕ? Нельзя ли хоть раз влюбиться так, чтобы это не закончилось в
крови, в сперме и в слезах? Можно ли быть счастливым? Какую марку
солнечных очков носят на Форментере?»
С помощью такого специфического использования приема контрапункта
Бегбедер пытается отобразить расколотость современного сознания, в разных
слоях которого гармонично сосуществуют и стереотипы, и вечные вопросы о
сущности бытия.
Кроме использованного Бегбедером специфически флоберовского метода
контрапункта на преемственность указывают и яркие аллюзии: сравним сцену
разоблачения супружеской неверности из «Госпожи Бовари»: «…однажды он
подсел к столу, повернул ключ и нажал пружину. Там лежали все письма
Леона… он неистовствовал. Случайно он наткнулся на какую-то коробку.
Оттуда вылетел портрет Родольфа и высыпался ворох любовных писем» и
похожий поворот сюжета из романа «Любовь живет 3 года»: «Анна искала
щетку для волос, а волосы у нее встали дыбом при виде поляроидного снимка в
комплекте с любовными письмами, написанными не ее рукой». К знаменитому
натуралистической деталью описательному пассажу Эммы «Ее черные волосы
разделял на два бандо, так гладко зачесанных, что они казались цельным
89
куском, тонкий пробор, слегка изгибающийся согласно форме ее черепа…»
отсылают читателей бегбедеровское прямолинейное «Мне нравится костное
строение твоего лица» и ироничное «дивный алкоголь струится по ее
очаровательному пищеводу, вдоль прелестного пищеварительного тракта и в
восхитительный желудок».
Еще один флоберовский прием, переосмысленный Бегбедером –
приведение обширных списков стереотипов. В романах Эммы «только и было,
что любовь, любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств
в уединенных беседках… темные леса, сердечное смятение, клятвы, рыдания,
слезы и поцелуи… кавалеры, храбрые как львы и кроткие как ягнята,
добродетельные сверх всякой меры…».
У Бегбедера видим: «ты носишь … рубашку «Hedi Sliman» из магазина
мужской одежды «Сен-Лоран – Рив-Гош», туфли от Берлути… трусы «BananaRepublic», купленные в Нью-Йорке… владеешь пятикомнатной квартирой в
Сен-Жермен-де-Пре. В твоем распоряжении имеются также: погреб, битком
набитый элитными винами от Оже (бульвар Османн, 116, 8й округ)… BMW Z4
на стоянке, арендуемой годично, под кафе «Флора»… ванная комната,
полностью оборудованная в стиле Кельвина Кляйна… розовый «Mac», на
котором и пишется эта книга». Стереотипы мышления, перечисляемые
Флобером, хотя бы как-то связаны с чувствами, любовью, пусть и понятой
Эммой в сентиментально-мещанском ключе. Бегбедер же поднялся на новую
ступень разрушающей иронии – приведенные им шаблоны не имеют вообще
никакой духовной основы – это просто списки вещей, которыми одержимы
современные мещане-потребители.
В середине XIX века Гюстав Флобер отказался от бинарных оппозиций в
художественном произведении, подтолкнул читателя «через преодоление
стереотипов к самостоятельному мышлению» и использовал иронию как
основу своего творческого метода. В начале XXI века Фредерик Бегбедер
принял традицию Флобера, осмыслив ее в игровом ключе, изобразив в своих
романах нового буржуа-потребителя и заметно повысив градус агрессивности
иронии. Похоже, единственное, что не вызывает у Бегбедера непреодолимой
тяги к скандализированию, опошлению и разрушению – творчество Флобера.
Литература
1. Бегбедер Ф. Воспоминания необразумившегося молодого человека/ Пер. с франц. О.
Акимовой. СПб.: Симпозиум, 2009.
2. Бегбедер Ф. Любовь живет три года: Роман/ Пер. с франц. с франц. Н. Хотинской. М.:
Иностранка, 2009.
3. Бегбедер Ф. 99 франков: Роман/ Пер. с франц. И. Волевич. М.: Иностранка, 2008.
4. Моруа А. Литературные портреты. http://lib.ru/MORUA/portrait.txt.
5. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе/ Пер. с англ.; М.: Издательство Независимая
Газета, 1998.
6. Флобер Г. Госпожа Бовари: роман/ Пер. с франц. Н.М. Любимова. М.: АСТ МОСКВА:
ХРАНИТЕЛЬ, 2006.
7. Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде: Письма; Статьи. В 2-х томах. М.:
Худож. Лит., 1984.
90
Т.Н. Марушко*
Концепция рекламы в романах
Ч. Паланика «Уцелевший» и Ф.Бегбедера «99 франков»
Одной из популярных современных идейных тенденций литературы
является мотив разоблачения. Стало модным показывать «обратную сторону»
привычных явлений, бессмысленность и порочность того, к чему человечество
так привыкло и от чего не сможет отказаться.
В романах Ф. Бегбедера «99 франков» и Ч. Паланика «Уцелевший» таким
объектом разоблачения стал мир рекламы. Оба автора стремились показать
истинное лицо этого явления – нещадное выкачивание денег,
«программирование» людей на совершение покупок, превращение «личности»
в «потребителя». Реклама стала товаром. И стала деньгами. Реклама дарует нам
красивый мир, мир, о котором мы мечтаем, мир, который никогда не будет
принадлежать нам.
Кратко сюжеты романов выглядят следующим образом:
«99 франков»: 33-летний Октав - продавец рекламы. Он имеет все, о чём
мечтает любой человек, член общества потребителей. И он убеждает себя в
том, что счастлив. Но, понимание того, насколько порочен и мерзок
существующий порядок, не дает ему спокойно жить. Трусость заставляет его
бросить беременную подругу, а реклама йогурта – доводит до соучастия в
убийстве. Октав с пьедестала почета попадает в тюрьму. Его будущее
неопределенно.
«Уцелевший»: 33-летний Тендер Брэнсон — единственный уцелевший из
своей религиозной общины. Он рассказывает историю своей жизни чёрному
ящику на борту самолета «Боинг-747». Цель общины — помочь людям следить
за их домами. Но уроки домоводства, полученные в общине Церкви, так и не
пригодились: никто никогда не просил Бренсона зажигать свечи горящей
спагеттиной, больше того, ему пришлось самому дойти до куда более
насущных вещей вроде очищения от крови клавиш пианино. Безотказный слуга
вечно занятых нуворишей с помощью «телефона доверия» доводит до
самоубийства отчаявшихся людей. А после посещает их останки в склепе и
ворует цветы. Там он и влюбляется в Фертилити, ставшей причиной перемен в
его жизни. Другие адепты общины пошли по законам своей Церкви и
совершили Поход на Небеса – массовое самоубийство; уцелевшие же –
находились под бдительным осмотров психологов. В день, когда Тендер
Брэнсон стал последним уцелевшим, умерла его психолог, а агент одной из
телекомпаний предложил ему стать новым мессией для человечества. Но
счастливым известность его так и не сделала. Судьба распорядилась так, что
его признали антихристом и хотели казнить. В попытках скрыться от
*
Марушко Татьяна Николаевна – студентка IV курса филологического факультета КубГУ
91
преследования Тендер оказывается на борту самолета, откуда и начинается
повествование.
В сюжетных линиях романа, казалось бы, общего мало. Но в ходе анализа
произведений, были обнаружены значительные переклички не только на
сюжетно-образном уровне, но так же в мотивах, идеях и концепциях.
Отношение к рекламному миру в романах таково:
«99 франков»: Реклама – в высшей степени зло. Лишает людей воли,
превращает их в потребителей. Ее цель – поглощение средств, суть – заставить
людей желать рекламируемый продукт, работать только ради получения
данного продукта. Мотив рекламы – центральный в романе. Реклама
становится особым видом правления, не власть, а она управляет людьми, и
власть грамотно этим пользуется. «Я приобщаю вас к наркотику под названием
«новинка»… Сделать так, чтобы у вас постоянно слюнки текли, - вот она,
моя наивысшая цель».
«Уцелевший»: Реклама, как создание иллюзии новой лучшей жизни,
религии, иллюзорный перфекционизм, правила, которые сделают жизнь людей
лучше. Цель рекламы – поглощение средств, суть – новая религия, которая
строит новую жизнь; люди вкладывают средства в самосовершенствование,
«духовную» пищу. Мотив рекламы – не центральный в романе. «Мир – это
такой элегантный маленький театр для демонстрации хороших манер, где ты
– режиссер».
Обратимся к образам героев. Одной из сильных перекличек является
возраст героев – 33 года, аллюзия на Христа. Бегбедер подчеркивает, что
именно в этом возрасте переосмысливаешь свою жизнь. Октав рекламу создает.
Но не выбирает что рекламировать. Считает себя всемогущим. Презирает себя
и то, что делает, а так же тех, кто участвует в этом процессе, а вместе с тем и
самих потребителей. «Никогда еще за последние две тысячи лет слабоумные
кретины вроде меня не обладали таким могуществом». Тщетно ищет пути
выхода из системы или изменить ее. «Я просто ясно отдаю себе отчет: у нас
не осталось ничего стоящего, вот почему пустоту заполняет реклама. Она
стала нашим единственным идеалом. Это не природа, это надежда не
терпит пустоты».
Свою миссию не выполняет и даже наоборот, отступается от собственных
целей. Причиной изменений является не только ненависть к системе, но и
женщина, беременная от него, которая то ли родила ребенка и живет счастливо,
то ли умерла. Вокруг героя близкий ему человек заканчивает жизнь
самоубийством (герой не причастен), но он участвует в убийстве старушки,
обвиняя ее в том, что она – властелин мира. Употребляет наркотики, попадает в
тюрьму. Будущее героя неопределенно.
Развитие героя в романе строится по схеме: Рекламщик > победитель >
убийца.
Тендер является сам предметом рекламы. Презирает свое положение в
качестве продукта, презирает потребителей. Всемогущим считал себя, пока был
никем – человеком из сферы обслуживания. «Я – домработница, только
92
мужского рода. Занимаюсь уборкой чужих домов. Скромный трудяга на
полную ставку. И по совместительству – бог».
На систему не обращает внимания, изменить ее мечтал в юности, но
возраст и опыт показали, что это не возможно; вследствие стечения
обстоятельств и любви к женщине – становится предметом рекламы, возрастает
социально, но становится слабее физически и отдаляется от веры. Теряет все
независимо от своей воли. Психолог (близкий герою человек) умерла без его
помощи, хотя полиция считала иначе; герой с помощью «телефона доверия»
довел до самоубийства не одного человека. Любимая женщина беременна от
него, но ее будущее, как и будущее героя, неизвестно (она предсказывает ему,
что все у них будет хорошо, но герой находится в самолете, который должен
разбиться).
Развитие героя в романе строится по схеме: Уборщик > звезда >
антихрист.
Стилистики романов различны, что связано в первую очередь с
индивидуальными особенностями авторов, но и с их отношениями с рекламой.
Бегбедер непосредственно был связан с созданием рекламы, что сильно
отразилось в романе. Использование рекламных элементов: титров, слоганов,
рекламных пауз. Книга разделена на равные по объему части имеющие
названия личных местоимений, в зависимости от названия части, в тексте
меняется лицо (я, ты, он, мы, вы, они). Обилие цитирования (афоризмы,
высказывания известных личностей). Обилие аллюзий и метафор. «Человек
вошел в пещеру Платона. Греческий философ описывал людей, прикованных к
скале и созерцающий тени реальности на стенах темницы. Пещера Платона
нашла свое воплощение в нашей действительности – теперь она зовется
телевидением».
Паланик же использует прием смешения стиля потока сознания и
псевдофактов: роман «многослойный», где каждый слой не находится один над
другим, а вплетены друг в друга, поэтому время и пространство меняются не
только в пределах страницы, но даже абзаца. Рекламные слоганы встречаются,
но очень редко; цитирования так же мало, но большое количество
псевдофактов – советов по домашнему уходу и этикет. Роман монтажный,
страницы идут строго в обратном порядке. Непереводимая игра слов (сноски
переводчиков поясняют некоторые моменты текста). Прямая речь оформляется
лишь для второстепенных персонажей, но никогда для главного героя.
Есть сходство и в отражении мотива смерти. Оба героя мечтали умереть,
но к концу произведений их будущее было не определенно. Оба отказались от
суицида, как способа покинуть этот мир. Вокруг героев – словно ореол
смерти – умирают близкие им люди (как по их воле, так и без). Оба верили, что
после смерти все не закончится. «Смерть – это еще не конец. Даже если
однажды ночью меня схватят ожившие мертвецы, даже если меня разорвут
на части, по крайней мере я буду знать, что умираю не совсем». «.. первую
тысячу лет в Аду я проведу на какой-нибудь мелкой должности, но потом мне
бы хотелось продвинуться в управленческое звено. Как говорится, играть в
команде и быть не последним из игроков».
93
Оба героя чувствовали на себе внезапность смерти и ее полную
незапланированность (с учетом того, что у обоих все было распланировано).
«Смерть – единственная встреча, не записанная в вашем органайзере».
Нынешняя система вещей, показанная в романах, кажется уже не столько
подлежащим разоблачению опасным противником, сколько горой зловонной
падали, о которую, тем не менее, сбиваешь кулаки в неудержимой ярости.
Негодование и злоба авторов находит выход в злой сатире и черном юморе. Их
стремление убедить читателя в необходимости перемен современной
цивилизации – более чем оправдано. Но перемены могут произойти только в
головах самих потребителей, если только те в свою очередь, захотят принять
другую систему ценностей и станут личностями, а не продуктом.
94
А.В. Хомухина*
Невозможность острова: эскапистские мотивы
в творчестве Бегбедера и Уэльбека
К началу XXI века французская литература, кажется, подошла к
заключительной стадии одной из наиболее сильно овладевавших ею идей –
идее бегства от этого мира, невыносимого для большинства «творческих
личностей». Чем же закончилась эта многовековая эпопея поиска райского
прибежища для всех «искалеченных жизнью»? Читая произведения
современных французских писателей, можно с сожалением констатировать,
что, по сути, ничем. Пока Бодлер настойчиво приглашает нас к путешествию в
мир, может и существующий только в контексте расширенного опиумом
сознания, но от этого не менее прекрасный; пока опьянённый Рембо кораблём
мчится к какой-то неведомой нам «поэме моря», герои Бегбедера и Уэльбека
после нескольких вялых попыток найти какой-нибудь выход и для себя,
махнули на всё рукой, решив, что никакого выхода нет, так что и пытаться
нечего. Что же это такое – слабость отдельных героев или тотальная усталость
всего поколения?
Фредерик Бегбедер, часто называющий Бодлера своим учителем, в своём
романе «99 франков» предлагает нам картину острова, похожего на тот самый,
где «Прекрасного строгая власть, безмятежность и роскошь и страсть», «где
более медленное течение времени содержит больше мыслей, где часы
вызванивают о счастье с более значительной торжественностью и большей
глубиной». Однако же, похожи они только на первый взгляд. Бегбедер
достаточно далеко отходит от возвышенно-романтичной картины, созданной
его «учителем» и всё описание острова выглядит скорее мрачным сарказмом,
чем попыткой эстетизации действительности.
Его остров надёжно ограждён от проникновения туда современной культуры
в любом виде (кроме специально отобранных книг и компакт-дисков). «Детипроститутки обоих полов (нанимаемые сроком на год) всегда готовы
удовлетворить любую эротическую причуду каждого и каждой из обитателей
острова». И ещё, помимо прочих удовольствий, «все, какие есть в мире,
наркотики каждое утро ждут их на циновке перед домом, в красивом
чемоданчике от "Hermes"». Чем не рай для современного человека? К тому же,
там собралась неплохая компания – все известные «мнимые покойники»
последних десятилетий. Вот только при этом «утилитарном» подходе к бегству
от мира (бывшему такой романтической идеей), куда-то исчезает вся страстная
бодлеровская вера в реальность и достижимость этого самого острова. Для
читателя этот остров – не желаемая реальность, а всего лишь (даже не всегда)
красивая сказка, выдуманная главным героем Октавом, то ли от скуки, то ли
для успокоения совести.
Хомухина Анастасия Валерьевна – студентка III курса факультета романо-германской филологии КубГУ
*
95
Но даже если и поверить на минуту в реальность этой фантазии, какой
предстаёт нам жизнь на этом острове? С одной стороны, герои «нашли
идеальный образ жизни - слушать тишину», «они полны доверия к этому
миру», «они узнали, что такое любовь», «они освобождены от смерти, а значит,
и от времени», «перед ними вечность». Вечность, наполненная исключительно
удовольствиями. Впрочем, отношение автора ко всей этой «райской жизни»,
видно уже в том, как он саркастически ставит в заслугу своим героям то, что
«они не всегда ими [наркотиками] пользуются; им случается иногда по
нескольку дней не напиваться, не участвовать в оргиях и не истязать рабов».
Действительно ведь, героическая сдержанность, граничащая с аскетизмом.
С другой стороны, уже через короткий промежуток времени, «им надоело
числиться в мертвецах», «они страдают от слишком хорошего питания», «они
живут растительной жизнью среди растений», «у них уже передозировка
лазури, их тошнит от райской жизни». Их внешний вид полностью
соответствует их образу жизни. «Современному миру нет альтернативы»
повторяется рефреном. Вот и развенчан миф о возможности побега, вот и
опустились руки у всей европейской цивилизации. Действительно, зачем
бежать, если даже в «раю» «счастье отзывается горьким похмельем» и не
оставляют мысли о том, что человеку «необходимы посторонние раздражители,
шумы, загрязнение окружающей среды, выхлопные газы». Мы находимся в
плену у собственной цивилизации.
Как говорит сам Бегбедер в одном из интервью: «Я пишу о разочаровании».
Это разочарование и пресыщенность выливаются в абсолютную
безнадёжность. Даже шумный и деятельный герой Бегбедера смиряется и
прекращает любые попытки борьбы с окружающим миром. Он не «идёт
топиться», а «дает увлечь себя морскому течению», «безвольно отдается
потоку, несущему его в открытое море». Это не бурный протест, а тихая
безнадёжность. Автор цитирует Рембо в этом отрывке, но образ несущегося по
волнам пьяного корабля превращается в безвольное желание «кануть в пучину
словно обломок корабля или запечатанная бутылка, не содержащая никакого
послания». Это трагизм повседневности, лишенный всякого пафоса. И это
ситуация не отдельной личности, а целого поколения. Сам автор говорит: «Мои
персонажи – симптомы нашей эпохи». Это эпоха потерявших надежду и
забывших Бога.
Не нашли выхода и герои Уэльбека. Он, конечно, не удовлетворился созданием
красивой сказки об экзотическом острове, а выстроил новую религию и целый
мир будущего с учётом всех имеющихся (и не имеющихся) в его распоряжении
современных технологий. Герои романа Уэльбека «Возможность острова»
всеми силами пытаются достичь бессмертия, причём бессмертия
гарантированного и, безусловно, приятного и лишенного суеты и страданий
этого мира. Это бессмертие явно не христианское, ни о каком «самоочищении»
или «самосовершенствовании» и речи не идёт. Впрочем, и сама вера скорее
является верой в научные достижения, а не во что-то сверхъестественное, и
приход на Землю инопланетян кажется выдуманным «для виду». А если
отбросить всякую метафизику, каким же способом достижимо бессмертие? По96
буддистски решив, что для того, чтобы прекратить умирать, необходимо
прекратить рождаться, наши герои сочли клонирование вполне
рациональным выходом. Действительно, о каком счастье можно говорить, если
сам процесс рождения сопровождается невыносимыми муками. К тому же
процесс клонирования позволяет избежать не только ужасов рождения, но и
сводит на нет процессы взросления и старения. Неочеловек появляется на свет
уже «восемнадцатилетним» и за всю жизнь его тело не претерпевает
кардинальных изменений.
Вообще это является отличительной чертой героев Уэльбека – страх перед
рождением и страх перед старением, смертью. Дети ограничивают их свободу,
а старение ведёт к физической немощи и как следствие к невозможности
единственного
уэльбековского
счастья
–
получения
сексуального
удовлетворения. Да и смерть нельзя назвать особо радостным явлением, потому
что даже при наличии некоторых идей из буддийского контекста, герои
Уэльбека всё равно остаются людьми европейского типа с присущим им
страхом потери индивидуальности, растворения личности. Отсюда и парадокс –
герои вроде бы и стремятся освободиться ото всех страстей и обрести
спокойствие, но параллельно с этим упорно запирают себя в вечный круг
возникновения-исчезновения их клонов, сохраняющих все воспоминания. Из-за
этого конфликта буддийских и европейских идей – невозможность какого-либо
жизнерадостного исхода. Вера в Бога исчезла, а страха перед пустотой меньше
не стало. Так и болтается уэльбековский герой в неком непостижимом
монотонном пространстве без страстей, страданий и надежды на
благополучный исход.
Такова вечная жизнь, в которую Уэльбек приглашает всех читателей уже с
первой страницы «Возможности острова». «Радости человеческих существ для
нас непостижимы; но и их беды нас не терзают. В наших ночах отсутствует
трепет ужаса или экстаза; однако мы живём, мы движемся по жизни, без
радостей, без тайн, и время для нас пролетает быстро» описывает автор жизнь
неолюдей. «Равным образом нам непонятно возбуждение охоты, преследования
добычи, а также религиозное чувство и то оцепенелое, беспредметное
исступление, какое люди именовали «религиозным экстазом»». У неолюдей
исчезли не только реакции слёз и смеха, но даже интерес к ним. «Доброта,
сострадание, верность, альтруизм остаются для нас непостижимыми тайнами».
Жизнь неолюдей – лишь существование одиночек, осознающих это и
утративших желание объединяться, существование без эмоций, которое длится
лишь в ожидании Грядущих. Что случится после их пришествия, впрочем, не
совсем ясно.
В конце концов, и этот вид существования оказывается нежизнеспособным.
«Добровольно покинув цикл возрождений и смертей, я направлялся к простому
небытию, к чистому отсутствию содержания», - говорит 25-ый клон главного
героя. Всё же, вполне буддийский исход, что неудивительно для Уэльбека.
Отрицающий всякую метафизику, в одном из интервью он объясняет, что
«лишь буддизм исключительно основывается на разуме, на уме», чем его и
97
привлекает. «Это очень впечатляющая религия, меня поражает, что это все
правда работает».
Помимо этих фантастических способов бегства от мира, герои обоих
произведений пытаются спрятаться в самом что ни на есть человечном – в
любви. Впрочем, оба терпят поражение и здесь. Октав, главный герой «99
франков», страдает оттого, что он никак не может забыть свою возлюбленную
Софи, которую он бросил, узнав о её беременности. Софи, впоследствии
кончает с собой, по поводу чего герой, с присущим ему чёрным юмором,
замечает: «Когда беременная женщина кончает с собой, это двойная смерть по
цене одной - совсем как в рекламе моющих средств». Его следующий роман с
проституткой Тамарой, которой он помогает стать звездой рекламы, тоже
ничем хорошим не заканчивается – она бросает его из рациональных
соображений, когда он «только-только начал её любить».
У Даниэля из «Возможности острова» проблемы практически такие же.
Изабель, которая «любила любовь, но не любила секс», уходит от него, начав
стесняться своего стареющего тела. Позже она тоже заканчивает жизнь
самоубийством. Эстер – ещё одна женщина Даниэля – напротив, «любила секс,
но не любила любовь», в результате тоже ушла. Опять таки, по вполне
разумным причинам.
Впрочем, понятие любви в творчестве обоих французов весьма своеобразно.
Это любовь, не просто связанная с сексом, а напрямую от него зависящая. Как
замечает Бегбедер, «когда долго занимаешься любовью, к этому занятию рано
или поздно примешиваются чувства». Уэльбек в своих размышлениях мечется
между пессимизмом, доходящим до циничности («Когда уходит физическая
любовь, уходит все; вялая, неглубокая досада заполняет однообразную череду
дней»; «любовь делает человека слабым, и тот, кто сильнее, подавляет, мучит и
в итоге убивает другого, причём безо всякого злого умысла, даже не испытывая
удовольствия, с абсолютнейшим безразличием; именно это у людей обычно
называется любовью») и щемяще-трогательной романтикой («я имею в виду
любовь взаимную, разделённую, ту, какая только и имеет значение, какая
только и может реально даровать нам иной порядок восприятия, когда
индивидуальность трещит по швам, основы мироздания видятся в новом свете
и дальнейшее его существование предстаёт вполне правомерным»; «несмотря
ни на что, вопреки всякой очевидности, где-то в глубине души все равно верю в
любовь»). В любом случае, сложно отрицать зацепленность авторов за сферу
сексуального. Словосочетание «заниматься любовью» встречается в обоих
текстах, пожалуй, даже чаще, чем само слово «любовь» в его прямом значении.
Можно ли сказать, что во всём этом виноваты сами герои? Вряд ли. В самом
пространстве текста, создаваемого французскими писателями, счастливая
взаимная любовь, любовь вечная, представляется абсолютно невозможной. А
это уже пугает. Ведь, как пишет Валерий Липневич, «Мир, в котором
невозможна любовь, неудержимо катится к отрицанию жизни и человека».
98
П.Ю. Коваленко*
Сюжетика романа Дж. Джойса «Улисс»
в современной литературе
С момента выхода в свет и по сей день «Улисс» Дж. Джойса остаётся
книгой, вызывающей у исследователей многочисленные споры и нарекания.
Как указывает С. Хоружий в послесловии к русскому изданию «Улисса», в романе форма довлеет над содержанием, а сюжет растворяется среди более общих – с одной стороны, и с другой – мельчайших, работающих на стиль, - составляющих формы [1, 551-552]. Некоторые исследователи позиционируют
роман Дж. Джойса как произведение с размытым сюжетом или вовсе его лишённое, так все основные элементы сюжета в тексте заменены пародиями на
них, а сюжетные коллизии под влиянием авторской иронии снижены и уменьшены до микроскопических размеров. Отсюда перед читателем возникает следующая проблема: сюжет «Улисса» практически невозможно пересказать.
Однако, последовательно перемещаясь по эпизодам и соединяя содержащуюся в них информацию с сюжетом «Одиссеи», достаточно легко можно
проследить фабулу романа. Более того, «Улисс» выстроен так, что каждому
эпизоду соответствует определённый час.
Наиболее известным делением сюжетов является классификация Жана
Польти, в которой предусмотрено тридцать шесть основных сюжетных ситуаций [2, 379.]. Однако в основе такого деления лежит семантический принцип,
что же касается разделения сюжетов по построению пространственновременного континуума внутри текста и его связи с действительностью, то для
эпических произведений в целом и жанра романа в частности характерна длительная протяжённость действия во времени, что составляет оппозицию драматическим жанрам, в основе архитектоники которых лежит правило трёх
единств (классический вариант). Новшеством Дж. Джойса стало то, что весь
текст в точности повествует об одном дне (16 июня 1904 года). Таким образом,
мы можем выделить отдельный тип сюжетного построения – роман-день, который объединил в себе два ключевых принципа сюжетостроения, связанных с
соотношением в художественном мире произведения случая (характерного для
кумулятивных сюжетов) и необходимости (организующей сюжеты циклические) [3, 224-242].
Ближайшим последователем Дж. Джойса в использовании подобного
«приёма» стал Г. Бёлль («Бильярд в половине десятого»), однако наиболее ярко названная выше сюжетная схема нашла своё выражение в литературе конца
двадцатого – начала двадцать первого века, причём как в зарубежной, так и в
русской. В данной работе в качестве примеров выбраны такие авторы, как Ф.
Бегбедер («Каникулы в коме») и Е. Гришковец («Рубашка»).
*
Коваленко Полина Юрьевна – студентка IV курса филологического факультета КубГУ
99
Но если у Дж. Джойса день начинается в 8 часов утра и заканчивается в 2 часа ночи, то для героя Ф. Бегбедера отсчёт времени идёт от 7
часов вечера до 6 часов утра, где каждому часу (как и в «Улиссе») соответствует новый эпизод (глава). Выбор такого временного промежутка объясняется особенностью распорядка дня современного «персонажа». Так же немаловажную роль играет личность главного героя
Марка Марронье (во многом автобиографичного для Ф. Бегбедера) –
известного в Париже журналиста, писателя, человека светского и состоятельного, завсегдатая ночных клубов, типичного представителя
культуры потребления, претендующего на звание «героя нашего времени» в лермонтовском смысле данного выражения.
«Светский предатель, кухонный бунтовщик, наймит глянцевых
журналов, застенчивый буржуа – полжизни он прослушивает свой автоответчик, другую половину – оставляет сообщения на чужих, одновременно безостановочно переключая тридцать каналов кабельного
телевидения. Иногда он по нескольку дней подряд забывает поесть».
Если пересказывать фабулу романа, то можно отметить, что день
Марка Марронье начинается (в 7 часов вечера) с того, что он получает
приглашение на открытие нового ультра-модного ночного клуба от
своего старинного приятеля: «А Марк-то считал, что он навсегда свалил в Японию. Или помер. Но мертвые не устраивают дискотек». Марк
покидает дом и в 8 часов вечера оказывается в кафе: «Пожилая официантка приносит чашку, и Марк впадает в жестокую тоску: это какао доставили прямо из Африки, его нужно было собрать, привезти в Европу,
переработать на заводах Ван Хутена, превратить в растворимый порошок, снова перевезти, вскипятить молоко, полученное от нормандской
коровы, содержавшейся на ферме при другом заводе (интересно, «Кандия» или «Лактель»?), следить за кастрюлей, чтобы не убежало… короче говоря, тысячи людей работали, чтобы теперь эта чашка шоколада
остывала перед его носом на столике». Как и у Дж. Джойса, в романе
Ф. Бегбедера мысли героя, его внутренний монолог, если угодно (а
точнее, если можно применить этот термин к тексту Ф. Бегбедера), его
поток сознания преобладает над действием. Герой комментирует всё,
что видит вокруг себя, в процессе комментария углубляясь в собственные мысли и дальше – в политические и социо-культурные параллели и
ассоциации. В произведении постоянно фигурируют названия кафе, ресторанов, магазинов, исторических и архитектурных памятников, их
описания, некие дополнительные сведения. Таким образом, если по
роману Дж. Джойса можно составить полную карту Дублина на 16
июня 1904 года, то в «Каникулах в коме» автор в красочных подробностях иллюстрирует современный ему Париж. В 21:00 главный герой
прибывает в клуб и затем, от часа к часу, прослеживается ход вечеринки, которая заканчивается тем что главный герой (изначально настроенный на поиск новых мимолётных отношений исключительно плотского характера) просыпается в объятиях собственной жены.
100
В финале книги Ф. Бегбедер пишет: «Марк и Анна – мораль этой
безнравственной истории. Все остальное – литература».
В рассуждениях С. Хоружего о глубинном смысле любовной интриги, положенной в основу сюжета романа Дж. Джойса, можно найти
следующее высказывание: «Это торжество тепла и связи двух людей в
печальном, хладном и смешном мире – истинный финал романа» [1,
781].
Что же касается романа Е. Гришковца «Рубашка», то здесь отследить хронотоп гораздо сложнее – текст разделён на три части скорей по
тематическим, чем по временным признакам и не содержит разбиения
на эпизоды. В начале романа не указывается, во сколько начался день
главного героя, но по содержанию мы понимаем, что ранним утром. С
первых слов автор погружает читателя в сознание главного героя (повествование от первого лица): «Я проснулся утром и сразу подумал,
что заболел. Не почувствовал, а именно подумал. Мысль была точно
такой же, как когда просыпаешься в первый день каникул, которых ты
так ждал...» По движению сюжета мы можем предположить, что «похождения» главного героя закончились ровно через сутки после их
начала – то есть ранним утром следующего дня.
Персонаж «Рубашки» - московский архитектор, представитель
среднего класса, так же (как и Блум, как и Марк Марронье) достаточно
типичный пример современного герою и автору общества.
Фабула романа такова: рано утром (как уже было сказано) герой
выходит из дома и едет в аэропорт встречать друга детства, какое-то
время из-за задержки рейса проводит в аэропорту, отвозит друга к родственникам и едет решать рабочие вопросы. В процессе всего повествования он думает о некой женщине, которая сквозным образом (воспоминания героя, телефонные звонки) проходит через текст романа, но
так и не появляется в нём как полноценное действующее лицо. В процессе переездов у героя ломается автомобиль, он спускается в метро,
затем ловит такси (в процессе его перемещений, как и в описанных
выше текстах, читателю даётся подробная карта города с улицами, парками и публичными заведениями – на этот раз – Москвы) и в конце
концов оказывается в баре возле офиса возлюбленной, надеясь на
встречу с ней, которая в итоге не происходит. В том же баре герой
вновь дожидается приехавшего к нему друга, и они вместе едут в ночной клуб на концерт. По пути из ночного клуба попадают в аварию и,
отделавшись лёгким испугом, принимают пищу в круглосуточной харчевне и расходятся по домам. Дома герой звонит любимой и договаривается о встрече, после чего отправляется спать. Повествование разбавляется лирическими отступлениями (видения героя – нечто среднее
между фантазиями и сном). Кроме того, сюжет осложняет то обстоятельство, что на протяжении всего действия за героем следит незнакомец, который впоследствии частично раскрывает себя и по предполо101
жению главного героя оказывается отвергнутым поклонником его возлюбленной.
Полагаю, нет необходимости напоминать сюжет «Улисса» - по
этому поводу было высказано достаточно мнений и написано немало
работ различной степени научности (наиболее подробно сюжет романа
представлен в комментариях С. Хоружего к русскому изданию «Улисса»), но на основе вышесказанного мы можем сделать вывод, что, несмотря на то, что ни у Е. Гришковца, ни у Ф. Бегбедера не затрагивается основная тема «Улисса» - странствие, конечная цель которого встреча отца и сына, общая сюжетная канва, финал произведения и построение пространственно-временного континуума, близки образцу, созданному Дж. Джойсом.
Но отсюда возникает два вопроса. Во-первых, почему, собственно,
в романах современной литературы нет мотива поиска сыном отца, который у Дж. Джойса лёг в основу ключевой коллизии сюжета? А вовторых, правильно ли вообще в отношении такой структурной единицы
как роман-день применять понятия «сюжет» и «сюжетика» или речь
идёт о «фабуле» и «фабульности»?
Ответ на первый вопрос, на мой взгляд, кроется в том, что в романе «Улисс» автор разбил себя между двумя героями, которые вместе
должны были бы составить одну гармоничную личность. Персонажи
же Е. Гришковца и Ф. Бегбедера (по возрасту более близкие к Блуму,
нежели к Стивену) уже представляют собой ту единую личность, которая получилась в результате «невстречи» [1, 732] Леопольда Блума и
Стивена Дедала. Личность, уже слишком взрослую, чтобы считаться
«сыном», но ещё недостаточно зрелую, чтобы быть «отцом» (заметим,
что по тексту у Марка нет детей, а герой Е. Гришковца после развода
оставил сына в родном городе).
Со вторым вопросом несколько сложнее, и ответ не может быть
однозначным. По Ю. Н. Тынянову, “фабула — это статическая цепь
отношений, связей, вещей, отвлеченная от словесной динамики произведения. Сюжет — это те же связи в словесной динамике” [4, 317]. Похожее понимание сюжета можно найти в трудах Б. В. Томашевского и
других русских формалистов. Согласно утверждению Б. В. Томашевского, «сюжет – это художественно построенное распределение событий в произведении» [6, 180-182].
Однако ранее А. Н. Веселовским сюжет был определен как комплекс (или цепь) мотивов. «Под мотивом я разумею формулу, отвечавшую на первых порах общественности на вопросы, которые природа всюду ставила человеку, либо закреплявшую особенно яркие, казавшиеся особенно важными или повторявшиеся впечатления действительности. Признак мотива — его образный одночленный схематизм».
«Простейший род мотива может быть выражен формулой a + b: злая
старуха не любит красавицу – и задает ей опасную для жизни задачу.
Каждая часть формулы способна видоизмениться, особенно подлежит
102
приращению b; задач может быть две, три и более; по пути богатыря
может быть встреча, но их может быть и несколько. Так мотив вырастал в сюжет <...> Сюжеты – это сложные схемы, в образности которых
обобщились известные акты человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой действительности» [5, 494-495]. Если понимать сюжет именно таким образом, то в случае с единицей формы «роман-день» речь идёт скорей о фабуле. Но в более широком понимании
понятия «сюжет» (Тынянов, Томашевский) её вполне можно отнести к
элементу сюжетостроения и объекту сюжетики.
Литература
1. С. Хоружий. Вместо послесловия // Джойс Дж. Улисс. М., 1993.
2. А. Луначарский. Театр и революция [Тридцать шесть сюжетов]// Госиздат. М., 1924.
3. Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении //
Ю. М. Лотман. Избранные статьи. В 3 т. Т. 1. Талинн, 1992.
4. Тынянов Ю.Н. Иллюстрации [1923] // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино.
5. Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов [1897-1903] // Веселовский А.Н.
Историческая поэтика. М., 2004.
6. Б.В.Томашевский. Теория литературы. Поэтика. М., 1996.
7. Джойс Дж. Улисс (пер. с англ. В.Хинкиса и С.Хоружего). // Иностранная литература. 1989. № 2-12.
8. http://lib.ru/INPROZ/BEGBEDER/kanikuly.txt.
9. http://lib.ru/PXESY/GRISHKOWEC/rubashka.txt.
10.Джеймс Джойс Улисс. СПб: Симпозиум, 2004.
11.Элиот Т.С. «Улисс», порядок и миф // Иностранная литература. 1988.
№12.
103
Я.С. Жарский*
Лейтмотивы как средство сохранения
распадающегося мира в произведениях
Джеймса Джойса и Генриха Бёлля
В одном из своих писем Джеймс Джойс написал: «То, что я должен
выразить, может быть выражено лишь многократным повторением» [2, 774].
Когда автор использует лейтмотивы, он тем самым полнее высказывает
свою мысль. Оказываясь в другом стилистическом окружении, эти одинаковые
слова приобретают дополнительное звучание, что способствует максимально
полному раскрытию темы. Например, тема измены в «Улиссе», выраженная
лейтмотивом «voglio et non vorrei» (хочу и не хотела бы – ит.; употребление
героем изъявительного наклонения вместо сослагательного, сознание измены
как неизбежности), или тема сострадания в «Бильярде…»: «И, сострадая,
сердце всевышнего твердым останется», которая затем, раскрывая нам
авторский замысел, звучит так: «Сострадая, сердце матери твердым не
оставалось». Далее об этом подробнее.
Лейтмотивы у Джойса выполняют несколько функций. В сюжетном
плане они служат выражением повторяющихся, навязчивых мыслей героя.
Один из самых ярких примеров – фраза из письма Марты Клиффорд Блуму:
«P.S. Напиши мне, какими духами душится твоя жена. Я хочу знать». Эту фразу
Блум будет прокручивать в голове в течение всего дня, а читатель вслед за ним
– в течение всего романа. Она будет возникать в самых различных местах
текста. Когда Блум на работе, он думает: «Какими духами душится твоя жена?
Еще можно сейчас поехать домой – трамваем – мол, забыл что-то». Когда он
слушает, как поет Саймон Дедал, он думает: «Пение. В тот раз пела
«Ожидание». Я переворачивал ноты. Голос полный аромата какими духами
твоя сирени». Поздним вечером мысли мистера Леопольда Блума становятся
более сумбурными по ряду причин (измена жены, усталость, невыполненные
обещания etc.), и когда он уходит с пляжа, в его сознании пробегают
практически все навязчивые фразы, преследовавшие его в течение дня: «Ах
милая все твои беленькие девичьи до самого верха я видел шлюха брейсгердл
меня заставила люби липнет мы вдвоем противный Грейс Дарлинг она с ним в
пол в постели метим псу хвост безделушки для Рауля какими духами твоя жена
черные волосы вздымались…» и так далее.
Очень важную роль играют мысли Блума о его умершем сыне. Это один
из самых частых лейтмотивов в произведении (поскольку герой очень
переживает и мучается): «Если бы Руди, малютка, остался жить. Видеть, как он
растет. Слышать голосок в доме <…> Мой сын». Очень многие вещи и явления
вызывают в герое ассоциации с сыном. Например: «Личико карлика, лиловое,
сморщенное, как было у малютки Руди» или совсем незаметная в потоке фраза
*
Жарский Яков Сергеевич – студент IV курса филологического факультета КубГУ
104
«Говорят, у него был туберкулез». Эта фраза возникает среди мыслей героя о
трудных родах миссис Пьюрфой, о материнстве, о детях. Всего несколько
неожиданно всплывших в сознании слов рассказывают нам о судьбе сына
Леопольда Блума.
Все лейтмотивы сходятся воедино в пятнадцатом эпизоде («Цирцея»),
появляясь в самых необычных и неожиданных местах, только теперь мысли
героев получают вещественное воплощение. Например, в одной из ремарок
сказано: «Жирный лис, поднятый с лежки, хвост палкой, схоронив свою
бабушку, мчится из кустов по полю». Это не что иное, как материализация
ответа на загадку, которую Стивен загадывал детям, которая, в свою очередь,
ассоциативно связана у него со смертью матери.
Утром Блум рассказывал Молли о переселении душ, объясняя слово
«метемпсихоз», которое она в силу узкого кругозора осмыслила в духе
народной этимологии – «метим псу хвост». И естественная на это реакция
мужа: «Ну и дичь!». Затем метемпсихоз крутится у Блума в голове весь день. В
«Цирцее» же это выглядит так: появляется покойный Падди Дигнам, извещая
об этом Блума, попутно отвечая на вопрос, как это вообще возможно: «Это
метемпсихоз. Привидения», что сопровождается неким Голосом: «Ну и дичь!».
Еще один пример материального воплощения.
Апофеозом же становится появление в конце эпизода умершего сына
Блума Руди. Автор не наделяет его репликой. Ремарка к реплике Блума:
«Пораженный, зовет беззвучно».
В структуре произведения лейтмотивы играют важнейшую роль.
Специфика данного текста такова, что он разрастается не в длину, а в ширину.
Иначе говоря, время растягивается за счет техники потока сознания,
регистрирующей калейдоскоп впечатлений героев. Чтобы оно (произведение)
не развалилось, не растворилось в безбрежном мире, Джойс выстраивает
своеобразный каркас, сеть.
Каркас образуют, в первую очередь, 3 части произведения, 18 глав,
различные мифологические соответствия. Не последнюю роль в этой
конструкции играют лейтмотивы. Рассыпанные по тексту, они являются
своеобразными маяками, ориентирами, не позволяющими читателю потеряться
океане слов. Их можно назвать своего рода метатекстовыми операторами,
организующими произведение.
Мир данного произведения – мир распадающийся, в котором герой –
чужак. По замыслу Джойса Блум – Одиссей нового времени, странник,
«одинокий облумок», «заблумшая душа». «В то время евреи в Дублине были
иностранцами. К ним не было вражды, а только презрение, которое люди
всегда проявляют к незнакомым» – так отвечал Джойс на вопрос о выборе
национальности главного героя. Перед нами одиссея обычного человека,
находящегося в положении изгнанника в обыденном и неизвестном мире; перед
нами также аллегория современного общества и мира, данная через историю
одного города [4, 253]. Блум лишен связи с городом, поскольку он еврей, с
женой – поскольку она ему изменяет, с сыном – поскольку Руди мертв. Это
Улисс без родины. Такая ситуация выражает состояние полного распада. Этот
105
распавшийся мир признает себя таковым, но не может найти внутренние
модусы своей организации [там же, 259]. И чтобы герой не потерялся в этом
мире, чтобы мир не превратился в хаос, автор расставляет ориентиры,
конструирует каркас.
При всей кажущейся разобщенности и размытости, текст Джойса на
самом деле строго упорядочен, являясь репродукцией «Одиссеи» и воплощая
идею о триединстве; он держится на лейтмотивной решетке и мифологических
соответствиях. Автор сохраняет свой мир.
В произведении Генриха Бёлля «Бильярд в половине десятого»
лейтмотивы так же, как и в «Улиссе», важны в сюжетном и структурном
планах. В структуре произведения они также выступают в качестве
сдерживающей конструкции, поскольку произведение, действие которого
происходит также в течение одного дня, за счет ретроспекций разрастается до
размеров столетия. В своем путешествии сквозь время читатель ориентируется
именно благодаря умело расставленным маякам.
Благодаря появлению в одной из ретроспекций таблички с надписью «И
правая рука их полна подношений» мы узнаем кабинет Роберта Фемеля,
узнаем, что было вместо него полвека назад, кому он принадлежал. Благодаря
фразе «Сектор обстрела» мы узнаем среди обитателей лечебницы для
сумасшедших, в числе которых и Иоганна, старого генерала, который во время
войны отдавал приказы Роберту о расчищении того самого «сектора обстрела»,
в который попало (правда, по желанию самого Роберта) и аббатство Святого
Антония, выстроенное по проекту Генриха Фемеля.
Произведение Бёлля – это книга о людях, так или иначе прошедших
войну, о людях, которые никогда не будут прежними. Также это книга о мире,
превращенном в развалины, о мире, попавшем в «сектор обстрела».
Единственное, что остается – это память и боль. Среди руин только
память и боль постоянны. И то, что войне было не отобрать – любовь. Любовь
матери, любовь супругов, любовь молодых людей. Большого мира больше нет,
остаются лишь какие-то мелочи, которые могут дать покой и постоянство:
книга «Коварство и любовь», которую читала Иоганна, а через полвека ее
внучка Рут; табличка в кабинете Роберта; сыр с перцем на завтрак у Генриха;
игра на бильярде, «красные шары по зеленому полю, белые по зеленому». Все
эти мелочи пронизывают произведение, они находятся вне времени, являясь
неоспоримыми ценностями, являясь ориентирами для героев и для читателя, и
выражаются соответствующими лейтмотивами.
Отражением душевной боли героев также являются повторы фраз. Они
свидетельствуют о том, что боль не проходит. Марианна повторяет: «и мне
хотелось сыграть <…> в игру под названием он так велел», говоря о том, как
мать повесила ее брата и хотела сделать то же самое с ней (высшие чины
фашистов кончали жизнь самоубийством, узнав о поражении в войне). Старая
Иоганна пережила предательство сына Отто, пережила то, как маленький
Генрих, не понимая, что он делает, декламировал: «С Гинденбургом вперед!
Ура!». Она говорит мужу: «Но теперь они пели песню, которую, я надеюсь,
никогда не запоет мой внук: «Дрожат дряхлые кости»; ну как, твои кости еще
106
не дрожат, старик?». Эту же фашистскую песню пели и в аббатстве Святого
Антония, поэтому Роберт и не пожалел творения отца. Иоганна страдает из-за
Отто: «В один прекрасный день от нашего сына Отто не осталось ничего, кроме
оболочки». Ее сын принял «причастие буйвола».
Лейтмотивы «причастия агнца» и «причастия буйвола» – ключевые,
поскольку выбор героя определял весь его дальнейший путь. О меньшинстве
принявших «причастие агнца» как раз и повествует роман Бёлля. Он повествует
о тех, чье сердце «твердым не оставалось».
У Бёлля повторы несут очень сильную эмоциональную нагрузку. Простое
словечко «sorry» – выражение отчаяния, скорби и негодования. Отец говорит
Роберту: «Комендант извинялся не за Эдит, а за скульптурную группу
двенадцатого века. «Sorry» – говорил он; впервые за десять лет я снова
рассмеялся, но это был недобрый смех». Это слово становится своеобразным
маркером тех, кто принял «причастие буйвола»: «Если в доме Греца комунибудь наступают на ногу или опрокидывают бокал с вином, там не говорят:
«Извините, пожалуйста» или «Пардон», там говорят: «Sorry». Напомним, Грец
предал свою мать.
Роман наполнен скорбью героев, наполнен болью от пережитого.
Повторы фраз, мотивов призваны показать, о чем думают герои, чего они не
могут забыть, что им больно вспоминать. Также лейтмотивы иллюстрируют,
что эти эмоции, чувства – не проходящие. Герои уже никогда не будут
прежними. Произведение Бёлля – это памятник овцам, которых никто не пас.
Подводя итоги, скажем, что помимо полного раскрытия авторского
замысла, лейтмотивы выполняют ряд сюжетных и композиционных задач, как
то: отражение хода мыслей героев, очерчивание круга затрагиваемых проблем,
эмоциональное воздействие на читателя, создание оболочки (решетки, каркаса),
удерживающей текст и мир внутри текста.
Литература
1. Джойс Д. Улисс. М, 2008.
2. Джойс Д. Статьи и письма // Портрет художника в юности. М, 2004.
3. Бёлль Г. Бильярд в половине десятого. М, 2004.
4. Эко У. Поэтики Джойса. СПб, 2006.
107
Э.Л. Балабина*
Рассказы Г. Маркеса («Ева внутри своей кошки»)
и Х. Кортасара («Лента Мебиуса») в контексте
магического реализма
В XX веке активно начали развиваться различные литературные направления, такие как модернизм, сюрреализм, постмодернизм и т.д. Обилие их позволяло авторам максимально полно выразить свою индивидуальность и заставляло искать новые формы изображения собственной картины мира. Одно из
наиболее интересных и наименее изученных направлений – магический реализм. Суть его заключается в том, что писатели ищут в реальности элементы
ирреального.
Попытка систематизировать особенности данного направления позволила
выявить некоторые принципы магического реализма. В первую очередь отмечается наличие фантастических элементов, которые могут быть внутренне непротиворечивыми, но никогда не объясняются. Важно и то, что действующие
лица принимают и не оспаривают их логику. Второй особенностью можно
назвать сознательное искажение течения времени, так что оно циклично или
кажется отсутствующим. Допускается коллапс времени, когда настоящее повторяет или напоминает прошлое, принцип déjà vu. Далее, эмоции человека, как
социального существа, описаны очень подробно. Многочисленны детали сенсорного восприятия. Допускается скрытая символика. Еще одна особенность –
наличие многочисленных противопоставлений. Прошлое контрастирует с
настоящим, астральное с физическим, персонажи - друг с другом. Часто встречается открытый финал.
Рассмотрим произведения Хулио Кортасара «Лента Мебиуса» и Габриеля
Гарсиа Маркеса «Ева внутри своей кошки» в контексте магического реализма.
Внимание сразу же привлекают реалистические образы людей, которые попадают в иное пространство, при этом до конца не объясняется: перешли ли они
на другой план бытия, или остались в этом, но изменилось их сознание. В любом случае подобные элементы фантастического выглядят абсолютно естественно, соответствуя особенностям внутреннего мира персонажей.
Образ Евы в романе Маркеса сближается с библейским, не только из-за
сходства имени. Во-первых, ее жизнь в реальности похожа на ад. Даже попав в
виртуальный мир, она все равно остается в аду. Меняются условия, но не суть.
Во-вторых, присутствует мотив искушения. Но если в Библии запретный плод –
это яблоко, то у Маркеса – апельсин. Безумное желание съесть его превращается в манию. Символично то, что в реальности Ева сама себе запрещает есть эти
фрукты, точно давая обет. Но в потустороннем мире желание побеждает. Ради
удовлетворения собственной прихоти Ева собирается вселиться в другое существо, благо невинные души на это способны. Сама девушка ни на минуту не
сомневается в своей невинности. К тому же она не воспринимает себя как
*
Балабина Эльвира Леонидовна – студентка III курса филологического факультета КубГУ
108
обычного человека. Возможность перехода в иное пространство сделала ее
сверхличностью.
Как она сюда попала? Умерла? Но ее смерть не показана. Только что она
была внутри дома, в привычной реальности, как вдруг девушку приветствует
мир «вне». Странное состояние. Скользящее и неровное… Ева теряется в многообразии своих собственных чувств, и, кажется, именно сейчас она должна
ощутить себя (как и Жанет) «ветром ветра» или «водой воды», возможно, замкнуться в состоянии «куб куба» но ее ограниченность будет другого рода. Еву
должна замкнуть кошка.
В отличие от Жанет, которая осознает себя только в момент перехода из
одного состояния в другое, Ева четко понимает, что ей нужно и как этого достичь. Сознательное доминирует в ней. Когда становится очевидно то, что она
не может исполнить свое желание – срабатывает защитный механизм, ей кажется, что это сон. Потусторонний мир точно утрачивает собственную индивидуальность и перестает восприниматься, как нечто само собой разумеющееся.
Появляется пограничное состояние. В рассказе Маркеса оно формируется фразой: «тяжело было смириться с тем, что она навсегда покинула жизнь». В этот
момент Ева максимально приближена к обычным людям, а, следовательно, и к
их миру.
Нечто похожее есть и в «Ленте». Особенно ярко это видно, когда Жанет
рвется в камеру к Роберу «по частям составляя нечто, что снова было Жанет,
- желание прокладывало себе путь, не похожий на прочие. К Жанет возвращалась воля». «Жанет-желание вложила последние силы в свой зов, она призывала Робера, старалась, дотянувшись, коснуться его щеки, волос, звала его к
себе». В этот момент Жанет практически осязаема. Она настолько сильна в своем желании добраться до человека, что прорывает завесу, отделяющую один
мир от другого. Робер, уже, в какой-то мере, находящийся на грани смерти и
жизни, становится более восприимчив к подобным явлениям. Создается иллюзия того, что он слышит зов Жанет и пытается прийти к ней. Возникает вопрос
– как пересечь границу? Его ответ – самоубийство.
Однако проблема перехода до конца не раскрывается. Никто не знает,
смогут ли Робер и Жанет соединиться в запредельном. Вероятность этого высока, поскольку текст завершается крайне обнадеживающей фразой: «…и если
где-нибудь однажды наверняка в нежной зыби стеклянных волн чья-то рука
коснется руки Жанет, то это будет рука Робера». Но все-таки финал открыт,
ибо, даже находясь в одной реальности, и Жанет, и Робер столкнутся с проблемой одиночества. Возможно, мир «вне» ограничен сознанием только одного
человека и они никак не пересекаются. Отсюда могут вытекать несколько путей
развития дальнейшего сюжета, один из которых может быть приближен к произведению Маркеса, поскольку писатели создают две модели одного виртуального пространства.
Обе девушки выходят за рамки привычного и попадают в потусторонние
сферы. Ева сразу же ощущает себя стабильной и призрачной. Ее сущность не
подвержена метаморфозам. Она хочет вызвать их сознательно, поскольку у нее
есть конкретная цель, уже оформленная, которую необходимо реализовать. В
109
какой-то момент возникает мысль, что «Ева» - конечный результат, которого
может достичь Жанет. После трансформаций Жанет перейдет к более глубокому состоянию осознания себя, и возможно, забудет сам процесс становления.
Тогда возникнет Жанет-Ева.
Однако Ева несовершенна. Формально она проходит путь метаморфоз,
осознает себя, но на практике свое желание не исполняет, в отличие от Жаннет.
Отсюда вывод – состояние Евы менее закончено, и сама она как «личностьдух» слабее Жанет. Эта же слабость подтверждается ее желанием смерти: «Почему никак не рассветет, почему ей сейчас не умереть?»
Девушки похожи своими переживаниями, но, если Жанет может наслаждаться своей жизнью и даже тем, что случилось после смерти (при условии,
что ей всего девятнадцать, а Ева воспринимается как более взрослый человек),
то Ева уже нет. Возможно поэтому, ад у Гарсиа Маркеса абсолютно лишен людей. Ева не может «очиститься» полностью и не может достичь гармонии с собой.
Обе героини эгоистки по своей сути. Но одна – пассивно страдающая (и
получающая удовольствие от этого), а другая – активно борющаяся (и тоже получающая удовольствие от самого процесса).
Пожалуй, для магического реализма эгоизм – явление естественное, поскольку эта черта характера максимально субъективизирует восприятие окружающего мира. Особенности пространственных отношений формируются
непосредственно через сознание героев. Далее появляется автор, который буквально «настраивает» реальность, акцентируя внимание собственного персонажа (а с ним и читателя) на тех или иных моментах, отличающих его индивидуальную картину мира. Эгоизм, или даже нарциссизм, позволяет сконцентрироваться на внутренних проблемах героев (особенно ярко это видно в Еве) и через
них уже дать какую-либо интерпретацию происходящего. Элитарность их «Я»
и безразличие к проблемам других людей четко разграничивают уровни бытия.
Реальность «вне» становится привилегией «избранных», причем осознающих
свою исключительность довольно скоро.
Пожалуй, самые сложные отношения в рассказах – пространственновременные. Время сжимается, уплотняется, становится художественно-зримым;
пространство же подстраивается под движение времени, измеряется им. В какой-то момент и Ева, и Жанет оказываются в условиях невероятно расширенных, (практически до вечности) и в тоже время предельно концентрированных.
Где нет прошлого, будущего – есть они сами, и они же воплощают в себе окружающее их бытие. Здесь можно говорить о слиянии пространственных и временных элементов в осмысленном и конкретном целом, где персонаж сублимирует эти понятия, разъединяет, трансформирует и превращает одно в другое.
Разумеется, в виртуальном мире это гораздо заметнее.
Особенностью текстов можно назвать их гармоничность. Несмотря на
множество разрозненных элементов, смешение состояний, проблематичность
правильного выявления причинно-следственной связи (например, в Еве) оба
произведения непротиворечивы по своей сути и логичны. Любое отклонение от
привычного не кажется чем-то неестественным, наоборот, это необходимо для
110
данной модели мира. Чем больше ирреального проникает в реальность, тем целостнее выглядит текст. Например, детали (то же описание комнаты в «Еве»,
пейзаж в «Ленте») позволяют сконцентрироваться на восприятии визуального
ряда предметов, и через них осознать линию происходящих событий. Все это
говорит о возможности многоступенчатой интерпретации текстов, где цепь
ключевых событий (в данном случае состояний) можно рассматривать с разных
сторон и на нескольких уровнях (материальном/ нематериальном) одновременно.
В магическом реализме много материальных проявлений, поскольку это
своеобразный сюрреалистический метод изображения реальности, синтез
внешнего и внутреннего, где внешнее можно увидеть и осознать через описание своего рода обостренной действительности, в которой могут появляться
выглядящие странно элементы чудесного. Однако эти элементы чудесного могут быть слишком специфическими, в какой-то мере даже мистическими. Отсюда возможно появление следующего направления – мистический реализм…
111
К.В. Штейнбах*
Экстремизм героев Юкио Мисимы и Захара Прилепина
В нашей работе мы попытались сопоставить два романа – «Золотой Храм»
японского писателя Юкио Мисимы и «Саньку» русского публициста и писателя
Захара Прилепина. Этот выбор был сделан неслучайно; оба автора выводят в
своих романах героев, в той или иной мере бунтующих против окружающего
мира и подчас раздираемыми внутренними противоречиями. Они находятся в
такой ситуации, когда мир давит на них, мешает им нормально жить,
провоцирует их на борьбу во всех смыслах этого слова.
Также нужно отметить, что авторы имеют много общего со своими
героями. Мисима был хилым и болезненным человеком до определенного
времени, и был так же одержим Красотой, как и его герой. Главный же
персонаж романа «Санькя» - политический экстремист, состоящий в «Союзе
спасения», в котором легко угадать национал-большевиков – партию, в которой
состоит сам Прилепин; помимо этого, у автора, как и у его героя, деревенские,
народные корни.
Знаковым является и то, что произведения фактически названы по именам
своих главных героев: политического экстремиста Саши Тишина и Золотого
Храма – Кинкакудзи – носителя Красоты, совершенства, который является
событийным центром романа.
Мы считаем нужным вкратце рассказать о сюжете произведений. «Золотой
Храм» описывает жизнь Мидзогути - молодого монаха, живущего в обители
Золотого Храма – одной из самых почитаемых святынь дзэн-буддизма; в
основном это даже не столько его жизнь, сколько диалоги с окружающими его
и монологи с самим собой. Мидзогути с детства жаждал приблизиться к Храму
как к абсолюту красоты, но когда его мечта осуществилась, изменилось его
отношение к нему; чем больше проходило времени в стенах обители, тем
больше он путался в своих чувствах к нему. Все это закончилось достаточно
печально: Мидзогути разрешил свой конфликт с Храмом, попросту уничтожив
его.
В романе же «Санькя» сюжет не имеет четкого начала: первая глава сразу
же вбрасывает нас в политический митинг, который перерастает в погром.
Следующие десять глав посвящены в основном описанию того, как лишенные
своего лидера «союзники» пытаются противостоять системе, причем их акции,
как правило, носят не слишком серьезный характер; это забрасывание
майонезом, томатами, вандализм (они разносят «Макдоналдс); исключением,
пожалуй, является поездка Саши в Латвию, чтобы убить судью дававшего
огромные сроки ветеранам Великой Отечественной. Впрочем, у него ничего не
вышло – его опередили. Из этого ряда политических провокаций выделяются
лишь воспоминания Саши о своей семье. Но одна роковая ошибка одной из
*
Штейнбах Кирилл Викторович – студент III курса филологического факультета КубГУ
112
«союзников», Яны – швыряние майонезом в президента – приводит к
планомерному уничтожению «Союза созидающих» властями. И «союзникам»
остается лишь предпринять крайние меры – пойти на заранее
самоубийственный борьбу с правительством, финал которой, впрочем, так и не
был показан Прилепиным.
Художественные миры романов
В романе «Золотой Храм» повествование ведется от первого лица. Этим,
на наш взгляд, Мисима хотел показать, что его произведение в некоторой
степени автобиографично. Всю необычность главного героя, Мидзогути, можно
увидеть лишь в неестественной хилости и исступленном преклонении перед
красотой. Но именно последнюю его черту Мисима развивает до огромных,
сверхъестественных размеров. Можно сказать, что на этой-то господствующей
страсти и держится весь характер Мидзогути; она вызревает в его душе, как
дитя в утробе матери. Мисима, по всей видимости, специально отрезает почти
все каналы, по которым его герой может «сбросить пар»: он заика, и поэтому
ему нелегко общаться с другими; в сочетании с его замкнутостью этот
«дефект», как он сам выражается, приобретает решающую роль в обособлении
героя от внешнего мира. Герой романа к тому же уродлив, что создает еще
большее отчуждение между ним и его главной страстью - красотой.
Очень большую роль в романе играют зрительные образы, в первую
очередь Золотого Храма. Даже Мидзогути, далеко ушедший от тех или иных
воплощений красоты в реальном мире и увлеченный образами в своей голове,
представляет Золотой Храм как эталон красоты, а Уико видится в симпатичных
ему женщинах. Поэтому в романе множество описаний, и большая их доля
посвящена Кинкакудзи. Сначала это описание в учебнике, которое Мидзогути
успел к моменту «знакомства» выучить наизусть, затем реальный Храм, Храм,
отражающийся в пруду, Храм летним днем, Храм морозным утром. По этой
причине его можно назвать одним из главных героев романа. Но это не
реальный Кинкакудзи, стоящий на земле, а тот, что создал себе в голове сам
Мидзогути, тот, что не дает ему покоя днем и ночью. Этот образ является для
Мидзогути совершенным, ведь он одновременно похож на тот Золотой Храм,
который у него в голове – так же легок и невесом, и в то же время теряет при
этом свою непоколебимость, ведь достаточно одного дуновения ветерка, чтобы
его разрушить. Вообще в романе благодаря этому возникает как бы два
духовных мира – мир, окружающий героя и мир, возникающий в его
воображении, причем второй кажется намного прекраснее.
Внутри этого образа можно увидеть еще один; это позолоченный феникс,
«парящий» над Храмом. Он является еще одним воплощением прекрасного, но
на этот раз это настоящая Красота, концентрат Кинкакудзи, которую никогда
не достигнуть. Этот феникс в то же время является и символом вечного,
которое никогда нельзя уничтожить полностью.
У Красоты в романе два лица – Кинкакудзи и Уико. Но если первый образ
статичен и остается практически до конца романа тем же, каким мы его
113
увидели в первый раз, то второй, помимо того, что он погибает в самом начале
романа и с этого момента существует лишь в сознании главного героя,
воплощается в других персонажах романа – учительнице икебаны и
проститутке Марико. Это и есть Красота мимолетная, которая не может
захватить и поработить.
Своеобразной иронией Мисимы является то, что камнем преткновения для
главного героя романа становится одна из святынь дзэн-буддизма – религии,
которая учит безразличию к земному, материальному. В этом аспекте слова
«Увидишь Будду – убей Будду» приобретают почти что буквальный смысл.
Что касается романа «Санькя», во-первых, стоит сказать, что его
художественный мир предельно "облегчен" Прилепиным от каких-либо
конкретных имен; автор замалчивает все широко известные имена и явления.
Особенно это относится к событиям и явлениям наиболее крупного масштаба.
Прилепин словно ежеминутно проверяет своего читателя на знание
общественных явлений в России и в то же время показывает узкий вектор, в
котором должна развиваться его мысль, находящаяся лишь в непосредственной
близости от главного героя и его окружения.
Видение мира предельно упрощено; в лучшем случае выступает какая-то
одна черта, какой-либо особый мазок, по той или иной причине показывающий
нам героя или предмет с особой стороны. Как правило, он имеет скорее
внутренний характер, например, веселая злоба Вени или тяжелая, суровая
сосредоточенность Негатива. Применительно к окружению главного героя
можно сказать, что оно не отвергается им полностью; напротив, очень часто в
романе звучит мотив единства, общности, но никак не стадности. Особенно
ярко это проявляется в прозвище, закрепившемся за членами «Союза
созидающих» - «союзники». Более того, Прилепиным специально
подчеркивается «пестрота», непохожесть «союзников» друг на друга в
описании «бункера»: «В бункере всегда было шумно и весело. Он был схож с
интернатом для общественно-опасных детей, мастерской безумного художника
и военным штабом варваров...». Вообще роман интересно читать из-за мелких
деталей, будь то Венино «позабавься» или дурацкий помпон на шапке Олега,
из-за которого он выглядит как «мутант-переросток». Они придают
повествованию жизненность, в то же время не выходя за границы определенной
лаконичности и не уводя в сторону от основного повествования.
Но это единство далеко не со всеми, существуют и враждебные силы;
чаще всего, правда, они либо воплощаются в единичных людях, либо, как в
случае с Сашиной «командировкой» в Латвию, носят характер общей
атмосферы враждебности.
Что касается образов, связанных с детством, то их необычайно много для
романа о политических экстремистах. Во-первых, это то, как действуют
«союзники»; в их штабе всегда «шумно и весело», а погромы носят некий
оттенок озорства. Саша, когда идет с Яной по Москве, «говорит какую-то ересь
про прохожих, про проезжавшие мимо машины», что очень напоминает
поведение ребенка; Веня улыбается так, «как будто из машины в нужный
момент должны были вылететь не камуфляжные бесы в тяжелых шлемах, а
114
клоуны с воздушными шарами».
На наш взгляд, если большинство писателей, как правило, изображали
образы зрительные, музыкальные или, в самом крайнем случае, совершенно
абстрактные, Прилепин идет по другому пути. У него главным является
прикосновение, ощущение тугой, упругой человеческой плоти. И поэтому они
намного выразительней и, можно сказать, что они куда более «выпуклы»,
осязаемы по сравнению с другими. На то, что можно увидеть, мы обычно
смотрим со стороны; а такие ощущения, как боль или наслаждение, можно
почувствовать лишь при непосредственном контакте; вот почему
художественные образы Прилепина не просто приближают нас к действию, а
погружают в него. Внутренние ощущения героя – один из самых важных
аспектов в романе.
Для Прилепина характерно очень положительное отношение к
естественному, к простому и понятному. В связи с этим в романе можно
противопоставить две среды – город и деревню как искусственное и
естественное. Город выступает как место, уже по самой своей сути
искусственное, искажающее все, до чего сможет дотянуться. Особенно ярко это
проявилось в девятой главе, в том моменте, когда Саша с Олегом наткнулись на
«крысиного короля», который в некотором роде является образом города:
«...искомое, омерзительное, шумное… Злые маленькие глазки смотрели, как
казалось, совершенно безумно. И писк раздавался неумолчный». Деталей,
подчеркивающих неестественность жизни в городе, множество; это и жизнь,
которая начинается по-настоящему лишь с наступлением ночи, и ломящиеся от
еды полки супермаркетов, и многое другое.
Но деревня выглядит еще хуже: «Деревня была темна, во многих домах не
горели огни. ... Ему (Саше) давно уже казалось, что, возвращаясь в деревню,
сложно проникнуться какой-либо радостью, - настолько уныло и тошно было
представавшее взгляду». По-видимому, нездоровая атмосфера города уже
оставила свой отпечаток и здесь. Деревня выглядит как некое животное,
которое тихо и незаметно умирает. Очень наглядной, на наш взгляд, являются
четвертая глава, целиком посвященная тому, как Саша с матерью и Безлетовым
практически тащили на себе гроб Сашиного отца в деревню зимой, и вторая
глава, описывающая историю Сашиной же семьи. Эта глава в некотором роде
является образом гибели деревни и всего старого, здорового жизненного
уклада.
В романе два событийных центра; это любовь (в том числе физическая) и
смерть. Почему это так, можно объяснить словами героя, а точнее, героини
первого романа Прилепина – Даши; это – две «патологии», два ненормальных
состояния для человека, которые немыслимы как постоянные состояния, но
имеют для него огромное значение, вокруг них и вращается его жизнь. Ведь
одно дает ему жизнь, а другое уничтожает, «убирает» его из этого мира. С
другой стороны, можно представить это и как противопоставление любви и
ненависти – чувств, которые очень сильны в романе. Некоторые евангельские
параллели, например, непроизвольно вырвавшееся у Саши «Даже Христа не
раздевали!», или число людей, захвативших администрацию (их двенадцать,
115
как и апостолов), дают возможность сопоставить ранних христиан и
«союзников», хотя сравнение это далеко не однозначно. Если христианством
движет любовь, то одной из основных ведущих сил «Союза созидающих»
можно назвать ненависть.
По причине внешней простоты языка романа все наше внимания
концентрируется на поступках тех или иных героев. У романа два пика: один в
начале и один - в конце. Именно на краях «Саньки» развивается основное и
динамичное действие, и не случайно в конце романа в Сашином мозгу
всплывает та же фраза, что и в первой главе: «Все скоро, вот-вот прекратится, и
– ничего не кончится, так и будет дальше, только так». Эти слова проводят
параллель между началом и концом; но если в начале дело ограничилось
погромом, то теперь все намного серьезней. Они же и заставляют читателя
задать себе и автору вопрос: «А был ли смысл это делать, раз пришли, по
большому счету, к тому же, что было?»
Внешние и внутренние портреты главных героев
Герой «Золотого Храма» в некоторой степени был написан автором с
самого себя. Известно, что Мисима также в детстве был хилым и слабым
ребенком. Мидзогути присуща невероятная тяга к красоте, что тоже сближает
его с автором. И как бы желая опередить вопрос читателя, Мисима его же
устами говорит, что он не обладал поэтической душой. Можно сказать, что
Мисима загнал своего героя в угол, оставив тому единственную отдушину в
жизни – любовь к Красоте, и, как к самому ее яркому проявлению, Золотому
Храму.
Мидзогути далеко не красавец. Этим автор сближает его с другим героем Касиваги, которого можно назвать "духовным наставником" главного героя.
Помимо этого, Мисима специально отделяет его от окружающих заиканием,
чтобы все те чувства, мысли и эмоции, которые тот испытывает и переживает,
оставались в нем, варились в нем, как в живом котле, и отравляли его
существование. Мидзогути робок и стеснителен; у него не получается, как у
Касиваги, смириться со своим физическим недостатком, жить с ним и
пользоваться им в собственных целях, ведь его недостаток непосредственно
влияет на связь с окружающим миром. Так что если Касиваги урод физический
и моральный, активно разрушающий этот мир, то Мидзогути - только
физический, но замкнутый на себя и потому постепенно также скатывающийся
ко "дну". Надо выделить и его отношение к самому себе; в романе трижды
повторяется фраза о том, что герой и не хочет быть понятым другими людьми;
его это попросту не заботит. В какой-то мере он обманывает себя и
окружающих; он не хочет быть понятым, но хочет быть принятым, ему
непременно нужно их признание, знать то, что они скажут и подумают о нем.
Так что можно сказать, что он попросту становится в позу, наслаждаясь при
этом видом своей отстраненности от этих «жалких людишек», что является еще
одной характерной чертой героев Мисимы.
Когда он совершает что-либо аморальное, наслаждение он получает вовсе
116
не от самой отрицательности поступка, а оттого, что им он бросает обществу
вызов, нарушает его якобы раз и навсегда установленный порядок. Наверняка в
этом есть и доля мстительности больного человека здоровому. Но в своем
бунте он никогда окончательно не отрекается от общественной морали;
поэтому-то он и боится, что в решающий момент у него не хватит духу
поджечь Храм. Временами он даже не может жить без признания других
людей; яркий пример - его второй визит к проститутке, Марико, когда он
вначале дал ей книгу под многозначительным названием "Преступление и
наказание", то есть в очередной раз попытался встать в позу, показаться умнее,
чем он есть на самом деле. Вообще роман временами напоминает роман
«Преступление и наказание» Достоевского, но только «вывернутый
наизнанку»: если у Достоевского основная часть романа посвящена
самонаказанию героя по поводу совершенного преступления, то герой Мисимы
как минимум половину романа готовится к предстоящему Деянию. На этом
параллели не заканчиваются; проститутка Марико в «Золотом Храме» даже не
догадывается о предстоящем, хотя Мидзогути чуть ли не прямо говорит ей об
этом, в то время как Сонечка в «Преступлении и наказании» внутренним
чутьем угадывает состояние преступника, который всячески старается его
скрыть, и в этом можно разглядеть даже некоторую насмешку. Помимо этого,
есть параллели и с другими романами Достоевского, в частности, с «Идиотом»
и «Братьями Карамазовыми».
На наш взгляд, роман «Золотой Храм» отчасти можно назвать
завуалированной автобиографией самого Мисимы; если в романе был
уничтожен Кинкакудзи, то в жизни Мисима уничтожил самого себя. Разница
лишь в том, что в ней все закончилось самоубийством – разрушением не
какого-то внешнего объекта, а своего собственного тела. Быть может, именно
поэтому Мидзогути в самый последний момент отметает замысел о
собственном самоубийстве – просто для того, чтобы у читателя не возникло
мысли об истинных чувствах и планах автора, а с другой стороны – скрытая
насмешка над позерством, которая часто проглядывает в романе и открывается,
когда у Мидзогути не получается попасть в Вершину Прекрасного.
Сашу Тишина, героя романа «Санькя», легко можно назвать обычным
парнем. Когда он сам задумался о том, какой же он, он даже не смог
определить, хороший он или плохой. Себя он же сам сравнивает с картиной,
которую можно увидеть в разбитом зеркале: видно лишь отдельные черты,
целой же картины не разобрать. Это порой порождает эффект повествования от
первого лица, несмотря на то, что в романе оно ведется от третьего лица.
Несмотря на то, что Саша, как и его создатель, является экстремистом, их
ни в коем случае не стоит отождествлять. Особенно ярко это выражается в тот
момент, когда Саша между делом бросает несколько презрительную фразу о
«жидоненавистничестве» Лавлинского (то есть самого Прилепина). Несмотря
на это, в романе все же присутствует герой, определенным образом
отображающий автора как внешне, так, по всей видимости, и внутренне, хотя
бы отчасти. Это бывший спецназовец Олег.
Подобно тому, как белый цвет является сосредоточением всех цветов,
117
Саша собирает в себе всех остальных мужских героев повести, при этом не
имея своих индивидуальных черт; но только ни одна из их характерных
особенностей не является доминирующей в его образе. Он может и пошутить, и
подраться, и переспать с женщиной, но ни одному из этих действий не отдается
приоритета; он с легкостью переключается с одного на другое. Пожалуй,
единственной лично ему присущей чертой можно назвать его естественность;
она-то и позволяет ему спокойно переносить все жизненные ситуации. Саше не
дается автором никакой характеристики, кроме речевой, и лишь из его
разговоров, из его воспоминаний можно по кусочкам собрать его портрет,
становление его характера.
Он часто одинок, но это не та болезненная обособленность от общества,
которая так характерна для Мидзогути и которая порождает такое же
нездоровое желание быть со всеми, а одиночество ответственности, когда
каждый должен решать сам за себя и принимать последствия своих поступков.
Ему присуща даже некоторая "звериность"; он живет не умом, как большинство
окружающих, а в основном неким интуитивным знанием, которое приходит
именно в тот момент, когда оно нужно. Но он не владеет интуицией в полной
мере; подобно тому, как с его волос сошел "аляной" окрас, так и он сам потерял
какую-то часть своего чутья. Город заглушил его, забил; подобно тому, как
потемнели его волосы, «потемнел» и озлобился он сам.
В отличие от Мидзогути, он не пытается стать "обыкновенным", может,
просто потому, что он и так обыкновенен, и это вовсе не огорчает его. Его
внутренние монологи, а скорее, даже диалоги, не такие развернутые, как у
Мидзогути, но это вовсе не значит, что они менее содержательны. Саша Тишин
постоянно анализирует про себя свои поступки, но делает это кратко и четко.
Чаще всего это происходит в форме диалога между двумя его голосами –
спокойным и саркастичным, скептическим: «Хочу пить, - неожиданно подумал
Саша. «Вчера ты здорово попил из лужи, святоша» - иронично подсказал
голос». И здесь можно увидеть разные установки авторов при создании своих
героев: если Прилепин создавал портрет «героя нашего времени», то герой
Мисимы – неудачник, который прекрасно осознает свою ущербность, но при
этом встает в позу, чтобы не оказаться неправым перед всем остальным миром.
Основные конфликты романов
Самым главным конфликтом, безусловно, является противоборство
Мидзогути с Золотым Храмом. Оно то усиливается, то ослабевает, но проходит
через весь роман. Практически все остальные конфликты зачастую принимают
форму диалогов, в то время как этот – единственный, формально практически
никак не выраженный в романе.
Золотой Храм представляется как идеальный сплав красоты; по словам
Касиваги, истинная причина его красоты - то, что она постоянно ускользает,
обещает проявиться, находится где-то на границе зрения, и потому внешне
дисгармоничные, никак не сочетающиеся друг между другом части в сознании
складываются в единое прекрасное целое. Это же объясняет причину, по
118
которой Мидзогути сначала не понял прелести Золотого Храма: он никак не
желал верить, что этот "обычный трехэтажный домик, почерневший от
старости", и есть тот самый знаменитый Кинкакудзи. Его «изюминка» - в
отсутствии завершенности, в обещании красоты, которую он так и не дает, в ее
мимолетности. Это же позволяет отождествить Храма как образ всего мира в
целом с точки зрения дзэн-буддизма как глобальной провокации.
Лишь одно приводит Мидзогути в бешенство: невозможность достичь
Храма, подняться на один с ним уровень. И поэтому Мидзогути решает сжечь
его, чтобы наглядно доказать иллюзорность этой незыблемости. Таким
образом, Мисима и его герой отвечают на один из главных вопросов романа –
на коан Нансена: чтобы Красота как самая дорогая вещь на свете никому не
навредила, ее носитель необходимо уничтожить.
Конфликт Мидзогути с настоятелем имеет характер в основном
столкновения порока, преступления с наказанием за него. Мидзогути постоянно
хочет спровоцировать Досэна на срыв; скорее всего, это связано с некоторым
чувством вины, от которого Мидзогути не может отделаться. Здесь вполне
явственно можно проследить еще одну параллель между «Преступлением и
наказанием» Достоевского: проступок, который преступник скрывает глубоко в
своей душе, не высвобождается, не разделяется с кем-либо, и потому еще
больше грызет его душу чувством вины. Единственный человек, который знает
о совершенном преступлении (виновности в выкидыше проститутки) и
способен принести ему облегчение – Досэн. Но он вовсе не собирается делать
этого, и из-за этого ненависть Мидзогути растет. На какое-то время цель
вывести Досэна из себя даже заслоняет главную страсть Мидзогути – Золотой
Храм; видимо, у Мидзогути возникла мысль о том, что раз его Учителя можно
вывести себя, то и Кинкакудзи может быть повержен со своего пьедестала
невозмутимости. И в некотором роде ему это удалось: в последней главе
специально для Мидзогути Досэн становится в самую уничижительную позу с
расчетом произвести определенный эффект на своего ученика; но как только
тот распознал уловку настоятеля, все усилия пошли прахом.
Другой очень важный конфликт - с Касиваги, в некотором роде "учителем"
Мидзогути в еще большей степени. Касиваги придерживается мнения, что на
провокации окружающего мира нужно ответить изменением своего к нему
отношения. Мидзогути какое-то время придерживался той же точки зрения; она
как нельзя лучше соответствовала его пассивной натуре. Но самим своим
Деянием - уничтожением Храма - он показал, что не согласен с этим. Здесь
вполне можно опять заговорить о коане Нансена, ведь сопоставляется два
ответа на него – уничтожить ли Красоту (как в итоге и поступил главный герой)
или просто абстрагироваться от нее (как считает нужным Касиваги). Несмотря
на свою возвышенность и неумеренное тщеславие, он, как и его друг, одержим
страстью, но только куда более земного свойства. На фоне всех своих
философских разглагольствований Касиваги смотрелся достаточно комично,
когда начал буквально гоняться за Мидзогути, требуя отдать долг; где же,
спрашивается, вся его отрешенность? Он наконец показывает свое истинное
лицо, которое раньше прикрывал красивыми рассуждениями: он – еще один
119
позер, но только более удачливый. Однако это еще не повод списывать его со
счетов, ведь это лишь один из аспектов его личности.
Одним из самых важных моментов романа, безусловно, является
конфликт, который происходит в душе самого Мидзогути. Это конфликт между
его человеческой, «низкой» сущностью и «возвышенной» частью его души.
Именно первая - то «человеческое», которое не дает ему целиком погрязнуть в
его пристрастии к Красоте. Он сам иногда досадует на себя из-за этого; стоит
вспомнить хотя бы тот же эпизод с булками, которые Мидзогути пожирает
(иначе и не скажешь) непосредственно перед тем, как осуществить «дело всей
своей жизни», как он сам говорит. Мисима словами Мидзогути же смеется над
чисто человеческими слабостями своего героя, и потому отказывает ему в
таком «красивом» конце. С другой стороны, такой финал является наиболее
логичным; Мидзогути очень хотелось узнать, что же о нем подумают люди
после его Деяния. Если бы он умер, то по вполне понятным причинам не смог
бы это осуществить.
Что касается романа «Санькя», то в первую очередь важно отметить, что
все конфликты в основном проявляются в спорах. Это выглядит несколько
искусственно, но позволяет наглядно развить сюжет.
Основной конфликт в романе, на наш взгляд, это конфликт "Союза
спасения" в лице Саши и "системы". Но она представлена не как нечто
абстрактное, а вылазит тут и там своими острыми, режущими углами - то это
спецназовцы на политическом митинге, то милицейский патруль, то
сотрудники «некоей» государственной спецслужбы. Прилепин и здесь
показывает ту определенность, которая характерна для "Саньки": ничего
абстрактного, только конкретные люди и события. Меры «союзников» на
первый взгляд кажутся совершенно безобидными; убийство человека вряд ли
можно сравнить с майонезом, брошенным кому-либо на голову. В их борьбе
есть до поры до времени некое мученичество: их могут резать и убивать, но
"союзники" не могут ответить тем же, может быть, потому, что это
единственный способ привлечь на свою сторону других, показав им
беспомощность властей, которые не в силах предотвратить, заглушить
беспорядки. Они делают все, чтобы расшатать существующий строй, но
помимо этого "союзники" хотят изменить и отношение других людей в России
к нему. Сами по себе они лишь кучка людей, мало что могущих изменить.
Помимо "системы" в романе встречаются и другие антагонисты. Первым в
их ряду является "афганец", которого Саша, Веня, Рогов и Негатив встретили в
баре. Его не устраивают методы "союзников"; слишком уж они "мягкие" на его
взгляд. Но ведь их противник всемогущ и одним движением может разломать и
уничтожить всю их организацию и их самих. Если они открыто выступят сразу,
их попросту сомнут. "Союзники" стали открыто атаковать лишь тогда, когда
стало ясно: либо они попробуют захватить власть сейчас, либо их перебьют.
Другой противник, в конце концов примыкающий к системе – это
Безлетов, друг и ученик Сашиного отца. Это самый «долгосрочный» идейный
противник Саши. Всего они разговаривают три раза, и последний и разговоромто назвать трудно, так как он заканчивается тем, что Саша за штаны
120
выкидывает Безлетова. Он представляет интеллигенцию, ту ее часть, которая
признает Россию лишь в чисто формальных признаках - культуре, экономике и
так далее. Это и дает ему основание пафосно заявлять, что Россия «умерла».
Прилепиным подчеркиваются его приемы, рассчитанные исключительно на
создании внешнего эффекта приличного и умного человека; это, в отличие от
«Золотого Храма», пожалуй, единственный позер в романе. Легко можно
раскрыть этого героя - человек, который ничего не хочет предпринимать сам,
плывет по течению, но при этом еще выдумывает себе красивые оправдания. С
другой стороны, очень комично наблюдать за спорами Саши и Безлетова, когда
и один, и другой думают не о самом предмете спора, а о том, что «скоро
должны принести второе». Им обоим не нужен этот спор, ведь каждый уже все
решил для себя.
Существует и некоторый конфликт между Богом и Сашей. Саша Тишин –
верующий человек: «Бог есть. Без отца плохо. Мать добра и дорога. Родина
одна». Но все же он бунтует, хоть этот бунт и не является целенаправленным: «
- Ты думаешь, я скажу: «Спасибо, Господи»? – спросил вслух, глядя куда-то за
окно. «Не скажу». Но этот его бунт недолго продолжается, и в конце, когда он
положил крестик в рот, своим жестом показал, что все же он с Богом и не
отпадет от него.
Можно говорить и о конфликте внутри самого героя; это конфликт между
Санькей – деревенским пареньком и Сашей – горожанином. Саша в основном
живет соотносимо со своими желаниями, делает то, что кажется ему
правильным. Это явные следы его «исконно русского», народного
происхождения, также как и его интуиция, проявляющаяся в самый нужный
момент и в основном его поступки и обуславливающая. Но постепенно это сила
природного происхождения начинает изглаживаться; годы, прожитые в городе,
не могли пройти бесследно. Самый яркий пример начавшегося отчуждения
Саши и деревни – момент, когда все они решили переждать в деревне
Сашиного деда. В избе безвестного мужика Саша ловит себя на том, что у него
появилась чисто городская привычка разговаривать с сельскими так, «будто
они плохо слышат». Уже тот факт, что они не смогли доехать, говорит о том,
что этот процесс отчуждения необратим, и особенно трагично звучит фраза
Олега, произнесенная внешне спокойным голосом: «Вчера бы еще проехали. А
сегодня уже нет».
Финалы романов
Финал "Золотого Храма" достаточно предсказуем: Мидзогути выхоливает,
выращивает внутри своего сознания свое Деяние. Это сделано им не для
окружающих, большинству из которых наплевать на этот Храм, а для себя, хотя
Мидзогути и рассчитывает на признание других людей. Он разрушает Золотой
Храм для того, чтобы вырвать тот самый «больной зуб», которым называет
Касиваги Красоту, и в то же время взять верх над ним.
В самом конце романа появляется совершенно новый во всех отношениях
персонаж – отец Дзэнкай. Эта встреча показала Мидзогути совершенно другой
121
путь, чем тот, по которому он шел – путь естественности, в какой-то мере –
обыкновенности, но не той, что так сильно раздражала Мидзогути, а той,
которой человек следует согласно «зову сердца». Он естественен, и в этом-то и
состоит его сила. Очень наглядным в портрете Дзенкая является «описание»
его доброты: «Доброта его не имела ничего общего с тем, что люди обычно
вкладывают в это понятие, а была сродни гостеприимной щедрости ветвей
какого-нибудь раскидистого лесного дерева, готового принять под свою сень
усталого путника». Несмотря на слова Мидзогути о том, что он никогда не
хотел быть понятым людьми, ему хочется, чтобы именно с Дзэнкаем у него
получился контакт. Можно смело сказать, что введением в роман этого
персонажа Мисима смешал все карты и за несколько часов до финала романа
изменил его; да, Мидзогути уничтожил Храм, как намеревался, но он не
покончил жизнь самоубийством, как планировал вначале, и в этом, без
сомнения, отчасти заслуга Дзенкая.
Хотя его тяга к Красоте и протестует в последний раз возле двери
Вершины Прекрасного, но эта его несколько искусственная часть души уже
почти отмерла, и потому он не может проникнуть в нее. Он отбрасывает мысль
о самоубийстве, столь привлекательную поначалу. Та тяга к прекрасному, что
еще оставалось в нем, после этого поступка умирает, и какой-то совершенно
другой Мидзогути говорит самому себе: «Ничего, еще поживем». Вполне
возможно, что он встанет на путь, подсказанный Дзенкаем, путь естества и
простоты. Финал романа остается открытым.
Финал романа же романа «Санькя» немного неожиданный, особенно если
учитывать обычные средства борьбы «Союза спасения». Видимо, все было
спланировано давно и тщательно, ведь все «союзники» действовали слаженно и
быстро. Однако и в этой ситуации они остаются своим принципам: никто не
был убит, хотя синяков, сломанных ребер, носов и зубов предостаточно.
Отдельного описания заслуживает сцена переодевания «союзников» в
униформу спецназовцев. Они меняют не только свой внешний вид, но и тип
своего сознания, заряжаются здоровой злобой, необходимой для осуществления
задуманного. Их похожесть на волчью стаю теперь приобретает видимое
воплощение в виде морды непонятного зверя на камуфляже и на машине
спецназовцев. Одновременно это и момент торжества Олега, самого
агрессивного из них; его лицо даже приобретает некую одухотворенность. В то
же время все они прекрасно осознают тщетность этой попытки переворота, и
финал, якобы открытый, на самом деле вполне можно проследить: их всех
убьют.
По описанию последняя, тринадцатая глава больше всего напоминает
первую – тот же динамизм повествования и предельное сосредоточение на
внешних событиях; нет времени осознать что-то или даже просто задуматься.
Превосходной деталью в этом плане является скороговорка, которую все время
говорит Олег: «Зол злодей, а я трех злодеев злей»; здесь и бессознательное, и
одновременно в этих словах вся характеристика его как человека. Тут и то же
смешение жуткого и смешного, веселого; «камуфлированные бесы» из первой
главы превращаются в «союзников», «увешанных оружием, будто пираты»;
122
Саше на базе спецназовцев в голову приходит совершенно нелепая мысль по
поводу ворот: «Такие в детстве хотелось лизнуть языком». В этом проявляется
контрастность, так характерная для всего романа, наглядная иллюстрация того,
что ничто не является однозначным. Но апофеоз этой мысли – в последней
фразе романа: «Все скоро, вот-вот прекратится, и – ничего не кончится, так и
будет дальше, только так». Да, возможно, все повторится, но уже ничто не
будет по-прежнему.
Заключение
Можно говорить о том, что оба романа названы по именам своих главных
героев. Это же и выражает отношение авторов к своим героям. Мисиму куда
более самого Мидзогути интересует Золотой Храм и то, какие чувства он
вызывает, а задачей, которая стояла перед ним – показать гибель Кинкакудзи
как носителя красоты. Явно диалектное же «Санькя» можно объяснить тем
особым вниманием Прилепина к Сашиным корням, его народности, которое
наряду с социальным мотивом романа является одним из самых важных его
аспектов.
Соответственно развиваются конфликты: если в «Золотом Храме»
Мидзогути практически одинок, а конфликт, как правило, происходит у него в
голове, то Саша Тишин чаще всего находится в компании, будь то друзья,
девушка или мать. Его обособленность в определенные моменты романа не
выступает так болезненно, как у Мидзогути; просто это некое испытание, в
котором Саше не поможет никто, кроме его самого. Сами конфликты, или,
точнее говоря, Сашины споры с оппонентами, скорее несут цель показать
взгляды самого героя, чем его развитие. Заметно, что Саша уже давно решил
все для себя, и в этом одно из основных отличий его от Мидзогути, который
мечется из крайности в крайность и к концу «Золотого Храма», похоже, уже
сам не знает, чего хочет.
И тот, и другой роман неожиданны в финале. Мидзогути не покончил
жизнь самоубийством, как планировал. Хотя он и уничтожил Храм, действие
пошло по несколько другому пути, чем тот, который мы могли бы
предположить, зная и Мисиму, и планы самого героя. Финал же «Саньки»
невозможно предсказать до конца предпоследней, двенадцатой главы; но даже
в самом конце, в окруженном здании, нельзя до конца определить, чем же все
кончилось. Да, конечно, самый вероятный вариант – тот, в котором всех
«союзников» перебьют, но все же автором это не показано.
Интересны и способы видения мира каждого автора. Мисима прежде всего
видит внешнюю оболочку и даже рассуждает устами героя по этому поводу.
Это неудивительно, ведь, по большому счету, «Золотой Храм» - роман о
красоте и ее гибели, а красота, как правило, представляется нам как некий
зрительный образ. Прилепин же уделяет внешнему куда меньше внимания;
описания в его романе явно занимают не самое главное место. Куда большую
роль играют ощущения героя, то, что он чувствует в физическом плане в тот
или иной момент. Эти чувственные образы, нарисованные Прилепиным,
123
поистине выпуклы и создают некий эффект присутствия; ведь увидеть можно и
издалека, а почувствовать – лишь, что называется, «попав в шкуру» героя.
Как это ни странно, но в обоих романах нет ни одного описания смерти.
Да, есть внесюжетные смерти, например, смерть Цурукавы или отца Мидзогути
в «Золотом Храме» и убийство Леши Рогова в предпоследней главе «Саньки».
Но они все же воспринимаются как что-то постороннее и даже не совсем
реальное. Это достаточно странно, если учесть менталитет автора «Золотого
Храма» и некую озлобленность, проявляющуюся в «Саньке». Видимо, Мисима
не ввел ни одного убийства с той целью, чтобы придать смерти некий ореол
мистичности, таинственности. Прилепин же, скорее всего, просто не хочет
очернять таким образом никого из своих героев, и поэтому дает некоторую
психологическую «разрядку» самому нетерпеливому – Олегу – в эпизоде с
крысиным королем.
И в конце хотелось бы сказать о некотором сходстве между самими авторами; наверное, многие читатели пришли к этим книгам под впечатлением от
общественного мнения об авторах. Мисима куда более известен своим самоубийством, чем любой из своих книг, и его читатель сначала узнает о его смерти, и лишь потом – о его произведениях. Захар Прилепин тоже известен скорее
тем, что состоит в Национал-большевистской партии, чем своими книгами (во
всяком случае, пока). А от его романа «Санькя» сразу же начинаешь ожидать
некоей партийной пропаганды, ведь это роман об одном из нацболов; слава Богу, это чувство не оправдывается.
124
О.В. Ивашкина*
Г. Сапгир и Л. Рубинштейн: кенозис языка
Концептуалистское искусство, в русской поэзии представленное текстами
Л. Рубинштейна, Д. Пригова, Т. Кибирова и позже – А. Монастырского, В. Сорокина, Н. Пепперштейна, выросло из идеи необходимости противостояния неподлинному в реальности. Понимание того, что мир в кризисе, в душном тупике «экстаза говорения», «текстурбации» (поэзо-термин московских концептуалистов) – оптимистичных, но по своей природе симулякровых лозунгов – рождало ощущение тотальной бутафорности всего вокруг.
Тема мнимости видимого, подобия без оригинала, масштабно разворачивается и в поэзии лианозовца-андеграундника Г. Сапгира (1928-1999гг.). Его
герои − «бытописатель мнимой жизни», «поверенный вселенской пустоты»,
«мои никто». Его мир – мир, лишенный сущностного статуса, видимость присутствия вещи, которой нет: «Вон сколько лиц! <…> А между тем к любому
подойти / просунь – смелее! – руку между глаз / Насквозь пройдет – не колыхнется даже / Изображенье. Видимость одна» («Омега, или Имитация» - [5, 45]).
Естественный мир заменился своим искусственным подобием, второй природой: «Нет, сахарин сам знает, что – не сахар / А маргарину ясно: он – не масло /
и если даже он совсем как масло / то все равно он – только маргарин / Про колбасу мы и не говорим: нет естества, нет даже существа…». От мира осталась
последняя буква – Омега – она и выступает субъектом речи: «Один остался –
сам и говорю / (Кричит) <…>. Кругом слова – <…> и башни вавилонские из
слов…» («Омега, или Имитация»).
Симулякровые образования почти всевластны, философия неподлинного
мира умещается в философию Упаковщика: «все вокруг упаковано: в кожуру, в
чешую, в перышки»; «Люди, я несу вам великую истину: НЕТ УПАКОВКИ,
КРОМЕ УПАКОВКИ, И УПАКОВЩИК – ПРОРОК ЕЕ» («Небесная упаковка» - [5,
85]).
Симулякр – пустой, лишенный содержания знак, видимость присутствия.
Небесная Упаковка становится провозвестником и основателем «простого»,
«доброго» рая земной плоскости: «Все, в чем вы нуждаетесь, у вас уже есть, Упаковка» (с. 85). В мире симулякров «форма есть любое содержание» (там
же). Субъект в таком мире – «мертвый на совесть»: «все есть / и все не живет»
(с.118). А Никто и Ничто – главные организаторы пространства и времени:
«Никто меня не признавал / но признавал Никто / никто со мной не выпивал /
но выпивал Никто» [5, 176].
В мире неподлинности отсутствие выдается за присутствие: «Мнимые –
среди нас» («Бородач в берете - / с кем я говорил? - / скамейка пуста» (стихотворение «Никто»); «…случайно прикоснулся к закрутившемуся рукаву шубы.
Но вместо енота моя ладонь ощутила плотную фотографическую бумагу»
(«Картины и фотографии» - [5, 257]). Декорации, муляжи приобретают характер
*
Ивашкина Ольга Вадимовна – аспирант кафедры истории русской литературы КубГУ
125
всеобщности: «…дальше под соснами – нарисованные, как и сосны, впрочем,
декорации», они «шевелились, жестикулировали – все были вроде настоящие»,
но: «ткни-ка в пространство – нет ничего / возможность всего проступает»
(«Странная граница» - [5, 285]), а дальше - «просто видимость, что лазуритовые брошки, зеленый стеклярус, а проведешь рукой – просто связки сушеных
грибов» [5, 260].
Необходимо преодолеть разросшуюся подделку. И автор выбирает стратегию продуктивного разрушения, или кенозиса – саморазрушение языка и самоустранение автора с целью возвращения к первобытной чистоте мира, в котором подлинность еще не была вытеснена размноженной копией: «Верни нам
наивных ангелов / верни примитивных демонов / верни нам Себя чтоб узрели - /
и в Библии и в саду» («Оглядываясь» - [5, 191]). «…Верните! Юность и нищету
/ Душу! Но не эту – правильную… А еще ту» («Дружба» - [5, 130]).
У концептуалистов, в отличие от Г. Сапгира, нет прямой констатации симулякровой природы видимого мира: текст строится как намеренное нагнетение «неизживаемых моментов советского языка» (Д. Пригов), специфически советских знаков культуры, стереотипов и шаблонов массового сознания,
загруженного мифологемами повседневности: «Когда придут годины бед /
Стихии из глубин восстанут / И звери тайный клык достанут - / Кто ж грудею
нас заслонит? // Так кто ж как не Милицанер / Забыв о собственном достатке /
На нарушителей порядка / Восстанет чист и правомерн» [3, 194]. Гиперболически взвинчивая советскую мифологему культурного героя-милиционера, Д. Пригов подвергает эту мифологему развенчанию: «Пока он на
посту стоял / Здесь вымахало поле маков / Но потому здесь поле маков / Что
там он на посту стоял // Когда же он, Милицанер / В свободный день с утра
проснется / То в поле выйдет и цветка / Он ласково крылом коснется» [3, 195].
Происходит разрушение «высокой» природы стиха бытовизмами, небрежностью, необязательностью повествования, и рисуемые модели бытия
предстают негодными, ложными: «Я с домашней борюсь энтропией / Как источник энергьи божественной / Незаметные силы слепые / Побеждаю в борьбе
неторжественной / В день посуду помою я трижды / Пол помою-протру повсевместно / Мира смысл и структуру я зиждю / На пустом вот казалось бы месте»
[3, 15].
Мир, по выражению обэриута А. Введенского, «заметно потускнел», он
«зарезан», «мир петух». Мир, пришедший к Омеге, к исчерпанности, нуждается
в движении к Альфе, к истоку. Г. Сапгир и концептуалист Л. Рубинштейн приходят к литературному освоению механизма кенозиса (добровольное саморазрушение языка у Сапгира и добровольная смерть автора у Рубинштейна): художественное произведение, таким образом, становится формой борьбы с
ненастоящестью мира.
Поэт-лианозовец выстраивает «Весенний букварь» (одноименное стихотворение), обладающий потенцией мифологизирующего переназвания-пересоздания мира. Герой этого межжанрового текста учится произносить звуки с
нуля: «А. А. У. АУ. Забавно!» («Весенний букварь» - [5, 86]). Слова в их не
стертой ценнейшей отдельности рождаются, «раздвигаются», «разлепляются»
126
прямо здесь, из ниоткуда. Они обступают героя как «отдельные предметы»,
«самостоятельные вещи», каждую из которых он может горячими брать в руки
и «свободно называть». Читатель видит демиурга, помещающего всю искусственную сложность имеющихся названий в четыре букварных конструкции:
МАША МАЛА, У ШУРЫ ШАРЫ, НЕ БЕЙ ШУРА МАШУ, МАМА МОЕТ
РАМУ. Этих простых предложений оказывается достаточно для того, чтобы
вернуть весну и «младенца-небо». Несколько звуков и букв оказываются способными описать «облупившуюся штукатурку», окна и горячий чай; ими можно называть магазины и разнимать дерущихся собак. «Теперь все будет иначе, обещает читателю новый Адам, - все будет хорошо. Все своим именем назову…» («Весенний букварь» - [5, 88]). Буква здесь - символ зачатия мира.
Пустым упаковкам противопоставлена простая синтаксическая конструкция. «МАМА МОЕТ РАМУ! МОЕТ добрая душа, МОЕТ РАМУ – и все! Все
ты можешь назвать, все изъяснить». Буква предстает первоэлементом мира, в
котором сохранена еще настоящесть. Буква, звук обретают свою самостоятельную плоть-ность, овеществляются, участвуя в творении посредством
«плюх», «враш-шш!» и «шлеп». В стихотворении 1999 года «Христос и Петр»
читателю вручается демиургическая власть в детской простоте устанавливать
новые связи между предметами: можно «взрыть воду» ладонями, стереть дистанцию между «морем, речкой, прудом, лужей, ванной, тазом с водой», «разгладить воду ладонями, как ветер»; стать апостолом, идущим на зов Бога по воде («ШЛЕП ШЛЕП / ШЛЕП ШЛЕП / ШЛЕП ШЛЕП / ШЛЕП ШЛЕП» - [5,
376]).
Сапгир «отыскивает в истрепанном языковом сознании современности те
уголки, которые еще теплят живое существование» [1, 188]. Поэтический язык
побеждает собственную погруженность в шаблоны сочетаемости через сознательно выстраиваемую бедность словаря, «аскетичность мыслеформ»; выразительные средства сводятся к элементарным синтаксическим фигурам: «Конец
света // (вдох) / Свет / (выдох) / Конец света» [5, 325]. Или: «Ты // вдохни себя
// выдохни себя (4 раза) <…> вдохни себя – как ты вырос / выдохни себя – ты
бесконечен» [5, 328]. «Преображение / (такой глубокий и тебя расширяющий
вдох – / вдохни в себя весь мир) / (осторожно / выдохни лишнее) / (вдохни / новую атмосферу) / (выдохни / мир обновленный) / (и теперь вдохни его / простирая руки / окрыленный)» [5, 331].
Ритмичное движение между полюсами крайней оппозиции становится
спасительным выходом: «вдох – вход / выдох – выход» [5, 343].
Мир настоящий создается на выдохе («выдохнул…- весь мир если кратко»), поэт участвует в его образовании через избавление от ненужных пустых
«литер»: «(вдохнул) – образование / (выдохнул) – бразование / (вдохнул) – азование / (выдохнул) – зование / (вдохнул) – ование» и т.д. Последняя пара: «(выдохнул) – е / (вдохнул) – ! / (выдохнул)» («Поглощение» - [5, 349]).
Вдохи и выдохи далеки от симулякров, они – скорее кванты человеческого существования, поэтому минимальны, естественны, неподдельны (ср. у
Л. Рубинштейна: «Можно на мощном выдохе выложить все, что знаешь, но
смыслом сказанного окажется именно сам выдох» (карточка № 76 из «Каталога
127
комедийных новшеств»). Вдохам и выдохам можно доверить создание настоящего мира. От выдохов «взлетают колонны», стены храма становятся толще;
выдохи «вылепят купол», позже – алтарь. Для того чтобы быть настоящим, не
нужно множества языковых средств, терминологических изощрений. Минимальным набором звукоинструментов пересоздается растиражированный на
пустые копии мир: «каждое утро / так! воздвигаю / светлым желанием / строю
дыханием / незримый собор» («Храм» - [5, 372]).
Кенозис, добровольное самоуничтожение языка у Сапгира происходит
также и через редуцирование, обнуление повествовательных векторов:
«…нервничает Автор / и тут меня поставил объявить / что он надеется… что вы
ему, конечно… / Как в общем-то похоже все на сделку!.. / Он очень постарается… а вы – / само собой… поскольку вы… и он… / ПРОЛОГ, совершенно
смешавшись, умолкает» («Пролог» - [5, 22]).
Поэт в своих текстах движется по «шкале редукции» до конца, до нулевой отметки, изображая пустоту (молчание, обрыв) значимым элементом конструкции. Индексы пустоты – пробелы, паузы, отсутствующие знаки препинания, скобки, фигуры умолчания, отказ от прописных букв в начале строки,
обрывы, разломы. Постепенное «заглушение» повествования, подобное убавлению звука радиоприемника, происходит в минипьесе «Глушилка»: «В заключение полчаса музыки. Мы передаем произведения Моцарта и
Бе……………. Эта гениальная музыка в свою очередь вдохновляла Шиллера и
Ге………………. Исполняет лауреат конкурса имени……..в сопровождении………. Человек долго стоит перед нами, раскрыв рот. Но всю прекрасную
музыку заглушает громовое молчание» («Глушилка» - [5, 27]).
«В зоне нулевого измерения» [1, 63] заново обретается утраченное единство с вечностью. Доминантные признаки текстов из циклов «Монологи», «Рисующий ангелов», «Тактильные инструменты», «Голоса»: разрушенный синтаксис, пропавшие знаки препинания, распад повествования, возвращение к
первоэлементам (вдохам/выдохам, азбуке, звукоподражаниям). Но языковые
разрушения оказываются созидательными, они и делаются-то во имя воссоздания (принцип кенозиса в богословии). «Для того чтобы началось нечто истинно
новое, нужно полностью уничтожить остатки всего старого цикла. Иначе говоря, если мы желаем абсолютного начала, то конец мира должен быть самым радикальным», − считал румынский историк религий и исследователь мифологии
Мирча Элиаде. Разрушения необходимы для того, чтобы достичь абсолютного
начала, вернуться в докультурное состояние и на разрушенном основании
начать процесс возрождения мира. «Знаете, что мне пришло в голову?, − говорит некий бессубъектный субъект в тексте Л. Рубинштейна «Всюду жизнь», −
для того, чтобы оживить мертвеца – эстетически, разумеется, − надо его снова убить» (карточка № 62).
Если у Г. Сапгира преодоление «ненастоящести» происходит через возвращение к первоэлементам, к азбуке, то Л. Рубинштейн «предлагает» вернуться к культурной нерасчлененности субъектов речевого высказывания. Его
знаменитая «картотека» фиксирует неперсонифицированные голоса-персонажи
(разговор неизвестных лиц, чьи высказывания как бы записаны на магнитофон128
ную ленту и переданы на пронумерованных карточках): № 1. И ангелы бывают
разные. № 2. Ну и скамейка! № 5. Да или нет? № 6. Георгий Назарыч. № 8.
Долгие проводы – лишние слезы. № 11. Вот это встреча! № 12. Перстами легкими как сон… № 33. Неудачное сватовство или любовь к кукурузным палочкам. № 34. Сто восемьдесят на девяносто. № 35. Мама! Он пришел! («Шестикрылый Серафим» - [4, 28-38]).
В таком тексте автор не постмодернистски «умирает», растворяется в
синкретизме звучащей речевой полифонии. Для того чтобы остановить превращение жизни в набор трюизмов, надо пережить смерть. И автор добровольно самоустраняется. «Мне страшно, − пишет «ископаемый родственник»
концептуалистов обэриут А. Введенский, − что я при взгляде / на две одинаковые вещи / не замечаю что они различны». Чтобы не потерять зрение, и видеть «неискаженный мир», поэтами избирается тактика «скольжения», «мерцательности», «не влипаро»: «Только начнешь понимать, что к чему, как пора
уходить» (карточка № 10 из «Все дальше и дальше»); «вспомнить только что-то
между водою и сушей, молчанием и речью, сном и пробуждением… Вот она,
эстетика неопределенности» (карточка № 1 из «С четверга на пятницу»). Балансирование «между», всегда только между, в скольжении – «остановишься – костей не соберешь» (карточка № 106 из «Появления героя»), в противополагании
себя «влипаро» («влипаро» на языке концептуалистов − «погружение в определенный стиль или дискурс до полной идентификации с ним»).
Позиция авторского самоустранения, вненаходимости, вообще очень близка была концептуалистам, многократно манифестировавшим эту ситуацию в
составленном ими Словаре «поэзиса понятий» (названы две основные дискурсивные фигуры автора: «лыжник» − «скольжение без обмана»; и «колобок» −
«фигура ускользания в нашем эстетическом дискурсе, <…> образ того, кто не
хочет быть опознанным, названным, прикрепленным к определенной роли,
ускользающий от всего этого»; две ведущие стратегии движения – «мерцательность» − «стратегия отстояния художника от текстов, чтобы не быть идентифицированным с ними»; и «незалипание» − «двойственное отношение к
своему месту в мире: то ты сохраняешь свой идентитет, то теряешь его; то совмещаешь себя со своей профессией или делом, то оставляешь их») – понятия из
Словаря терминов московской концептуальной школы [6].
Л. Рубинштейн, выстраивая иллюзию собственной непричастности к изображенному, погружает читателя в мерцательность разнообразных «можно»: «№
32. Можно никуда не смотреть, но все видеть; № 33. Можно все видеть, но ничего не понимать; № 34. Можно все видеть и все понимать; <…> № 50. Можно
усложнить все, а равно и упростить до такой степени, что просто не о чем уже
будет и говорить» («Каталог комедийных новшеств», с. 9-19). Кто является источником говорения, нам неизвестно, но очевидно одно: мы в зоне абсолютной
свободы и необязательности: «№ 93. Можно считать, что происходит нечто совершенно необыкновенное; № 94 Можно считать, что ничего не произошло»
(«Каталог комедийных новшеств»).
Л. Рубинштейн наглядно делает литературу такой, какой ей свойственно
быть по природе своей: областью чистого искусства, автономного от жизни. В
129
карточках концептуалиста литература живет как самостоятельная сфера развития и функционирования языка. «Комедийные новшества» можно прекратить
читать в любой момент, а можно вернуться к ним заново. «Здесь вас не спросят,
– читаем в карточке № 2 из текста «Все дальше и дальше», – кто вы и откуда.
<…> Место, где вы избавлены от назойливых расспросов – именно здесь».
Только литература дает такую свободу движения: «Здесь дышится легко и свободно» (карточка № 3). Это пространство, в которое можно уйти от бутафорной
реальности, «здесь все уже совсем по-другому. Неважно, как. Важно, что подругому» (№ 5).
В пространстве языка возможно «скольжение» от неистинного: «Можно
избежать фатального оцепенения, если хорошенько усвоить» (карточка № 102
из «Каталога комедийных новшеств») принцип лыжника, мерцания, балансирования. Но и эту позицию свободы нельзя абсолютизировать, потому что есть
опасность «погружения в контекст» («влипаро») даже самого служения идее
«незалипания»: «Можно и в самом факте комедийной предвзятости узреть тайный знак фатального оцепенения» (карточка № 101 из «Каталога комедийных
новшеств»).
Здесь, как и в линейной литературе, «у каждого свое дно и свой потолок.
Границы падений и воспарений у каждого свои» (карточка № 9 из «Все дальше
и дальше»). Любой классический линейный роман источает аромат свободы –
открывать, не дочитывать, перечитывать читатель может по своему усмотрению. Над линейным произведением мы выстраиваем систему интерпретаций, с
помощью метаязыка находим законы, по которым работает текст. В карточках
же Л. Рубинштейна явлена территория особых законов, мы ввергаемся в текст,
где не действуют законы иных сфер; это дверь в литературу, ее анатомию.
«Жизнь как чтение, как существование в невозможном пространстве литературного языка» [2, 175]. В карточке № 58 из текста «Вопросы литературы»
встречаем объяснение: все, что здесь написано, есть «прямой разговор с языком
на языке языка». Механизм литературы в «картотеке» опрозрачнивается, анализ
отменяется, язык, самоустраняясь, становится метаязыком, а герменевтика заменяется ритмом чтения: текст «Вопросы литературы» строится на полифонии
вопросов («Откуда все это?»; «Кто испытывал необъяснимое волнение от одного только вида босых ступней?»; «А что там простиралось до самого горизонта?»; «А что за «ниточка укропа»? Откуда взялась «ниточка укропа»?»; «И вообще, почему все именно так, а не иначе?»; «А это о чем: «Однажды на сыром
ветру, когда ни сесть, ни встать, с кровавой кашею во рту пойду тебя искать…?») и универсального – в одну реплику – ответа: «И вот мы читаем».
Всевластное чтение. Чтение как генератор антиэнтропийности, как поглощение
экзистенциальной тоски: «Мы читаем под завывание ветра, под дребезжанье
оконных рам, под шум прибоя…» (карточка № 101 из «Вопросов литературы»);
«мы читаем … под приступы тошнотворной тоски, под звон стекла … под завыванье ветра…» (№ 102-103). В чтении, в литературе симулякр преодолен.
«Мы читаем» - и люди входят в «ликование без границ», «незнакомые друг
другу люди бросаются обнимать и целовать друг друга» (№ 107). Все «страшное и тяжелое во всей нашей жизни» уходит безвозвратно, «а впереди лишь
130
бесконечная сказка» (№ 13); «а впереди лишь бесконечная радость» (№ 113);
«радость навсегда» (№ 114). Магическое «и вот мы читаем» спасает от ужаса и
хаоса.
Текст «Меланхолический альбом» [4, 115-121] строится на синтаксическом
параллелизме нарушенных причинно-следственных связей (как правило,
наблюдается несоразмерность причины следствию). Содержание же похоже на
каталог примет: «№ 11. Мертвое тело на дороге – № 12. Спичка сломается»; «№
55. Курица соловьем поет - № 56 Смерти не миновать»; «№ 57. Надеешься неизвестно на что – 58. Бороться с мучительными сомнениями». Происходит выведение читателя из удобной зоны понятных соответствий: «№ 7. Муха на
стекле раздавлена - № 8. Спать в одиночестве»; «№ 45. Книжку читаешь - № 46.
Платком махать».
Мы видим собственное бытие литературы, которое в полноте реализуется
только тогда, когда литература не находится на службе у не литературной реальности (ничего не отражает, не копирует, не учит, не зовет). Мы видим то,
что отличает произведение искусства от других вещей, а не делает его подобным другим вещам. Текст как просто присутствующая вещь, как действие.
«Своим внутренним строем язык искусства обнаруживает строй мира иного,
как строй языка обыденного обнаруживает строй мира здешнего» [2, 185]:
«Шести прозрачных трепет крыл мне многое во мне открыл, и я проснулся…
(№ 31 из «С четверга на пятницу»). Мне снилось, будто бы он здесь, сидит на
краешке постели. Но ясно, что на самом деле он здесь и все-таки не здесь. Кому
и знать, как не ему, что все уже не так, как прежде, что нет прибежища надежде
и непредвзятому уму. Шести прозрачных трепет крыл мне многое во мне открыл, и я проснулся…» (№ 32).
Вовлечение речи в бесконечный процесс письма создает свой вариант бессмертия, противопоставленного безжизненности симулякра. Живая разговорная
речь, множество голосов становятся уже не конечными, оказываясь «по ту сторону любой реальности» [2, 246]. Не в этом ли смысл кумулятивного сюжета?
Бесконечное нанизывание, бесконечное конструирование, противопоставленное конечности существования. В текстах Л. Рубинштейна нет разговора о бессмертии или подлинности, но через обращение литературы к своему собственному языку опредмечивается подлинность, искусство достигает равенства событию в истории духа. Текст «Появление героя» [4, 46-57] являет нам кумулятивное повествование – на конструкцию «и ученик стал думать…» нанизываются сюжет за сюжетом, часто – философичные высказывания: «Ученик купил
в магазине некоторое количество тетрадей. Из них две были в линейку, две в
клетку. Придя домой, <…> ученик сел за стол и стал думать» (№ 97). Мать дала
ученику один рубль и велела купить в магазине два пакета молока и буханку
хлеба. ( Если будет. А если не будет, то полбуханки любого черного хлеба).
<…> Потом он уселся у окна и стал думать (№ 98). Ученик спросил у учителя:
«Раствориться в бытии или раствориться в небытии – не все ли равно? Учитель
сказал: «Я не знаю». А ученик ушел и стал думать (№ 100)».
Каждая карточка текста «На этот раз» [4, 98-104] начинается рефреном
«Раннее утро…». Дальше следует авторский произвол, основывающийся на
131
установке «Литература ничего не обещает»: «№ 1. На этот раз мы начнем так…
№ 56. А закончим мы на этот раз так…». Нет скрепляющего повествование образа, есть одновременность различных шумов жизни в одномоментной схваченности всех клокочущих «пузырей земли». В чередующихся карточках язык
предстает перед читателем не как способ описания действительности, но как
предмет описания. Он умирает и создает.
Голоса, принадлежащие всем и никому, создают мерцающее ощущение
присутствия – отсутствия автора в тексте. Возникает новый «язык-общения-с
языком» (Л. Рубинштейн). То, что линейная литература делает средствами содержания, «карточки» воплощают в форме. Разрушение языка и «ускользание»
автора делают художественное произведение формой борьбы с ненастоящестью видимого и слышимого. Вектор движения очерчен Л. Рубинштейном:
«Причинно-следственная связь распалась понемногу, и можно смело, не таясь,
отправиться в дорогу…» (№ 64, «Всюду жизнь»).
Литература
1. Васильев И.Е. Русский поэтический авангард ХХ века. Екатеринбург, 2000.
2. Гройс Б. Искусство утопии. М.: Художественный журнал, 2003.
3. Пригов Д.А. Написанное с 1975 по 1989. М.: Новое литературное обозрение,
1997.
4. Рубинштейн Л. Регулярное письмо. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха. 1996.
5. Сапгир Г. Лето с ангелами. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
6. Словарь терминов московской концептуальной школы. Сост. и пред. А. Монастырский. М.: Ad marginem, 1999.
132
Д.С. Тавакалян*
Мортальные настроения в поэзии Ю. Кузнецова и
И. Бродского
Смерть, в сущности, то же, что жизнь, ибо только
время, ничтожное, служит для них различием
А. Шопенгауэр
Тема смерти стала одной из ведущих тем в русской и зарубежной литературе XX века. Во многом это объясняется самим сознанием XX века, в котором
наблюдаются явные апокалиптические черты. Смерть стала рассматриваться
как некий опыт, человек переживает конечность жизни, которая устанавливает
границы его возможностям и желаниям. Смерть выступает как нечто угрожающее и ужасное, но необходимое: «Смерть страшна, но еще страшнее было сознание, что будешь жить вечно и никогда не умрешь» (А.П. Чехов). Это некая
граница, переход которой означает вступление в абсолют, «по ту сторону времени»: «... она (смерть) предстает как нечто абсолютно иное, как граница, втискивающая жизнь в ее конечность и лишь подобным образом вызывающая предельную остроту существования» [7].
Смерть определяет не только жизнь человека, его существование, но и
придает смысл жизни. Так, согласно Н. Бердяеву, «только факт смерти ставит в
глубине вопрос о смысле жизни. Жизнь в этом мире имеет смысл только потому, что есть смерть, и если бы в нашем мире не было смерти, то жизнь лишена
была бы смысла»[2].
Ф. Арьес в книге «Человек перед лицом смерти» отмечает, что смерть является одним из коренных «параметров» коллективного сознания, которое не
остается неизменным в ходе истории, эти изменения не могут не выразиться в
отношении человека к смерти. Он пишет о существовании связи между установками в отношении к смерти, доминирующими в данном обществе на определенном этапе истории, и самосознанием личности, типичной для этого общества. Так, Ф. Арьес выделяет в своей книге несколько этапов отношения к
смерти в разные периоды развития человечества:
1. «Прирученная смерть», подчиняясь определенным церковным канонам,
обозначает связь человека Раннего Средневековья с природой.
2. «Смерть своя» относится к периоду XI – XIII веков, когда в своей смерти
человек открывает собственную индивидуальность.
3. «Смерть далекая и близкая», т.е. крах механизмов защиты от природы,
возвращение смерти к ее дикой, неукрощенной сущности.
4. «Смерть твоя» связана с актуализацией комплекса трагических эмоций,
вызываемых смертью любимого человека, родственников.
5. «Смерть перевернутая» - в XX веке развивается страх перед смертью и самим ее упоминанием. Это связано с чередой ужасных войн; чув*
Тавакалян Диана Сергеевна – аспирант кафедры зарубежной литературы КубГУ
133
ство «потерянности» лишили человека ориентации в жизни и изменили его
отношение к смерти. Смерть «чужого» человека перестала быть трагедией,
мы перестали ее чувствовать: «общество изгоняет смерть, если только речь
не идет о выдающихся деятелях искусства. Ничто не оповещает в городе
прохожих о том, что что-то произошло. ... Смерть больше не вносит в ритм
жизни общества паузу. Человек исчезает мгновенно. В городах все отныне
происходит так, словно никто больше не умирает»[1].
О подобном восприятии смерти писал З. Фрейд: «Каково ныне наше
отношение к смерти? По-моему, оно достойно удивления. В целом мы ведем себя так, как если бы захотели элиминировать смерть из жизни; мы,
так сказать, пытаемся хранить на ее счет гробовое молчание; мы думаем о
ней – как о смерти!»[10]. З. Фрейд утверждает, что каждый человек в глубине души не верит в собственную смерть, наше бессознательное «ведет
себя так, будто мы бессмертны» [10].
В художественной литературе XX века произведение строится вокруг
смерти как события и его концептуального осознания, при этом само это
событие неизменно становится ключевым художественным фактом действия. Смерть становится ключом к пониманию и осмыслению настоящего
и будущего. Она перестала нести на себе отпечаток мистики, но тайна её
сохранилась. Смерть, являясь закономерным завершением жизни, стала таким же объектом научных исследований, как и сама жизнь. Нельзя рассматривать смерть как противоположность жизни. Смерть – это не отсутствие жизни, а её окончание, завершение. Это вполне естественный процесс перехода из живого состояния в неживое.
Смерть – одна из центральных тем поэзии И. Бродского и Ю. Кузнецова. Страх смерти и его преодоление, смерть как небытие, поэтическое отношение к смерти, смерть как переход в вечность, сметь как переход в Ничто, борьба со временем, нежелание умирать, размышления о Рае и Аде, о
возможности существования после смерти – это тот неполный список мортальных сюжетов поэзии Ю. Кузнецова и И. Бродского.
А. Уланов отмечает, что стихи Бродского написаны «из пространства
предельного холода». Пределом холода для человека является смерть: «Говорят, если человек отравился цианистым калием, то он кажется нам мертвым, но еще около получаса глаза видят, уши слышат, сердце бьется, мозг
работает. Поэзия Бродского есть в некотором смысле запись мыслей человека, покончившего с собой» [9].
Так, можно утверждать, что для И. Бродского жизнь – это постепенное
умирание. Подобная мысль характерна для западноевропейской литературы, которая построена на принципах средневекового подхода к смерти.
Постоянные размышления о смерти приводят человека к поиску спасения
души по окончании жизни, к мыслям о небесах и Рае, уничтожая, тем самым, страх перед смертью.
Но у Бродского нет веры в Ад или Рай, для него эти понятия недостаточны. Его страшит не сама смерть, а то, Что после смерти, что произойдет
с человеком, когда он перейдет эту границу. Что ждет его Там? Возникает
134
страх перед Ничто. Ад не так страшен по сравнению с Пустотой, которая
возникает после смерти:
Бобо мертва. И хочется, уста
слегка разжав, произнести «не надо».
Наверно, после смерти – пустота.
И вероятнее, и хуже Ада. [3, 142]
Мысль о Пустоте развивается в стихотворении «Песня невинности,
она же – опыта» и возникает уверенность в ее существовании:
Мы боимся смерти, посмертной казни.
Нам
знаком
при
жизни
предмет
боязни:
пустота вероятней и хуже ада.
Мы не знаем, кому нам сказать: «не надо». [3, 145]
Ад у Кузнецова – это нечто страшное, пугающее. Его составляющие –
мрак, тьма, бездна, смерть. Возникают странные, темные и гибельные образы мира, практически разложившегося, предметы изображены болезненными, гротескными:
Гул, толчки… У бегущей собаки
Испаряется пасть… Как во мраке,
Пузырится удушливый пруд…
Тень влача, где ночное живет,
То сова, то душа зарыдает,
Червь сквозь сердце мое проползет. [6, 119]
Зной становится адовым пеклом, а дух умершего человека представлен
его тенью – в мировой мифологии у многих народов вместилищем души
считается также тень, отбрасываемая человеком, его отражение в воде или
в зеркале.
Но противопоставление Ада и Рая в поэзии Ю. Кузнецова нельзя
назвать каноническим. Ад для Кузнецова – это не только преисподняя, место вечного мучения грешников, но обрыв, Бездна, духовная катастрофа,
как прошлого, так и настоящего:
Рухнул храм… Перед гордым неверьем
Устояла стена… А на ней
Нарисованы суриком двери
С приглашеньем: «Стучите сильней!»…
Разве можно туда достучаться?
Все равно за стеною обрыв… [5, 203]
Идея борьбы с тьмой и бездной становится определяющей для Кузнецова. Бездна – это весь мир, и сам поэт:
Я памятник себе воздвиг из бездны,
Как звездный дух...
...частью на тот свет подался,
Поскольку этот тесен оказался. [5, 295]
Мрак и тьма в поэзии Кузнецова также выступают в образе заблудившейся души, пытающейся обрести себя, найти свой путь:
Во тьме зашуршала бумага –
135
И тьма шевельнулась во мне. [5, 156]
Не бояться смерти призывает Бродский в стихотворении «Темза в
Челси»:
Ты боишься смерти? – Нет, это та же тьма,
но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула. [3, 176]
Пока мы живы, даже ночью, привыкнув к темноте, способны различить очертания предметов. Но прейдет время, когда мы станем той же
«вещью», и этого не нужно бояться. Просто привыкнуть к тьме, в которой
не различить и стула, и присоединиться к миру вне жизни, к пространству
смерти. «Смертность, на которую человек не закрывает глаза, делает его
свободным от множества вещей. Эта точка зрения открывает широчайший
взгляд на мир – «вид планеты с Луны освобождает от мелких обид и привязанностей». Бродский «предпочел … серой тьме повседневного существования – тьму глубинную, угольную» [9].
Не случайно одним из символов смерти у Кузнецова становится Луна.
Если Солнце – это жизнь и Бог, то Луна олицетворяет темное, злое начало
и смерть. В архаических культурах периодичность исчезновения и появления луны на небесах послужила причиной для ассоциации этого светила с
царством мертвых, куда отправляются души после смерти. Луна предстает
как земля мертвых или мир душ, ожидающих перерождения. Дни мрака,
когда луна исчезает с небес, отождествляются со смертью человека:
Он пророс из глухого колодца.
Но однажды глубокая мгла,
Затмевая высокое солнце,
На цветущий подсолнух легла…
Мертвым светом его охватило,
Он уже не внимал ничему.
Только видел ночное светило,
Присягая на верность ему. [5, 175]
Тьма охватывает все живое, закрывая собой солнце, источник жизни,
погружая мир во мрак. Вместо жизни-солнца возникает смерть-луна, которая занимает место светила Жизни. Несчастный цветок, одурманенный
«мертвым светом», присягает на верность Смерти.
Смирившись с Пустотой, у лирического героя Бродского развивается
равнодушие и понимание неизбежности смерти. Живущий связан с миром
тысячами нитей. Смерть окончательно разрывает связь с реальностью и
близкими людьми, после смерти не суждено встретиться в потустороннем
мире:
В этом мире разлука –
лишь прообраз иной…
Вплоть до смерти и после
нам не вместе лежать…
Тем вернее сдаемся,
то имея ввиду,
что в Раю не сойдемся,
136
не столкнемся в Аду. [3, 80]
Но даже жизнь, по Бродскому, содержит в себе смерть. Смерть становится элементом жизни, ее частью:
Жизнь – форма времени. Карп и лещ –
сгустки его. И товар похлеще –
сгустки. Включая волну и твердь
суши. Включая смерть. [4]
Бродский приходит к мысли о том, что человек, а возможно и все бытие – это лишь форма времени. Таким образом, в его поэзии появляется постоянная связь смерти и времени. Жизнь человека – это отведенное для него время, и когда оно заканчивается, наступает смерть. Время передает все
во власть Ничто:
В этом и есть, видать,
роль материи во
времени – передать
все во власть ничего… [4]
Афористичными являются слова Ф. Лорки: «Для человека время, вероятно ценно не само по себе, а только в соотношении со смертью»[9]. Как
отмечает сам Бродский: «время создано смертью». Оно принимает на себя
функции уничтожения. Течение времени постоянно приближает человека к
смерти, тем самым постепенно убивая его. Эту мысль мы можем проследить в стихотворении «Строфы»:
Все, что мы звали личным,
что копили, греша,
время, считая лишним,
как прибой с голыша,
стачивает – то лаской,
то посредством резца –
чтобы кончить цикладской
вещью без черт лица. [3, 227]
Смерть для Кузнецова также как и для Бродского не страшна. Жизнь
представляет собой определенный временной цикл, который всегда и для
всех заканчивается смертью и ее не стоит бояться. Смерть неизвестна, она
для нас навсегда останется тайной, но мы для нее открыты, «мы давно превратились в мишени» - мишени для смерти, но страха нет. Умирать не
страшно:
Между нами разрывы и дым…
Мы давно превратились в мишени.
Наше знамя пробито насквозь,
И ревет в его дырах пространство.
Что нам смерть!.. [5, 305]
Страх перед смертью исчезает во многом из-за того, что у Кузнецова
возникает вера в жизнь после смерти, вера в Новую жизнь, которая «другую вспоминает»:
За окном потусторонний свет
137
Говорит о том, что смерти нет,
Все живут, никто не умирают! [5, 33]
Бояться смерти свойственно только живому, так как для всего живого
жизнь заканчивается смертью. Но, по Бродскому, смертный человек может
превратиться в бессмертную вещь, преобразившись в статую или памятник. Например, стихотворение «Подсвечник», в котором Бродский рисует
превращенного, и тем самым обретшего бессмертие, Сатира:
Стемнело. Но из каждого угла
«не умер» повторяли зеркала.
Подсвечник воцарился на столе…
Нас ждет не смерть, а новая среда. [3, 52]
Только вещь бессмертна, она не может умереть. Все в этой жизни для
человека бессмысленно, поскольку все заканчивается смертью. Со смертью
мир не изменяется, а прекращается. Поэтому говорить нужно:
О вещах, а не о
людях. Они умрут.
Все. Я тоже умру. [3, 137]
«У вещей Бродский учится спокойствию и стойкости («чувство ужаса
/вещи не свойственно. Так что лужица /после вещи не обнаружится, /даже
если вещица при смерти». Вещи не различают живого и мертвого, и после
школы их твердости страх смерти исчезает. Смертное затвердевание тела –
«это и к лучшему. Так я думаю» [9]
В поэзии Кузнецова смерть не всегда является Концом жизни. После
смерти человек может соединиться с природой и Землей, она принимает
его тело, тем самым становясь частью жизненного цикла:
И мне не встать – сквозь мертвую рубаху
Корнями в землю сердце проросло. [5, 12]
В стихотворении «На смерть друга» также возникает образ Земли, которая принимает «мертвое тело» в «живые объятия». У древних славян
земля считалась живой и являлась священным символом жизни и плодородия. Позже, в соответствии с понятиями Ада и Рая, Земля стала символом
могилы, так как Ад, по христианским канонам, находится под землей:
Живые и мертвые речи звучали
И только земля, что его родила,
В живые объятья его приняла. [5, 259]
Цикличность жизни представлена у Кузнецова также в качестве волны. Бегущая волна неоднократно появляется в его поэзии, олицетворяя собой жизнь со всеми взлетами и падениями. Она проносит человека через
годы, а он плывет по течению, не всегда осознавая, что с ним происходит:
Я возраста еще не понимал,
Когда взлетел на гребень поколенья…
Меня несет на берег высота.
Последний взлет!.. Перед своим паденьем
Так мощно медлит гребень!.. И чиста
Душа перед своим перерожденьем. [5, 27]
138
После последнего паденья, т.е. смерти, душа человека очищается и готовится к перерождению.
Чем явственнее чувствуется приближение смерти, тем медленнее течет
время. В стихотворении «Натюрморт» И. Бродского возникает зрительный
образ Смерти, материальный и конкретный, как и у многих поэтов русской
и зарубежной литературы, женское лицо:
Смерть придет и найдет
тело, чья гладь визит
смерти, точно приход
женщины, отразит.
Это абсурд, вранье:
череп, скелет, коса.
«Смерть придет, у нее
будут твои глаза». [3, 137]
В ранней поэзии Бродский боялся смерти. Смерть для него была тайной, непостижимой и немыслимой. Он не мог соотнести себя с ней и в
«Памяти Т.Б.» писал: «Смерть – это то, что бывает с другими» [4]. Затем
приходит осознание времени, появляется тоска и равнодушие, он понимает, что все в этом мире подвластно времени, а значит смерти. Как отмечает
К. Фрумкин: «Неизбежность смерти сделала для Бродского смерть уже
свершившимся фактом. Дыхание смерти чувствуется постоянно и окрашивает отношение к любому из фактов жизни». Происходит смешение жизни
и смерти. Лирический герой Бродского постоянно чувствует смерть и испытывает страх перед ней. И высказанная мысль о существовании Пустоты
после смерти в «Похоронах Бобо» перерастает в крик ужаса в «Песне
невинности».
Но существует то, что не подвластно Времени, истинным рецептом
бессмертия становится Слово:
Вычитая из меньшего – большего,
из человека – Время,
получаешь в остатке слова. [4]
Не случаен образ Данта в стихотворении «Похороны Бобо», который
воплощает поэтический идеал и заполняет Пустоту Словом:
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово. [3, 142]
Итак, в поэзии И. Бродского и Ю. Кузнецова смерть становится ключевым концептом философской мысли. М. Бланшо замечает: «Писатель –
это тот, кто пишет, чтобы суметь умереть, тот, кто обретает возможность
писать в результате преждевременной связи со смертью», а «само произведение есть опыт смерти» [8].
Интересно то, что смерть выступает преимущественно как темпоральная категория. Образ смерти рассматривается в непосредственной связи с
временными категориями мгновения и вечности. Время подчиняет себе
жизнь и приводит к смерти. Смерть в свою очередь наполняет смыслом
нашу жизнь, определяет жизнь человека и его существование.
139
Двойственность, противоречивость, неизбежность и непостижимость
смерти приводят к пониманию ее как Тайны, неподдающейся познанию.
Образ смерти со временем трансформируется, постепенно теряя сакральность, но сохраняя тайну. Произведение становится попыткой познать
смерть и побороть страх перед ней. Постепенно ужас, возникающий перед
окончанием жизни, исчезает, остается только надежда на перерождение
души, либо обретение бессмертия через Слово.
Литература
1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.
2. Бердяев К. О назначении человека. М., 1993.
3. Бродский И. Части речи. СПб., 2009.
4. Бродский Иосиф Александрович // http://lib.rus.ec/a/17595.
5. Кузнецов Ю. Стихотворения и поэмы. М., 1990.
6. Кузнецов Ю. Прозрение во тьме. Краснодар, 2007.
7. Новикова П. «Пространство смерти» в европейской литературе XX века:
Дис. ... канд. филол. наук. Самара, 2005
8. Пашкин Д. Русский танатос. Смерть и текст // http://www.topos.ru/article/
384/printed.
9. Уланов А. Опыт одиночества: Иосиф Бродский // http://netrover.narod.ru/
lit3wave/4_1.htm.
10. Фрейд 3. Мы и смерть. СПб., 1994.
140
Раздел III. Авторские модели мира
и теоретические проблемы современного
литературного процесса
Л.Н.Татаринова*
Православный роман Виктора Лихачева
Когда речь идет о литературе конца 20 - начала 21 века, то, как правило,
пишут о постмодернизме или о «массовой культуре» − бестселлерахдетективах, фантастике, приключенческом жанре и т.п. Менее изученным остается, на наш взгляд, более важный и достойный внимания пласт словесности:
творчество наших современников-писателей православного мировоззрения −
Ольги Высотской, Александра Петрова, прот. Николая Агафонова, Виктора
Лихачева и других. Это могут быть очень разные произведения − с акцентом на
житейское или необычайное, простые или сложные по форме, эпические или
лирические − но их объединяет одно: авторская позиция, а, точнее, христианская вера, которая становится призмой художественного восприятия жизни.
Именно в этом смысле мы и будем говорить о «православном романе».
В этом ряду ярким событием стало творчество недавно ушедшего из жизни журналиста, поэта и прозаика Виктора Лихачева (1957 - 2008), автора двух
романов, нескольких сборников рассказов и повестей и одной пьесы. Его самый известный роман «Кто услышит коноплянку?» переиздавался пять (!) раз
− 2001г., 2004г., 2005г., 2007г., 2008г. (Первое издание в Дубне – всего 3500 экземпляров, последнее в Москве − 20 000 экземпляров). Второй роман «Единственный крест» был написан в 2006 году и переиздан в 2009. Этим двум произведениям и посвящена данная статья. Попробуем разобраться как в общих
особенностях православного романа (на примере этих текстов), так и в индивидуальном своеобразии писателя.
От постмодернистской литературы (Пелевина, Сорокина, Пригова,
В.Ерофеева) Лихачева отличает простота и неподдельная искренность интонации, он пишет лишь о глубоко личном, наболевшем, выстраданном. Назовем
это качество единством книги и человека. В романах В.Лихачева много прямых размышлений о Боге, о жизни, о смерти, но эта особенность не препятствует художественности, не переводит его произведения в разряд публицистики.
Главный мотив всего творчества Виктора Лихачева - это мотив дороги.
«Сидорин стал пленником бесконечной русской дороги», − пишет автор о геТатаринова Людмила Николаевна – доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы КубГУ
*
141
рое своего романа «Единственный крест». А глава десятая в этом произведении называется «Странные люди» («Странник − какое глубокое слово!» [2,140])
и посвящена она тем, кто любит путешествовать. Сам Лихачев в жизни тоже
был путешественником, он совершил одиннадцать пеших походов (первый поход в 1991 году из Оптиной Пустыни в Дубну, где он постоянно жил с женой,
сыном и дочерью), исходил всю среднюю Россию (и не только ее). Тема России и тема пути стали неразрывными в творчестве писателя.
Это нашло отражение в сюжетах. В романе «Кто услышит коноплянку?»
по проселочным дорогам идет больной раком журналист Киреев, он бежит из
Москвы, продав квартиру, не взяв с собой ничего, кроме любимых книг. В
«Единственном Кресте» главный герой со странным именем Асинкрит, попав в
автомобильную катастрофу, частично теряет память и отправляется в самые
глухие уголки спасать природу. В дороге герои встречают любовь, исцеляются
от болезней и обретают себя. Открывается широкая панорама жизни (отсюда
ярко выраженное эпическое начало) − перед читателем проходят множество
второстепенных, но запоминающихся персонажей; городских и сельских пейзажей; ярких описаний жилищ и храмов, полян и часовенок, ручьев и рек.
Но самое важное в этом «романе дороги» то, что изменяется сам человек, и не только центральный герой, но и, казалось бы, периферийные персонажи: все движутся в этой реке жизни по направлению к самим себе − своей душе. Так, в «Коноплянке» другим человеком становится не только Киреев; но и
столичная красавица, хозяйка художественной галереи Софья (у нее хотят похитить старинную икону Богородицы под названием «Одигитрия» − «Путеводительница», конечно, не случайно именно эту); и родители больной девочки
Лизы, супруги Бобровы; и даже (что гораздо менее убедительно) воровка Юлия
Селиванова. Во втором романе обретает память Асинкрит; изменяются Лиза
большая и Лиза маленькая; журналистка Люба, сначала совершившая предательство по отношению к друзьям, в конце романа уходит в монастырь; меняются следователь милиции Романовский и нечестный депутат Исаев. И все они
в результате страданий и потрясений становятся хотя бы немного лучшими,
чем были раньше.
В мировой литературе жанр «романа дороги» является классикой: это и
«Сентиментальное путешествие» Стерна, и «Пиквикский клуб» Диккенса, и
«Генрих фон Офтердинген» Новалиса, и «Мертвые души» Гоголя, и «Гроздья
гнева» Стейнбека, и «Волшебная гора» Томаса Манна, и «Игра в бисер»
Германа Гессе (кстати, замечательные стихи Гессе о пути и необходимости
совершенствования личности Лихачев помещает в конце четвертой главы своего первого романа). Идея изменения, движения, стремления − это, вообще,
фаустовская (в терминологии Освальда Шпенглера), европейская идея. Но нигде так четко, как в православном романе, она не определяется как путь человеческой души к Богу, обретения смысла жизни и преодоления страха смерти. Именно духовная проблематика, представленная эстетическими средствами, отличает романы Виктора Лихачева от его предшественников.
Элемент занимательности, черты детективного жанра делают тексты Лихачева привлекательными для любого читателя. В «Коноплянке» это − погоня
142
бандитов за беззащитным Киреевым, идущим с драгоценной иконой по дорогам
России; в «Кресте» расследование Асинкритом и Лизой убийства родителей
маленькой Лизы. Острота сюжета сочетается с лиризмом повествования: оба
романа являются историей любви, оба включают в себя множество поэтических
текстов (и чужих, и оригинальных). Вообще, нужно отметить похожесть и даже
своеобразное единство этих двух книг Виктора Лихачева. И ту, и другую
предваряют поэтические эпиграфы, передающие основной смысл повествования.
Но поэтичность произведений не только в цитировании (а, надо сказать, Лихачев очень хорошо знает и любит мировую и русскую поэзию), а в самой атмосфере действия: в мотиве чуда, мистического, прекрасного, в любви
автора к Божьему миру. В одном из романов есть такая фраза: «…поэт – это
не количество изданных книг, а особый взгляд на мир и особое состояние души» [2, 307]. В романах происходит много чудесного, неожиданного. Например, перед смертью персонажи видят женщину в белом – это смерть, если ее
окликнуть, то она возьмет с собой (что и случается с Исаевым). Мистична
встреча с возлюбленной главного героя романа «Единственный крест»: сначала
он встретил ее в автобусе, затем, через 12 лет, женился на ней. Некоторые герои
являются уже после своей смерти (отец Николай во втором романе). Таким образом параллельно с основной – житейской стороной идет невидимая реальность. Все в этом мире не случайно – к такому выводу приходят и Кирилов, и
Сидорин.
Особое место занимает поэтика сновидений: в снах героев − отражение
их жизни и предсказание будущего. Вот один из снов Киреева: «Ему снилась
речка…бурый листок, плывуще-летящий в бликующей воде цепляется за покрытую зеленью доску мостика. Он на мгновение прервал свое движение, но
вода не останавливала свой бег ни на секунду, и вскоре листок продолжил полет…». Это похоже на поэтичную притчу о человеческой жизни.
Поэтическое в романах Лихачева тесно соседствует с философской и религиозной проблематикой, или даже является одной из форм ее реализации.
Свобода и Промысел, Бытие и Небытие, Добродетель и Грех − таков далеко не
полный перечень тем, которые обсуждаются героями исследуемых романов. В
художественном мире Лихачева присутствуют Добро и Зло, персонифицированные в личности и поступки, но Добро в этом мире явно преобладает, и оно
побеждает. Очень интересно представлены парадоксы православного сознания:
например, рассуждая о катастрофе, в которой он пострадал, но выжил, Асинкрит говорит: «Его наказали и наградили одновременно» или далее: «Он понимал, что платит дань. Наверное, за прежние годы, за прежнюю жизнь» [2, 142].
А во втором романе звучит мысль о том, что «если сбросишь крест, то будет
еще тяжелее». С точки зрения обычной психологии или здравого смысла, это −
абсурд, но религиозное восприятие видит в этом один из важных законов жизни
(таких антиномий много в текстах евангелий).
Образ и тема Креста проходят через оба романа Лихачева, также объединяя их в единое целое. Замечательны описания двух Крестных Ходов, в одном из них (к часовне святителя Николая) Кирилов обретает веру; в другом −
143
Асинкрит наблюдает чудо: стая журавлей ждет, когда будет воздвигнут новый
крест и кружит над ним. В мотиве Крестного Хода происходит соединение
темы Дороги и Креста. Человек не бесцельно бредет по жизни, обретая
смысл в долге и служении.
По этим двум текстам можно составить что-то вроде модели романа Лихачева. Она будет выглядеть так: в центре повествования молодой одинокий
герой, влюбленный в природу и книги, который проходит (и в прямом, и в переносном смысле) через множество трудностей, обретая веру в Бога и любовь к
женщине, она в конце становится его женой и рожает ему детей. В этом мире
есть злодеи (Кузьмич, Шурик, Гнилой в «Коноплянке»; Георгий Александрович
Львовский в «Единственном кресте»); и жертвы, среди них – невинные страдальцы-дети (в «Коноплянке» больная лейкемией Лиза; в «Кресте» тоже девочка Лиза, сирота, у которой убили обоих родителей прямо у нее на глазах.
Эти образы напоминают детские персонажи Достоевского). Важной фигурой
становится наставник-священник (о. Георгий и о. Владимир в первом романе и
о. Николай − во втором). Объединяющим началом является символика птицы,
коноплянка - ее главный символ. Это – серая, незаметная птичка, но она чудесно поет и пробуждает сердце. В первом романе ее упоминание вынесено в
заголовок и непосредственно в сюжет: девочка Лиза очень любит птиц и ассоциирует с ними лица знакомых людей, а себя она видит - коноплянкой. Про
коноплянку были сказаны последние слова (по телефону) убитого Воронова
(дяди Софьи). Про коноплянку написала стихи девочка «Маша из Химок»:
Коноплянку тот услышит,
К людям кто любовью дышит,
Она петь для тех согласна,
Кто живет легко и ясно.
Таким образом, коноплянка символизирует чистое сердце. И это ответ на
вопрос-заголовок романа. В конце первого романа Киреев и Софья слышат пение коноплянки: «маленькая, чуть меньше воробья, птичка самозабвенно пела,
не замечая никого вокруг себя» [1, 572]. Лиза Боброва умерла, но в кроватке
спит другая маленькая Лиза − дочь Киреева и Сони. Песня коноплянки названа
«песнью радости, любви и весны», ее слышит весь «окрестный мир». «Они
нашли друг друга на беспокойной дороге жизни, нашли свой ручей, свою поляну под тенистыми кронами деревьев. А еще услышали пение маленькой птички
коноплянки» [1,573]. Значит, не каждый может услышать коноплянку, а тот,
кто заслужил это своей жизнью.
О коноплянке речь идет и в конце второго романа: «Вот есть такая птичка
− реполов. Так ее называют в народе. А еще у нее есть другое название − коноплянка. Маленькая, серая, неприметная. Питается семенами, причем самых
сорных растений. Короче, чем не русский мужичок − скромный, трудолюбивый, все время с землей связан. Но как запоет коноплянка-реполов − и слеза
прошибает тебя, и сразу жить хочется, и любить мир хочется, и сделать что-то
доброе» [2, 508].
Коноплянка − символ незаметного, неподдельного, настоящего добра −
это и провинциальная Россия с ее безвестными поэтами, маленькими музеями,
144
умирающими деревнями, неприхотливой природой; это и душа человека, смиренного, сознающего свои грехи, но не теряющего надежды.
Виктор Лихачев развивает лучшие черты русской классической литературы 19 и 20 веков (его часто сравнивают с Валентином Распутиным) и вместе с
тем дополняет ее важной составляющей: традициями русской д у х о в н о й
поэзии и прозы, которые, на наш взгляд, недооценены и до конца не освоены ни
современной культурой, ни современной критикой.
Литература
1. Лихачев В. Кто услышит коноплянку? Сибирская Благозвонница. М., 2008.
2. Лихачев В. Единственный крест. Сибирская Благозвонница. М., 2009.
3.Сафонов Г.
Памяти Виктора Лихачева. http// gleb-safonov. livejounal.
com/5067. html
4. Ливанова Н. Дорога по имени Жизнь//Калужская областная газета «Весть»,
12.12.2007г.
5.Виктор Лихачев. Сайт памяти писателя. Автобиография. http:// www. liha.ru/
autobiography. html
145
П.А. Жукова*
Продуктивная горечь Юрия Кузнецова
В раскрытом свистящем пространстве, «оставляя чуждые пределы» и
«проходя за вечное кольцо», по бездорожью бредёт расколотая тень поэта,
«убитого наполовину». Приближаясь к собственному «отсутствию», она оставляет позади себя разомкнутые щели, шагом множит «живую пустоту» за собой,
удаляясь всё глубже в «распахнутый мрак», в сумрак неизвестного, оставляет
«следы» вдоль непроходимых дорог «неподвижными» - потомкам.
«Как горько буду я на этом свете/Грядущими сиротами любим!».
Всё творчество Юрия Кузнецова – о блуждании в «земном промежутке»,
о скитаниях «в живом молчанье смерти и любви», о предчувствии присутствия
соседнего бытия, путь к которому лежит через бездну. Размышляя о предстоящем, о том, куда отправится его душа, оторвавшись от всего земного и от него
самого, или о том, чем будет оправдано вечное движение всего сущего, он,
«отягчённый полуземным мельканьем», творит словом инобытие, и в такой поэтической медитации теряет ощущение пребывания в вещном мире, растворяется в Логосе. Он оказывается в двух мирах одновременно, и в двух мирах он
одинаково жив: «…границы прозрачными стали./Это верно: я вижу простор,/Где гуляет волна за волною,/Потому что упал мой забор/Прямо в море – и
вместе со мною.<…>И уносит меня в никуда/На родном деревянном заборе».
Пропадает грань между естественным и сверхъестественным, как в мифе.
«Даль через дорогу переходит», «летят на том и этом свете/Поперёк дороги облака»; «Усталые люди вздыхают на этом,/А тени на том берегу»; «Горизонты и
крыши размыты», за стеной – обрыв, «край иной земли», «за окном потусторонний свет»; «Душа улетает бесплотной/Сквозь двадцать сетей навсегда»; тени и светила находят соседство друг с другом в пространстве, исключающем и
то и другое: «равновесие света и мрака», «Рассвет наплывает по правую руку,/Закат наплывает по левую руку»; события сна корректируют явь; камню открывается душа; стул замещает человека, стоит надеть на него пиджак: «Стул в
моём пиджаке <…> Подойдёт к телефону,/Скажет: - Вышел. Весь вышел./Не
знаю, когда и придёт», следы – то же: «Встал, как лишний, след от наших
тел./Нацепил пальто и хлопнул дверью». Бытие поглощает быт, быт – Бытие, и
в этом невозможном слиянии-насыщении рождается великая фантасмагория:
гротескная дикая образность при стихийности внимания автора. «Треснул с
грохотом мир – и в избе/Я увидел зиянье провала./Возле бездны поставил я
стул,/Чтоб туда не шагнуть ненароком». «Он видел больше, чем его глаза,/Он
тронул глубже зримого покрова» - это слова Кузнецова о Христе, но не будет
кощунством обратить их на самого поэта, даже если добавить, что любой серьёзный, равно – сильный, поэт – немного Христос, тоже Распятый. Юрий Кузнецов видит гораздо дальше и глубже даже собственного воображения и собственной фантазии, он обретает свой стих в измерениях, не доступных челове*
Жукова Полина Александровна – студентка III курса филологического факультета КубГУ
146
ческому разуму, его поэзия – это видения творящего сознания. Призраки,
вполне реальные для своего родного мира, но невидимые для человеческого,
приходят к нему, обнаруживают себя для него и уводят его вглубь, во всевековое, всемирное, планетарное хранилище и открывают его Великому Знанию.
Таких поэтов, способных терять плоть, при сохранении себя созерцателем,
очень немного.
В стихотворениях Юрия Кузнецова «развязываются» все тропы и все
«сопредельные миры», но каждый его стих - это попытка поэта «взорванное
сущее» зажать в «сосредоточенной горсти», заплести в рифму – а оно разбегается, разлетается, расплетается и тяжело повисает в воздухе. «Вздыхают прорехи меж строк», как свищет «щель меж звёзд». И его читателю поэтому, наверное, сложно сохранить ясное и непротиворечивое впечатление от знакомства с
его поэтическим миром или, вернее даже, с его поэтическим космосом: это впечатление невозможно упростить, как невозможно упростить стих Кузнецова.
Читаешь, например: «Планета взорвана - от ужаса/Мы разлетаемся во мрак./Но
всё, что падает и рушится,/Великий Ноль зажал в кулак <…> Он держит взорванное сущее/И голоса: - Не отпусти!» - и чувствуешь движение колоссальной
воли внутри стихотворения, мощную вибрацию напряжённых сил, чувствуешь
самого автора, его могучие руки, стягивающие распадающееся сущее, но слышишь треск швов и сухожилий и осознаёшь, что непременно и скоро - ослабеет,
порвётся, тогда всё разлетится мгновенно, рассыпется в прах. Его стих – сеть, в
которую он поймал смысл жизни, трагическую суть Бытия.
Кузнецов таков во всём, противоречив и надломлен: он лёгок и в то же
время страшно тяжёл, «рассеянно грустен» и зол, грозен и тут же беззащитен,
одинок, жалок и горд, неприступен, самодостаточен, любящий и ненавидящий
одновременно. Чтобы выразить себя, он выбирает классические формы русского стиха, использует ясную лексику, его поэзия внешне не изощрённа, даже не
изысканна, на первый взгляд пряма, груба и даже иногда неотёсанна, но несёт
колоссальную внутреннюю нагрузку: смыслами, подспудными голосами, звуками – помимо звучащей формы, его стих обладает голосом глубины, он звучит
и изнутри, и звучание это не уловить невозможно. За каждым словом – символ,
за каждым предметом – идея: «-Я помню вечную швею/Среди низин и дыр./В
моё ушко продев змею,/Она чинила мир./Я прошивала крест и круг/И тот и этот
свет,/Меняя нитки, как подруг,/И заметая след». Или: «Что ни буковка – турье
дерево,/А на дереве по соловушке,/А за деревом по разбойнику,/За разбойником
по молодушке,/На конце концов – перекладина,/Слёзы матери и печаль земли».
И правда, читать Кузнецова можно вдоль и поперёк: «Про тебя она (строка), если вдоль читать,/Поперёк читать – так про всячину». Читать его можно и «мимо
памяти», но тогда упустишь не только Поэта, не только смысл отдельного стихотворения не раскроется, но Единого Стиха, в котором отразилась и отражается судьба народа и страны, в котором развивалось и развивается сущее, реальность, прошлое и настоящее.
Его поэзия – это парение тяжёлых предметов. Его поэзия о расшатанности, неустойчивости, непрочности мира: чьи руки его качают? Бога ли, дьявола? Или он давно в петле, и обречён, и мёртвый раскачивается из стороны в
147
сторону сам по себе…Его тоска – это тоска по мудрому, чистому, но оставленному в прошлом и позабытому народному мифу, вечно погибающему от невыносимой тяжести своего бессмертия.
Его боль от безнадёжности и непоправимости бытия. Он ловит суть происходящего и, за что бы ни взялся, в основе обязательно находит ошибку. Всё
непрочно: чуть тряхнёшь – треснет, разломится; ступишь – провалится; коснёшься – рассыпется; дунешь – исчезнет; пойдёшь - потеряешься. Всё изначально неправильно и неисправно, так как строится на грехе. Всё вверх дном:
«Опрокинуто пламя свечи», «занесли на Бога серп и молот,/Повернули реки не
в ту степь», «В белом свете всё перевернулось», и особенно сильные строки:
«жизнь свихнулась, хоть ей не впервой,/Словно притче идти по кривой/И о цели гадать по туману./Там котёл на полнеба рванёт,/Там река не туда повернёт,/Там Иуда народ продаёт./Всё как будто по плану идёт…/По какому-то адскому плану», «Одолень-звезда взошла над нами,/Замешалось лихо на беде/Полнарода ходит вверх ногами,/Словно отражения в воде». «На сегодняшнюю жизнь смотреть страшно, и многие честные люди в ужасе отводят глаза. Я
смотрю в упор», - говорит Кузнецов и видит ущербность жизни, замечает её
изъяны и погрешности, страдает перед видимым лицом безобразной реальности, в которой ничего, кроме хаоса, не находит, ничего определённого, ничего
ясного, ничего надёжного, ничего постоянного – всё непонятно, абсурдно и обречено, в беде, не знающей ни смысла, ни цели. «Проступает в оконном стекле/Божьей матери образ печальный./Это знак! Это знак непростой!/Что-то
страшное с нами случится». И естественно в таких условиях в сознании поэта
рождаются мысли о собственной инакости, и эти мысли ранят, чуть ли не больней, они ещё дальше отбрасывают его за пределы общего круга, они не оставляют надежд на сближение: «Жизнь копейка, да и та ребром./Я всё время думаю инако,/Разве это кончится добром?<…>Я всё время говорю стихами,/Как
апостол или идиот», «Не в ту степь мою жизнь покачнуло,/Не в те дали заносится ум»…
Его трагедия – это его одиночество. Одиночество в пошатнувшемся мире, где не за что ухватиться, не на что опереться, одиночество в стране, которая
распродана , либо роздана задаром, одиночество в Пустоте, в «индустриальной
пустыне», где «никого! Ничего!». Он рождён в «самодовольный аварийный
век», он «вырос с инфантильным поколеньем». Его окружают «глухие пропасти», «великие дали/И дыры российской земли», он слышит свист ветра, «гул
молчанья» («в полный голос зашлась тишина») и «вопли чужого бытия», над
ним – «пробитое пулями солнце», «потолок небес», «мглится бездна под каждой пятой», «вместо пола и стен – решето» - и всё насквозь мертво. И искать
человека в человеке бессмысленно: все «пусты и сквозят, как туманы», «подойдёшь – человек разлетится,/Отойдёшь – соберётся опять» и даже – «хочешь лицо дорогое погладить - /По воздуху руки скользят». «Всегда и везде я одинок,
даже в кругу друзей», - открывался поэт в одном из интервью. «…Старые друзья/Спились, а новым доверять нельзя». Поэтому появляются строчки: «я одинок, я жду освобожденья,/Как хвост кометы, жизнь свою влача», «Сизый вздох
по любви и уюту,/Словно птица обмёрз на лету», «В трагической формуле ми148
ра/Я изгнан за скобки. Мой знак/Стоит одиноко и сиро,/Таращась в распахнутый мрак» и гордое: «Пусть они проживут до седин,/Но сметёт их минутная
стрелка./Звать меня Кузнецов. Я один,/Остальные – обман и подделка»,
«остальные дым».
Его молитва отзывается «громовым небесным раскатом», «слова зовут и
гаснут, изнывая», это рыдание в «пустые просторы»: «Бог дремлет» - одни люди в разрушенном храме рыдают, другие - взрывают оставшиеся. Кузнецов хочет иного Бога, такого, который сумел бы привести в порядок жизнь на земле,
простить и полюбить человека снова и зажечься над ним яркой звездой, освещающей верные и неверные пути, чтобы человек мог выбирать тропу не вслепую, не во тьме шаря руками, задевая и громя всё вокруг, но освещённый всеведающим оком Бога.
Однажды прогнав Бога, человечеству нелегко будет его возвратить. У
Кузнецова не Бог покинул людей, а люди оставили Бога и кланяются «безликой
пустоте». Войны, разрушение храмов, Сталин – Богу места нет, он не нужен:
«гордое неверие». Бог потерян его поколением без сожаления, легко «приняты
ложные святыни»: «Что жалеть? Не такие потери/Проходили за давностью
дней». Кузнецов понял раньше, что причиной всех бед, выпавших на долю не
только его страны, является как раз отсутствие веры: отсутствие Бога в небе –
отсутствие царя в голове. И он заранее увидел измученный и раскаивающийся
человеческий род у стен разрушенного им же храма: «Сам хватился убогой потери,/Да забыл он за давностью дней:/Сам взрывал… Сам чертил эти двери/И
просил, чтоб стучали сильней». Но люди века поэта ещё не осознали гибельность утраты. И Кузнецов болел сердцем и за народ, и за Бога, но и зол он был
на обоих: на людей за активность, на Бога – за пассивность, наверное. «Купол
неба треснул до земли./На распутье я не вижу Бога». Но в его стихах, даже в
самых опасных, даже в тех, которые – бунт, есть Вера, есть Надежда, что небеса
и купола оживут: «Мир остался без крова и хлеба», «солнце ни там и ни тут/И
не греет косыми лучами», но построено будет «новое небо» - «Это небо светло
и легко,/Этот голубь не знает печали,/Это солнце стоит высоко/И меня заливает
лучами», «после многих смертельных ночей» грянет «колокол воскресенья» об этом и стихотворения «Видение», «Голубь». «Буду плакать и молиться долго,/Может, голос мой дойдёт до Бога», а просит он мира, покоя, правды, чистоты, спасения и Любви.
Его любовь – не-правда на земле, так как бессильна перед временем. Он
знает, любовь - декаданс, та любовь, которая превращается в законное право
супругов друг на друга, становится чувством будничным. Если сначала – крылья, то потом обязательно – дно: «парад пустых бутылок, выстроенных в ряд» и
«Нечего больше у доброго молодца взять./Полно, родная, красивую жизнь
вспоминать./Мало прошли, но я дальше не вижу пути./Ты обезумела, я опустился…Прости». Любовь возможная, любовь-состоявшаяся близость, раскрывающаяся перспективой свободных слияний, без препятствий, законных
слияний – станет любовью «тяжкой», любовью «ненавидящей»: «Закрой себя
руками: ненавижу!<…>Я вырву губы, чтоб всю жизнь смеяться/Над тем, что
говорил тебе: люблю». «Что может понимать жена в любви!». Заключать брак,
149
всё равно что заказывать муки. Любовь возможно сохранить лишь расстоянием,
не-разрешением, невоплощённостью страсти. Несвершённость дарует возникшему чувству бессмертие, иначе – непременно − путь от рая до ада, от любви
до войны. Но это опыт и знание Кузнецова и не стоит об этом забывать, ведь
есть же счастливые люди! А вера в вечную любовь, поможет её обрести или
пройти этот путь не в тени обочин, а держась светлой стороны.
Смерть, которая не возвращает, если возьмёт, которая предел и завершение Жизни, у Кузнецова не конец, не конец не только для души, но и, кажется,
для физического существования человека. «Он возвращался с собственных поминок/В туман и снег, без шапки и пальто». Но, конечно, он говорит не о бессмертии, но о неком едином пространстве, в котором сходятся жизнь и смерть,
мир реальный, видимый, и загробный, зарытый или лежащий в иной плоскости.
«Все живут, никто не умирает», «все поколенья живы», и живы, прежде всего, в
народной памяти, которую Кузнецов называет по-своему «старой сводней»,
способной связать настоящее с прошлым, живое с мёртвым, своих с чужими,
светлое с тёмным. И эта народная память предстаёт у Кузнецова каким-то бесплотным, но живым существом, способным рождать, рождать мёртвых в жизнь
или забирать живых в смерть, но потом возвращать, чтобы пережитое путешествие имело последствия здесь, на земле. Кузнецов следует своей интуиции, создавая картины всевременнности, он творит свой миф, используя известные образы, известные символы (расширяя их дополнительными необходимыми
смыслами), где встречается современность с древностью. Таким образом, реальность его стиха – мифопоэтическая, а в такой реальности смерти может и не
быть.
Чаще всего о смерти Кузнецов пишет в стихах о войне. Великая Отечественная лишила его отца, Юрию Кузнецову шёл пятый год, войне – тоже, несколько месяцев оставалось до победы. Через смерть отца Кузнецов осознает
масштаб трагедии, он будет терять отца и страдать от этой потери всю свою
жизнь, так как гибель одного родного человека разрастётся гибелью миллионов, и Кузнецов будет переживать смерть каждого погибшего на войне солдата
как личную утрату изо дня в день. В стихотворении «Возвращение» мы как раз
наблюдаем картину оживления ушедшего. К порогу, где отца дожидается мать,
бредёт, «одинокий и страшный», «столб клубящейся пыли <…> Словно машет
из пыли рука,/Светят очи живые» - это он: «Шёл отец, шёл отец невридим…».
В «Четыреста» Кузнецов отправляется на поиски убитого и, шагая «на запад и
восток», находит гору, опоясанную семью цепями, за шестью из которых
«смерть идёт», «а за седьмой – отец идёт,/Сожжён огнём на треть». И в этом
распростёртом пространстве, находясь одновременно в двух противоположных
концах света, где горы, дубы, осиновые листья говорят и знают о войне, он
находит памятную плиту, под которой «в одной зажатые горсти/Лежат-ничто и
всё». Услышав сыновнее «Восстань!», отец «с шумом сдвигает плиту» и так
отодвигает границу между реальным и нереальным, возможным и невозможным: «Отец нащупал тень его (сына) - /Отяжелела тень./В земле раздался гул и
стук/Судеб, которых нет./За тень схватились сотни рук/И выползли на
свет.<…>Повеял вечный холодок/На синий божий день./Шатало сына взад150
вперёд,/Он тень свою волок». «Все передо мной – и невозвратны» - такое пережить способен только поэт, только Кузнецов.
Поэтов, подобных Кузнецову – настоящих, сильных, трагических, не стоит забывать, не стоит замалчивать. Встречи с ними горьки, нередко болезненны, может быть, опасны, но всегда продуктивны и запоминаются на всю жизнь
– отголоски этих встреч будут заставлять возвращаться к ним снова и снова,
чтобы искать и находить в их творчестве-опыте утешение, спасение, правду,
находить себя, когда нелегко, когда молчание внутри: они помогут разговорить
душу и установить диалог личности с миром. Об этом лучше нас скажет сам
Юрий Поликарпович - есть книги разные, авторы разные, и много поверхностных, бездарных, бесполезных, которые уводят, которые вредны, которых нужно
избегать или не увлекаться ими: «Но попадаются глубины,/В которых сразу тонет взгляд,/Не достигая половины/Той бездны, где слова молчат./И ты отводишь взгляд туманный,/Глаза не видят ничего/И дух твой дышит бездной
странной,/Где очень много твоего». Мы ищем мудрых друзей, или людей, способных понять и подсказать или просто искренне разделить наши страдания и
наши радости, облегчить наш путь. Мы стараемся окружить себя людьми осторожными, деликатными и внимательными к нашему внутреннему миру – но это
поиск в живом окружении, возможен поиск и среди книг, и этот поиск не безнадёжен. Писатели, поэты не умирают, а продолжают жить страницами своих
произведений. В каждом стихе – душа поэта, в каждой строке – душа автора и
она может стать твоим другом, даже твоим воспитателем, проводником. У
Кузнецова такими друзьями были Шиллер, Байрон, Рембо и другие поэты, которых он переводил, и благодаря им он менее ощущал своё одиночество вне себя, одиночество во внешнем мире, чужом и разбитом.
151
А.П. Муха*
Павильон невзрачного серого цвета,
или мои размышления о Милораде Павиче
- Это неважно, веришь ты или нет,
потому что ты тоже не существуешь.
- Я тоже?
- Ты тоже.
Милорад Павич, «Тунисская белая клетка в форме пагоды».
Павича я обычно чувствую так: непонятно, но понравилось. А потом неделями хожу и думаю, что ж такого было непонятного и почему, если непонятно,
мне это так понравилось, что я об этом все время думаю… В общем, замкнутый
круг. Чтобы избавиться от мучений хотя бы по этому поводу (ибо поводов помучиться и помыслить и так хватает), сижу теперь и анализирую, чем же так
привлек меня хитрый серб.
Пара слов о ходе моих мыслей. Брать роман и анализировать его в эссе было бы бессмысленно и ни к чему хорошему обычно стремление уместить
необъятное в объятно-маленькое не приводит. Посему отправной точкой размышлений был выбран не один из многочисленных романов Павича, а исчисляемый шестью страницами рассказ «Тунисская белая клетка в форме пагоды»
из сборника «Страшные любовные истории» (я бы сказала, странные). Чтобы
было понятно, о чем речь, стоит кротко пересказать сюжет рассказа (происшествия, точнее). Кстати, все ли знают, что такое происшествие? А происшествие, как говорит интернет, это «крайне редко случающаяся ситуация, которая
может происходить как с объектами, так и с человеческими индивидуумами…
которая, как правило, сопровождается высокой эмоциональной активностью
людей, и может быть как положительного, так и отрицательного характера». То
есть, ждем рассказа о какой-то совершенно уникальной ситуации. Кстати говоря, по поводу слова «происшествие» и его отношениях со словом «литература»:
ассоциативно оно в моей голове находится где-то в непосредственной близости
от слов «детектив», «расследование». То есть лично я еще жду и расследования
сего происшествия.
Итак, сюжет. Есть некий человек, который с недавнего времени живет
один, и его мучают приступы бессонницы. Этот субъект говорит нам, что его
профессия – дизайнер по интерьерам. Так вот. Его мучает бессонница («Говорят, есть две бессонницы… Одна приходит, когда ты не можешь заснуть, а другая, когда просыпаешься среди ночи. Первая — мать лжи, вторая — мать правды») и он в неожиданно образовавшееся свободное время развлекается. Развлекается (точнее, пытается приманить к себе Морфея) наш дизайнер так: лежит в
кровати и мысленно проектирует дом, в котором стала бы жить покинувшая его
возлюбленная.
*
Муха Анна Павловна – магистрант кафедры истории русской литературы КубГУ
152
Стоит отметить: дом, обустраиваемый главным героем, реально существует – дизайнер заметил его во время одной своей вечерней прогулки. Находится
строение «в самом начале улицы Кралевича Марка, которая поднимается от
Савской пристани к улице Зелени Венац». Далее следует обширная (по меркам
рассказа) историографическая справка о бывших хозяевах дома с легким придыханием магии, без которой реальный автор (Милорад Павич то есть) обойтись ну никак не может: «Дом поставлен на “живой девятке”, которая, в отличие от других девяток, не является нулем».
После краткого экскурса в историю дома мы возвращаемся к мучимому
бессонницей дизайнеру, который ночами обустраивает Дом Луки Человича (вот
так называется этот особняк).
Собственно, стоит сказать об одной маленькой, но важной детали: формальный сюжет (т.е. сюжет внешний, сюжет действий, поступков) не развивается, действие целиком и полностью уходит в «комнаты» (т.е. мысли) героя. Во
сне он обходит здание, совершает некие магические ритуалы (вроде произнесения в каждой из семнадцати комнат по одному звуку имени возлюбленной). Затем герой выдумывает (и заказывает!) разные виды мебели, прикасаясь к которым его любимая воспроизвела бы все возможные виды движений, за которыми
неустанно следил (и каталогизировал) герой тогда, когда они были вместе.
Далее следуют длинные каталожные списки предметов интерьера, нужных
герою; в витринах разрушенных героем (во сне) магазинов он устанавливает
витражи с двумя сновидениями Я.М. (всего лишь).
В общем, наш герой вовсю продолжает работу над обстановкой особняка…
Стоит справедливо отметить: персонаж не только предается мечтаниям во
время бессонницы, но и ходит взглянуть на дом Луки Человича днем – правда,
увиденное его удручает. Во время ночных бдений дело обстоит намного лучше.
Повествователь рассказывает о том, как он обставляет ванную комнату
(все в соответствии со вкусами, мечтами, грезами Я.М. – например, стеклянная
кровать, на которую можно направить регулируемые струи воды, и спать на ней
как под летним теплым дождем).
Находится место (куда ж без нее, она в сильной позиции – в названии текста) и для тунисской белой клетки в форме пагоды. Кстати, о ней, этой клетке,
более ничего не говорится – хотя появление всех предыдущих причудливых
вещиц обстоятельно поясняется. Видимо, это слишком личное для автора проекта, что-то, имеющее значение только для него и Я.М.
В общем, рассказчик бесконечно проектирует и украшает комнаты любимой Я.М., но всему хорошему когда-то приходит конец. Герой добирается до
спальни и не знает, как ее обставить. Почему? – спросит наивный читатель. Ну
как почему, а какую кровать ставить? На одну Я.М. – что, в общем-то, логично.
Но нет – герою тоже нужно место в этом доме снов. Точнее, бессонницы.
Смоделировать односпальную кровать для Я.М. – невыносимо. Он хочет вернуть любимую в свою жизнь. Без ее вмешательства и решительных действий,
направленных на возвращение героя рассказа в свою жизнь, дом закончить правильно невозможно. Работа остановилась…
153
Тут в умственные измышления героя вторгается реальность: серые будни с
тающими грязными облаками. Из грез его вырывает телефонный звонок в офис,
где герой работает. «Мужской голос, представившись, предложил мне заняться
одним жилым помещением. — Вы, может быть, помните это здание, — добавил
голос, — оно известно как “фамильный дом Луки Человича”. Там не закончены
кое-какие работы, в связи с этим я приглашаю вас от имени заказчика…».
Естественно, герой тут же несется сломя голову на улицу, более знакомую
ему в мечтаниях, чем наяву. Что же он видит? В витрины магазинов по бокам
особняка вставлены витражи, на одной стороне – «пейзаж и странные облака» подтвердим догадки сметливого читателя: да, совершенно верно, это изображение сна Я.М.
Очевидно, чувствуя постепенное сошествие в ряды умалишенных, герой
берется за «ручку в виде дамского револьвера XVIII века» - ну точно как ночью
придумывал, и входит в дом. Куда же он направляется? Естественно, в недообставленную комнату, замечая на бегу явные признаки чьего-то пребывания в
доме – по лестнице с перилами (как Я.М. хотела) через ванную со стеклянной
кроватью. Читатель, ты подозреваешь happy end? Правильно делаешь.
На синем диванчике (единственный предмет, который поставил без душевных мук герой в спальную комнату) сидит Я.М. собственной персоной. Потрясенный герой ждет объяснений. Мы тоже ждём.
«— Ты бы хотел получить какое-нибудь объяснение всему этому, да? Но к
чему объяснения, если мы снова вместе? Разве любви нужны объяснения? Однако, если тебе так хочется все узнать, я скажу. Здесь все неправда. …Ничего в
действительности не существует. Все здесь поддельная бесконечность и сиюминутная вечность», - вот такие веселые слова произносит Я.М. Учитывая опосредованное с помощью диковинных вещичек для возлюбленной описание характера новоявленной героини, не удивлены.
Далее – слегка психоделический короткий диалог, в котором Я.М. объясняет, что ни ее, ни нашего героя, которому мы уже сочувствуем и сопереживаем, не существует (нормально?). Читаем: «Все это компьютерная игра, и нас
сюда загрузила настоящая Я. М.». Конец. Подбираем челюсть с пола.
Итак, что мы имеем? Есть внешний сюжет (сюжет действий): от героя
ушла любимая женщина, он страдает бессонницей, по ночам фантазирует, проектируя дом для Я.М., днем трудится в конторе, однажды мужчина от имени
заказчика по телефону просит главного героя завершить «кое-какие работы» в
доме Луки Человича. Герой не дожидается дня встречи с заказчиком, прибегает
в особняк, совпадающий с особняком его (точнее, Ясмининой) мечты, встречает там Я.М. и недообставленную спальную, а Я.М. рассказывает ему, что всего
этого на самом деле не существует (отметим в скобках – но это неважно, ибо
они снова вместе), и их загрузила сюда настоящая Я.М..
Есть внутренний сюжет – герой обставляет дом, выполняет его перепланировку, и застревает на последней комнате – спальне.
Но что выходит? А выходит то, что ни внешнего, ни внутреннего сюжетов,
так старательно нами выписанных и даже немного проанализированных, нет.
Все это – компьютерная игра (на ум приходят знаменитые «Sims», где игрок154
творец создает на свой вкус дом, обставляя его мебелью, и персонажей, которые в этом доме будут жить), и де факто существует только игра, точнее, ее
фрагмент, в которую играет настоящая Ясмина Михайлович. То есть, герой –
плод ее фантазии, а предметы, старательно им выбираемые в результате долгих
наблюдений за возлюбленной, – тоже ее выбор.
Действительно, если это игра, многое проясняется. Ведь не вяжется, ну никак не вяжется между собой стремительная стыковка двух сюжетов – выдуманного и реального – в центре событий, доме Луки Человича, который внезапно
оказывается обставленным именно так, как грезилось герою. Итак, гипотеза
один: весь текст – описание сознания персонажа компьютерной игры, который
сам об этом не подозревает.
Это была первая гипотеза. Есть и другие – но о них будет возможно говорить только после размышления, сколько рассказчиков присутствует в тексте.
Согласитесь, происшествие, претендующее на достоверность (с точки зрения
говорения как события) – это когда один повествователь и никаких диалогов.
Итак, ищем в тексте рассказчика. Будем пробираться по тексту снова. Приготовились? Па-аехали.
«Человеческие мысли как комнаты». Это кто говорит? Какой-то всезнающий, по-видимому, человек. «Бывают роскошные дворцы, а бывают и чердаки
под крышей»… Кто угодно так может рассуждать, да? Дальше – интереснее.
«Наши мысли, то есть наши комнаты, составляют анфилады дворцов или казарм, а могут быть и чужим жилищем, в котором мы только снимаем угол.
Иногда, особенно ночью, мы оказываемся перед закрытыми на замок дверями и
не можем выйти наружу. Мы заточены в темнице, до тех пор пока сны не избавят нас и не выпустят на свободу». Похоже на вступление (подлинно авторское,
автора-творца, если хотите), на пролог – даются установки, но пока нет конфликта и действующих лиц.
А вот что-то новенькое. Посмотрите: «с тех пор как я живу один, меня все
чаще мучают приступы бессонницы, и я борюсь с ними с помощью тщательно
разработанного метода». Вселенная сузилась от «человеческих мыслей» до «я
живу один», от «мы заточены в темнице» до «меня все чаще мучают приступы
бессонницы». Сначала читателю дали общую ситуацию, затем сузили ее в отдельно взятую ситуацию. Так сказать, наглядный пример. Для наглядности. В
общем, произошла смена повествователя. Теперь перед нами, в отличие от первого абзаца, рассказчик не наблюдатель, а участник описываемых им самим событий. Он внутри изображенного мира (а первый повествователь – снаружи
или, по крайней мере, на границе между мирами).
Этот рассказчик-персонаж остается с нами до конца текста. Правда, в конце есть единственный мини-диалог, участвующие лица которого являются носителями речи, т.е. появляется и третий повествователь – Я.М. Она тоже внутри
текста, она участвует в событиях.
Итак, получается, есть три уровня реальности: вездесущего рассказчика
(существует вне текста, вне происшествия), рассказчика-персонажа (его мир
совпадает с описываемым миром) и второго действующего лица (Я.М.). Она
присутствует в том же мире, что и главный герой, но обладает информацией о
155
третьем уровне реальности (она шире художественного пространства текста, но
уже местонахождения вездесущего рассказчика).
В пространстве же рассказчика (то есть в преобладающем в тексте художественном пространстве) есть некоторые характерные черты, есть сакральный
центр и пр.
Пространство у Павича всегда интересно разобрать по косточкам. Потому,
возможно, что у автора реальное (условно реальное, конечно, ведь литература –
это вообще глобальная такая условность) и фантастическое спаиваются
настолько, что сумасшествие героев становится как раз показателем их «нормальности» в рамках художественного мира и метода автора, мало того, молниеносная смена пространств и бегание взад-вперед по ленте времени для героев Павича не только раз плюнуть, но тоже показатель того, что все идет как
надо.
«Человеческие мысли как комнаты». Первый абзац рассказа – совершенно
абстрактное метафорическое пространство, но автор ловко опредмечивает метафоры (мысли как комнаты; «бывают роскошные дворцы, а бывают и чердаки
под крышей»; а потом – тихо-тихо, незаметненько, алле-оп, и мысли уже не
«как комнаты», а «то есть наши комнаты», - сначала было сравнение, а теперь –
пояснение). Очень интересно, что для автора открытым пространством являются сны, а закрытым пространством, темницей – бессонница, мучительное бодрствование.
Таким образом, автор сразу же показывает нам поле, на котором будет разворачиваться последующее действие. Затем начинается монолог от первого лица («С тех пор как я живу один…»).
Пространство вокруг главного героя рассказа практически не развертывается. Фактически, основное место действия – кровать, в которой рассказчик мучается от бессонницы и мысленно обставляет дом Луки Человича для возлюбленной.
В то же время при описании особняка дается очень точное, выверенное
описание места, где этот особняк находится – в реальном месте. Более того,
мечтания героя по поводу того, как бы он обставил и отремонтировал это здание, время от времени перемежаются замечаниями о том, как этот особняк выглядит на самом деле. «Конечно, иногда я и днем ходил посмотреть на дом Луки Человича. Он был в плохом состоянии и выглядел много хуже, чем в моих
фантазиях. Витрины магазинчиков на первом этаже были покрыты пылью, а в
углу на ступенях главного входа сидел какой-то тип в заплатанной шляпе и курил трубку… Все это и впрямь разочаровывало». Но зато ночью, в постели,
время проходит, наконец, весьма осмысленно: «…когда спускалась ночь, я с
еще большим усердием обставлял каждый уголок этого дома».
Рассказчик все наполняет и наполняет предметами свой выдуманный мир,
точнее – дом (то, что вне дома – несущественно, мало того, то, что вокруг героя
в его мире – несущественно). Это заполнение пустого места предметами, восстановление порядка из энтропийного хаоса небытия уже само по себе интересно с точки зрения исследования художественного метода автора в отдельном произведении (возможно, и во всем его творчестве).
156
Кроме того, любопытно не только то, как происходит постепенное заполнение пространства вещами, но и какими вещами обставляет герой дом (вот
здесь нелишне будет вспомнить размышления в начале текста о том, что мысли
человека – это комнаты, а слова − вещи, эти комнаты населяющие). И тогда
становится понятно, что географическое пространство особняка Луки Человича
на самом деле чисто психологическое, ибо фундамент этого дома – предпочтения Я.М., которую любит главный герой, наблюдательный, практически как
Шерлок Холмс.
Итак, происходит постепенное заполнение свободного пространства, сакральным центром которого является то ли тунисская белая клетка, то ли
спальная комната, интерьер которой не дается дизайнеру. В конце же рассказа
случается сразу два фокуса с художественным пространством: сначала оно из
придуманного становится реальным, и на месте мрачных витрин магазинчиков
по обе стороны особняка вырастают витражи с сюжетами снов Я.М., а потом
все это пространство снова теряет свой объем и остается картинкой на экране
монитора настоящей Ясмины.
Вот теперь, проанализировав уровни реальности, пространства текста, открыв трех рассказчиков вместо одного, вспомним о наших размышлениях по
поводу того, что этот текст такое. Первая гипотеза, напомню, текст – запись
внутреннего монолога героя, который сам до самой развязки не в курсе, что
живет в компьютерной игре.
Вторая версия того, что произошло (лучше бы, конечно, она шла первой):
персонаж, находящийся в тексте, домечтался и достроился во время бессонницы до того, что, наконец, уснул (то есть освободился, вышел из темницы на
свет). И во сне, а вовсе ни в какой компьютерной игре, а уж тем более не в реальности, видится ему Я.М., сидящая на голубом диванчике в спальне особняка
Луки Человича.
Есть и третья версия. И снова прочитаем (а некоторые уже и наизусть процитируют) начало рассказа. Да, там где про комнаты. Мысли-комнаты, словавещи. Мысли образуют анифалды дворцов или угол в каморке. Дворцы – это
что? Я бы предположила, что сознание. Совокупность мыслей (сильно упрощая).
Добавим фактов, чтобы быть вправе оглашать новую гипотезу. Я.М. – это,
конечно, Ясмина Михайлович. Так зовут жену Милорада Павича. То есть – реалия. Таким образом, можно предположить, что автор пишет о себе. Почему же
тогда такая большая неувязка – главный герой рассказа дизайнер по интерьерам, а не писатель? А есть ли тут неувязка, после такого-то красивого сравнения мыслей с комнатами? Писатель – и есть дизайнер по интерьерам, создатель,
оформитель мыслей своих персонажей, творец роскошных дворцов и чердаков
под крышей.
Мы уже смотрели, как тщательно дизайнер выписывает интерьер особняка
Луки Человича. Особняк – это сама Ясмина, ее сознание. Ее дом, в котором
могут храниться написанные ею книги, большая фотография сына, танцы под
любимую музыку и сон под летним дождем. Герой (как дизайнер = писатель)
занимается самой натуральной (ну или не самой) бытовой магией: иносказа157
тельно, метафорично описывает личность Ясмины, «завораживая» ее на возвращение к персонажу. И она, конечно, возвращается. Спальня в таком случае –
это сердце, душа героини, наименее изученная писателем (напомним: не реальным Творцом, а писателем – героем рассказа) область, вот почему остальные
комнаты он заполняет довольно успешно. Что творится на сердце у Я.М., загадывать не хочет, вот и ждет ее возвращения, чтобы дообставить пустующую
комнату. Или вообще заколотить досками. Вот такие пироги. Точнее, гипотезы.
…Хочется продолжать, продолжать, продолжать поток собственного эгоистичного сознания (строить свой личный павильон из мыслей, или там донжон,
ну, что-нибудь похожее), воспарять мыслью все выше, но, т.к. это не научная
работа (объем; теория; строгость), а, скорее, несерьезное развлекательномыслительное эссе, то на этом опись и инвентаризацию комнат дома Я.М. считаю не просто нужным, а необходимым закончить.
Напоследок: еще один откопанный сундук с сокровищами (или с консервными банками?). Или не сундук, а один из неслучайно оброненных автором
ключиков от текста метаромана (что больше, чем рассказ).
В тексте есть предложение: «Тунисскую белую клетку в форме пагоды я
поставил в углу рядом с креслом. В клетке спит полосатая кошка, такая, например, как Константина, которую Я. М. нашла в Греции, полюбила ее и часто говорила, что Константина видит вместо своих снов мои сны».
Просто портал в измерение «Хазарского словаря» какой-то. Пагода – буддистское мемориальное сооружение, вид имеет своеобразной многоярусной
башни. Буддизм, запомнили? Тунис же – исламская страна. Буддизмом и не
пахнет. И в Тунисе сделали клетку в форме буддистского хранилища реликвий?
Кошка Константина (тоже есть кое-какие коннотации у имени) из Греции. Спит
в клетке в форме пагоды из Туниса. Кто в Греции живет? Православные христиане. Если интернет не врет – это почти 97 процентов населения.
…Как водится, заключение обычно перекликается со вступлением. Подводятся итоги, подтверждаются или опровергаются положения, предложенные к
рассмотрению в начале текста. На исследователя (т.е. меня) такой способ изложения мыслей часто наводит тоску, тем более жанр эссе – он такой, не располагающий к чрезмерной академичности. Но «архипелаг Павич» (так жена писателя Ясмина Михайлович называет совокупность личности Милорада и созданных им произведений) настолько загадочен и непостижим, и, кроме того, моей
личной задачей было понять, в чем его особенности, поэтому без выводов не
обойтись. Итак, выводы на сцену.
Чем меня привлекает Павич и слегка проанализированый рассказ?
Тем, что:
…текст не просто пропитан метафорами. Он сам – Метафора с большой
буквы. И повсюду загадки: что символизирует дом, что значит сон Я.М. о тяжелых зеленых облаках, почему главный герой не писатель, а дизайнер, почему
в заглавии – тунисская белая клетка, и причем здесь вообще кошка Константина из Греции. Очень интересно разгадывать метафоры и искать ключиподсказки. Даже не знаю, понравилось мне бы еще больше, если бы в конце
158
рассказа автор писал ответы на мои вопросы перевернутым мелким курсивом,
или нет.
… занимает игра писателя с читателем и читателя с текстом. Автор обманывает ожидания читателя всеми возможными для него способами. Интерактивность, короче. Читатель ну не может не попасться на удочку писателя и
остаться в стороне от размышлений, чего это такое было.
…относительность правит миром. В данном случае – миром художественного произведения. Сколько людей – столько мнений, и мне по душе эта поговорка в качестве одной из характеристик художественного метода автора.
Напоследок подумалось: литературоведческая критика – всё-таки очень
относительная вещь. Может, не всегда стоит анализировать и раскладывать
произведение по полочкам в комнатах своих мыслей? То, что разложишь неправильно – еще ничего, но вот загадочный флер над произведением после таких раскладываний может и померкнуть. Хотя, пусть это пока будет моей гипотезой, творчеству Милорада Павича это не грозит. По крайней мере, в ближайшем будущем.
Литература
1. М. Павич. Тунисская белая клетка в форме пагоды // Иностранная литература. 2002. №2, с. 125-131.
2. «Умники.ру». Электронный толковый словарь http:// www. ymniki.ru/
proishestvie. html.
159
А.В. Мусиенко*
Поэтика барокко в рассказах Милорада Павича
Изначально жаргонное словечко «барокко» использовалось португальскими моряками для обозначения бракованных жемчужин неправильной, искаженной формы. Сегодня термин «барокко» используется и как обозначение главенствующего стиля в европейском искусстве конца 16 — середины 18 вв., и как
метафора в смелых историко-культурных обобщениях: «эпоха Барокко», «мир
Барокко», «человек Барокко», «жизнь Барокко». В каждом историческом периоде развития искусства случается свое «барокко» — пик творческого подъема,
концентрации эмоций, напряжения форм. Исследователи говорят и пишут о качествах барочности как неотъемлемом свойстве отдельных национальных культур и исторических типов искусства. Испанский философ Х.Р. де Вентос предложил термин «необарокко» для обозначения состояния современного западного общества, подчеркивая тем самым связь двух эпох и наличие общих признаков в произведениях искусства 17 и 20 века [3].
Барочность – более чем стиль барокко. Это своеобразный творческий импульс, циклично повторяющийся на протяжении всей истории искусства в любых его проявлениях [4]. Нас интересует хорошо заметная барочная окраска
рассказов современного сербского писателя Милорада Павича. Какие именно
черты барочной поэтики присутствуют в его творчестве, мы попытаемся выяснить на примере трех рассказов: «Долгое ночное плавание», «Два студента из
Ирака» и «Инфаркт». Для начала выделим главные особенности литературного
барокко:
1. ощущение неустойчивости и беспокойства, беззащитности человека перед судьбой;
2. внутренний драматизм и эмоциональная напряженность, вызванные глубинным чувством призрачности, неподлинности бытия, скрывающимся за
демонстративным благополучием и легкостью;
3. идея «жизнь есть сон»;
4. контрастность: сочетание утонченности и грубости, аскетизма и гедонизма, науки и мистики;
5. диктат формы, витиеватость и усложненность речи, избыточная метафоричность;
6. восприятие события как простой условности, чистого символа, лишенного содержания и исторического измерения;
7. взаимопроникновение жанров, размывание их прежних границ и принципов;
8. обращение к мифологическим, библейским, историческим сюжетам;
9. игровое начало.
*
Мусиенко Алиса Витальевна – студентка II курса филологического факультета КубГУ
160
«Долгое ночное плавание» − небольшой, но очень динамичный рассказ,
целиком построенный на контрастах, − как на уровне содержания, так и на
уровне формы. Действие происходит в 17 веке, во время расцвета Барокко. Завязка сюжета напоминает средневековую пастораль: воин и юная пастушка
случайно встречаются на просторах далматского Загорья, и красавица Велуча
с первого взгляда влюбляется в красавца Павле. Но романтический пафос
быстро и резко снижается, сменяясь грубым натурализмом: солдат, обесчестив
и покалечив девушку, продает ее на судно в качестве проститутки, причем
обезумевшая от страха Велуча не осознает, что с ней происходит. Девушка на
всю жизнь остается слепой, глухой и влюбленной в Павле. Каждого нового
мужчину Велуча принимает за своего возлюбленного, а когда поток посетителей иссякает, девушка от горя бросается в море. Потерявшая все связи с
внешним миром Велуча погибает от своей личной, несуществующей трагедии,
так и не вернувшись в реальную жизнь. («Мой Павле Шелковолосый за все
эти долгие годы ни разу не обманул меня, по десять раз за ночь приходил ласкать, ложась рядом. Теперь он больше не приходит»).
Налицо мотив беззащитности, беспомощности человека перед судьбой:
Велуча, символ красоты и молодости, становится жертвой случая, войны, человеческой жестокости. Ее слепота не ведет к духовному прозрению, как это было у Софокла или Шекспира, − наоборот, героиня безнадежно погружается в
иллюзии. Трагическая двойственность происходящего ярче всего изображена в
эпизоде, когда глухая Велуча играет на беззвучной свирели: в ее мире музыка
звучит, хотя внешне эта игра совершенно бессмысленна.
Жизнь Велучи после встречи с Павле подобна сну, но в этом есть и положительные стороны: девушка не осознает своего несчастья, кроме того, ей не
страшны «дурные» болезни «зрения и слуха», для остальных являющиеся смертельными. Конечно, речь здесь идет не только о венерических болезнях − Велуча здорова духовно, несмотря на окружающую ее грязь. Писатель мастерски
показывает шаткость, несостоятельность человеческих оценок: с точки зрения
христианской морали Велуча, ставшая проституткой, является грешницей, но
на самом деле она невинная жертва, которая не понимает, что с ней происходит. Так один тот же объект при перемене освещения приобретает различные
формы.
Образ Павле построен на противопоставлении красоты и бесчувственности, которую автор подчеркивает физической неспособностью различать вкус
(«он потерял способность различать вкус, и ему стало безразлично, держит
ли он во рту женскую грудь или фасоль с огурцами»). Нельзя сказать, что этот
персонаж является воплощением абсолютного зла: в Павле нет коварства, но
сильно грубое животное начало. Он действует спонтанно, не задумываясь над
своими поступками. Зло, скорее, воплощает война, далекая (мы не слышим
стрельбы), несколько абстрактная, но дающая реальные последствия: вынужденный постоянно убивать, Павле привык к человеческим страданиям и уже не
замечает их. Хотя его душа – «огромная» и богатая, лучшие ее качества в условиях постоянной войны не проявились: «Огромная и незнакомая душа стояла
перед ней, распятая на сторонах света, как растянутая шкура, и пустая, как
161
ночь, но на самом деле в ней как в ночи лежали города и леса, реки и морские
заливы, женщины и дети, мосты и суда, а на дне, совсем на дне, крошечное и
прекрасное тело этой души, которое катило ее наверх, как огромный камень».
Что касается главенства формы над содержанием, то эта особенность, безусловно, характерна для данного рассказа. Он написан выразительным, ярким
языком: литературная речь приправлена просторечиями («С этими словами
Павле Шелковолосый вышел на большую дорогу, красивый, как икона, и по уши
в крови, как сапог»), а романтические метафоры перемежаются с натуралистичной трактовкой деталей («В тот день в горах он встретился с Велучей, пастушкой, которая жила без отца, с матерью и сестрами, и никогда не видела
мужских яиц, разве что у барана, да и то в жареном виде, а мужчину встречала только на дукатах. Когда из леса перед ней появился Шелковолосый Павле, со сплетенными вместе косичкой и усами, девушке показалось, что ей улыбается солнце»). Реальность в рассказе изображена условно, пейзаж и интерьер
практически отсутствуют. Павич создает эффектный, но иллюзорный, эфемерный мир; хитросплетение метафор и антитез лишено правдоподобия. Иногда и
вовсе создается впечатление, будто текст создается магическим сцеплением
звуков и слов, бессмысленным в своей основе. Например, описание ветров, к
которым обращается Велуча, умоляя подарить ей ребенка: «Она молила Западняк, или Горник, на котором пишут то, что хотят забыть; и Бурю, при
которой продают честь слева, чтобы сохранить ее справа; […] Чух, дитя
ветров, который может во сне освободить горбуна от горба и повесить тот
на ветку клена; и Модрик, который дует через день и может захлебнуться в
половнике с вином». Разобраться помогает интуиция, фантазия и сам Павич, который в одном из интервью признается: «Как писатель, я очень интересовался
балканской мифологией. Это, разумеется, перешло в мои романы: в них много
загадок, поговорок, они насквозь мифологичны» [5]. Вероятно, и здесь писатель
обращается к устному народному творчеству, однако он не воспроизводит существующие поговорки, а конструирует по их модели собственные, авторские
приметы, создавая некий псевдо-фольклор.
Текст очень «густо замешан»: как в барочном орнаменте, здесь совершенно нет пустого пространства, все заполнено образами, символами, метафорами,
порой не имеющими отношения к развитию сюжета и выполняющими чисто
декоративную функцию. Композиционно некоторые элементы текста непропорционально велики по сравнению с целым: перечень ветров, которым молилась Велуча, в масштабах рассказа столь же длинен, как Гомеровский список
кораблей, и, в отличие от «Илиады», здесь ни смысловой, ни композиционной
необходимости в этом нет. Громоздкие перечисления характерны для литературы Барокко: похоже, писатель осознанно отсылает нас к 17 в., используя этот
прием.
Рассказы Павича – это изящество в сочетании с математическим расчетом.
Несмотря на обилие «украшений», в основе своей они имеют четкую структуру, «кристаллическую решетку» [2], в них есть ритм, композиционный центр (в
рассматриваемых текстах это «встреча со злом»). Сюжет чаще всего прост, он
162
может и вовсе отсутствовать («Рассказ о святом Савве»). Но есть и сложные
«сюжетные» вещи, как, например, рассказ «Два студента из Ирака».
Композиция рассказа выстроена по принципу фракталов. Если увеличить
маленькую область любого сложного фрактала, а затем проделать то же самое с
маленькой областью этой области, то эти два увеличения будут очень похожи в
деталях, но не будут полностью идентичными. Так и в данном рассказе: элементы сюжета, трансформируясь, повторяются на разных уровнях текста, образуя временную и пространственную матрешку.
Так, мифический город Зевгар, который преследует героев в виде навязчивого сна, в конце концов, воплощается в реальность в виде настоящих каменных зданий, «выращенных» студентами из увеличенных букв шумерской поэмы. При этом происходит и материализация речи: древние стихи превращаются
в современный город. Не потеряны даже очертания мошек, налипших когда-то
на лошадиную кровь, которой написаны буквы – на их месте теперь люди, прибитые к стенам нового Зевгара мощным потоком красного дождя.
Шахматная партия повторяется в виде реального события: доска превращается в клетчатый пол больницы Тии Мбо, а борьба белых и черных фигур −
во встречу девушки с солдатом. «Черная фигура» побеждает, а Тия Мбо остается слепой − здесь проявляется явная сюжетная параллель с рассказом «Долгое
ночное плавание». Тема хрупкости, беззащитности добра, воплощенного в
женщине, перед злом, источником которого является война, становится лейтмотивом обоих рассказов.
Интересен прием овеществления метафоры. «– Иногда, – сказала она, –
мне кажется, что мои глаза просто сроднились с этим бокалом, мой взгляд
быстрее всего и легче всего отдыхает, когда останавливается на нем, его зеленый цвет сливается с зеленым цветом моих глаз…», - так говорит Тия Мбо в
первой части рассказа. В третьей части происходит буквальная реализация её
фразы: солдат, ворвавшись в больницу, где работает девушка, выкалывает ей
глаза этим самым бокалом: «Солдат повернулся, схватил со стола зеленый бокал, разбил его и осколком выколол девушке глаза…». Этот прием имеет давнюю традицию, характерен он был и для эпохи Барокко, когда метафора экстраполировалась на все пространство произведения, становясь образом мира.
Такая метафора организовывала все уровни текста, сближала далекие реалии.
Использование реализации метафоры, буквального воплощения языкового выражения отсылает к мифу, то есть мышление, склонное к буквальному прочтению метафор, трактуется как мифологическое [7].
Повторяющиеся элементы придают повествованию ритмичность. В результате того, что повторы используются не только в пределах одного произведения (некоторые словосочетания, а то и целые предложения, кочуют из рассказа в рассказ), граница между текстами растушевывается, и рассказы стягиваются в своеобразный диптих, хотя каждый из них является самодостаточным
произведением.
В рассказе «Два студента из Ирака» ярко выражено игровое начало. Научные лекции по теории архитектуры сочетаются с мистикой, прошлое переплетается с настоящим, а сон – с реальностью. Запутанный сюжет представляет
163
собой довольно сложную конструкцию, головоломку, которую, однако, можно
и не решать. Как нам кажется, в первую очередь проза Павича рассчитана на
эмоциональное восприятие. «Внутренняя сторона ветра та, что остается сухой, когда ветер дует сквозь дождь» - подобные прекрасно-туманные изречения встречают читателя практически на каждой странице любого его произведения. Внешне это проза, но по существу − поэзия, как мышление и изложение
образное, рассчитанное не столько на ум и логику, сколько на чувство и воображение [8]. Безусловно, в его рассказах есть, над чем подумать, можно обнаружить философский подтекст, исторические параллели – допустимы разные
варианты прочтения, но сам Павич призывает своих читателей следовать за музыкой слов и полагаться не столько на интеллект, сколько на интуицию [6].
Важно, что для многих западноевропейских барочных поэтов были характерны
новаторские поиски выразительных средств, прежде всего в сфере музыки речи, способных непосредственно передать звучание эмоций [1].
В обоих рассказах Павич использует свой излюбленный прием – гиперболизацию, переходящую в гротеск. В основном, это касается образов героев: Велуча не просто наивна, она тотально наивна; Павле бесчувственен настолько,
что не различает вкус еды; у Тии Мбо каждая грудь размером с человеческую
голову, мало того, «на каждой груди у нее по человеческому лицу». С помощью
подобных преувеличений писатель добивается большей выразительности, рельефности в образах персонажей, но при этом они теряют реалистичный человеческий облик. «Инфаркт» в этом отношении − наиболее реалистичный рассказ.
Главный герой − нормальный человек с нормальными психическими реакциями. Он оказывается в ситуации соединения сна и реальности (заметим, что сон
как сюжетообразующий мотив присутствует во всех трех рассказах). Вновь
начинается игра с пространством и временем: два мира, существуя параллельно, зависят друг от друга, и гибель человека во сне должна повлечь за собой его
смерть в реальной жизни. Сюжет повествования задан народным поверьем:
плохой сон нужно рассказать кому-нибудь, чтобы он сбылся на словах, а не на
деле. Доверившись этой примете, герой изливает душу своему другу, однако
сон все-таки отчасти сбывается: хотя главный герой избегает смерти, у его собеседника случается инфаркт.
Смерть человека в рассказе не трагедия, а всего лишь элемент ребуса,
часть игры; работает барочный принцип эстетизации всего, на что падает
взгляд: даже смерть изображена так, что мы ее не узнаем и не пугаемся.
Как и в остальных рассказах, здесь происходит роковая «встреча со злом»,
персонифицированным в образе мужчины, и главный герой вновь оказывается
совершенно беззащитным. Во сне он бежит по людной улице, завернувшись в
одеяло – этот образ очень точно передает ощущение слабости и уязвимости человека.
Произведения Милорада Павича представляют собой игровое пространство, в котором происходит свободное движение смыслов. Во всех трех рассказах присутствует мотив сна как иллюстрация барочной идеи «жизнь есть сон».
Для писателя характерно обращение к мифологическим и библейским образам
(потоп), а также к теме войны и смерти. Красной нитью через все рассказы про164
ходит мысль о недолговечности всего прекрасного и беспомощности человека
перед судьбой (хотя при всей драматичности описываемых событий автор сохраняет позицию отстраненности).
Но главное, что сближает тексты Павича с барокко − их формальная, эстетическая сторона. Павич - мастер словесных эффектов, детали в его произведениях самоценны, изощреннейшая техника подчас затмевает содержание. Для
его прозы характерны выделяемые как отличительные признаки стиля барокко
витиеватость, "плетение словес", контрастность, избыточная метафоричность и
тяжеловесные перечисления. Все это позволяет говорить о поэтике барокко как
совокупности художественно-эстетических и стилистических качеств, определяющих своеобразие произведений Милорада Павича.
Литература
1. Виппер. Ю. Б. О разновидностях стиля барокко в западноевропейских литературах XVII века [Электронный ресурс].URL: http:// www.philology.ru / literature3/ vipper-90f.htm.
2. Генис. А.А. Последний византиец [Электронный ресурс]. URL: http://
www.khazars.com /ru/
3. Грицанов. А.А. Постмодернизм. Энциклопедия [Электронный ресурс]. URL:
http:// www.infoliolib.info/ philos/postmod/neobarocco.html.
4. Карпентьер. А. Концерт барокко. М.: Радуга, 1988.
5. Павич. М. Архипелаг Павич // Иностранная литература. 2002. №2 [Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/inostran/2002/2/pm.html.
6. Павич. М. Библиотека для талантливых читателей // Иностранная литература. 1997. №8 [Электронный ресурс]. URL: http:// magazines.russ.ru/ inostran/
1997/8/pavich.html.
7. Синицкая. А.В. Метафора как хронотоп [Электронный ресурс]. URL:
http://krzizanovskij.narod.ru/slova_sin.html.
8. Тамарченко. Н.Д. Теоретическая поэтика: понятия и определения [Электронный ресурс]. URL: http://www. infoliolib.info/ philol/ tamarchenko /
hr9.html
165
А.С. Коломийченко*
Поэтика альтернативной прозы Чака Паланика
Чак Паланик – американский писатель, наиболее известный автор альтернативной литературы. Всего за несколько лет он успел приобрести мировую
известность и звание «Ульяма Берроуза нашего времени». В чём же причина
его грандиозного успеха? Мы условно выделили характерные черты творчества
Паланика на примере романов «Бойцовский клуб», «Невидимки», «Призраки» и
«Уцелевший» в виде пунктов.
1. Сюжет. Первым произведением, перевернувшим общественное сознание, стал роман «Бойцовский клуб», который по-прежнему считается образцом
контркультурной прозы. В основе сюжета находится история о создании тайного общества по интересам, которое изначально предназначалось для тех, кто
устал от повседневности и хочет избавиться от негатива в драке. «Первое правило бойцовского клуба – никогда не говорить о клубе!». Вскоре общество
приобрело сторонников по всему миру и превратилось в настоящую террористическую организацию. Уже сама эта идея – противостояние обыденности и
общественной системе – вызвала живой отклик со стороны читателей, особенно
молодёжи, которая всегда стремилась противопоставить себя окружающему.
2. Главный герой. Центральной проблемой романа Паланика была не шокирующая история, а герой, который действительно стал лицом эпохи. Тайлер –
свободный, независимый, ярый противник общества – появился на почве рутины и будничности, именно для того, чтобы её разрушить. Его можно считать
героем романтического типа, ведь он вступает в борьбу со всем миром, но, в
отличие от привычного для читателя образа, он уже заранее знает, что победил.
Своим появлением он обязан сознанию самого заурядного офисного рабочего
Джека, имя которого практически не упоминается в романе, чем автор подчёркивает его незначительность. Усталость и бессонница приводят его в общества
смертельно больных людей, оплакивание которых было его единственным
утешением. Подобные общества были не редкостью в Америке, и Паланик, уже
тогда будучи приверженцем исторической достоверности, лично присутствовал
на множестве собраний, чтобы затем детально запечатлеть их на страницах романа.
3. Двоемирие. Автор намеренно усложняет линию повествования, стирая
границы между реальным миром и больным воображением Джека. Для читателя, как и для многих персонажей романа, становится незаметным переход из
одного мира в другой.
Эта книга сделала Паланика одним из наиболее читаемых авторов современности, особенно после выхода на экраны одноимённого фильма по роману
«Бойцовский клуб», где главных героев сыграли известные актёры Бред Питт и
Эдвард Нортон.
*
Коломийченко Алла Сергеевна – студентка II курса филологического факультета КубГУ
166
Говоря о шокирующей манере письма, ставшей «визитной карточкой»
писателя, нельзя не упомянуть роман «Невидимки». Его уникальность в том,
что, в порядке исключения, повествование ведётся от лица девушки, киноактрисы. В центре произведения были теперь не исключительные герои, а отверженные, оказавшиеся на самой периферии общества.
4. Система образов. Девушка, изувеченная выстрелом, лишившаяся работы, друзей и любимого, равнодушно плывёт по течению, пока однажды не
встречается с Королевой. Автор сталкивает героинь в больнице, строя их образы по принципу резкого контраста: одна - безнадёжно больная, другая обратилась к врачу, чтобы улучшить звучание голоса. Королева открывает несчастной
новую жизнь, нарекая её Дейзи Сент Пейшенс (от англ. patience – «терпение»).
Усложняя ситуацию, в качестве третьего их спутника автор направляет бывшего возлюбленного Дейзи. Паланик рассеивает читательское недоумение по поводу того, почему оказались вместе абсолютно непохожие друг на друга персонажи, постепенно, на протяжении всего произведения. Свой внутренний мир
персонажи раскрывают сами, в своих «исповедях» перед близкими им людьми.
Становится понятным, почему главной героиней является всё-таки Дейзи: она,
как и все остальные персонажи, изменила себя внешне, идя наперекор собственной жизни, но только ей удалось изменить себя ещё и духовно. Она противопоставлена всем: своим близким, друзьям и, конечно, врагам. Дейзи не
находит себе места в мире кинозвёзд, где актёры смотрят не на зрителей, а на
своё изображение в маленьком экране камеры.
5. Авторский язык. В «Невидимках» особенно заметной становится авторская игра слов. К примеру, имя главной героини или имена трёх сестёр, в
которых зашифрованы названия болезней. Ещё одной «визитной карточкой»
писателя становятся профессионализмы. В данном случае это медицинские
термины, подробное описание сложных хирургических операций и т.д. Некоторые критики упрекают Паланика в избытке подобной информации, но именно
благодаря ей становится понятным, почему героиня предпочла остаться калекой. Автор использует в тексте сленг и зачастую обыгрывает единицы ненормативной лексики, что подчёркивает его актуальность для молодёжи.
6. Ирония и драматизм. Немало внимания уделяется иронии, граничащей временами с сарказмом. Например, автор описывает, как лежащей на операционном столе девушке подруги делают макияж. В противовес иронии в книге выступает драматизм, который заставляет «вывернуть наизнанку всю душу,
чтобы затем по кусочкам собрать её обратно», как говорила одна из героинь.
Многие действия напоминают фрагменты шекспировских пьес: герои убивают
тех, кто им дорог в порыве ревности, калечат себя, в горящем доме пишут на
стенах историю своей жизни. Всё это производит сильное впечатление.
Всё же книга неоднократно осуждалась не только критиками, но и читателями за избыток табуированных тем, например смена пола, наркотики, развращённость элиты и т.д. Недовольство вызвано не столько их присутствием в
произведении, сколько повышенным вниманием к ним автора. По этой же причине больше отрицательных, нежели положительных откликов получил роман
«Призраки». По структуре он напоминает «Декамерон», поскольку включает в
167
себя отдельные истории, рассказанные главными героями, запертыми в старом
театре. Но, в отличие от шедевра Боккаччо, классикой это произведение, вероятно, не станет. Увлёкшиеся самоистязанием персонажи, погоня за славой и
борьба за неё, в которой все средства хороши, вызывает у читателя в большей
степени отторжение, чем интерес.
7. Историческая достоверность. Как уже было сказано, Паланик с самого начала своей литературной жизни стремился к исторической достоверности.
Так, трагическая история одной из американских сект стала центральной частью ещё одного культового романа «Уцелевший», главный герой которого являлся последним представителем печально известной религиозной общины.
8. Прообраз исторической личности. Этот персонаж не похож на героев
других произведений автора. Беря за основу образ реально существовавшего
человека, писатель создаёт его литературный эквивалент, отличный от оригинала. Тендер не считает себя выдающимся и не претендует на борьбу с обществом. Он, как часовой механизм, ежедневно выполняет назначенную ему работу, беседует с психологом, кормит свою рыбку номер 641. Всё, что происходит
с ним в жизни, дело рук кого-то из окружающих: работодателей, его брата,
провидицы Фертилити, рекламного агента. Даже когда он становится мессией,
известным на весь мир, он всё ещё остаётся никем. И лишь в самом конце он
вступает в борьбу не против общества, а против собственной судьбы. Автор
намеренно перечисляет все «должности», которые Тендер занимал в течение
жизни, расположив их по градации от домработника до пилота Боинга. В романе наблюдается явная перекличка с «Невидимками», в частности, рассказ о
жизни на краю гибели, на этот раз – на борту самолёта со сгорающими турбинами.
9. Особенности описания. В тексте часто повторяется одна и та же картина, но в процессе повествования она обрастает новыми подробностями и отбрасывает старые. Так, Тендер у себя на кухне пытается поджарить отбивную, в
то время как ему звонят люди, находящиеся на грани самоубийства, думая, что
он психотерапевт. Он кладёт трубку, выслушав одного, и тут же ему звонит
следующий человек. А он всё стоит посреди кухни с отбивной руке.
Как уже было сказано в предыдущих пунктах, Паланику свойственно использование специализированной лексики и языковой игры. Продолжая традицию, автор выстраивает новые ряды профессионализмов, на этот раз относящихся к мелочам, связанным с работой по дому. По мере того, как герой рассказывает о способах удаления пятен с одежды, чистки ковров, разделывания
омаров, читатель невольно оказывается вовлечённым во всю ту рутину, из которой даже не пытается вырваться Тендер. Продолжается и игра слов: повествуя об укладе секты, автор объясняет разницу между именами детей, которые
давались им по старшинству и предполагали разную судьбу. «Если ты была
Бидди, ты хотя бы могла мечтать. Если ты был Тендером, ты даже и не мечтал».
Приводя в пример образ Золушки, писатель придаёт ему совершенно иное значение, переставляя буквы (в англ. языке золушка – «Cinderella», Паланик же
называет её «Sinderella», вводя в основу слово «sin» - грех).
168
10. Прецедентность. В текст часто вводятся цитаты из библии, которые
не только характеризуют внутренний мир героя, но и напоминают о той религиозной обстановке, в которой он был воспитан. Кроме того, зачастую с помощью прецедентности автор проводит параллель с ситуацией: общаясь по телефону с Фертилити, Тендер вспоминает библейский сюжет об искушении Евы. К
тому же, рассматривая главного героя в религиозном аспекте, становится понятным, почему ему, ослушнику, совершившему столько грехов, присуждается
самая страшная смерть.
На основе вышеперечисленных пунктов можно сделать вывод о том, что
творчество Чака Паланика неоднозначно: с одной стороны захватывающее, с
другой – эпатажное. Очевидным является то, что своим новаторством Паланик
определяет характерные для альтернативной прозы черты и принципы, открывая тем самым дорогу в новый мир литературы, по которой ныне следуют многие писатели.
169
О.А. Гримова*
Онтологичность и дедуктивность поэтики М. Шишкина
(роман «Взятие Измаила»)
С точки зрения читательского сознания, согласного с формулой «есть герой – есть роман» (А. Немзер), второй крупный текст М. Шишкина, «Взятие
Измаила», рискует оказаться в зоне несуществования. После классически героецентричного дебюта («Всех ожидает одна ночь») автор резко меняет повествовательную манеру – роман по-прежнему есть, но вот героя нет, точнее он замещается огромным количеством рассказчиков. Гόлоса автор не пожалел ни для
кого – даже для самых случайных фигур, однако большинство крайне разрозненных эпизодов (в романе очень сильно нарушены все «молекулярные связи»)
группируются вокруг трех личностно-сюжетных узлов – история живущего в
начале 20 в. адвоката Александра Васильевича; судьба заброшенных в захолустный Юрьев времен развитого социализма супругов Д., Марии Дмитриевны
и Евгения Борисовича, постепенно превращающегося из завклубом в безумного
философа-лингвиста, занятого поисками нового языка, способного преодолеть
человеческое непонимание; и, наконец, позднесоветское и перестроечное бытие
автобиографического персонажа Михаила Павловича Шишкина, журналиста,
потом учителя словесности, потом счастливого эмигранта в Швейцарию.
Найденная структура повествования окажется для автора органичнее, чем
«стартовая», продолжит развитие в последнем романе «Венерин волос» и «запрограммирует» фокус литературоведческого зрения. На сегодняшний день
наиболее серьезные из немногих посвященных автору филологических исследований буквально загипнотизированы проблемой плюралистичности его наррации (см., например, [1], [4]). Между тем главный нерв шишкинской поэтики,
как нам кажется, заключается в том, что, предельно мозаичные на уровне формы, два последних шишкинских романа обладают монолитной онтологией.
Настолько целостной, что возможно обращение к платоновской метафоре – текучесть явленного при незыблемости эйдоса.
Для терминологически корректного описания этого текстового «эйдоса»
нам представляется применимой кэмпбелловская концепция «мономифа». В
изначальной трактовке ученого мономиф – единая для любой мифологии
структура построения странствий и жизни героя. Понятие очень быстро экстраполировалось в общегуманитарную сферу, получив расширительное значение:
«совокупность мифов, функционирующих в пространстве культуры, объединенная в систему структурно-логическими и символическими связями. Мономиф пронизывает всё пространство культуры, соединяя отдельные тексты в
общее символико-структурное поле» [2, 14]. Нам кажется, что интерпретирующий потенциал термина применим и для описания определенным образом
устроенной смысловой сферы отдельного текста или группы взаимосвязанных
Гримова Ольга Александровна – кандидат филологических наук, преподаватель кафедры
истории русской литературы КубГУ
*
170
текстов одного автора. Мономиф применительно к этой зоне экстраполяции так
же, как и мономиф в общекультурном смысле, не связан напрямую с какой-то
определенной канонической мифологией (античной, христианской и т.д.) и обладает не конкретной образно-сюжетной природой, а скорее природой архетипической, прежде всего способностью быть инвариантом. Это некий дискурсивно вычленяемый – а соответственно имеющий не только художественноинтуитивную, но и логическую природу – «каркас», который может быть образован из фрагментов самых разнородных знаковых систем (в случае Шишкина
это огромный спектр «строительного материала» – от традиционных мифологий (и не совсем традиционных, например, финно-угорской) и религиозных систем до древнерусских летописей и философской публицистики просветителей)
и который разворачивается на всех уровнях художественной целостности, если
прибегнуть к ёмкой формулировке Бахтина, отвечает за «тип завершения» образа, сюжета, стилистического решения и т.д. Определение авторского мономифа может входить как составная часть в решение задачи реконструкции картины мира либо концептосферы автора, но подчеркнем, что названные понятия
не эквивалентны, мономиф, несмотря на неизбежную для его природы мозаичность составляющих, более целостная, монолитная структура. Невозможно
также поставить знак равенства между ним и понятием «идейная сфера текста».
Корректнее было бы сказать, что последнюю можно сформулировать, соотнеся
текстовый ряд и его «эйдос»-мономиф. Основная же разница заключается в
векторе и типе движения художественной мысли. Ключевые идеи текста –
вспомним классическую стратегию романопорождения – формируются вместе
с созданием художественного мира и, собственно, благодаря ему оформляются,
приобретают законченность; нередко сам процесс поиска идеи становится основой романной динамики – это индуктивный путь. Но есть и дедуктивный,
его-то, как нам кажется, и выбирает автор. В «затексте» его романов чувствуется такая ситуация, когда «человек пишущий» ощущает окружающее настолько
зыбким и ненадежным, что его творение воспринимается им как единственный
«плацдарм» стабильности, а поэтому оно – не средство поиска и окончательного оформления идеи, а средство утверждения, фиксирования уже присутствующего в сознании онтологического ядра, способ сохранения его от размывания,
расшатывания. Это ядро, ключевой мономиф, своеобразный авторский «символ
веры», затем разворачиваются в сюжетах, речевых партиях, судьбах персонажей, в самой структуре повествования. Поэтому логичным исследовательским
шагом было бы перейти от изучения мозаичности последней к выявлению задающего ее смыслового инварианта.
Для шишкинского мономифа, на наш взгляд, очень важна древняя мифологическая идея о двух демиургах, участвовавших в творении – благом и злобном. Основа мироздания видится автору доброкачественной, проблема в том,
что порочна та конкретная жизнь, в которую разворачивается удачно задуманный кем-то «инвариант». Поэтому жизненным материалом, из которого строится повествование, становятся криминальные истории, иногда данные в стилистике телепередачи «Чрезвычайное происшествие» и подобных «желтых страшилок». Криминальный и в целом мортальный дискурсы развернуты в двух по171
следних романах со всей возможной широтой. Здесь и истории адвокатских
дел, и протоколы судебных заседаний, и защитные/обвинительные речи, и отрывки лекций (а иногда и чего-то вроде учебных пособий) по криминалистике –
как обнаружить следы на месте преступления, как по внешнему виду трупа
определить время убийства и т.п. Для передачи своего восприятия состояния
мира автор использует, казалось бы, самый «антиморализаторский» приём –
коллаж – вот в стиле энциклопедической статьи (максимально нейтрально, без
«выводов», сухая фактография) описана история разных способов детоубийства, а рядом – столь же увлекательный экскурс в мир ядов и отравлений (за
этим, конечно, не следует отрывка про антидоты…). Дискурсивно автор не сообщает ничего, только архитектонически – через такие «говорящие» соположения, однако достигает достаточно мощного эффекта, подводя «доказательную
базу» под ряд сквозных метафор, итожащих его жизнеощущение. Некоторые из
них:
- жизнь-цирк. Шишкину хорошо удается избежать избитости этого отождествления, казалось бы, пропитанного тропеистической «памятью» «жизни-театра».
За нужное звучание метафоры полностью «ответственна» удачно выбранная
точка зрения – исключены «глаза зрителя», видящие веселую сторону представления. На протяжении достаточно большого текстового фрагмента опятьтаки максимально нейтрально, в духе такого «учебника для фокусников», описывается, что человеку нужно с собой сделать, чтобы показать номера «человек-аквариум» или, например, «глотатель шпаг». Вся интрига смыслопорождения, приводящая к сильному эффекту, – в контрасте между прямым («здесь нет
ничего невероятного, всё объяснимо физиологически, попробуйте, и вы тоже
так сможете») и косвенным («как же всё описанное неестественно!») речевыми
актами. Последний шаг рождения тропа не прописан словесно, но как-то легко
складывается сам собой: неестественно не то, что приходится делать артисту в
цирке – хотя бы потому, что давал априорное согласие самим приходом в профессию, а то, что человека заставляет делать с собой жизнь.
- жизнь-крепость. Причем в первоначальном контексте (слова подвыпившего
«отца-подводника», обращенные к сыну Мишке: «Эту жизнь, сынок, нужно
брать, как крепость») возникает образ «настоящей» крепости, пусть и слегка
дискредитированный самим контекстом произнесения. А дальше развиваются
мотивы неестественности, абсурдности и какой-то игры-издевки, заданные
отождествлением «жизнь-цирк». «Взятие Измаила» (важность номинации подчеркивается вынесением в сильную позицию текста, в заглавие) – той самой
почти неприступной османской твердыни – она же жизнь – это аттракцион, который хочет срежессировать ребенок, сын одной из героинь. Мыши будут брать
бастионы, – поясняет он любопытным взрослыми – стимулируемые разложенными всюду кусками сыра. Расшифровка прозрачна.
- жизнь-сфинкс. Эту метафору тоже крайне сложно художественно «реанимировать» после работы как минимум «триумвирата» классиков Тургенев (красота-сфинкс) – Тютчев (природа-сфинкс) – Блок (Россия-сфинкс). Шишкину это
удается, на наш взгляд, за счет найденного им приёма, который условно можно
было бы назвать «каскадом идиоматизированных единиц».
172
«Господа! Сударыня! Мужчина и женщина! Печальный пасынок природы!
Исаак, Авраам и Сарра! Братва! Послушайте меня, сердешные! Мы молимся
каждый раз чужим богам. Курим фимиам не нашим идолам. Приносим жертвы
не на свои алтари. Толчемся не в той кумирне. Нам сказали, что мы принадлежим какому-то зверю с человеческим лицом, что нас нашли в капусте на его
грядке, что это его флажки на веревочке между деревьями, за которые нельзя.
Мохнатый, когтистый, кишит шерсть насекомыми, а в лице что-то материнское,
и грудь налита молоком -- пей, другого не будет. Какой-то сфинкс, таинственный, огромный, загадочный. Приходишь в детский сад, а он уже тебя встречает,
еле стянув белый халат на груди, попахивая, и одна лапа за спиной. Угадай, Вася-Василек, загадку: что у меня там -- живое или мертвое? И слышно, как чтото попискивает, жалобно так, безропотно -- птичка-невеличка. Скажешь: живое,
так сразу -- хруст, а вот и не угадал! Сердце ведь не железное, вот и врешь:
мертвое. Проиграл! -- сфинкс радуется и протягивает птенчика, крошечного,
живого, теплого, дрожащего. Поднесешь к губам, подуешь, и перышки топорщатся. Проиграл так проиграл, зато жив. А сфинкс: гуси, гуси! Ты: га-га-га!
Сфинкс: есть хотите? И что ответить? А куда денешься-то? Да еще жена, дети,
мать в больнице. Вот и толчешь из века в век воду в решете, таскаешь в ступе,
наживаешь грыжу. Только осточертеет все, разогнешь спину, погрозишь
сфинксу кулачком, мол, ужо тебе, так он тебе сапогом поддых и шепчет на ухо:
сыт, сынок, крупицей, пьян водицей, по которой реке, дочка, плыть, ту и воду
пить. Разлегся на широтах, как на скрипучих половицах, положил тебя между
лап и целует: дитятко ты мое! Меня, предупреждает, поигрывая хвостом, умом
не понять, в меня, кровиночка ты моя, только верить! Вот и веришь, хоть и боишься, чтоголову отгрызет. Зверь ведь. Господи, да мы сами звери» [3, 83-84].
- жизнь/русская жизнь-тюрьма/зона. Поэты-романтики плюс СолженицынШаламов. В переосмыслении этой метафорики Шишкин, наверное, проявил
меньше изобретательности. Брат автобиографического героя попадает в тюрьму, последний его навещает, а затем, отвозя жену в роддом, сталкивается там с
уже знакомыми по зоне «вещественными доказательствами» (например, «точно
такие же» бахилы) того, что сам факт рождения – уже начало «отматывания
срока».
Хаотичность жизненной эмпирики – в противоположность онтологии –
ещё и в ее двойственности, зыбкости, неуловимости. Своя «другая сторона медали» есть в романном мире Шишкина буквально у всего – от глобальных категорий до мелочей. Земля вращается с нерушимым постоянством (несколько раз
описана сцена знаменитого эксперимента с маятником Фуко) и, следовательно,
человеческая жизнь на ней телеологична, небессмысленна, подчинена прогрессу – продолжение этого ряда можно с легкостью восстановить, вспомнив любимую автором позитивистскую «мифологию» 19 в., приверженцем которой
является один из персонажей романа, ученый-естественник Николай Александрович. Однажды он разражается монологом в духе “Exegi monument” –
- … чтобы умереть счастливым, согласитесь, нужно хоть частью своей здесь
остаться, породниться с женщиной, бронзой или хоть кирпичом, оставить
173
потомство, теплокровное ли, каменное, бумажное, чтобы вы знали: вот это -мой сын, а вот это -- моя дочь, я их люблю и оставляю жить вместо себя –
а в ответ слышит от женщины, в которую влюбился, не зная, что она умирает от
рака:
- Знаете, чего вам надо бояться, благоразумный мой человек?
- Чего же?
- Того, что в один удивительный день вы не узнаете того, с кем думали, что породнились, выбросите на помойку ваших детей и на последний гривенник закажете в кондитерской ванильное мороженое с клубникой. Любите? [3;94]. Эта
стоически переносящая свое умирание женщина в то же время неверная жена; с
одной точки зрения, она – светская львица и красавица, а с другой, «пугало»,
«посмешище курорта». Её любовник, адвокат Александр Васильевич, думает,
глядя на одну из подзащитных: «Шмыгающая носом Аня, тебе кажется, что
этот человек, к которому ты пришла, большой, сильный, благородный. На его
речи ходит по билетам публика. Волжская знаменитость, к которой обращаются за помощью, когда в семью приходит горе. Последняя надежда. А он, может,
обгрызенного твоего мизинца даже не стоит» [3;30]. Его отца, директора гимназии, безукоризненной нравственности человека, обвиняют в отравлении собственной жены – и… опровергающих доказательств не обнаруживается. В
практике этого же героя – история пришедшего с повинной, добропорядочного
семьянина, настаивающего на том, что много лет назад убил своего знакомого.
Герой, спасший немецкую девочку, о котором журналист Михаил Шишкин собирается писать статью, на самом деле – точнее, в то же время – пошлое спивающееся существо. Примеры можно множить… И сам человек в таком мире
эфемерен, «летуч», слаб. Неслучайно в текст включен своеобразный экскурс в
методологию криминалистической экспертизы – о том, как обнаружить и сохранить следы на месте преступления. Человек настолько легковесен, ему
настолько не свойственно «отпечатываться», что нужно прилагать колоссальные усилия, чтобы зафиксировать его жизненный след.
Но как бы далеко ни разошлись эмпирика и онтология, один из аспектов авторского мономифа – проект возвращения, восхождения от порочной конкретики к
чистоте инварианта; он не перестает «просвечивать» сквозь повествовательную
ткань. Интересны пути этого возвращения романного мира «к истоку».
Во-первых, это происходит в режиме прямой номинации, как, например, в ситуации, когда в уста героини, обманывающей мужа с любовником, при очередной «незаконной» встрече вкладывается монолог, слишком явно выбивающийся из привычного «адюльтерного дискурса», окутывающего эту сюжетную линию: «Ты знаешь, Александр, ведь это просто неправильный перевод: и Дух
Божий носился над водою. Вода – это образ непросветленной материи, те, кого
еще не коснулось, если хочешь – мы с тобой. А то, что он носился, то здесь неточно перевели, в оригинале – высиживал, как наседка своих будущих цыплят.
Согревал. Понимаешь, он где-то здесь, над нами, греет нас, ждет, готовится, не
бросает» [3, 68].
Этим же целям возвращения мира к аутентичности служит такое свойство формальной организации шишкинского текста как полная изоморфность смыслу –
174
в ряде случаев форма как бы полностью имитирует то, что «хочет сказать» содержание.
Выше говорилось о том, что Шишкин помещает в роман обвинительные и защитные судебные речи, но звучат они не совсем обычным образом. Скажем,
так:
«Сергей Антонович, голубчик, не обессудьте, зачитайте, что там, в обвинительном? Год, месяц, число, адресат, с красной строки, такой-то, тогда-то, там-то
назвал меня подонком, обесчестившим его несовершеннолетнюю дочь, с намерением нанести мне оскорбление, почему прошу Ваше Высокородие привлечь
такого-то, жительствующего там-то, на такой-то улице, навощенной с утра
солнцем, к ответственности по обвинению его по 1178 ст. Уставов о Наказаниях. В подтверждение справедливости моей жалобы прошу допросить свидетелей таких-то, жительствующих там же, в том числе молодого женского доктора,
высокого и тонкого брюнета, засуженного лет десять назад по обвинению одной печальной и молчаливой дамы с глазами испуганной лани в том, что он
якобы дефлорировал при осмотре ее дочку, а на самом деле все там такое
нежное и ранимое, все эти лоскутки и перепонки, бахромки и гребеночки - просто расправлял слипшиеся мочки костяной палочкой, а девочка дернулась, вот
случайно и произошло, а де Грааф, автор одноименного пузырька, вообще отрицал наличие гимена. Есмь и проч. Год, месяц, число, подпись» [3, 62].
Во всех речевых жанрах, требующих фактической определенности, как раз онато и исчезает. С одной стороны, это напоминает сходную особенность поэтики
Бродского, когда он исключает из текста конкретику, чтобы показать, как Пустота поглощает все следы существования человека в мире (классическое «Ниоткуда с любовь, надцатого мартобря,/ дорогой, уважаемый, милая, но неважно
/ даже кто, ибо черт лица, говоря / откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но / и
ничей верный друг вас приветствует с одного / из пяти континентов, держащегося на ковбоях…» - ср. у Шишкина: «Третьего мунихиона сего года свидетельница такая-то, говорящая голосом ожившей спички, вышла утром во
двор…»). С другой же, чувствуется какое-то желание вернуть жанр к его архетипу, первооснове, говорить «первообразами» жанров. Также обращает на себя
внимание последовательно нарушение прагматики сообщения: юридические
характеристики субъектов действия замещены во всех случаях художественными. Для судебной ситуации нерелевантна информация о том, что обвиняемый проживает на улице «навощенной с утра солнцем», что свидетель – «высокий и тонкий брюнет», а его, в свою очередь, обвиняет «молчаливая дама с глазами испуганной лани», однако для авторских целей как раз такие сведения и
оказываются необходимыми. Пишущему важно сказать, что доктор и дама – не
только обвиняемый и истица, точнее, что связанность ситуацией обвинения –
это то, чем «запачкал» их мир, та самая жизненная эмпирика; а «высокий и тонкий брюнет» и «глаза лани» – это о том, какими они были задуманы. Получается, что сам текст для автора – способ восстановить «историческую справедливость», убрать наносное, вернуться к настоящему.
Обращается Шишкин и еще к одному опирающемуся только на стратегии текстопорождения способу борьбы с хаосом. Этот способ можно условно назвать
175
«ложной синтаксической связью» – фрагменты, никак не связанные друг с другом по смыслу, механически расположенные автором по соседству, объединяются какой-либо синтаксической конструкцией так, как будто следующий
фрагмент – логическое продолжение предыдущего. Этим способом связан,
например, уже цитированный отрывок о сфинксе и «цирковой» отрывок:
«Разлегся на широтах, как на скрипучих половицах, положил тебя между лап и
целует: дитятко ты мое! Меня, предупреждает, поигрывая хвостом, умом не понять, в
меня, кровиночка ты моя, только верить! Вот и веришь, хоть и боишься, что голову отгрызет. Зверь ведь. Господи, да мы сами звери. А тут еще цирковая конюшня! Запах лошадиного мыла, пропотевшей кожаной упряжи, подмокших
опилок, рыбы, выпавшей из кармана коверного, сквозняк освещенного манежа,
деревянные скамейки, обитые кумачом, где-то далеко в вышине колышется на
ветру брезентовый купол, слышны нетерпеливые аплодисменты публики, вот
уже
мчатся вороные в белых лайковых уздечках и высоких страусовых эгретах, голоножка вскакивает на сытый лоснящийся круп, у вас стек в одной руке, револьвер в другой» [3, 84].
Рассказ о цирковом быте начинается так, как будто в нем заключено дополнительное обстоятельство, отягчающее («А тут ещё…») вывод предыдущего пассажа («Зверь ведь. Господи, да мы сами звери») – между тем на уровне смысла
такой связи между эпизодами нет. Своеобразная «техника лоскутного одеяла» –
как будто способ сказать, что если мир безнадежно раздроблен на миллионы
разнородных частей, и не работают попытки примирить их, то нужно попробовать установить хотя бы внешнюю видимость целостности, хотя бы «сделать
вид» для того, чтобы всё это не растворилось в небытии. Похожий по смыслу
ход использован автором в рассказе «Уроки каллиграфии». Главный герой –
«маленький человек», работающий протоколистом в суде и вынужденный всю
жизнь фиксировать обстоятельства уголовных дел – чудовищные истории –
находит свой способ борьбы с ужасом. Он постигает искусство каллиграфии и
превращает протоколы буквально в артефакты. Конечно, содержание от этого
не меняется, но… хотя бы так оказывается возможным солидаризироваться с
классическим «красота спасет мир» в такую неклассическую эпоху.
Присутствие в авторском мономифе сюжета восстановления первообраза мира
не дает шишкинскому мировосприятию остаться таким же печальным, как,
например, мировосприятие столь же чуткого к хаосу С. Соколова. Именно поэтому эпилог «Взятия Измаила» подчеркнуто переламывает основной мотивный стереотип текста. Читатель уже успел привыкнуть, что если в тексте появляется ребенок, с ним обязательно что-то должно произойти. Дети в романе тонут (сын Николая Александровича), их сбивают машины (сын автобиографического героя Шишкина), у них сразу после рождения обнаруживается умственная неполноценность (Анечка, дочь Александра Васильевича) и т.д. И лишь в
эпилоге автор оставляет две истории, заканчивающиеся рождением ребенка, с
открытым «недетоубийственным» финалом. Конечно, такое нарушение «мотивного ожидания» не полностью перекрывает слишком явную «растерян176
ность» финала – герой, обращающийся к швейцарскому туману с вопросом
«где я?» – однако наряду с ним кажется, что автор провоцирует возникновение
ещё одного вопроса – может быть, сейчас тот самый сфинкс пощадит?
Литература
1. Кучина Т.Г. Поэтика «я»-повествования в русской прозе конца 20 – начала 21 в. Ярославль, 2008.
2. Хазов В.К. Мифологемы российской культуры постсоветского периода
(1990-е годы): философский анализ. Автореферат дис. … канд. филос.
наук. Астрахань, 2009.
3. Шишкин М. Взятие Измаила: роман. М., 2007.
4. Шуников В.Л. Трансформации нарративных инстанций в новейшей русской романистике // Филологический журнал. 2005. №1, с. 98 – 112.
177
Е.В. Болдырева*
Владимир Сорокин: новый русский синкретизм
Современной русской литературе в некотором роде не повезло с наследственностью. Она, как герой романа Владимира Сорокина «Путь Бро», будучи
тяжело контуженной социальными и духовными катаклизмами, непрерывно
происходящими в нашей географической и исторической реальности, жаждет
отойти от накопленных родовых богатств и попытаться найти новые формы и
смыслы существования в современности, а еще лучше – вообще доказать свое
иномирное происхождение. Однако любой камуфляж, будь то обращение к
беллетризованной форме, мистические, иронические или – в особом фаворе –
обсценные заигрывания с публикой, моментально разоблачается, ибо не таков
русский читатель, десять лет своей юной жизни отдавший безжалостной русской классике, чтобы не углядеть мысль глубокую и страшную в книге без картинок, да еще и в твердом переплете. Хочет он того или нет, но современный
русский автор обречен на тяжелейший крест дидактики, на, может быть, и нежеланное, но неотъемлемое право учить, просвещать и вести за собой изголодавшиеся по мессиям народные массы. Время диктует свои законы: постмодернистская игра – надежный пропуск в большую литературу, мифы XXI столетия – щедрая подачка потерянному поколению, а мучительная бессмысленность
существования – вечный обертон философии рубежа веков; однако никакие
метафизические, лингвистические и теологические лабиринты не отпугнут того, кто хочет думать и понимать. Как не страшно было Льву Николаевичу Толстому сто лет назад читать Леонида Андреева, так не страшно современному
интеллигенту читать Сорокина и Пелевина: сочный язык не удивит человека,
знакомого с общественным транспортом, а эзотерическая казуистика лишь порадует слух именами и концептами, давно и бестактно растиражированными
масскультом. Современному читателю нужна Книга – и, возможно, более, чем
когда-либо раньше.
Наша политическая, социальная и культурная реальность переживает
сложный этап: былые ориентиры либо утрачены, либо находятся в таком состоянии, когда их как-то неловко тревожить своими вечными обывательскими вопросами. Вот и обращаемся мы, даже не отдавая себе в том отчет, к ценностям,
возраст которых столь древен, что даже уже и незаметен. Современная литература, переживая болезненный момент недоверия к тому недавнему, что ее
сформировало, бессознательно тяготеет к глубинным архаическим корням, в
самых неожиданных местах и формах проявляя крепкие родовые связи и здоровую, в общем-то, генетику. В свете этого нам кажется не лишенным смысла в
качестве кода прочтения современных текстов предложить самые древние и
первичные лакмусы, которые, к нашему великому счастью, еще сохранила цивилизация. Принципы внутренней организации текста, сформированные на заре
развития человеческой культуры, изменялись в течение истории, но на всех
*
Болдырева Елена Владимировна – аспирант кафедры зарубежной литературы КубГУ
178
этапах логика и этика построения эстетического произведения сохраняли преемственность, о которой, как нам кажется, самое время вспомнить сегодня. В
данной работе мы попытаемся добавить несколько штрихов к пониманию романа Владимира Сорокина «Путь Бро», проанализировав его с точки зрения соответствия канонам самой ранней эпохи развития литературы – эпохи синкретизма.
Основной чертой древних литератур являлся синкретизм – не сходство, а
полное неразличение таких очевидных для сегодняшнего дня построений как
автор, читатель и герой, время и пространство, знак и объект, реальный мир и
пространство слова. Типической чертой, рождающей психологию первобытного сознания, было невыделение себя из окружающего мира, гармоничное и безусловное ощущение себя частью макрокосма, а макрокосм – внутренним законом движения человеческой жизни. О.М. Фрейденберг писала о раннеантичном
мировосприятии, что «человек и природа одно и то же и что человек и есть
природа, - его жизнь есть жизнь природы: жизнь неба, солнца, воды, земли», а
А.Н. Веселовский говорил о синкретизме как о выражении свойственного архаическому сознанию целостного взгляда на мир, еще не осложненного отвлеченным, дифференцирующим и рефлексивным мышлением [3, 52; 1, 125]. Синкретизм проявлял себя на всех уровнях существования текстуального эстетического объекта, создавая формы, безошибочно узнаваемые – и воспроизводимые на
различных этапах истории литературы под звучными именами, каждый раз новыми.
Принято считать, что важнейшим плодом синкретического сознания стал
миф – и с этим трудно спорить. Однако сам этот термин оброс многими смыслами, нас же он интересует в своем прямом значении, как построение, передающее представления людей о мире, месте человека в нем и о происхождении
всего сущего; как цельная система, в терминах которой воспринимается и описывается весь мир. Этот духовный и идеологический феномен, несомненно,
столь обширен, что требует крайне осторожного обращения, поэтому оговоримся, что мы коснемся его ровно в той степени, в которой он предстает проявлением синкретического сознания.
Владимир Сорокин создает роман «Путь Бро», являющийся первой частью
«Ледяной трилогии», как интереснейший синтез романа-становления и современного литературного мифа. В начале повествования ничто не предвещает беды: мирно течет эстетически безупречный (что странно) текст, в лучших традициях живописуя детство главного героя: только успевай отмахиваться от аллюзий на классику. Тут тебе и Островский (маленький Шура принадлежит к зажиточному купеческому роду), и Гончаров (уж больно сладка сонная жизнь в
имении владельца сахарного завода), и Толстой (с фирменными флэшбэками в
детское сознание). Затем – день Х, революция и конец старого мира. Смерть
родителей, бродяжничество, атрофия мыслей и чувств, полуголодная жизнь в
советском Петербурге, единственная связь с прошлым – сны и любовь к астрономии, экспедиция к месту падения Тунгусского метеорита и… И. И тут мы,
вместе с героем, пробуждаемся от уютного сна напевного повествования и попадаем в психоделическую фантазию, прямо и откровенно заявляющую о своем
179
поистине мифическом статусе! Оказывается, что вся предыдущая история была
бессовестной провокацией, призванной усыпить нашу бдительность, и вот –
добро пожаловать в новую космогонию! 23 000 лучей, посланных Светом Изначальным создали, похоже, в результате неудачной производственной практики, наш мир – и все бы ничего, но не смогли покинуть его и остались заключены в тела людей, обрекши себя на вечное перерождение и непонимание своей
высшей сути. Падение Тунгусского метеорита (глыбы Льда Небесного) закономерным образом влияет на жизни нынешних аватар лучей – и самый дотошный
из них, родившийся именно 30 июня 1908 года и не кто иной, как наш герой
Саша Снегирев, прокладывает к родному Льду нелегкий путь и обретает себя,
«пробудив свое сердце» куском этого льда. Дальнейшая миссия ясна: найти и
инициировать оставшиеся 22 999 братьев и сестер, а затем, в миг величайшего
счастья, взявшись за руки и ощутив единым сердцем полноту своего единения,
грохнуть этот неудавшийся мир к чертовой матери, параллельно обретая свой
истинный облик и вечное незамутненное блаженство. Дальнейшее повествование теряет всякую схожесть с реалистическим романом и по форме становится
идеальным авторским мифом, уподобляясь древнейшим текстам эпохи синкретизма всеми гранями своей архитектоники.
Если глобальная схема романа изящно укладывается в выведенную еще Я.
Проппом первичную мотивную формулу «бытовое положение + задача» (где
бытовым положением является факт пребывания лучей на Земле, а задачей –
необходимость объединиться и как можно скорей ее покинуть), то условно вторая часть повествования, рассказывающая о поисках Бро других лучей, представляет собой иное архаичнейшее построение: это кумулятивная цепочка,
каждое звено которой строится по одной и той же циклической сюжетной модели. Обратимся к примеру из мифов: Геракл (Тор, Кухулин, Гильгамеш, Илья
Муромец, Рама) совершает ряд подвигов, хронологическая и логическая последовательность которых проявлена крайне смутно (а по сути, не проявлена вообще и лишь более-менее гладко пририсована более поздними редакциями),
поскольку эти подвиги являются многократным воплощением функции богагероя, могущей быть выраженной в имени или атрибутике. Изначально они не
имеют самостоятельного семантического веса и нанизываются на простейшее
объяснение их связи, целиком и полностью лежащее в поле «решение бытового
положения» (отдаю долг, защищаю Родину, выполняю предназначение), которое, опять-таки, есть не что иное, как развернутое исполнение функции бога
(защитника или воина), и образуют при этом кумулятивный ряд. Затем каждое
из звеньев цепи, каждый подвиг, начинает развиваться в самостоятельный сюжет, выстроенный по более сложному плану, а именно циклической модели,
солярной или вегетативной. Геракл снова и снова попадает в зависимое положение, получает задание, выполняет его, сражаясь как с новым противником,
так и с самим угнетателем и, наконец, возвращается в мир живым и невредимым – это солярный вариант, так как он повторяет модель солнечного движения.
Главный герой Сорокина объединяет черты солярного и вегетативного бога. Сначала Саша Снегирев, как растение, чахнет и сохнет в страшном мире ре180
волюции и гражданской войны. Затем, отправляясь на поиски Тунгусского метеорита, он сходит в царство мертвых: он не ест, не пьет, не контролирует свое
тело, молчит и обрывает все контакты с окружающим миром: «За завтраком я
снова молчал. Мне протянули сухарь и вяленую пелядь. Они выглядели убого.
Я не притронулся к ним, положил на клеенку». Кстати, любой обряд, подразумевающий приобретение нового качества строится по этой схеме – испытуемый
умирает, чтобы затем снова возродиться (свадебные обычая славян). Затем Бро
устраивает себе пышный погребальный костер, спалив барак со всем имуществом экспедиции и, наконец, встречает свой Лед, который пробуждает его
сердце, заставляя выкрикнуть истинное имя – Бро. О сакральном значении имени и акта называния говорить как-то не свежо. Приобретя новое имя, Бро становится и новым богом – солярным, способным не только возрождаться, но и
возрождать других, попутно побеждая чудищ тьмы, чем он и занимается все
остальное время текста. Умирает он так, как и положено солярному герою:
«Сердца наши вспыхнули*, прощаясь. Сердце мое замирает. Сердце слабеет.
Сердце останавливается. Сердце сделало свое дело. И Свет покидает его» [2,
238].
Рассказ о поисках Бро своих братьев сюжетно и композиционно является
современным вариантом кумулятивно-циклического мифа. В первом эпизоде
он чувствует сестру Фер, неудержимо влечется к ней, пробуждает ее, разбив
грудь ледяным молотом, и приобщает к великой цели. В дальнейшем эта история многократно повторяется, причем Сорокин, утрируя эффект, пропускает
какие-то эпизоды, по-свойски сообщая, что «В Омске мы нашли Кти. В Челябинске – Эдлап. В Уфе – Ем. В Саратове – Ачи. В Ростове-на-Дону – Бидуго»
[2, 152]. Сюжетная ценность каждого из этих фрагментов минимальна, они
лишь кирпичики, которые выстраивают общую монументальную картину: обретение мифическим существом себе подобных, выстраивание своей Вселенной, поиск неземной гармонии. Насколько эта гармония неземная, мы поговорим позднее.
Роль чудищ тьмы, которых должен победить славный герой – причем не
только уничтожив в прямом смысле, но и высвободив из их жующей, хрипящей, совокупляющейся и дурно пахнущей массы чистые сердца спящих братьев и сестер – отведена людям: «Между ними не было и не могло быть братства.
Они были нашей ошибкой. Мы создали их миллиарды лет назад, когда были
светоносными лучами. Мясные машины состояли из тех же атомов, что и другие миры, созданные нами. Но комбинация этих атомов была ОШИБОЧНОЙ.
Поэтому мясные машины были смертны. Они не могли быть в гармонии ни с
окружающим миром, ни с собой. Они рождались в страданиях и в страданиях
уходили из жизни. Вся жизнь их сводилась к борьбе за комфорт, к продлению
существования тел, которые нуждались в пище и одежде. Но тела их, появляющиеся на Земле внезапно, как взрыв, исчезали так же стремительно. Они быстро старились, болели, скрючивались, обездвиживались, гнили и распадались на
атомы. Таков был путь мясных машин» [2, 185].
*
Курсив автора
181
Сама же тьма, весь ужас и бессмысленность которой постигает Бро – это
наш мир и законы, царящие в нем. «И увидел я: опарыша, пожирающего падаль, жука, поедающего опарыша, птицу, клюющую жука, хорька, отгрызающего голову птице, орла, разрывающего хорька когтями, рысь, хватающую орла, волков, загрызающих рысь, медведя, ломающего волку позвоночник, рухнувшее дерево, убивающее медведя, мух, откладывающих яйца в гниющей
медвежьей туше, опарыша, вылупившегося из яйца и пожирающего падаль.
И понял я суть человека.
Человек был МЯСНОЙ МАШИНОЙ» [2, 184].
Именно эта страшная в своей простоте схема и есть самый главный страх
Бро, самая великая мерзость мира, которую он не может ему простить. Он не
может простить того, что все и всё связано нитями, суть которых – тлен и
смерть. Осознание этого страха подводит читателя к главной трагедии романа
Владимира Сорокина, главной проблеме и, рискнем предположить, пониманию
позиции самого автора.
Произведение, тема которого – поиски Света, и форма которого – поиски
гармонии, сознательно или нет видящейся автору в древних образцах, строится,
на одном глобальном диссонансе, услышав который читатель может открыть
новый путь к пониманию текста и избежать перспективы приобщения к религии братства Бро. Вспомним о том, что древний синкретизм мышления, только
во-вторых проявлялся на уровне формы, а во-первых и во-главных был синкретизмом сознания, способного светло и радостно увязать все ужасы мира, в котором ему повезло развиться, в единую картину синкретичного бытия. Смерть
и рождение, разложение и цветение, свадьба и похороны, убийство и зачатие –
все эти вещи, ставящие в неуютный и мрачный тупик современного мыслителя,
были равноценными и равнолюбимыми составляющими единого мира. Первичный синкретизм состоял в видении себя как части целого, части, имеющей
на это целое не меньшие права, чем целое на нее.
Роман Сорокина, виртуозно воспроизводящий все проявления синкретического сознания: композицию, сюжет, характер геройной сферы, даже стилизующий язык под некое героическое повествование, не взял от древнего мифа одного – его ощущения счастливой и свободной сопричастности миру, который,
увы, а может быть и к счастью, придуман не нами. По мере того, как повествование наравне со своими героями облекает себя в сияющие одежды древнего
эпоса, оно все дальше отходит от сути любого мифа: оно не утверждает и не
объясняет существующий порядок вещей, по-детски наивно и застенчиво указывая на прекрасную и божественную его суть, о нет! Оно маниакально подбирает и швыряет в ошеломленного читателя свидетельства его несовершенств.
Оно обещает синкретизм – и уводит от него, ища гармонию там, где кончаются
попытки полюбить эту реальность.
Свет Изначальный – мираж счастья, манящий братство Бро на протяжении
всего романа. Но что это за Свет? Тот ли это огонь, который призван изнутри
освещать сосуд? Вряд ли, иначе зачем разбивать кувшин? Бро находит сестер и
братьев и будто бы строит свой новый мир посреди мира старого и ужасного,
но где гармония юного мира? Люди-лучи получают иллюзию своего единства в
182
обмен на шанс полюбить мир, в котором они застряли – но случайно ли? Они
обретают высшую цель, запечатанную в далеком будущем, но отказываются от
попыток найти смысл в настоящем. Судорожно искомая гармония оборачивается полным отсутствием таковой, а блестяще анонсированный синкретизм тает,
как только читатель начинает различать, куда ведет его путь Бро.
Роман Владимира Сорокина – это обаятельнейшая и мастерски выполненная провокация на тему излюбленной болячки нового времени – неумения и
нежелания любить место и час нашей жизни. Доводя до логического конца
снобисткое брюзжание современного эскаписта, он показывает читателю, куда
может привести подобная рефлексия – и мы, раскланиваясь, отказываемся от
столь соблазнительного направления.
Литература
1. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
2. Сорокин В. Ледяная трилогия: Путь Бро. Лед. 23 000. М., 2009.
3. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
183
Юсупова Ю.Л*.
Джон Фаулз и пространство художественного текста
Джон Фаулз – писатель-экспериментатор, авангардист, постмодернист.
Искусство, по убеждению Джона Фаулза, – это тайна, творимая на грани магии
и реальности, писательской техники и чувства. Несмотря на то, что все романы
Фаулза не похожи друг на друга, ему удается неизменно оставаться самим собой. Основные темы его творчества – это поиски смысла жизни, одиночество
человека в мире, тема творчества, искусства. Его лейтмотив, сквозная тема –
запутанные поиски современным Я своей идентичности. В своих произведениях Фаулз знакомит читателя с персонажами, часто не вписывающимися в установленные социальные рамки. Писатель повествует о людях неординарных, талантливых, так называемых избранных, которые противостоят ничем не привлекательному большинству, по выражению автора. На страницах романов Фаулз скорее играет и подшучивает, чем дает повод отчаиваться. Ирония, самоирония, как считает писатель, – это средство преодолеть жизненные трудности.
Жизнь не должна требовать серьезного к себе отношения, только искусство заслуживает серьезного подхода.
С романами он ведет себя как романист-экспериментатор: разрушает готовые отлитые формы, пытаясь создать или применить на практике нечто новое,
любит множественные концовки в романе, внедрение в текст чистой случайности. Только с помощью Случая человек может своей жаждой жизни, свободы,
красоты «пробить потолок, опущенный над ним веком» [1, 208]. Что касается
понятия свободы применительно к творчеству, то он говорит об отказе от сковывающих творчество категорий, о том, что следствием ограничения произведения одним жанром может стать безразличие, а также расхожие штампы и
общие места. «Мое ощущение свободы – Фаулз заявляет в одном интервью – не
верить в раз и навсегда установленные формы».
Фаулз получил блестящее образование. Вспоминая свои студенческие годы, он рассказывает, что Оксфорд в конце 1940–х гг. был для них всех (его поколения) своего рода чудесным побегом, уходом от остального мира, счастливой мечтой, неким опьянением, альтернативным миром, где центром внимания
становился отдельный человек, а не вся нация. Писатель пренебрегал изучением немецкого в Оксфорде, в этом пошел против семейной (викторианской) традиции. Однако он считает, что для романиста намного важнее «познакомиться с
латинской стороной Европы, нежели с тевтонской или нордической. Немцы
слишком похожи на британцев, а французы – другие в гораздо лучших смыслах. Нам нужно то, чего у нас нет по природе» [10, 5].
Юсупова Юлия Леонидовна – доцент кафедры иностранных языков Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
*
184
Что касается оксфордского образования, то университет давал фундаментальные знания в области истории, культуры, литературы той или иной
страны. По словам Фаулза, он научил понимать Францию и французский
язык, но не давал практических знаний в овладении языком, не тренировал
умение говорить свободно и бегло на языке. Писатель говорит о существовании огромной разницы между собственно университетским «французским» – или каким-либо другим иностранным языком и культурой – и его
разговорным вариантом. «Это совершенно разные вещи. Один – для людей, другой – для бизнесменов» [10, 6].
Особое место в наследии Фаулза занимают размышления о писателях
и написании художественной литературы. Он выступает против совершенной формы произведений. Какую бы форму автор ни выбрал, для него она
будет совершенной. Сам писатель пытался сделать форму, в которую облекал свои произведения, соответствующей их содержанию. Однако, по его
мнению, неправильно заставлять содержание соответствовать некоторому
предполагаемому общему идеалу формы, которому оно (содержание) якобы лучше всего соответствует. Рассуждая о соотношении современных романов и традиции, он подчеркивает, что современные романы не должны
подчиняться стандартам прошлого, а должны бросать им вызов, подготавливать новую почву. Ничто в культурном наследии не могло бы предусмотреть или предугадать, например, Тристама Шенди или Улисса.
Многими исследователями отмечается жанровое своеобразие, оригинальность художественной картины мира Джона Фаулза. В связи с этим
возникает вопрос о различении собственно художественного и нехудожественного в произведениях Фаулза. Его, вероятнее всего, можно отнести к
понятию «generalist», чем назвать приверженцем одного жанра. Фаулз отмечает, что писатель является не просто романистом. Для него всегда существуют два мира – реальный и нереальный. Про себя говорит, что при
написании художественной литературы старается соблюдать реализм в
стиле и, наоборот, занимаясь нехудожественной литературой, считает основным толерантность к гипотезе, не одобряет строгую интерпретацию.
Творческий процесс – область скорее инстинкта и чувства, чем теории. Из
образов разрастается повествование, они обещают разного рода возможности того, что из них может получиться.
В интервью, которое взяла у писателя Дианн Випон в 1995 году, Фаулз
рассказывает о написании романов. Он сравнивает их с любовными историями, поэтому о них не всегда хочется говорить вслух. «Красота и достоинство любого романа, как и вдохновение писателя, неразрывно связаны с
тем «здесь и сейчас», которое соответствует времени написания того или
иного произведения» [2, 614].
Наибольший интерес в писательстве, по мнению Фаулза, представляют диалог и искусство драмы. Одно из величайших искусств – это пропуски в романе, неназванные подробности, дающие возможности читателю с
помощью воображения завершить эту работу. Говорит о плохом состоянии
современного искусства. Трудно достигнуть достойного уровня в искус185
стве, если отсутствует форма и преобладает бездумность случая. Противопоставляет поверхностному видению мира истинное мастерство и профессионализм. Писатель считает, что генезис всего искусства заключается в
попытке отыскать и восстановить невосстановимое.
Восприятие писателя должно оставаться открытым, т.е. способным
оценивать вещи и явления как в жизни, так и в литературе по уровню их
культурной и духовной ценности. Фаулз рисует яркий образ, говоря о писательском ремесле и об их отношении к современности. Творчество писателей он сравнивает с рекой. Нельзя просто стоять на берегу, нужно «волей-неволей двигаться вместе с течением; собственно, даже быть этим самым течением» [2, 644]. Это относится как к писателям, так и к читателям.
В отношении теории и практики писательства Дж. Фаулз считает, что различные теории не имеют какого-либо отношения к искусству писательства.
Творческую деятельность он относит к области бессознательного и противопоставляет творчество и искусство интеллекту, т.е. области рационального.
Писатель надеется, что в будущем кто-то сможет познать его лучше,
чем в настоящем, через его дневники, которые, возможно, когда-нибудь
будут опубликованы. «Самое их главное свойство – то, что в них писатель
(или писательница) видит себя как в зеркале – в том числе свои ошибки и
недостатки, свои лицемерные или бесчестные поступки. … Мы, писатели,
просто обязаны постоянно чувствовать, что меняемся, что все вокруг нас
тоже меняется с течением времени и что почти все мы изуродованы тяжким бременем тщеславия. Я подозреваю, что именно поэтому так мало тех,
кто ведет свой дневник честно» [2, 645].
В интервью, которое проходило в виде переписки с 1987 по 1989 гг.,
Фаулз затрагивает тему роли личного дневника для писателя. «Я очень верю в дневники; именно посредством личных дневников – как бы они ни
смущали при чтении сейчас – романист раскрывает свою истинную природу: он повествует о реальных событиях, описывает персонажей, наблюдает
за другими людьми, строит гипотезы, изобретает. Это то, как я сам постепенно стал романистом» [10, 8]. Джон Фаулз начал вести дневник в 1949 г.,
на последнем курсе Университета, когда ощущал сильную потребность
найти свою индивидуальность (посредством новых лиц, новых встреч, новых мест).
Уилл Хэммонд в статье о первом томе дневников Дж. Фаулза пишет,
что, несмотря на то, что дневники подверглись значительному редактированию, первый том получился вроде руководства к предельному самоанализу, почти самопрепарированию, где ничто не скрывается, а все выставляется на всеобщее обозрение. «Мы являемся свидетелями того, как Фаулз,
будучи любителем естественного мира, срывает с себя разнообразные маски, снимая напластования с таким же наслаждением, с каким он рассматривает крошечного паучка или орхидею. Чем болезненнее этот процесс,
тем дальше он следует» [11, 12]. Чрезмерно эмоциональные отношения,
включая любовные, были своего рода зерном для его «самомелющейся
186
мельницы» (мельницы по перемалыванию себя). Любовь, по выражению
Фаулза, – чудесная помощь для самоанализа.
В 1965 г., находясь на пике международной славы и после долгожданной публикации «Коллекционера», Фаулз признает, что он расклинен (у
него раздвоение личности), т.к. пишет «шизофренический» диалог с самим
собой. Вообще, писатель не раз говорит о подобном состоянии, употребляя
слово «divided», как в отношении себя, так и в отношении других творческих личностей. Ощущение раздвоения, расщепления перекликается с концепцией «немо» писателя, согласно которой человек расклинен, т.к. одновременно обладает определенной индивидуальностью и является существом социальным.
Фаулз рассказывает о возникающих взаимоотношениях между автором и читателем, о чрезмерном интересе исследователей к современным
писателям. Он говорит о том, что не разделяет чрезмерного преследования
со стороны студентов и преподавателей-литературоведов, которое стало
популярным в наши дни и которому подвергаются ныне живущие писатели. Смысл своего писательского труда он видит не в том, чтобы «обеспечивать материал для литературных факультетов», а в том, чтобы «исцелять
человеческую душу», по словам писателя.
Писатель делится своими впечатлениями о том, как происходит изучение какого-либо автора. Студенты хотят разместить все точно по своим
полочкам: кем он является, что его сформировало и т.д. По мнению Фаулза, определить творчество писателя в рамках конкретного направления, т.е.
заключить его в клетку – значит, отрицать что-то весьма существенное о
писательстве. Фаулз проводит параллель между исследованием писателя и
изучением природы, естественной историей. В естественных науках существует опасная тенденция идентификации, стремление дать всему свое
название, поместить в конкретный вид или подвид, исследовать, как оно
работает. Автор выступает против научного изучения природы, сведения
всего многообразия к видам, биохимическим механизмам и т.д. То же самое он чувствует и по отношению к творчеству писателей. «Мир хочет заключить нас в клетку, в одно место, за решетку; очень важно, чтобы мы
оставались свободными» [10, 11].
Особое место в художественном наследии Фаулза занимает природа.
Писателю часто задавали вопросы о влияниях, просили назвать конкретные
имена, оказавшие воздействие на его творчество. Он решительно отрицает
какие-либо влияния со стороны людей, однако считает природу одним из
главных источников своего художественного мира. Именно природу, непреходящий интерес к естественной истории называет главным фактором,
оказавшим влияние на творчество. В эссе «Дерево» Фаулз объясняет связь
между природой и своим искусством. Он говорит о том, что «отношение
между человеком и природой для меня куда более важно и реально, чем
между человеком и Богом, даже между человеком и другими людьми. Я
нахожу его наиболее приятным, бесконечно богатым. Люди часто надоедают, книги часто надоедают, человеку многое что может наскучить; при187
рода – никогда. … Природа постоянно вызывает у меня слезы; люди –
очень, очень редко» [10, 18–19]. Можно заключить, что писатель воспринимает природу как нечто в высшей степени священное, его опыт общения
с ней не поддается переложению в словесную форму.
Интересно сравнить чувства, которые пробуждает у писателя природа,
с чувствами от общения с людьми. В интервью, которое Фаулз дал Дианн
Випон, он говорит, что испытывает глубоко внутри безразличие к большинству других людей, являющееся формой безнадежности. Он пытается
оправдать подобное отношение к людям «частично чудовищным обращением человека с природой, его собственной бьющей через края глупостью,
тем, что он (человек) позволил себе заполонить собою все до такой безумной степени. В настоящее время нас стало слишком много» [10, 19]. Понятие «a grockle» писатель употребляет для обозначения кого-то уродливого,
но необходимого: посетителя, туриста, иностранца. Это относится не только к Дорсету, но и ко всему миру в целом. Они заполонили весь мир, начинают все разрушать.
Дж. Фаулз постоянно обращается к художникам и живописи в произведениях. Он рисует портрет художника согласно своим представлениям о
творческой личности. Это похожий на Росетти (художник-прерафаэлит из
«Подруги французского лейтенанта») образ довольно одинокого, движимого внутренними порывами человека, зависящего от музы или бессознательного, в некоторой степени, само-деструктивного и всегда мечтающего
о более безумном и лучшем мире, чем современная реальность. Для художника всегда свойственно одиночество, он всегда полагается на идеализированные образы из прошлого. Вообще, по убеждению писателя, искусство всегда основывается на ностальгии и стремлении к лучшему миру, к
лучшему метафизическому состоянию, чем то, которое имеется. Все художники являются жертвами некой формы депрессии. Это цена, которую
им приходится платить за то, что они такие, как есть. Писатель говорит,
что никогда бы ни выбрал быть «более нормальным человеком». Нормальный (обычный) человек обделен той эмоциональной составляющей, которой обладает художник.
Писатель выражает свое увлечение искусством прошлого. Он отрицательно высказывается об искусстве постмодернизма. В качестве примера
можно привести образ художника Бресли из «Башни из черного дерева».
Возможно, как это всегда бывает в художественной прозе, есть неосознанная связь между художниками Росетти из «Подруги …» и Бресли из «Башни …». Бресли выступает против абстрактного искусства, критикует Пикассо. Он настаивает, что великое искусство не умственно, но происходит
из природы или полноты бытия. Фаулз развивает мысль о том, что абстрактное искусство есть бегство от ответственности перед человеком и
обществом. Отвлеченные понятия в самой своей основе опасны для искусства, потому что отвергают реальность человеческого существования. Художник не должен бояться быть понятным. Смысл искусства раскрывается
в возможности достичь самопознания. В произведении Фаулз поднимает
188
вопрос о месте искусства в системе художественной традиции и приходит
к выводу, что истинное искусство, являясь непрерывным и преемственным
процессом, не может существовать изолированно. В «Башне ...» мировая
культурная традиция составляет неотъемлемую часть смысловой ткани
произведения. Отказ от «корней», по Фаулзу, влечет за собой потерю самой сущности искусства, которое становится игрой ума и теряет смысл.
Таким образом, получается антитеза: Генри Бресли стоит вне общепринятой морали, вне общества, ведет сомнительный для общества образ
жизни, однако именно он оказывается способным создавать подлинное искусство – искусство, связанное с жизнью. Дэвид Уильямс, напротив, ведет
приличный, благопристойный образ жизни, не отличается от большинства.
Генри Бресли верен классическим традициям, его искусство – часть мировой культурной традиции, в то время как Уильямс – абстракционист, его
искусство оторвано от реальности, не вписано в мировую традицию.
Вслед за своим героем писатель считает, что многие современные артисты используют абстракцию, чтобы скрыть отсутствие необходимой
техники, навыков черчения. Искусство в Нью-Йорке, например, связывается с тем, что является модным, нежели с более гуманистическими – основывающимися на человеке – традициями прошлого. Настоящий художник,
как следует из произведений Фаулза, всегда маргинал, его образ жизни
бросает вызов обществу, общепринятым нормам поведения. Упорядоченная, размеренная жизнь не может создать великого художника.
В повести «Башня из черного дерева», как и во многих произведениях,
Фаулз затрагивает одну из своих излюбленных тем – место художника в
современном мире, люди искусства и толпа. По отношению к окружающим
людям, обществу художник живет как в башне. С одной стороны, возникает образ уединенности, замкнутости, ухода в себя, с другой – сопровождающее творческую личность непонимание, неодобрение со стороны большинства, являющего собой весьма часто серую безликую массу в отношении искусства.
Образ башни и художника весьма характерен для мировосприятия
Джона Фаулза, является его имманентной чертой. Он является одним из
ключевых образов-символов, выражающих суть английского менталитета.
Этот образ можно использовать при характеристике англичан как нации и
английского национального характера. Как отмечает исследователь творчества Фаулза В.Л. Фрейбергс, повесть «Туча» из сборника «Башня из черного дерева» предваряет тему английскости, дальнейшим развитием которой является роман «Дэниел Мартин». В.Л. Фрейбергс указывает на связь
«Тучи» с романом: проблема отчуждения людей объясняется психологическими, социальными факторами.
Из художественной и мировоззренческой позиции Фаулза вытекают
следующие две установки писателя. С одной стороны, он говорит об одиночестве человека как неизменной основы бытия. Для него главный интерес представляют ситуации полной изолированности. Один из мотивов его
размышлений – это явленность-неявленность писательского Я в романной
189
прозе, потаенность и открытость, обнаженность, выставление на показ
творческого процесса. С другой стороны, он сам начинает заниматься решением образовательно-воспитательных задач. Об этом свидетельствуют
многие его эссе из «Кротовых нор».
Подводя итог, можно сказать, что создание художественного произведения не происходит отдельно от складывания человеческой личности.
Нельзя отрывать изучение текста от личности автора, его творца. В произведениях находят отражение значимые доминанты авторского мировоззрения, яркие краски его картины мира. Специфика бытования основных тем
художественного мировидения Джона Фаулза в текстах писателя и то
огромное значение, которое они имеют для формирования мировоззренческой установки Фаулза, позволяет отнести их к ключевым понятиям, образующим художественную картину мира писателя.
Литература
1. Бушманова Н.И. Дерево и чайки в открытом окне. Беседа с Джоном Фаулзом // Вопросы литературы. 1994. №1, с. 165 – 208.
2. Дьявольская инквизиция: Джон Фаулз и Дианн Випон (1995) // Дж. Фаулз.
Кротовые норы. М.: АСТ, 2003.
3. Фаулз Дж. Башня из черного дерева. М.: Вагриус, 1998.
4. Фаулз Дж. Дэниел Мартин. М.: АСТ, 2004.
5. Фаулз Дж. Острова // Кротовые норы. М.: АСТ. 2003.
6. Фаулз Дж. Подруга французского лейтенанта. М.: Роман – газета, 1991, №
5.
7. Фаулз Дж. Подруга французского лейтенанта. М.: Роман – газета, 1991, №
6.
8. Фрейбергс В.Л. Творческий путь Джона Фаулза: Автореферат дис. … канд.
филол. наук. Рига, 1986.
9. Цехановская Л. Английский национальный характер в романе Дж. Фаулза
«Дэниел Мартин» // Литературоведение: Литературные влияния и текстовые
контакты. Тарту, 1986. Вып. 727, с. 94 – 103.
10.Fowles J. The Art of Fiction. John Fowles // The Paris Review. 2005. №10,
р. 1 – 25.
11.Hammond W. The French Lieutenant’s man // The Observer. London, 2003, №
12, р. 10 – 15.
190
М. А. Гурская*
«Полезные советы по приручению вещей, времени
и пространства» или «нестрашная смерть»
в современной детской литературе
«Смерть – это будет самое чудесное приключение!»
Питер Пэн
Еще в дошкольном возрасте маленький человек впервые начинает задумываться над такими глобальными вопросами, как рождение, жизнь, природа,
смерть. «Ребенок второй половины пятого года жизни – маленький философ»[3,
12]. Понимание неотвратимости смерти становится для малыша сложной психологической драмой, преодолеть которую помогает или утешение взрослого,
или игра. Что такое смерть? Возможно ли избежать столкновения с нею? С чем
она связана? Зачастую родители не в состоянии дать удовлетворяющий детей
ответ. Ребенку приходится самому искать решение вопросов, вызывающих тревогу и беспокойство. Источниками в таком случае становятся детские мифы,
«страшные рассказы» сверстников и, конечно, литература.
Один из самых популярных жанров современной детской литературы «ужастики» в стихах и прозе. Е.О. Путилова отмечает, что интерес к «страшилкам» в последние годы «вылился в настоящую эпидемию»[10, 8]. Такой интерес
вовсе не удивителен. Не секрет, что больше всего нас привлекает именно то,
чего мы больше всего боимся. Поэтому для того, чтобы преодолеть страх и леденящий ужас перед непонятным и загадочным, достигнуть катарсиса, дети
снова и снова перечитывают и пересказывают друг другу «страшные истории»
о неведомой силе, несущей смерть. Как пишет Выготский, искусство способно
программировать катарсис: «Эмоции искусства суть умные эмоции. Вместо того чтобы проявиться в сжимании кулаков и в дрожи, они разрешаются преимущественно в образах фантазии. <…> И вот эта возможность изживать в искусстве величайшие страсти, которые не нашли себе исхода в нормальной жизни,
видимо, и составляет основу биологической области искусства»[2, 74]. Современная детская литература усвоила это правило без лишних вопросов. В настоящее время книжный рынок предлагает огромное количество повестей«страшилок» современных авторов, например, повести Е. Троицкого «Детские
страшилки», Г. Науменко «Кот Баюн, Баба Яга и их друзья», С. Седова «Чегошины страшилки, сочиненные при помощи Сергея Седова» и другие. Появились целые серии книг: монументальные «Страшилки» и «Ужастики», лиричноинтимная «Твой ужастик».
Повесть-«страшилка» генетически восходит к образам и сюжетам детских
страшных историй и мифологическим рассказам взрослых (быличкам, бывальщинам). Кроме того, литературная «страшилка» использует элементы фольклорной и литературной сказки, фэнтэзи и фантастики. На литературную «стра*
Гурская Мария Алексеевна – аспирант кафедры истории русской литературы КубГУ
191
шилку», как и фольклорную (в терминологии ученых РГГУ - «постофольклорную»), оказывают влияние триллеры, мультфильмы, художественная литература, СМИ и компьютерные игры. Происходит смешение жанров, жанровый синтез и интеграция.
По наблюдению психологов, связующим звеном всех страхов у детей является именно страх смерти. Страх смерти «тесно связан со страхами нападения, заболевания, смерти родителей, страшных снов, темноты, сказочных персонажей, животных и пр. Все эти страхи имеют своей мотивацией угрозу для
жизни, если не прямую, то связанную со смертью родителей, появлением в
темноте и снах чудовищ. Нападение со стороны кого-либо (в том числе и животных), равно как и болезнь, могут обернуться непоправимым несчастьем,
увечьем, смертью» [7, 115]. Первыми рассуждениями, в которых проявляется
стихийное стремление детей найти решение вопросов, вызывающих тревогу и
беспокойство, становятся «страшные истории» или детские мифы. В них центральное место занимают образы предметов-демонов, предметов-чудовищ, воплощающих в себе опасность для жизни и вызывающих страх. Многообразие
предметов, упоминаемых в «страшилках», с трудом поддается перечислению. И
все же можно выделить несколько устойчивых образов, которые «кочуют» из
рассказа в рассказ. В книге «И голос детства из дальней дали» в главе «Мифы о
предметах-вредителях» М.П. Чередникова рассматривает основные мотивыобразы детского мифотворчества: зловещее пятно, занавески, окно, рука, глаза,
портрет, кукла, люк, транспорт и др. Возникновение этих предметов в детских
страшилках исследователь в первую очередь связывает с боязнью ребенка чужого, неизвестного, а потому опасного и зловещего внешнего мира. Долгое
время пространство ребенка ограничено рамками дома. Все, что находится за
его пределами, воспринимается им как враждебное или, как минимум, небезопасное. Однако постепенно происходит расширение пространства в соответствии с традиционной системой координат: по вертикали и чуть позже по горизонтали. По вертикали противопоставляются верх и низ – «люк», «подвал»,
«лифт». Когда идет освоение мира по горизонтали, опасность для жизни связывается в сознании с улицей, дорогой, транспортом, «чужими» людьми, организующими социальное пространство.
Известно, что взрослые, приучая ребенка к осторожности, учат их обходить ямы, канавы, люки. Однако маленький человек испытывает неодолимую
тягу к изучению необычного пространства. «Однажды Нинка провалилась в
люк. Совершенно случайно, конечно. Она только хотела посмотреть, кто же
там внизу сидит. Любому ребенку ясно, что там кто-то сидит. Иначе почему туда нельзя совать голову и бросать камешки?..» [5, 8]. Так начинается рассказ
Валентины Дёгтевой «Люк». Люки, лужицы, следы – все это «ипостась хтонической бездны, средоточия хаоса и смерти, раскрывающие глубинномифологическую семантику «ямы-ловушки». <…> Подобные бездны соответственно универсальным мифологическим шаблонам – есть остаточные «островки» в мире организованного «космоса», «провалы», дыры в нем, отверстия в
подземные сферы, где продолжают бушевать стихии хаоса»[9, 211]. Черная
бездна кажется бездонным ходом в иной мир, пугая и одновременно притягивая
192
к себе внимание. Эта темнота и мрак таят в себе массу интересного. Ребенок
жаждет приключений и уж если не увидеть, так хоть поговорить с обитателями
потустороннего мира. Маленькая Нинка из рассказа Дёгтевой, провалившись
под землю, беседует то ли с сантехником, то ли с крысой, а, может, даже с
настоящим принцем! Кто выступает в роли собеседника для девочки совсем неважно. Это может быть кто угодно, или даже что угодно: крыса, верблюд, бревно, электроплитка, воздушный шарик или резиновые сапоги. Главное – поддержать иллюзию приключения и опасности: населить темноту существами и
… победить их. Ребенку предмет интересен ровно до того момента, пока он не
узнает, как эта вещь устроена изнутри. Как только игрушка разобрана до винтиков, а бездна исследована до последнего уголка, ореол таинственности исчезает и объект уже не так притягателен и заманчив: «Больше она в люки никогда
не заглядывала, потому что знала, что сидят там либо принцы, либо сантехники. Ничего интересного там больше нет»[5, 14]. Темнота, бездна изучены, а потому больше не пугают, не волнуют воображение маленького следопыта.
Умение ребенка различать чужих, незнакомых людей – первая ступень
освоения ребенком социального пространства по горизонтальной оси координат. Как отмечает А.К. Байбурин, «чужой мир расположен в непосредственной
близости от человека»[1, 27]. Опасная зона начинается сразу же за порогом дома, где опасность встречи с чужими людьми, представляющими угрозу для
жизни ребенка, многократно увеличивается. В их числе могут быть как представители потустороннего мира (ведьмы, колдуны), так и представители маргинальных социальных групп (цыгане, воры, нищие и т.п.). Поэтому, как только
ребенок выходит из дома и вступает в первые социальные контакты за пределами семьи, его поведение строго регламентируется многочисленными табу,
предупреждениями об опасности общения с чужими, незнакомыми людьми:
«Не открывай никому дверь!», «Не разговаривай с чужими людьми!».
В основе рассказа В. Дёгтевой «Кто там?» лежит классическая ситуация –
маленькую девочку оставляют дома совершенно одну, естественно, предварительно снабдив ребенка необходимыми рекомендациями: ни за что и никому не
открывать дверь. И Нинка точно знает, почему ни в коем случае этого нельзя
делать – «ведь за дверью может быть кто угодно: и маньяк с ножом, и слесарь с
пилой, и волк»! [5, 46]. Но непреодолимое желание приключений и познания в
очередной раз приводит девочку к беде. Волк, конечно же, оказывается прямо
за дверью, да и не только он – еще и Баба Яга, и воры. Волк норовит приготовить из Нинки суп, Баба Яга – утащить в лес, а воры – похитить мамины колечки, которые та обещала Нинке подарить. Но, к нашему удивлению, у девочки
эта ситуация не вызывает ни малейшего страха. Все происходящее она воспринимает как игру. И даже сидя в кастрюле и обложенная морковкой и помидорами, не перестает давать своему мучителю указания: «А перец у мамы вон там
лежит, в белой баночке. <…> И без лука, пожалуйста, он противный» [5, 47].
Дело в том, что несмотря на все запреты и предупреждения взрослых, необратимость смерти ребенком еще не вполне осознается, потому угроза смерти не
вызывает ужаса. В конце рассказа, когда игра была в самом разгаре, появляется
мама. Она вытаскивает Нинку из мешка, вызывает милицию, которая на «кра193
сивой желтой машине» увозит воров, выпроваживает волка и Бабу Ягу. Девочкой действия мамы воспринимаются не как счастливое избавление от угрожающей ей опасности, смерти, а как несанкционированное, нежеланное вмешательство в игру: «<…> Нинка висела у волка на хвосте и сопела от обиды. – Не
расстраивайся, девочка, - сказал волк, - я тебя в следующий раз съем» [5, 53].
В отличие от смелой Нинки герой Михаила Есеновского Юра боится
практически всего. Т.е., конечно, Юра был очень храбрый и «практически нечего не боялся», но некоторых вещей все же опасался. А именно: 1) «Он боялся
спать на кровати», потому что под ней всегда спит крокодил; 2) «Кроме кровати Юра боялся всех тёмных комнат в квартире», потому что там за шторой стоит скелет; 3) «Помимо комнат Юра боялся сохнущего белья на кухне, особенно
простыню»; 4) «Кроме белья Юра боялся дедушкиного портрета на стенке»; 5)
«Кроме портрета Юра боялся стенного шкафа», потому что там среди вешалок
с разным платьем спрятался Гардероб; 6) «Помимо шкафа Юра боялся дырки
для слива в ванне»; 7) «Помимо дырки Юра боялся входную дверь», потому что
под дверью всё время стоит шпион.
Психологическая основа возникновения у ребенка некоторых из этих
страхов была рассмотрена выше. Обратим внимание на боязнь темноты, занавесок, белья и портрета.
Страх темноты – одно из самых ранних психологических переживаний
ребенка. Опасность, которую таит в себе темнота, определяется тем, что привычный (освоенный ребенком) мир становится невидимым. Невидимость –
один из возможных реальных признаков существования предмета. «Невидимость вещей и персонажей в сказках первоначально воспринимается как реальность, не вызывающая сомнения» [14, 175]. Поэтому темнота, невидимость в
сознании малыша – символ надвигающейся беды, смерти, которая словно «съедает» человека. В рассказе Есеновского темнота населена совершенно разными
мифическими существами: под кроватью обитает крокодил, за занавеской –
скелет, на кухне – говорящая простыня, а в шкафу поселился настоящий Гардероб! Но всех этих существ Юра не видит, они поглощены тьмой. Он только
может слышать их. «Когда же глаза привыкают к темноте, знакомые предметы
теряют отчетливость форм, неясные их очертания воспринимаются не столько
внешним, сколько внутренним зрением. Эмоциональное воздействие голоса,
звучащего во тьме, притом, что сам предмет остается невидим, усиливает это
впечатление» [14, 178]. В отличие от фольклорных «страшилок», в которых голос, принадлежащий оживающим в темноте предметам, отдает людям отрывистые приказания, которые становятся причиной их гибели, Юрины голоса никакого вреда ему не причиняют. Конечно, сначала мальчик, как любой нормальный ребенок, их искренне опасается: «- Ну да, <…> я сейчас подойду, а ты
меня сзади ка-ак…»; «Я отвернусь, а ты меня сзади душить начнёшь. У тебя
одно на уме»; «Я подойду, а ты меня в шкаф утянешь. А там и подумать страшно…» и т.п. Потом вступает с голосами в диалог, в процессе которого нервное
напряжение снимается. А расстается Юра уже с хорошими друзьями: « - Так я
после школы завтра к тебе зайду, - говорит Юра. – С часу у нас обед, - говорит
Гардероб. – Но ты всё равно зайди. Скажешь, я – от скелета»; « - Ну пока, - го194
ворит Юра. – Завтра придёшь? – говорит скелет. <…> - Не знаю, - говорит
Юра. – Завтра уроков много. – Ладно, учись, - говорит скелет. – Если что, я тут.
Ты только свет не включай» [6]. Так же, как и в рассказе Дёгтевой «Люк», бездна и мрак пугают ребенка только в силу своей невидимости и неизученности.
Как только пространство из «чужого» (т.е. неизвестного) превращается в
«свое» (привычное, видимое), оно становится неопасным. А.К. Байбурин отмечает, что «чужое» начинается там, где кончается «свое», и эта граница путешествует вместе с человеком. <…> Такое путешествие представляется как последовательное преодоление серии границ, каждая из которых расценивается как
главная, но, будучи пройденной, перестает быть таковой, а главной становится
та, которая впереди. Существа, которые населяют мир Юриных кошмаров, исчезают, как только мальчик выходит на свет. Но, как ни парадоксально, Юра
сам просит маму его погасить: « - Мам, - говорит, - может быть, мы здесь лампу
сейчас потушим и все вместе чаю попьём» [6, 15]. Как пишет С. Холл, «сознание, что известный страх уже не владеет нами, но, что мы владеем им, доставляет нам счастливое чувство своей силы» [13]. Т.о., ребенок пытается продлить
катарсис, сохранив внешние условия возникновения чувства опасности и страха. «Осиливание страха» - очень важный психологический процесс, первая защитная реакция ребенка. При этом малыш берет на себя роль взрослого человека. Поэтому темнота будет наполнена опасными существами до тех пор, пока
ребенок будет испытывать потребность их «осиливать», почувствовать себя
взрослым и самостоятельным.
Еще более сложным оказывается образ занавесок, штор. Этот предмет с
удивительным постоянством повторяется и в детских «страшных рассказах».
Как отмечает М.П. Чередникова, семантика занавесок в контексте традиционной культуры многообразна. С одной стороны, она определяется местонахождением их у окна. Т.е., задернутые занавески отделяют пространство современного дома от видимого через окно пространства внешнего мира. «Окно как
нерегламентированный вход в дом (вместо двери), согласно мифопоэтической
традиции, используется нечистой силой и смертью. <…> Вместе с тем с помощью окна обманывают смерть (через окно выносят покойника) или нейтрализуют опасность (передача через него маленьких детей в обряде переселения в
новый дом) [12, 34]. С другой стороны, занавески связаны с особыми переживаниями ребенка в силу специфики самого предмета. Текучесть формы, ее подвижность возбуждает воображение. Движение штор не надо представлять, они на самом деле движутся от легкого прикосновения, от сквозняка и ветра.
Кроме того, ребенок, играя дома в прятки, часто прячется за шторой, и опыт
подсказывает ему, что спрятаться за тяжелыми складками может не только он.
« - Скелет, - говорит Юра. – Ты здесь? А скелет молчит, только штора слегка
шевелится». У образа простыни та же семантика:
« - Простыня, - говорит Юра, - виси себе смирно, не шевелись. Я за конфетой
сюда пришёл. А простыня сразу как заколышется!». Как известно, в детском
сознании любая вещь может быть одушевленной, т.е. вещи придаются какие-то
свойства человека. В Юрином воображении простыня наделяется человеческими слабостями: «Я за конфетой сюда пришёл. <…> - Я, может, тоже хочу, - го195
ворит [простыня]» - и чертами характера: « - Ты что, обиделась? – говорит
Юра. – На вот тогда конфету, держи, мне не жалко. А простыня висит себе и
молчит». Заканчивается история с простыней тем, что она все-таки съедает
конфету: «Приходит Юра из школы – конфеты на месте нет, а вся простыня в
конфете. – Вот ведь свинья! – говорит Юра. – Еще и руки об себя вытерла. Что
теперь мама скажет?» [6]. Юмористичность ситуации состоит в том, что свой
проступок мальчик пытается «свалить» на неодушевленный предмет. И в его
сознании это оправдание выглядит вполне реалистично, ведь простыня «живая».
Последний образ, который мы рассмотрим на примере данного рассказа, портрет. Важно отметить, что ребенок на раннем этапе развития отождествляет
изображение человека с самим человеком: « - Дедушка, - говорит Юра, - ты под
стеклом хорошо запрятан? Не вылезешь? – Намертво, - говорит дедушка, - отсюда не убежишь» [6, 21]. Т.е., ребенок не видит разницы между изображаемым и его изображением, все суть одно.
«Чужие» лица таят в себе опасность не только когда люди входят в дом,
но и тогда, когда в доме остаются их изображения. Для Юры портрет дедушки – это было изображение «чужого», незнакомого человека, ведь мальчик родился уже после его смерти: «<…> - Я бы и тебя полюбил, если бы ты раньше
успел родиться. – Не виноват я, - говорит Юра. – Это все папа с мамой» [6, 22].
Родной дедушка для Юры – «чужой» человек. Поэтому и психологический аффект, связанный с восприятием его изображения, несет в себе негативную
окраску. Портрет вызывает чувство беспокойства, нервозность, страх.
Архетипически образ портрета непосредственно связан с мотивом глаз.
«Глаза «вынутые», отражающие самостоятельную, независимую от человека
жизнь – одно из самых сильных переживаний, испытываемых ребенком» (Чередникова). Ребенок ощущает «магнетизм» взгляда очень рано. С. Холл среди
многочисленных детских страхов выделяется оммофобию – боязнь глаз. Мотив
«вынутых» глаз получил широкое распространение как в фольклоре, так и в литературе (повесть Н.В. Гоголя «Портрет», Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек»). И именно выражения лица, сурового взгляда деда так боится маленький
Юра: « - А то я, знаешь, тебя боюсь. Ты что на нас так сердито смотришь всегда?» Аффект, связанный с восприятием человеческого лица, долго не проходит: « - Дедушка, - говорит Юра, - а я тебя всё равно немного боюсь». Избавиться от ощущения, что за тобой наблюдают, будет очень не просто, т.к., чем
старше становится человек, тем все более обостряется его реакция на взгляд со
стороны: мы ощущаем взгляд человека, устремленный на нас даже тогда, когда
его не видим. Прощаясь с внуком, дедушка просит: «Только пыль со стекла сотри, а то мне тебя плохо видно».
Т.о., большая часть детских страхов связана категориями свой/чужой,
темнота/свет, видимость/невидимость, т.е. зрительными образами. В последние
несколько десятилетий в нашу жизнь прочно вошли такие предметы визуального познания, как телевизор и компьютер. В силу того, что их самостоятельное
использование детьми родителями табуировано или сопровождается соответствующими предупреждениями об опасности, дети склонны наделять назван196
ные предметы волшебными, магическими свойствами. Не последнюю роль в
развитии мифа об «интерактивных» убийцах, сыграло, конечно же, телевидение. Видеокассета, после просмотра которой человек внезапно умирает, телевизор, из которого выползает непонятное существо, - все это становится тем фоном, на котором появляются фольклорные «страшилки» про электронных
убийц. А если прибавить к этому еще и детскую склонность к мистификации,
становится понятно, что воображение малыша только этими предметами не
ограничится. Еще в советское время в детском городском фольклоре появились
страшилки про «черный телевизор», из которого ночью появляются руки, душащие по очереди всех членов семьи. Сейчас эти рассказы уже не актуальны –
практически в каждом доме телевизор именно черный, но относительно недавно у телевизора появился незаменимый спутник – пульт дистанционного
управления. Ребенок в силу недостатка технических знаний не может понять,
как эта вещь работает, а в силу эмоционально-психического развития наделяет
его магическими функциями и возможностями. Малыш, как завороженный,
может бесконечно долго «щелкать» каналы, получая реальное удовольствие от
происходящего «чуда». К тому же образы «телевизора» или «компьютера» тесно связаны с традиционными образами детского фольклора – «портрета» и «окна». Экран – эта граница между миром знакомым, «своим» и миром неизвестным, «чужим». Необходимо вспомнить и то, что для ребенка нет разницы между изображаемым объектом и непосредственно его изображением. Поэтому детям иногда очень трудно определить границы мира реального и фантастического, вымышленного, а переход этой черты представляется вполне возможным.
В рассказе «Куда исчезла семья?» С. Седов наделяет этот привычный
предмет домашнего обихода какими-то даже инфернальными функциями. «Всё
началось как обычно. Один парень случайно нажал на пульте секретный код и
вышел на секретный канал. Там шла передача «Магазин желаний». Действительно, нормальность и обычность ситуации не вызывают сомнений. Просмотр
телевизора у многих и заключается в простом «перещелкивании» с канала на
канал, а программы типа «Магазин на диване» или «Телевизионный магазин»
давно стали привычными. Секретный канал? Почему нет? Есть ведь платные
каналы, закрытые для свободного доступа, «запретные» для детей каналы и передачи, в конце концов, существуют определенные выделенные линии спецслужб и т.п. Но голос, который звучит из телевизора, не просто предлагает какие-то товары для дома - для семьи. Нет. Он искушает всех членов семьи по
очереди, обещая им то, чего они так хотят: ребенку – стать «крутым сноубордистом», матери – драгоценности, платья, шубы, отцу, естественно, - «Мерседес»
последней модели, а самым заветным желанием бабушки является скорая
смерть. При этом срабатывает убеждение, что если ты по-настоящему чего-то
хочешь, нужно просто захотеть этого еще сильней, так сильно желать, как ничего другого, и все обязательно сбудется. «- Ещё сильней захоти! <…> Ещё,
ещё сильней!» [8, 87]. И когда желание обладать вещью доходит до крайнего
предела, герои действительно получают её, но с одной оговоркой – не в этом
мира, а в том – потустороннем, телевизионном. Парень, а вслед за ним и его родители «телепортируются» в телевизор, и свое дальнейшее существование они
197
обречены продолжать именно там. «Попасть в телевизор» - заветная мечта многих детей, причем она не кажется им такой уж неосуществимой и нереальной.
Если то, что они видят на телеэкране, существует в обычной жизни – товары
можно купить в магазине, машины – увидеть на улице и т.д., то почему нельзя
предметы реального мира «запихнуть» в телевизор? Перед ребенком этот вопрос даже не стоит, его мучает другое: «Как узнать секретный код, чтобы попасть на секретный канал, на котором идет передача “Магазин желаний”?»
Пульт напоминает волшебную палочку детских сказок только более современной, усовершенствованной модели. Единственной, кто не попадает на удочку
таинственного голоса, оказывается престарелая бабушка. Гроб, конечно, был
очень привлекательным, хорошим и добротным, но бабушка не так уж сильно
желала смерти. Она выключила телевизор и решила: «Нет, я лучше поживу ещё
немного!». А это значит, что смерть можно «отодвинуть» во времени, границу
закрыть, просто обесточив радиоприбор. Вот и получается, что с одной стороны, смерти нет, есть «телепортация» в другой мир, где ты получишь все, о чем
так давно мечтал; с другой, смерть вроде бы и есть, но она наступит только тогда, когда ты сам ее возжелаешь, причем так сильно, чтобы каждая твоя клеточка этого хотела. А такое еще и не у каждого получится.
В последнее время много говорят о том, что телевидение, компьютерные
игры оказывают пагубное воздействие на психику детей, «зомбируют» их, превращают в бесчувственных и недумающих людей. В какой-то степени можно
согласиться с этим мнением. Телевещание заполнено программами, фильмами
и даже мультфильмами довольно агрессивного характера. Сцены насилия и
смерти теперь редко вызывают у детей негативные эмоции, страх. Притупление
чувственно-эмоциональных реакций происходит вследствие перенасыщенности
подобного рода информацией, кроме того дети, родившиеся и выросшие уже в
век компьютерных технологий, склонны переносить законы виртуального мира
в свою обычную жизнь. Если твой герой погибает в схватке с противником, то
всегда можно нажать на клавишу “continue” и начать игру заново. У детей нет
четкого понимания обратимости/необратимости, т.к. в виртуальном мире любое
действие обратимо, а потому даже смерть или увечье не вызывают страха. Поэтому катастрофы, гибель людей, о которых каждый день сообщают в новостях,
современным ребенком не переживаются также остро и болезненно, как,
например, его родителями. До того, когда он впервые встретиться с реальной
смертью знакомого ему человека, все другие смерти будут казаться «интерактивными», «обратимыми».
Отметим, что приём «обратимости» используется современными писателями с завидным постоянством. При расслоении и наложении переживаний
смешного и горестного появляется возможность комбинаций смешного и несмешного. Одной из таких комбинаций и является черный юмор. «Это гибридное катарсическое образование, построенное на допущении, что необратимое
обратимо» [4, 82]. Смерть воспринимается как пустяк. Для возникновения черного юмора обратимость смерти должна отчетливо осознаваться. То, что по
смыслу должно вызвать горестное переживание, оформляется как смешное. Изза того, что условность и противоестественность ситуации вполне осознаются,
198
разрядка не может быть полной. После нее остается некоторое сомнение - а так
ли уж это смешно? Но именно благодаря своеобразному «повисанию» очищения переживание длится дольше, чем в обычном смеховом катарсисе.
Тексты «чёрного юмора» работают по определенным законам. Н. Гладких
в статье «Катарсис смеха и плача» отмечает, что смешное и горестное – два
противопоставленных типа ценностных переживаний. Это всегда переживания
по поводу, причем источниками переживаний являются не мир и его предметы,
а только события определенного качества – события, на большее или меньшее
время нарушающие естественную целостность и непрерывность человеческой
жизни. Смешное и горестное имеют свои специфические механизмы завершения, или катарсиса, – смех и плач. Эти переживания выполняют функцию поддержания баланса человека со средой. «Все наше поведение есть не что иное,
как процесс уравновешивания человека со средой» [2, 58]. И смех, и плач глубоко амбивалентны: они вскрывают несовершенство мира и в то же время восстанавливают его устойчивость и целостность. Смех и плач принципиально отличаются друг от друга. На это указал еще Аристотель в своей «Поэтике»:
«Смешное – это какая-нибудь ошибка или уродство, не причиняющее страданий и вреда». Соответственно, трагичное – это ущерб, причиняющий боль, ведущий к гибели. Другими словами, ключевым в возникновении смеха или плача является признание обратимости либо необратимости случившегося.
«Интерактивная» смерть ребенку не страшна, такая смерть ему хорошо
знакома, она обратима, т.е. её просто нет. Но вот в обычном реальном мире
смерть все-таки есть. И рано или поздно Смерть приходит к каждому человеку.
Когда ребенок впервые сталкивается со смертью знакомого, близкого человека,
он начинает понимать, что смерть – это не временное состояние, из которого
возможно возвращение к жизни. Умерший исчезает безвозвратно. Возникает
потребность понять происходящее. Ребенок начинает связывать со смертью
представления о некой внешней силе, которая вторгается в обычное течение
жизни и грубо нарушает его. Чувство страха возникает именно из-за того, что
он не может понять, что это за сила, с чем она связана. У ребенка нет возможности ее увидеть, потрогать, а потому она еще больше его пугает. Давно сложилось представление о смерти, как о женщине-скелете в черном балахоне с
косой в руке. Персонификация, воплощение образа смерти на бумаге, в зрительном образе – первый шаг на пути по борьбе со страхом, который она вызывает. То, что мы видим или можем себе представить, нам уже немного знакомо,
а значит не так страшно.
Однажды Смерть пришла к мальчику из рассказа Сергея Силина «Двоечник и смерть» Пете Задирашкину. «Пришла» в прямом смысле этого слова, т.е.
ногами, через обычную дверь, присела на постель и стала задавать вопросы.
При этом Смерть оказалась еще и жутким бюрократом. Заявила, что для того,
чтобы умереть, нужно заявление написать! И без него ну никак нельзя. Петя, к
своему огромному счастью, был непроходимым двоечником и даже второгодником, и слово «заявление» правильно так и не сумел написать. Смерть, конечно, ужасно расстроилась, даже «совсем из себя вышла» [11, 79], ведь пришлось
Петю оставить в живых грамматику доучивать. А тот с тех пор о том, чтобы
199
писать грамотно, «и думать боится» [11, 80]. Смена точки зрения, смещение аксиологических акцентов, гротеск, гиперболизация, искажение норм действительности помогает маленькому читателю «прозреть» и посмеяться над тем, что
его так пугает.
В этой истории Смерть это не какая-то абстрактная сила, причиняющая
зло, наоборот, она конкретна и материальна. Это «тетенька», которой «некогда», которая злится и выходит из себя, которая ходит с «дипломатом» и набором ручек всевозможных цветов, которая строго следит, чтобы все было «как
надо», и носит с собой кипу бланков «На смерть». Такую «тетеньку» нельзя бояться, таких «тетенек» у нас пруд пруди в организациях любого рода. С ней
можно договориться, ее можно обхитрить, уважить, заговорить. Их так много,
они все так похожи, а главное мы уже все к ним так привыкли, что встреча с
«тетеньками» ни у кого не вызывает страха. После общения с ними остается
лишь «неприятный осадок» или легкое недоумение. Страха нет. Только неприязнь и нежелание встречаться чаще, чем раз в жизни.
Литература
1. Байбурин А.К. Ритуал. Свое и чужое. // ФЭ, 1990.
2. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М., 2005.
3. Гарбузов В.И. От младенчества до отрочества (размышления врача о развитии и воспитании ребенка). – Л., 1991.
4. Гладких
Н.
Катарсис
смеха
и
плача.
Вестник
ТГПУ.
Серия: Гуманитарные науки (Филология). – Томск: Изд. ТГПУ, 1999. – Вып.
6 (15). – С. 88-92.
5. Дёгтева В.А. Бублик для гуманоида / Ил. Н.Д. Суворовой. – М., 2009.
6. Есеновский М.Ю. Главный шпионский вопрос / Ил. Н.Ю. Корсунской. – М.,
2009.
7. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков: Анамнез, этиология и патогенез. – Л., 1988.
8. Классики: Лучшие рассказы современных детских писателей / Авт. идеи,
сост. и ред. М.Артемьева. — М., 2002.
9. Неклюдов С.Ю. О некоторых аспектах фольклорных мотивов. // ФЭ, 1984.
10. Русская поэзия детям. / Вступ. Статья, сост. Е.О. Путиловой. – Л., 1989.
11. Силин С.В. Прекратите грызть перила! / Ил. Е. Блиновой. – М., 2009.
12. Топоров В.Н. Окно. // МНМ, II.
13. Холл Г.С. Проблемы воспитания http://www.ido.rudn.ru/psychology/
age_psychology/biograf48.html
14. Чередникова М.П. «Голос детства из дальней дали…» (Игра, магия, миф в
детской культуре). – М., 2002.
200
Т.Э. Руссо*
О ″религии″ Фредерика Бегбедера
Известный современный французский писатель Фредерик Бегбедер с
первых своих шагов на литературном поприще заявил о себе очень громко и
неоднозначно. До сегодняшнего дня за ним уверенно, словно тень, идет слава
провокатора и бунтаря. Его произведения, написанные в духе постмодернизма,
привлекают к себе читателей с самыми различными предпочтениями.
Прочтение одного из произведений Ф. Бегбедера и стало поводом для
написания данной статьи. Книга «Я верую – я тоже нет», опубликованная в
2004 году, отличается от других не только жанровым своеобразием. Не то интервью, не то исповедь, она представила нам автора уже несколько в ином обличье: теперь он не ломающий традиции и эпатирующий публику скептик, но
«скромный» писатель и прежде всего – человек, будто бы совершенно искренне
пытающийся найти ответ на вопрос Понтия Пилата: «Что есть Истина?». В обращении к читателю Рене Гиттон, ставший посредником между «нечестивцем»
и «епископом» в их дискуссии, пытаясь объяснить столь неожиданную для Бегбедера тематику, пишет: «Истоки этой книги уходят в глубь тысячелетий, во
времена, когда человек стал задумываться о Боге: что делаю я на земле? Зачем
нужна моя жизнь? Для чего я здесь живу? И просто – почему я существую? Ответов на эти вопросы искали и на уроках в парижской школе Боссюэ, где в 1974
году ученик Фредерик Бегбедер встретился с новым заведующим начальными
классами – отцом Ди Фалько. Увы, религиозное воспитание не удовлетворило
внутренних запросов ученика. И вот в марте 2001 года возникло обоюдное решение возобновить неоконченный разговор с того самого момента, где он был
когда-то прерван, и в свете событий последних лет поразмышлять о других и о
самих себе. (…) Такая жадная потребность в обмене мнениями положила начало книге. Конечно, она не затрагивает всех тем, которые тревожат человечество: галерея земных тайн необозрима! Но, само собой разумеется, в центре дебатов – Бог, религия, вера, молитва, смерть, Воскресение, Троица».
При рассмотрении тех вопросов, ответы на которые хочет получить Бегбедер в ходе регулярных бесед со своим бывшим духовным наставником, появляются еще некоторые, ответы на которые важно знать читателям. Допуская
существование Бога, Бегбедер пытается узнать, зачем же Он существует. Однако в дальнейшем разговоре выясняется, что под словом «Бог» участники понимают разные значения: позиция Ди Фалько в этой ситуации более традиционна
и понятна – он, как представитель христианской религии, рассматривает Бога
как Творца и как Спасителя мира, подчеркивает троичность Бога (Бог-Отец,
Бог-Сын и Бог-Дух Святой); а вот позиция Бегбедера является более любопытной, если не сказать - противоречивой: то он отрицает Бога как такового, то говорит, что Бог – это искусство, Бог – это его дочь и многое другое – вплоть до
образа Нео из фильма «Матрица» в качестве Христа. Отсюда логически вытека*
Руссо Татьяна Эдуардовна – студентка IV курса филологического факультета КубГУ
201
ет вопрос об истине как таковой и об уместности этого понятия в нашем разговоре. Тем более следует учитывать тот факт, что постмодернизм делает истину
релятивной, что не позволяет нам говорить о ней как о некоем абсолюте. Но
есть и еще один вопрос, не менее важный, на мой взгляд. Он касается уже философских воззрений автора и его причастности к нигилистической теории
Ницше. В главе «О смерти» Бегбедер говорит следующее:
«…я люблю философов-нигилистов и вообще нигилизм – своего рода
всецелый пессимизм, восходящий к Екклессиасту, то есть к Библии! <…> я и
себя причисляю к этому пессимистическому реализму, иногда ироничному, порой циничному…». Влияние ницшеанской теории нигилизма на Бегбедера очевидно. Но тогда мы не можем не увидеть некоторую сложность: нигилизм есть
отрицание, и отрицание истины в первую очередь. Ницше даже указывает, что
крайняя форма нигилизма придерживается позиции, что «вовсе не существует
истинного мира» [2]. Тогда следует разобраться, какова же цель разговора Бегбедера с епископом Ди Фалько, который описан в книге «Я верую – я тоже
нет», и какова позиция автора. Прежде всего, интересно увидеть, каким может
быть исход беседы, если один участник утверждает, во-первых, что истина
ЕСТЬ, и, во-вторых, знает, ЧТО же есть истина (второе утверждение можно
подкрепить словами Христа «Я есть путь, и ИСТИНА, и жизнь», означающими,
что сам Бог является Истиной), а второй при этом отрицает даже само понятие
истины, т.к. «исповедует» нигилизм. Действительно ли это так, или все же следует заостриться на некоторых нюансах и выяснить, как обстоит дело в действительности. Вот на эти вопросы нам и предстоит найти ответы.
Вместе с заявлением Ницше о том, что «Бог умер», происходит и неизбежное «умирание» значения абсолюта истины. Исчезает «Истина-Центр»,
«Истина-Начало» [3, 67]. В связи с «исчезновением» данных абсолютов происходит и естественное разрушение веры, тесно с ней связанной («Что есть верование? Как возникает оно? Всякое верование есть признание чего-либо за истинное» [2]).
Выстраивается неизбежная цепочка «умираний»: смерть истины – смерть
веры – смерть христианской религии (здесь речь идет именно о христианстве).
Очерчивая траекторию «падения» истины, немецкий философ замечает: «Резкий поворот назад от ″Бог есть истина″ к фанатической вере ″Все ложно″».
Само явление гибели христианской религии Ницше сопоставляет с буддизмом –«стремлением в ничто», или, как следствие – нигилизмом («Все лишено смысла»). Давая более конкретные определения нигилизму, Ницше пишет:
«Что означает нигилизм? — То, что высшие ценности теряют свою ценность.
Нет цели. Нет ответа на вопрос «зачем?». С этим утверждением коррелируют
слова Октава, главного героя романа «99 франков»: «Все проходит: любовь,
искусство, планета Земля, вы, я. <…> Все продается: любовь, искусство,
планета Земля, вы, я. Высшие ценности давно потеряли свой смысл, они вообще едва ли существуют».
Итак, Бегбедер, следуя за традицией Ницше, закрепляет позицию «потеря
ценности всех ценностей». Однако утверждать то, что нет ответа на вопрос «зачем» (зачем нужен Бог, зачем мы живем и т.д.), он все же не торопится.
202
Настроение, живущее в рамках модели «все ложно», сопровождает и героев, и автора. Состояние современного героя пограничное, он – еще «ищущий», но в конце концов падающий духом. Ницшеанский сверхчеловек становится именно таким в эпоху постмодернизма: он пытается искать, но вскоре
разочаровывается. Таковы герои Бегбедера: это и Октав («99 франков»), и Марк
Марронье («99 франков», «Любовь живет три года»). Современный герой Бегбедера – это герой-философ. По Ницше, настоящий философ «живет «нефилософски» и «немудро», прежде всего, неблагоразумно, он чувствует бремя и обязанность делать сотни опытов, пережить сотни искушений жизни: он рискует
постоянно и ведет опасную игру…» [3,14].
Соглашаясь с этой философией, и герои Бегбедера, и, прежде всего, он
сам ведут жизнь, действительно очень походящую на опыт. В одном из интервью на заявление журналиста по поводу его репутации, автор лишь заметил:
«Это значит, что я совершенно нормальный человек, который интересуется
жизнью во всех ее проявлениях». Впрочем, ту же мысль Бегбедер подтверждает
в своем интервью с епископом Ди Фалько в книге «Я верую – я тоже нет»:
«Похоже, за мной закрепилась слава сексуально озабоченного, развратника. Я
написал «Рассказики под экстази», испытывал наркотические средства, так что
я вроде бы ультраанархист. Одновременно меня причисляют к «новым ретроградам», потому что я критикую это общество. Может, я и впрямь анархистреакционер. Но меня это не расстраивает» [1, 107].
Все более неоднозначной становится их цель: не то они сами стремятся к
власти ради управления другими, не то желают выступить в роли пророков, обличающих власть и желающих открыть людям глаза на правду. Эта неопределенность находит объяснение в духовном состоянии современной эпохи. Ницше утверждает: «Самый общий (ее) признак: невероятная убыль достоинства
человека в его собственных глазах». Как бы закрепляя эту мысль, Ф. Бегбедер
заявляет Жан-Мишелю Ди Фалько: «у меня есть земное предощущение того,
что меня ждет: в иные дни ад для меня – это я сам!».
Итак, если сам человек, по мнению Бегбедера, становится для себя и для
других адом, то в чем же искать ответ? Если все религии, и, прежде всего, христианство, являются неприемлемыми, то следует создать «новую религию», которая будет отвечать запросам современного человека. Очевидно, именно этим
и занимаются герои его романов: если не созданием, то хотя бы поиском «новой религии». Но здесь мы наталкиваемся на главное противоречие Бегбедера.
С появлением категории, хотя бы отдаленно напоминающей религию, придется
говорить о «Боге», о «ценностях», об «идеалах» (для которых, как показывают
нам романы, автор действительно находит место). И тогда понятие нигилизма
становится просто-напросто неуместным.
Следует учитывать, что категория «Бог» однозначно не может рассматриваться в ее классическом понимании. Сам Бегбедер не исключает его из своего
лексикона и, более того, говорит о том, что в его произведениях постоянно употребляются цитаты из Писания («В начале было Слово» и пр.). В главе «О
смысле Бога» автор подчеркивает: «Для меня все сводится к словарю: ″Бог″ слово. Некоторые предпочитают слово ″случай″ или ″тайна″. Но, как ни назы203
вай, – зачем мы существуем? В чем смысл жизни? Можно было бы ответить:
″Смысл жизни – Бог″, но я, пожалуй, сказал бы: ″искусство″ или ″любовь″». В
дальнейшем разговоре с Ди Фалько он неоднократно заостряется на той мысли,
что «Бог – это искусство, красота, природа, любовь». Таким образом, это еще
раз подтверждает, что нигилизм перестает быть актуальным в этом контексте.
Однако есть склонность к тому, чтобы видеть Бога во всем, что окружает («Все,
что существует, существует в Боге» [4]) – то есть, к пантеизму.
Бегбедер признается, что пытается писать книги, высмеивающие новую
утопию, которая проповедует категорию счастья в пропорции с материальными ценностями. Он настаивает на том, что человеку необходимо «нечто большее» (а Ди Фалько поправляет – «Некто больший»). Поэтому, разделяя мнение
Спинозы о существовании всего исключительно в Боге, Бегбедер становится
сторонником пантеизма.
Итак, ни герои романов Бегбедера, ни он сам не призывают к возрождению моральных ценностей, не проповедуют своих богов (хотя и имеют их) и не
говорят о духовности. Однако при этом именно «религия» уверенно «вырастает» из текстов автора. У его героев появляется уже своя, совершенно новая, духовность – способность мыслить и оставаться Человеком в среде Растений. И,
разумеется, наличествуют определенные «ценности».
«Религия» здесь выступает как форма общественного сознания, как орудие для управления человеческим поведением и сознанием. Духовные представления героев зачастую выражаются не в каких-либо формулах, а в словахконцептах: Бог у Бегбедера – это Искусство и Природа, Идеал – дочка Хлоя
(которую в интервью он называет Мессией) и Алиса («Любовь живет три года»), недостижимый Идеал – Софи («99 франков»), Воскресение – это самоубийство или убийство, Спасение – Остров и т.д.
Таким образом, становится очевидным, что все стремление Ф. Бегбедера
к нигилизму находит отражение в его текстах лишь отчасти. Однако его нигилизм как бы «перерождается», и в конечном итоге превращается в пантеизм. И,
несмотря на то, что сам писатель не считает нужным назвать себя пантеистом,
(в книге он позиционирует себя как «не-религиозного», «не-верующего», «агностика», и «а-теиста»), из его суждений и взглядов все же вытекает именно
это определение. Остается добавить, что хотя Ф. Бегбедер и «пятится» против
христианского Бога, которого проповедовал ему Ди Фалько, однако в конце интервью признается, что «эти разговоры перевернули что-то» у него в голове.
Литература
1. Бегбедер Ф., Ди Фалько Ж.-М. Я верую – Я тоже нет. М.: Иностранка,
2008.
2. Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994
3. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. СПб.: Невский Простор, 2001.
4. Спиноза Б. Этика (глава I «О Боге»). М, 1957.
204
В.К. Вислогузов*
О поэзии Виктора Цоя
В современной отечественной литературе не столь давно появился особый культурный феномен – рок-поэзия. Именно она стала в конце прошлого
века той трибуной, с которой личность могла открыто заявить о существующих
проблемах, показать свое отношение к действительности и просто самовыразиться.
Мой выбор пал на рассмотрение творчества В. Цоя как одного из самых
ярких представителей этого рода поэзии. Сразу стоит оговорить, что рок сам по
себе – явление синкретическое, воздействующее силой текста, музыки и манерой подачи материала одновременно. Однако анализ текстов, которые, на мой
взгляд, можно считать стихотворениями, представляет литературный интерес и
в отрыве от самих песен.
Для анализа были выбраны стихотворения «Звезда по имени Солнце» и
«Легенда». Они способны отразить некоторые важные особенности лирики поэта, выделить характерные черты лирического героя Цоя.
Звезда по имени Солнце
Белый снег, серый лед
На растрескавшейся земле.
Одеялом лоскутным на ней
Город в дорожной петле.
А над городом плывут облака,
Закрывая небесный свет.
А над городом – желтый дым.
Городу две тысячи лет,
Прожитых под светом звезды
По имени Солнце.
И две тысячи лет война,
Война без особых причин.
Война – дело молодых.
Лекарство против морщин.
Красная-красная кровь – через час уже просто земля,
Через два на ней цветы и трава,
Через три она снова жива.
И согрета лучами звезды
По имени Солнце.
И мы знаем, что так было всегда:
*
Вислогузов Виктор Константинович – студент I курса филологического факультета КубГУ
205
Что судьбою больше любим,
Кто живет по законам другим
И кому умирать молодым.
Он не помнит слова «да» и слова «нет».
Но не помнит ни чинов, ни имен.
И способен дотянуться до звезд,
Не считая, что это сон.
И упасть опаленным звездой
По имени Солнце.
Легенда
Среди связок в горле комом теснится крик,
Но настала пора: и тут уж кричи не кричи.
Лишь потом кто-то долго не сможет забыть,
Как, шатаясь, бойцы об траву вытирали мечи.
И как хлопало крыльями черное племя ворон.
Как смеялось небо, а потом прикусило язык.
И дрожала рука у того, кто остался жив.
И внезапно в вечность вдруг превратился миг.
И горел погребальным костром закат,
И волками смотрели звезды из облаков,
Как, раскинув руки, лежали ушедшие в ночь.
И как спали вповалку живые, не видя снов.
А жизнь – только слово.
Есть лишь любовь, и есть смерть.
Эй, а кто будет петь, если все будут спать?
Смерть стоит того, чтобы жить.
А любовь стоит того, чтобы ждать.
Одной из ведущих тем творчества Цоя является тема героя, убитого бессмысленной милитаристской авантюрой. Война лирическим героем поэта воспринимается не только в прямом значении, но и как некая модель существования. Отсюда и различные преобразования временной канвы текстов: автор
намеренно гиперболизирует ее («две тысячи лет война»), доходя иногда до
предельного растяжения («в вечность вдруг превратился миг»).
Конечно, лирического героя не устраивает окружающая действительность. Однако война – не тот способ, с помощью которого можно решить все
проблемы, и поэт неоднократно подчеркивал это в своих текстах («Я никому не
хочу ставить ногу на грудь», - альбом «Группа крови»).
Все дело в том, что «война без особых причин» началась настолько давно,
что она становится неотделимой частью бытия, фатальной неизбежностью. «Ты
206
б мог умереть, если б знал, за что умирать», - так определяет сам поэт свое отношение к этой проблеме в стихотворении «Подросток».
Лирический герой предстает перед нами своего рода потерянным человеком, который осознает суетность бытия, переходящую в абсурдность и бессмысленность. Именно он «живет по законам другим» и предпочитает жизни
любовь и смерть. Лишь он один способен петь среди царства мертвых. Он не
принимает войну, но уже этим невольно участвует в ней.
Рассмотрим пространство стихотворений поэта. Одним из вариантов интерпретации образа поля брани и образа города является некое сотворение собственного мира автором. Герой Цоя абсолютно свободно перемещается в мирах, как реальных, так и созданных. Интересен тот факт, что искусственно созданное автором место действия произведения напоминает реальность, с той
лишь разницей, что ирреальное гораздо сильнее высвечивает все стороны – как
положительные, так и отрицательные – естественного мира. Поэтому и картины, которые рисует поэт, могут поражать и удивительной гармоничностью
(например, в стихотворении «Малыш»), и ужасом изображения некоторых пейзажей, как видно из приведенных выше текстов. Трагический пафос произведений появляется потому, что порой для постижения иных жизненных сфер необходимо оставить земную жизнь. Отсюда и формулы, которые, на первый
взгляд, кажутся непонятными и страшными («Смерть стоит того, чтобы жить»).
Категорию времени в произведениях проследить трудно. Сотворенные
автором миры отличаются статичностью, способом передачи действия является
ретроспекция, изображение завершенности событий. Так, о масштабах боя
можно судить лишь по зарисовке состояния поля непосредственно после него.
На мой взгляд, в лирике Цоя можно выявить некоторые черты метафизической поэзии. Пространственно-временные отношения говорят о желании
охватить все сферы бытия, существовать в мире, созданном самостоятельно и
отражающем особенности восприятия мира естественного. Метафизическое не
противопоставляется земному: они сосуществуют, и каждое является ключом
для понимания и осмысления другого.
В цветовой гамме необходимо выделить обилие темных и мрачных красок, связанных с изображением трагического, - серый, черный, «погребальный». Это лишний раз развеивает расхожий миф о приверженности героя поэта
к войне. Вообще символика цветовой палитры поэта крайне интересна и заслуживает внимания. Если проследить, для примера, как воспринимается белый
цвет, то можно обнаружить довольно негативное отношение к нему. В творчестве поэта он символизирует пустоту и безжизненность. А в совокупности с холодным серым он передает довольно мрачную панораму безымянного города.
Теплых красок, символизирующих положительные эмоции, практически нет.
Это говорит о неком декадентском видении картины мира.
Стоит отметить особые композиционные приемы построения стихотворений. Зачастую произведение начинается яркой, но при этом очень точной и
конкретной зарисовкой – быта, пейзажа, иногда даже настроения. Затем следуют размышления героя по поводу нарисованной картины, частью которой в некоторых случаях он сам и является. Подобные рассуждения чаще всего пред207
стают как поток сознания, словесная медитация, причем они идут уже в области запредельного, ирреального пространства. Четкого перехода между настоящей действительностью и областью метафизического нет, это ощущение приходит на подсознательном уровне. Финал представляет собой крайне простой,
логически завершенный, но от этого не менее парадоксальный вывод («Смерть
стоит того, чтобы жить…»). В связи с этим и основную смысловую нагрузку
несет последняя строфа.
Лексику текстов нельзя назвать бедной. Отсутствие «высоких», «книжных» слов можно связать с биографией поэта (высшей ступенью его образования стало ПТУ). Но это самое отсутствие никак не сказалось на художественности его произведений. Действительно поражает образность в целом и сила
каждого образа в частности – закат горит «погребальным костром», город расположен «одеялом лоскутным» «в дорожной петле», война ощущается как «лекарство против морщин», эвфемизмом смерти является уход в ночь.
Необычные сравнения, антитезы, метафоры строятся на простом, «заземленном» языке, понятном каждому его носителю, образы запечатлевают знакомые всем явления окружающей действительности и быта (например, строка из
стихотворения «Перемен!»: «Но на кухне синим цветком горит газ»), аллюзии
и реминисценции просты. Такая оболочка для выражения сути песни вполне
обусловлена. В то время, в которое Цой творил, именно такая речь была лучше
всего понятна и воспринималась довольно легко. При этом автор стремится передать в малой форме глубокий смысл, расширив границы значения слова на
уровне ассоциаций. Сам поэт писал: «Мне кажется, что песни, тексты, которые
я пишу - они очень многозначные, очень ассоциативные, могут рассматриваться с очень многих углов зрения и каждому человеку могут дать то, что он хотел
бы взять из этой песни».
Разговор автор и его лирический герой ведут не только с элитарным читателем/слушателем, который тоже найдет для себя много интересного (к примеру, трансформацию поэтической формулы «Все во мне» в «Больше нет ничего.
Все находится в нас»), но и с обычным человеком. Да и сам жанр песни предполагает максимальное сближение акцептора и реципиента; не жесткую дидактику, но доверительную беседу. Именно в этом, по моему мнению, и состоит
мастерство Цоя-поэта: он одновременно доступен и недостижим, прост и непонятен. Он как бы возносится над окружающим миром, но в то же время протягивает ему руку. Поэтому и песни его не теряют своей актуальности и в наши
дни, он перешагнул временные рамки.
Его поэзия представляет собой уникальное сплетение романтизма, символизма и метафизического восприятия мира, направленное на как можно более
полное постижение жизни во всех ее проявлениях. При этом каждый из созданных образов имеет прототип в реальной жизни, сотворение нового мира идет
путем синтеза «вещественного», естественного пространства и чувства, эмоции.
Лирический герой обеими ногами стоит на земле, но существует в потусторонних сферах.
208
О.Н. Мороз*
Проблема сомнения в творчестве Юрия Одарченко
Одарченко писал, что основной характеристикой бытия является сомнение. Вызывающий посыл стихотворения писателя «Основа жизни есть сомненье…» тем интереснее, что он подчеркивает фундаментальность сомнения в
споре с христианской и (основанной на ней) романтической точками зрения, –
точками зрения, согласно которым в основе бытия лежит любовь.
Композиция стихотворения Одарченко производит впечатление произвольной совокупности строф, автономных в проблемно-тематическом отношении. Так, в 1-й строфе, открывающейся основным тезисом: «Основа жизни
есть сомненье…», фокус, тем не менее, наводится на тему поэтического творчества: «<…> / Поэзия – дитя его, / Торжественное откровенье / Из хаоса, из
ничего» [5, 97]. Во 2-й строфе конкретизируется заявленный тезис, однако – вне
какой-либо связи с фокусом 1-й строфы. Во 2-й строфе фокусируется тема природного мира: «Тростник колышется в пустыне, / По небу катится звезда. / Все,
что свершается доныне, / Сомненьем движется всегда» [5, 97]. Степень автономности 2-й строфы еще более возрастет, если читатель, держа в уме статью
Одарченко «Истоки смеха», вспомнит, что там сомненье рассматривалось как
признак разума, то есть связывалось с человеком, мир же определялся в связи с
инстинктом [см. подробно: 4]. В 3-й строфе в фокусе находится тема любовных
отношений: «В сомненьи есть очарованье. / О, трудная моя любовь, / В ней даже первое признанье / Сомненьем движимая кровь» [5, 97]. И хотя тема любовных отношений – через человека – соприкасается, как можно предположить, с
сомнением, его, сомнения, «основа» для любви также неясна. В 4-й строфе
Одарченко наводит фокус на тему самого человека, но совершенно иначе,
нежели в «Истоках смеха»: «Года, года, как страшно это, / Но сердце бьется оттого, / Что даже в страшный час ответа / Не изменится ничего» [5, 97]. Так, если
в статье Одарченко писал о (характеризующем разум) сомнении в ситуации
сбоя в системе причинно-следственных отношений, результатом работы инстинкта в которой и была определяющая его, инстинкт, смерть, то в стихотворении дается прямо противоположная ситуация – ситуация неизбежности смерти. В этой неизбежности смерти и заключается страх перед «годами»: время
неумолимо ведет человека к смерти, что, по идее, подтверждает, а не опровергает истинность системы причинно-следственных отношений. Между тем
Одарченко решительно настаивает на том, что даже это обстоятельство не отменяет «основную» роль сомнения.
Между тем, композиция «Основы…» чрезвычайно стройна и выверена. 2я строфа, фокусирующая тему природного мира, содержит дискуссионную реминисценцию из «Божественной комедии». Так, в 33-й песне «Рая» Данте писал о воздействии на себя некоей силы: «<…> страсть и волю мне уже стремиМороз Олег Николаевич – доктор филологических наук, доцент кафедры теории журналистики КубГУ
*
209
ла, / Как если колесу дан ровный ход, // Любовь, что движет солнце и светила»
[2, 519]; как известно, под любовью поэт понимал Бога; 3-я же и 4-я строфы,
сфокусированные на темах любовных отношений и человека – содержат реминисценцию из стихотворения Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная
мгла…»: «<…> сердце вновь горит и любит – оттого, / Что не любить оно не
может» [6, 445]. Как видим, Одарченко связывает 2, 3 и 4-ю строфы стихотворения понятием «любовь», которое содержится у Данте и Пушкина, – понятием, хотя и взятом у этих авторов в разных аспектах, тем не менее, вполне (в чем
мы лишний раз убедимся) цельном. Кроме того, можно утверждать, что 2, 3 и 4я строфы связаны у Одарченко и понятием «поэзия», поскольку эти строфы являют собой не только поэтическое высказывание писателя, формально самоценное, но и интеллектуальную рефлексию, непосредственно касающуюся
поэтической деятельности Данте и Пушкина. А это обстоятельство позволяет
говорить о том, что 2, 3 и 4-я строфы находятся в определенной связи с 1-й.
Заявленный в 1-й строфе тезис и ее фокус, на первый взгляд, находящиеся в непонятных отношениях, восходят к статье Одарченко «Истоки смеха».
Так, в статье говорится, что удивление обезьяны, являющееся выражением сомнения в истинности системы причинно-следственных отношений, в рамках
которой работает инстинкт, – удивление, предопределяющее возникновение разума, – опредмечивается в звуках голоса [5, 205]. Отсюда следует, что речь у
Одарченко есть выражение разума – позиции сомнения. В рассказе «Ночное
свидание» Одарченко приводит «странную легенду», которая позволяет в первом приближении уловить суть представления писателя о речи (и поэзии как ее
особой модификации). Идет Страшный суд; праведники попадают в Рай, грешники – в ад. Заминка происходит с поэтами; «это странные люди, говорящие на
странном языке, но все они – грешники…» [5, 114]. Архангел отправляет поэтов в ад, но Господь проявляет интерес к их речам. Он просит вызвать праведников: «пусть праведники поговорят со мной на языке грешников, которых ты
отправил в ад» [5, 115]. Убедившись, что праведники не могут говорить на
«странном языке», Бог приближает поэтов-грешников к себе.
Такова «легенда»; в ней не все понятно, особенно если учесть, что она дается в контексте дискуссии, в которой ставятся вопросы: достаточно ли для
(посмертного) оправдания человека поэтической деятельности, или нет, и
должна ли она быть подчинена христианской нравственности? Как отвечает на
эти вопросы Одарченко – ясно; неясно – почему он на них так отвечает. Полемика с теми же Данте и Пушкиным показывает, что «странному языку» поэтов
у Одарченко удовлетворяет не всякое поэтическое творчество; резонно будет
предположить, что ему в первую очередь принадлежит поэзия самого писателя.
Об этом свидетельствует стихотворение «Как прекрасны слова…». Данная в этом стихотворении оценка Одарченко своей собственной поэзии поразительна. Так, он представляет свою поэзию как, с одной стороны, «прекрасные
слова», а с другой – как нечто устрашающее. При вынесении оценки своей поэзии писатель по-своему задействует оппозицию: прекрасное – уродливое.
Правда, он превращает ее в своеобразное единство. Парадоксальность самооценки поэзии Одарченко носит также полемический характер. Говоря о своей
210
поэзии, Одарченко пишет: «Я расставлю слова / В наилучшем и строгом порядке. / Это будут слова, / От которых бегут без оглядки» [5, 61]. В этих стихах используется реминисценция из работы Н.С. Гумилева «Анатомия стихотворения», который, рассуждая о поэзии, сослался на слова С. Кольриджа: «Поэзия
есть самые лучшие слова, расставленные в самом лучшем порядке» [1, 394].
Используя эту реминисценцию, Одарченко метил в «классическую» традицию,
которую Гумилев как раз и имел в виду в своем пассаже. Кстати говоря, в качестве авторитетной фигуры Гумилев упоминает именно Данте (1, 396). Можно
предположить, что гумилевская реминисценция нужна была для противопоставления своего собственного «порядка слов» порядку «классической» традиции.
«Классический» «порядок слов» Гумилева ассоциируется у Одарченко с
вполне определенной фигурой «классика» – с фигурой Пушкина (что, учитывая
полемическую составляющую «Основы…», в которой дантовы и пушкинские
реминисценции увязаны воедино, отнюдь не удивительно). В стихотворении
воспроизводится та же самая ситуация, что и в первых 3-х строфах пушкинского «Памятника», – ситуация встречи читателя с поэзией автора; кстати говоря,
об этой встрече подробно писал в своей статье Гумилев, связывая с ней «поэтическую психологию» [1, 395]. В стихотворении Пушкина речь идет о том, что
читатель «идет» на встречу с его, автора, поэзией. Поэтому и «не зарастает тропа» к его «памятнику». У Одарченко же – как раз наоборот: читатель в страхе
(«без оглядки») бежит от его, говоря пушкинскими словами, «памятника». Вероятно, самая метафора отношений читателя и его поэзии, – метафора отнюдь
не очевидная, – возникла у Одарченко в результате полемического переосмысления пушкинского «Памятника». Семантика этой метафоры, как и у Пушкина,
связана с понятием «движение»; однако у него это движение идет в прямо противоположную сторону, это не сближение, но удаление.
Помимо метафоры, описывающей отношения читателя и поэзии, являющейся структурным «костяком» стихотворения Одарченко «Как прекрасны
слова…», на фигуру Пушкина указывают и другие элементы этого произведения. Так, рассуждая о «прекрасных словах» своей поэзии, Одарченко, собственно говоря, пишет о рифмах: «Как прекрасны слова: / Листопад, листопад,
листопады! / Сколько рифм на слова: / Водопад, водопад, водопады…» [5, 61].
Наивно было бы полагать, что слова «прекрасны» только потому, что на них
имеется много рифм; кстати говоря, слова «сколько рифм…» Одарченко говорит явно иронически. Между тем «красоту» слов допустимо будет связать с
рифмами именно фигурой Пушкина. Как известно, сам Александр Сергеевич
связывал высокие достоинства своей поэзии как раз со своей «дружбой» с рифмами. Пушкин с пиететом отзывался о рифме в стихотворениях «Рифма»
(написанном гекзаметром, что показательно) и «Рифма, звучная подруга…».
В самом широком смысле разница между «поэзией по Одарченко» и
«классической» традицией связана с тем, что его творчество не удовлетворяет
неким стандартным эстетическим требованиям. Эта неконвенциональность подается писателем как ужас, который вызывает его поэзия (от нее «бегут без
оглядки»). Однако не будет ошибкой назвать это ощущение и «удивлением». В
211
контексте реминисценции из Гумилева, указывающей, в конечном счете, на
Пушкина, «поэзия по Одарченко» в первую очередь должна вызывать именно
удивление, – удивление тому, что писатель сознательно отказывается ее вписывать в «классическую» традицию, утвержденную ее, этой традиции, авторитетом. «Поэзия по Одарченко» имеет характеристику, сходную с той, которую
писатель дал в статье «Истоки смеха» первоначальной речи (обезьяны, превратившейся в) человека. Удивление и является этой характеристикой. Следовательно, «поэзия по Одарченко», как и первоначальная речь, являет собой выражение позиции сомнения. Это заключение позволяет сделать вывод о том, что
отличие «поэзии по Одарченко» от «классической» традиции состоит в том, что
она знаменует сбой в системе причинно-следственных отношений, – системе,
которая определяет авторитетность «классической» традиции и превращает ее в
нечто своего рода инстинктивное. Как знамение сбоя в системе причинноследственных отношений, определяющую «классическую» традицию, «поэзия
по Одарченко», выражая позицию сомнения, выступает указанием на ситуацию, в которой возникает разум. «Классическая» традиция, с точки зрения
Одарченко, не удовлетворяют разуму, поскольку она выражает позицию приятия системы причинно-следственных отношений (признание ее истинности).
Если согласиться с тем, что «поэзия по Одарченко» есть выражение позиции сомнения, нам станет ясной связь тезиса стихотворения «Основа жизни
есть сомненье…» и тематического фокуса его (стихотворения) 1-й строфы, связанного с поэтическим творчеством. Говоря иначе, станет понятно, почему
Одарченко именует поэзию «дитя сомнения». В свете «поэзии по Одарченко» –
представлении о поэзии как о выражении позиции сомнения – стих: «Поэзия –
дитя его…» объясняется его конкретизацией в последующих стихах строфы:
«<…> / Торжественное откровенье / Из хаоса, и ничего» [5, 97]. Поэзия может
быть откровением «из хаоса» и «из ничего» только в том случае, если предполагается, что она возникает как результат сбоя в системе причинно-следственных отношений; этот сбой, опрокидывая систему, обращает ее в хаос, а внесение сбоем противоречия в систему, разрушение тех смыслов, что ею продуцировались, превращает ее в ничто. Возникающая же из хаоса и ничто поэзия,
действительно, являет собой «откровенье».
В 1-й строфе «Основы…», в которой сформулировано понятие о поэзии,
содержится образ «поэзии по Одарченко», – образ, созданный писателем в полемике с «классической» традицией. К такому толкованию 1-й строфы располагают 2, 3 и 4-я строфы стихотворения: они не только выражают взгляд Одарченко на те или иные проблемы существования человека, но и – через используемые в них реминисценции – отвергают иные точки зрения. Этот факт свидетельствует о том, что писатель отрицает поэтические системы, принадлежащие
«классической» традиции, с помощью которых и эксплицировались чуждые
ему точки зрения. Поэзия Одарченко, оспаривающего поэтические системы
Данте и Пушкина, авторитетные для читателя, представляет собой структуру
неконвенциональную – тот самый «порядок слов», от которого «бегут без
оглядки». Можно даже сказать, что 1-я строфа «Основы…» и стихотворение
«Как прекрасны слова…» находятся в отношениях корреляции.
212
Суть содержащейся во 2-й строфе стихотворения полемики Одарченко с
Данте вполне прозрачна. «Тростник колышется в пустыне, / По небу катится
звезда. / Все, что свершается доныне, / Сомненьем движется всегда» [5, 97], –
писал Одарченко. Очевидно, что в этом высказывании писатель оспаривает
точку зрения Данте, согласно которой фундаментальной основой бытия и всякой жизни является Бог. Автор «Божественной комедии» пишет о Любви; Любовь же, выступая атрибутом Бога, фактом своего присутствия в бытии и живых существах указывает на зависимость творения от Творца.
Высказывание Одарченко, содержащее точку зрения, противоположную
дантовой, на первый взгляд, не подкреплено какими-либо доводами. Между
тем дело у писателя обстоит иначе. Так, следует сказать, что «движимый» у
Данте Любовью мир полностью соответствует описанной Одарченко в «Истоках смеха» системе причинно-следственных отношений, в которых действует
инстинкт. В этом отношении интересен один пассаж из 1-й песни «Рая», – пассаж, в котором Беатриче отвечает на вопросы Данте. «<…>. // Пришлось ей с
сожалением вздыхать, / потом ко мне уж очи обратила, / как бы на сына бредящего мать, // и начала: "Во всем порядка сила / заметна, чтобы формою своей /
вселенная на Бога походила. // Созданиям высоким здесь видней / след вечной
ценности, ее вершины, / касание прекрасной нормы сей. // Порядок всех натур
склоняет спины, / хоть люди и различны: кто далек, / кто ближе к основанью их
причины. // Вот отчего всяк разно в путь потек / по морю жизни, что конца не
знает, / и дар инстинкта в плаванье сберег. // Огнем луны порядок управляет, /
и смертными сердцами движет он, / и землю тяготеньем собирает. // Не только
тех, кто разума лишен, / но все созданья лук тот поражает, / кто и умом, любовью наделен. / Так провиденье небо прибирает, / и свет его всегда покой прольет / в то, что быстрей вокруг себя вращает…"» [3, 556 – 558], – писал Данте.
Как явствует из приведенного пассажа, возможность достижения райских
высот, к которым ведет праведная (отвечающая упоминаемой Беатриче «норме») жизнь, заложена Богом в инстинкт; именно инстинкт и приводит героев
«…комедии» к созерцанию «света существа, что движет всей вселенной».
Одарченко использует в полемике с Данте образы, указывающие на то,
что бытие и всякая жизнь имеют свой голос. В рамках связи 2-й строфы с 1-й, в
которой говорится о поэзии, и колышимый в пустыне тростник, и движущаяся
в небе звезда свидетельствуют о том, что все в мире звучит. Поэтическая речь –
«дитя сомненья»; «сомненьем движутся» и тростник со звездой; общность сомненья для поэзии, с одной стороны, и тростника и звезды, с другой, дает возможность предполагать, что тростник и звезда, как и поэтическая речь, выявляют себя в звуке, поскольку, как следует из статьи «Истоки смеха», позицию
сомнения выражает именно речь.
Источником представления о звучащем мире является пифагорейская
концепция «пения сфер», подробно изложенная у Платона в диалоге «Тимей».
Согласно Платону, звук, «пение» есть результат закономерных отношений, в
которые включены небесные сферы; эти отношения и характеризуют мир как
космос (организацию), отличают его от хаоса; именно поэтому пение сфер является гармоническим. Эту концепцию по-своему использует в своей
213
«…комедии» и Данте (1-й песне «Рая»), – использует, в точности следуя за
Платоном. Представление Одарченко о звучащем мире типологически близко
дантовой версии концепции «пения сфер»; тем не менее, оно имеет чрезвычайно важное – полемически заостренное – отличие от нее. У Одарченко голос
(звучание) бытия и всякой жизни, как и первоначальная речь человека, есть выражение не гармонии, но дисгармонии: в нем получает место не логика, но противоречие мира, – не связанность, но «разъятость» его элементов.
В рассказе «Оборотень» Одарченко следующим образом описывает вечернюю зарю. Мир на закате солнца представляет собой «изумительный диссонанс» [5, 195]. «Изумительный диссонанс» образуется в результате взаимодействия «хорового» пения двух «царств», совершенно не сочетаемых друг с другом. Это «низкое» царство «гадов» (лягушек) и «высокое» царство птиц (соловьев). Нетрудно увидеть, что «изумительный диссонанс» звучащего мира отвечает той ситуации противоречия (в представлении о мире), при которой обезьяна превращается в человека. Ситуации, для выражения противоречивости которой и возникает человеческая речь. Кроме того, в «Оборотне» есть пассаж, связывающий «изумительный диссонанс» мира и человеческий разум. Так, подводя итог описанию картины вечерней зари, Одарченко говорит: «В такие минуты
полной тишины вдруг понимаешь, что нет мира иного потустороннего, а есть
один мир таинственный и чудесный, в котором живут люди, и только изредка
ощущают все чудесное основание его» [5, 197]. Очевидно, что «чудесное основание» мира, постигаемое при уловлении слухом (завершающегося полной тишиной) «изумительного диссонанса», являет собой парадоксальную совокупность противоречий. Именно на нее и указывает «изумительный диссонанс»
мира. Иначе говоря, звучащий мир, его «изумительный диссонанс», выступает
ситуацией, подобной той, в которой возникает разум, – ситуацией, результатом
которой в отношении к человеку является речь.
Таким образом, мы видим, что 2-я строфа стихотворения «Основа жизни
есть сомненье…» самым непосредственным образом связана у Одарченко с 1-й
строфой – не только с ее тезисом, но и фокусом, в котором находится тема поэтического творчества.
В 3-й строфе своего стихотворения, сфокусированной на теме любовных
отношений, Одарченко полемически использует реминисценцию из пушкинского стихотворения «На холмах Грузии…». Не смотря на то, что тематический
фокус этой строфы иной, нежели во 2-й строфе, ее стихи связаны с предшествующими им стихами. У Данте, реминисценция из которого приводится во 2й строфе, речь идет о Боге, воплощенном у автора «…комедии» в образе Любви. Касаясь же в 3-й строфе темы любовных отношений, Одарченко, оппонируя
Пушкину, определенным образом полемизирует и с Данте. Собственно говоря,
без полемической позиции Одарченко по отношению к Данте трудно понять те
доводы, которые писатель противопоставил точке зрения на любовь Пушкина.
«В сомненьи есть очарованье. / О, трудная моя любовь, / В ней даже первое признанье / Сомненьем движимая кровь» [5, 97], – писал Одарченко. Эти
стихи, несомненно, оспаривают пушкинские, в которых любовь как раз выводится из-под какого-либо подозрения на сомнение в ней: «<…>. Унынья моего /
214
Ничто не мучит, не тревожит, / И сердце вновь горит и любит – оттого, / Что не
любить оно не может» [6, 445]. Одарченко, как и Пушкин, говоря о любви, обращается к образу сердца: «В ней даже первое признание / Сомненьем движимая кровь». На первый взгляд, писатель формулирует свое представление о сомнении как «основе» любви, концентрируя внимание на «первом признании»,
то есть начальном этапе любовных отношений. Между тем это не так, Одарченко не исчерпывает сомнение «первым признанием». Напротив: как это ни
странно, по Одарченко, «первое признание» менее, чем какой-либо последующий этап любовных отношений связан с сомнением. Именно поэтому он писал:
«В ней даже первое признанье…».
Понять, в чем именно Одарченко находит фундаментальную основу сомнения для любви, позволяет 4-я строфа стихотворения. «Года, года, как
страшно это, / Но сердце бьется оттого, / Что даже в страшный час ответа / Не
изменится ничего» [5, 97], – пишет Одарченко. Обращение к Пушкину в этих
стихах устанавливается с несомненной ясностью. Пушкин дает в своем стихотворении ситуацию разлуки героя и героини; она характеризует внешний мир
его героя. Ситуация разлуки негативна для человека; внешний мир приводит в
соответствие внутренний, и этим соответствием должна быть печаль; однако
Пушкин пишет: «<…>. / Мне грустно и легко, печаль моя светла…» [6, 445].
Это определение состояния героя говорит о несоответствии его внешнего и
внутреннего миров, – несоответствии, выстраиваемом как оппозиция.
Оппозицию внутреннего и внешнего поэт подчеркивает контрастом образов природного мира и человека: с одной стороны, «ночная мгла», шум вод
Арагвы, дающий эффект тяжести; с другой – печаль героя «светла», ему «легко». Акцентуацию внутреннего в оппозиции внешнего и внутреннего миров
Пушкин мотивирует любовью: герою «легко» потому, что его печаль «полна»
героиней. Пушкин берет ситуацию разлуки именно для того, чтобы подчеркнуть духовное начало человека, – начало, являющее собой как раз любовь.
Иначе говоря, у поэта внутреннее (духовное) обуславливает внешнее (плотское). Так, сердце героя «горит и любит – оттого, / Что не любить оно не может». Тавтология Пушкина (сердце любит потому, что любит) в действительности есть семантическая игра, в которой характеристика сердца (любовь) ставится в зависимость от некоего начала (Любви), сердцу внеположного. Начала, которое является имманентной характеристикой Бога. На эту характеристику поэт
указывает в стихотворении «Я вас любил: любовь еще, быть может…»: «<…>
дай вам бог любимой быть другим» [6, 454].
Ситуация разлуки в стихотворении «На холмах Грузии…» отнюдь не
сводится к дистанции (между героями), необходимой для рефлексии лирического субъекта. Напротив – эта дистанция отсутствует: чувство (состояние героя) представлено у Пушкина таким, каким оно ситуативно дано его герою.
Разлука героя стихотворения требуется Пушкину именно для акцентуации духовной природы любви; поэт в принципе представляет любовь духовным феноменом. Духовная природа любви была столь значима для Пушкина, что он не
смущался прибегать в своих произведениях к ситуациям, показывающим самую
ненужность ее воплощения, – ненужность для самой любви. Об этом свиде215
тельствует стихотворение «Я ваc любил: любовь еще, быть может…». В нем
поэт дает уже ситуацию не разлуки, как в «На холмах Грузии…», возможно,
вызванной отчужденностью героини, но абсолютной отдельности. Героиня не
любит (и никогда не любила – даже «холодной» любовью) героя стихотворения; на тот момент, который фиксируется в стихотворении, нет любви и у самого героя (точнее, он не уверен в ней, но это не важно). Очевидно, что ситуация
абсолютной отдельности героев дает Пушкину идеальные возможности для
утверждения беспримесно чистой духовности любви. Искренность (некогда
бывшей) любви героя находится в прямой зависимости от ее «безнадежности»,
знания о невозможности его соединения с возлюбленной. Искренность и свидетельствует о чистой духовности любви, о ценности любви безотносительно ее
материального воплощения (взаимности). Пушкин подчеркивает весомость чистой духовности любви тем, что такую любовь, какую испытывал герой, может
дать только Бог; точнее, любовь, которую не следует путать с желанием (страстью), создающим только внешний антураж любовных отношений, и дает Господь, так как Бог и есть сосредоточие любви как духовного феномена.
Анализ стихотворения Пушкина «На холмах Грузии…» позволяет предположить, что 3 и 4-я строфы стихотворения Одарченко «Основа…», имеющие
разный тематический фокус, но целостно отсылающие к пушкинскому произведению, связаны мотивом разлуки. Пушкин в своем стихотворении дает ситуацию разлуки героев; Одарченко же пишет о любви в такой перспективе, которая также может быть обозначена как ситуация разлуки. Так, в 1-м стихе 4-й
строфы Одарченко замечает: «Года, года, как страшно это…». Судя по контексту, отсылающему к «часу ответа», содержание этого стиха указывает на
смерть. Года «страшны» потому, что они «приближают» смерть. Одарченко
вполне ясно пишет, что страшна не самая смерть, но именно «года», ее приближающие. Это значит, что поэт ведет речь о страхе разлуки – ведь как раз
смерть и «разлучает» людей. «Отдельность» людей друг от друга обозначена у
Одарченко в самом общем виде; это обстоятельство и позволяет утверждать,
что ситуация разлуки, на которую в конечном счете указывает смерть, выступает у поэта перспективой, определяющей его взгляд на любовь. Одарченко, как и
Пушкин в «На холмах Грузии…», для выражения своего представления о любви берет ситуацию разлуки; этот факт и определяет обращение поэта в «Основе
жизни…» к пушкинской реминисценции.
Представление Одарченко о любви, сформированное в перспективе ситуации разлуки, определяется спецификой телесности человека (ситуация разлуки, выступающая перспективой любовных отношений, мотивируется именно
«отдельностью» человеческой плоти, что бросается в глаза в случае парадигматичной для нее смерти). По Одарченко, любовь имеет исключительно телесную
природу, а не духовную, как у Пушкина; если бы любовь у писателя мыслилась
явлением духовного порядка, в ней нельзя было бы обнаружить имманентного
ей сомнения, о чем и свидетельствует пушкинская лирика и, в частности, стихотворение «На холмах Грузии…». Более того, согласно точке зрения Одарченко, стремление к любви (телесному соединению) как раз подстегивается перспективой разлуки. Интенционально любовные отношения противоположны
216
разлуке, характеризующей «отдельное» – предшествующее этим отношениям –
состояние человека; поэтому любовь является для человека способом осуществления своей собственной жизни – перед лицом грядущей и неизбежной
смерти. Человек нуждается в любовном соединении, оно жизненно необходимо
ему – и именно по той причине, что он обречен смерти. Мысль о том, что перспектива разлуки подстегивает стремление человека к соединению, и объясняет
стихи Одарченко о том, что сомнение «движет кровь» в момент «первого признания». Целью «признания» является преодоление телесной «отдельности»
человека; но сомнение имманентно любви, так как человек знает о невозможности в ней полного преодоления смерти, задающей самую парадигму разлуки,
в рамках которой разрыв отношений любовников являет собой только определенный модус смерти.
Представление о телесности любви определяет содержание полемики
Одарченко с Пушкиным в «Основе…». Однако это содержание не исчерпывает
полемический потенциал приводимой писателем пушкинской реминисценции,
поскольку она распространяется не только на 3-ю строфу стихотворения, сфокусированную на теме любовных отношений, но на 4-ю, тематическим фокусом
которой является самый человек. В рамках комплекса 3 и 4-й строф мысль об
имманентности сомнения для любви Одарченко дает как частный момент общего представления о сомнении как о фундаментальном факторе. О взаимопроникновении частного и общего моментов в феномене сомнения свидетельствует тот факт, что, до упора разворачивая в 4-й строфе пушкинскую реминисценцию, возникающую еще в 3-й, писатель задействует библейскую мифологему Страшного суда. Эта мифологема, определяющая в «Основе жизни…»
фундаментальную роль сомнения, вводится у Одарченко с помощью все той же
реминисценции из стихотворения «На холмах Грузии…», хотя самая проблематика, к которой она отсылает, на первый взгляд, выходит за пределы пушкинской реминисценции. Это значит, что полемика писателя с Пушкиным о сущности любви имеет и более глубокий пласт – религиозный.
Одарченко вкладывает в 4-ю строфу «Основы жизни…» следующий
смысл. Существует смерть, она ставит предел существованию человека, создает
ситуацию, открывающую парадигму разлуки; смерть есть неоспоримый факт,
именно поэтому – из-за неизбежности творимой ею ситуации разлуки – она
страшит человека. Пребывание в страхе (по какой-то причине) – негативно для
человека; этим и объясняется то, что Одарченко противопоставляет состоянию
страха состояние преодоленного страха: «<…> / Но сердце бьется оттого…».
Согласно представлениям писателя, преодоление страха осуществляется через
сомнение: даже угроза смерти (разлуки) не способна что-либо изменить для человека, находящегося на позиции сомнения. Одарченко утверждает: человек
способен осуществлять свою жизнь только тогда, когда сомнение преодолевает
страх смерти. Это утверждение писатель фокусирует на «страшном часе ответа» – идее Страшного суда, который стоит за смертью. Смерть, первоначально
представленная некоей эмпирической данностью, тем, что является атрибутом
человека, его особенностью, берется Одарченко в данном случае как христианская мифологема: смерть страшна не сама по себе, но в контексте того смысло217
вого значения, которое ей придает христианство. Разлука, которую несет
смерть, разумеется, ужасна; но куда ужаснее то, что она не просто оправдывается Церковью, но утверждается им.
О том, что у Одарченко страшна не смерть сама по себе, можно судить по
«Истокам смеха» и, в частности, по рассуждениям писателя о животных. В царстве животных существует смерть; однако Одарченко настаивает на том, что
смерть не страшит поданных этого царства, так как именно она фундирует систему причинно-следственных отношений, в рамках которой работает инстинкт, «чудесная сила» жизни. Смерть для животных – естественный момент
их существования: она утверждена не каким-либо смыслом, который в ней мог
бы быть реализован, но самим фактом бытия живых существ, представляющего
собой ситуацию преодоления смерти. Для животных смерть есть результат
осуществления своего рода естественного права, которым наделены живые существа самим фактом своего существования: одни животные сильнее, другие –
слабее; слабые животные гибнут. Для человека же – как существа, обладающего разумом, – смерть не является естественным моментом его жизни. Церковь
учит, что смерть служит определенной цели, и соответственно она утверждена
смыслом, содержащимся в этой цели. По Одарченко, человека страшит смерть,
понятая по-христиански; точнее, вообще каким-либо образом понятая, поскольку все ее возможные понимания не содержат смысла, в котором нуждался
бы сам человек. Это чуждые человеку смыслы; они есть создание иного (нечеловеческого), как выразился писатель, «высшего разума»; поэтому «разумная
необходимость» смерти внятна Богу, но не человеку. Очевидно, что пассаж о
сомнении, преодолевающем страх «годов» (ситуации разлуки), направлен у
Одарченко на христианское представление о смерти. Чтобы преодолеть страх,
«уничтожающий» жизнь, необходимо стать на позицию сомнения в отношении
к (христианской) идее, согласно которой смерть имеет для человека смысловое
значение.
По Одарченко, Бог отнюдь не является для человека олицетворением
идеи любви. Первоначально, борясь со смертью, которая и есть хаос, Бог сотворил жизнь и наделил ее инстинктом – идеальным инструментом преодоления смерти, самой парадигмы разлуки, которая и создает «отдельность» живого
существа. Неслучайно Бог заложил сексуальность в механизм инстинкта; сексуальность, двигая живым существом, приводит его к соединению; соединению, преодолевающему не только разлуку, но и самую смерть, поскольку его
следствием выступает потомство, продолжение жизни, в самом прямом смысле
соединяющее (бывших и будущих – разделенных смертью) людей. И если инстинкт входил в замысел Бога о живом существе, сексуальность соответствует
этому замыслу. Однако позже, как утверждает христианский миф, Бог изгоняет
человека из Рая, наказывая его за любовь, – за то, что Он сам замыслил и воплотил в живом существе. С этой точки зрения действия Бога предстают парадоксом, самый же Бог – воплощением противоречия. Согласно точке зрения
Одарченко, отношение человека к Богу не может быть чем-либо иным, нежели
удивление, то есть это отношение и выражается позицией сомнения в истинности христианского мифа о смерти. На первый взгляд – странная, ситуация ис218
пользования у Одарченко христианских мифологем, имеющих в то же время
иное – недогматическое – содержание, говорит о том, что писатель не отвергает
Бога (и даже не протестует против того, как Он ведет себя по отношению к человеку). Одарченко отвергает идеологию христианства, которая, не замечая парадоксальности Божьего мира, превращает сомнение человека в иллюзорное
понимание.
Одарченко писал: «<…> / В ней [любви] даже первое признанье / Сомненьем движимая кровь»; следовательно, любовь, отражающая позицию сомнения, есть ситуация, обеспечивающая деятельность разума. На первый взгляд,
это утверждение ошибочно; Одарченко подразумевал под любовью телесное
(фактически – сексуальное) соединение; сексуальность же заложена в инстинкт,
занимающий то место, которое мог бы занимать (и при определенных условиях
– занимает) разум. Между тем представление о любви у Одарченко несколько
сложнее. Действительно, сексуальность – один из элементов механизма инстинкта; однако христианская догматика, настаивая на «разумной необходимости» смерти, едва ли не накладывает табу на сексуальность, поскольку сексуальность – главный и наиболее очевидный признак грехопадения (вины человека перед Богом). Конечно, сексуальность легализована в христианстве институтом брака, выступающим церковным таинством; но только частично; к тому же
– в некотором противоречии с доминантой своей собственной идеологии, согласно которой вечная жизнь обеспечивается спасением души человека, а не
его телесным продолжением в потомстве. В известном смысле секс, даже если
его свести к атрибутике «дозволяемых» Церковью брачных отношений, именно
противостоит христианской догматике, так как он не удовлетворяет системным
требованиям христианства, выстраивающим четкую причинно-следственную
связь посю- и потусторонней жизни. Иначе говоря, Одарченко рассматривает
любовное соединение как сбой в системе причинно-следственных отношений,
которую являет собой христианство, выступая учением о соблюдении телесной
чистоты как способе спасения души. По Одарченко, не любовь воплощает разум; к возникновению разума ведет ситуация соединения, опредмечивающая
любовные отношения; любовь только выявляет противоречия в той картине
бытия, которую рисует христианская догматика, – противоречия, обеспечивающие занимаемую человеком (через любовные отношения) позицию сомнения.
Общий смысл стихов 4-й строфы «Основы жизни…» следующий: смерть
страшит человека (перспективой ситуации разлуки); однако она не отменяет
той истины, что сомнение – фундаментальный фактор человеческого существования. Тем не менее, стихи писателя следует понимать и в том смысле, что истинность сомнения распространяется и на посмертное бытие человека. «В час
ответа / Не изменится ничего» именно потому, что сомнение охватывает всю
целостность мира, в христианстве дифференцируемую – на посю- и потусторонний миры. К этому выводу Одарченко подводит его спор с Пушкиным, завершающийся в 4-й строфе; однако в самой пушкинской реминисценции, распространяющейся и на эту (последнюю в стихотворении) строфу, речь не идет
о смерти. Вопрос о смерти, точнее, о христианском толковании целостности
мира – связанности посю- и потустороннего миров, поднимается как раз в
219
«…комедии» Данте, полемическая реминисценция из которой присутствует во
2-й строфе стихотворения Одарченко.
Мы видим, что полемика Одарченко с Пушкиным в 3 и 4-й строфах его
произведения, углубляющая проблематику пушкинской реминисценции религиозными коннотациями, задним числом возвращает нас к полемике писателя с
Данте во 2-й строфе, в которой реминисценция из «Божественной комедии» как
раз и несет религиозные коннотации. В более широко развернутой полемике с
Пушкиным по вопросу о любви Одарченко использует в качестве центрального
довода свое представление о смерти, как раз и определяющее его спор с автором «На холмах Грузии…». Экспликация представления о смерти в «пушкинских» стихах Одарченко создает определенный фон для уточнения позиции писателя в его «дантовых» стихах.
Тезис Одарченко, представленный стихами 2-й строфы «Основы…», который писатель противопоставляет точке зрения Данте, согласно которой Любовь «движет солнце и светила» [2, 519], состоит в том, что двигателем сущего
является Сомнение, а не Любовь. Вероятно, религиозные коннотации «пушкинских» стихов 4-й строфы «Основы жизни…», возвращающие нас к реминисценции из Данте, появляются у Одарченко отнюдь не случайно: они указывают
на источник, к которому восходит самый спор писателя с автором «Божественной комедии». Поскольку в 4-й строфе речь идет о том, что сомнение охватывает собой целостный мир, резонно будет предположить, что спор Одарченко с
Данте восходит именно к той песне «Божественной комедии», в которой рассказывается об устройстве мироздания. Приняв в расчет это предположение,
мы обнаружим, что источником спора Одарченко с Данте является 2-я песня
«Рая» и, в частности, диалог героя «…комедии» и Беатриче [2, 361 – 362]. Данте спрашивает о причине возникновения пятен на Луне, превращающих это
светило в чересполосицу света и мрака; судя по призыву Беатриче к Данте, это
совмещение света и мрака вызывает в герое «…комедии» не что иное, как
удивление. Здесь к месту будет вспомнить, что у Одарченко мир предстает как
парадоксальное соединение противоположных начал; это соединение не может
не вызывать удивления; удивление же являет собой выражение как раз сомнения. Как видим, в диалоге Данте и Беатриче обозначены именно те позиции,
которые будут занимать Одарченко и автор «…комедии» в их споре в «Основе
жизни…».
Содержание приведенного пассажа из диалога Данте и Беатриче намечает
концептуальный подход Одарченко к проблематике целостного мира, обозначенной во 2-й песне «Рая»; этот же диалог выступает и материалом для концептуальных обобщений писателя. Подтверждая правоту своих слов о причине
возникновения лунных пятен, Беатриче апеллирует к конструкции всецелого
мироздания и напрямую связывает интересующий Данте случай с особенностями устройства этой конструкции [2, 363 – 364]. Беатриче утверждает, что
чересполосица света и мрака на Луне есть проекция отношений, которые имеют
место в мироздании между Творцом и творением. В «…комедии» эти отношения представлены следующим образом: Бог, 9-е небеса, выступает Перводвигателем остальных 8-ми небес. Именно в этом смысле Данте и писал о том, что
220
Любовь (Бог) «движет солнце и светила». Однако отношения Творца и творения в «…комедии» несколько сложнее, нежели о них можно судить по заключительному стиху сочинения Данте. Бог, разумеется, играет роль Перводвигателя; однако движение небес обеспечивают также и «вожди» – ангелы этих небес. Двойственность источника движения небес, являющаяся особенностью
конструкции мироздания, и определяет чересполосицу света и мрака, которая в
обнаруживаемых Данте лунных пятнах выступает частным случаем этой особенности.
Между тем пристальное внимание Одарченко к содержанию речей Беатриче должна была привлечь следующая их деталь. Так, водительница Данте по
Раю называет ангелов-«вождей» «глубокой мудростью», «умами» и «разумами». Именно «разумы» и движут небесами, но движут их в рамках той двойственности источника движения, который связывается в «…комедии» с особенностями конструкции мироздания. Эта деталь способствует созданию более
полного представления о содержании полемики Одарченко с Данте. Напомним,
что, согласно точке зрения Одарченко, позицию сомнения выражает именно разум; в применении к материалу «Основы жизни…» это значит, что разум и
движет сущим. Так, в материале стихов Одарченко нет ничего, чего бы не было
в речах Беатриче о конструкции мироздания (мир содержит в себе противоположные начала; движением же сущего руководит разум, который действует в
условиях этой двойственности). Между тем концептуализирует писатель материал «…комедии» иначе, нежели Данте. Это обстоятельство позволяет сделать
заключение о том, что, оспаривая идею Данте о фундаментальном значении
Любви, которой он противопоставляет идею сомнения, писатель фокусирует
свою полемику с автором «…комедии» на вопросе о сущности разума.
Согласно разъяснениям Беатриче, «разум» выступает в роли координатора «целей» и «корней», которые он приспособляет друг к другу в сущем (носителе различных «свойств»). Такое понимание разума возможно в том случае,
если конструкция мироздания толкуется как система причинно-следственных
отношений, – как система, структурно воспроизводящая ту, в которой, как показано у Одарченко в «Истоках смеха», действует инстинкт. Хотя системность
мироздания «…комедии» не может быть отождествлена с той системой причинно-следственных отношений, которая определяет действия инстинкта у
Одарченко, бесспорно, что эта системность исключает разум, как его писатель
понимал. В «…комедии» разумом названо то, что в действительности являет
собой идеологическую конструкцию христианской Церкви, с помощью которой
Данте-автор вуалирует вполне реальные для Данте-героя противоречия мира.
В принципе не оспаривая данной у Данте идеи Бога как Перводвигателя,
возникшей в Средневековье в результате приспособления христианских воззрений к Аристотелевой философии, Одарченко видит в этой идее противоречие и
соответственно ситуацию парадокса. На это противоречие указывает сам Данте
– в 7-й песне «Ада», в пассаже, в котором герой «…комедии» просит Вергилия
растолковать, что есть Фортуна, «вождь» земных небес. Вопрос Данте вызван
совершенным непониманием смысла действий Фортуны и, хотя Вергилий
утверждает, что «вождь» земных небес облечен мудростью, в совершенном не221
понимании героя «…комедии» оставляет и ответ его водителя по Аду. Так, Вергилий замечает, мудрость Фортуны неизъяснима разуму человека [2, 48 – 49].
Слова Вергилия о справедливом суде Фортуны способны примирить героя
«…комедии» с ее действиями, в которых он не находит никакой справедливости, но они не делают их для него яснее.
Согласно Одарченко, и в этом он в точности следует за Данте, у небес,
действительно, есть и «корни», и «цели». Но действительно и то, что двойственность источника их движения не поддается толкованию разума человека.
Это значит, что конструкция мироздания являет собой противоречие, которое,
вызывая удивление, свидетельствует о разуме (обнаружение противоречия и
свидетельствует о его возникновении), и через него задает позицию сомнения.
Если рассмотреть стихи 2-й строфы «Основы жизни…», – стихи о звезде, движимой сомнением, – в контексте полемически заданной в стихотворении отсылке к Данте, можно будет утверждать, что в них Одарченко только корректирует стихи «…комедии». Говоря об источнике движения звезды, писатель
утверждает, что она движима не Любовью, но сомнением, которое единственно
и возможно в условиях парадоксального устройства мироздания. Сомнение и
есть выражение подлинного разума – в отличие от того «разума», понятие о котором было представлено в «…комедии».
Литература
1. Гумилев Н.С. Стихи. Письма о русской поэзии. М., 1989.
2. Данте Алигъери. Божественная комедия. М., 1980.
3. Данте Алигъери. Божественная комедия. СПб., 2006.
4. Мороз О.Н. Проблема парадокса в творчестве Юрия Одарченко // Культура провинции: локальный и глобальный контекст. Материалы VII Сургучевских чтений, посвященных 160-летию основания периодической печати на Северном Кавказе. Ставрополь, 2010 (в печати).
5. Одарченко Ю.П. Сочинения. СПб., 2001.
6. Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 3- тт. Т. 1. М., 1985.
222
А.В. Татаринов*
Проблемы современной литературы: импровизация
Данная работа – не досконально продуманная книжная речь, а устное
выступление на IX Международной конференции «Через библиотеки – к
будущему» (Анапа, 2009, сентябрь). Стенограмма этой импровизации (двух
сообщений, посвященных русской и зарубежной литературе) сделана С.В.
Юрмановой (Центральная городская юношеская библиотека им. М.А.
Светлова) и опубликована в издании «Библиотеки Москвы – юношеству:
Практика работы, проекты, информация; вып. 31» (М., 2009)). В нашем
сборнике – с сокращениями.
Виктор Иванович Лихоносов, обращаясь к нам, сказал, что современная
литература находится в кризисе, она не отвечает высоким требованиям, и
формирует не совсем того читателя, которого мы хотим видеть в нашей стране
сейчас и в будущем. Он прав, с одной стороны: если подходить к современной
литературе с мерками Чехова, Толстого, Достоевского, Пушкина, Грибоедова,
то, наверное, современная литература кажется совершенно иной. Она и есть
другая! Потому что время другое, мир стал иным. И когда современный
молодой человек не так активно читает тексты XIX века, он показывает этим не
пренебрежение к русской традиции, не своеобразную неготовность впитывать
заветы наших великих предков, а пытается сказать нам, что время стало иным.
Не секрет, что сегодня не на всех писателей хватает читателей. Писателей
очень много, тиражи скромные, маленькие. Книгам дойти до читателя сложно,
потому что не все провинциальные магазины закупают тексты, изданные в
столице. Поэтому сегодня писатели самые разные, самых разных направлений и
традиций все-таки обращаются к нам с тем, чтобы мы, работники школ, вузов,
библиотек говорили о них. И я уверяю вас, что, когда мы говорим о них, когда
читаем их, начинает выясняться, что современная литература не всегда
отличается тем негативом, который ей приписывают. Хотя иногда она,
стремясь соответствовать современному сознанию, сильно рискуя, уходит в
ненормативность.
Мне кажется, что, говоря о литературе, мы должны перестать бояться ее.
Опасны подделки под литературу. А когда говорим о серьезных текстах, серьезных писательских порывах, об исканиях души, которые отражаются в текстах, мы должны эти порывы уважать и по мере сил их поддерживать.
Вместе с тем ситуация очень сложная, я бы хотел сегодня показать вам
внутренние мотивы этой сложности и представить те тексты, которые, на мой
взгляд, формируют современную литературу как некий единый процесс.
Сегодня идеологический диктат по отношению к литературе отсутствует.
Если в советское время писатель находился под постоянным контролем, под
Татаринов Алексей Викторович – доктор филологических наук, завкафедрой зарубежной
литературы КубГУ
*
223
цензурой, которая заставляла его действовать активно внутри себя, то теперь
этого диктата нет. Поэтому, с одной стороны, крепнет свобода автора, а с другой — понижается статус текста, лишенного интереса верхов. Когда власть не
слишком интересуется литературой, литературный процесс оказывается под
вопросом. Есть, конечно, и феномен малотиражности, которого не было в
советское время, налицо и определенная маргинализация литературного
процесса.
Практически полностью отсутствуют какие-то эстетические программы,
которые еще сто лет назад боролись за читателя. И активность акмеистов,
футуристов, символистов приводила к тому, что литература выражала особый
мир идей, духовных и эстетических.
Средства массовой информации не спешат поддерживать современную
литературу. Скажем, столичные театральные постановки имеют более
солидную прессу, нежели романы, изданные в Москве в солидных
издательствах.
Еще одна проблема сегодня заключается в том, что в огромном изобилии
текстов нет текста, который бы стал новым русским романом-мифом, под
которым я подразумеваю текст, консолидирующий сознание и заставляющий
думать о себе. Такими текстами были «Тихий Дон» Шолохова, роман
Булгакова «Мастер и Маргарита». А сейчас текстов много, романов выходит
солидное число, но при этом такого, который смог бы претендовать на статус
общезначимого и потянул бы за собой литературный процесс, к сожалению,
нет.
Какие в литературе идут бои, и какие образуются конфликты? Их много,
они не всегда высокого уровня и серьезного масштаба, но, на мой взгляд, в
современной литературе сохраняется, хотя скорее косвенно, деление, которое
сформировалось в русской словесности в XIX столетии. Многие критики,
пытаясь спровоцировать развитие литературного процесса, говорят о том, что в
современной словесности сохраняют значение два серьезных литературноидеологических клана. Это клан новых славянофилов и клан новых западников.
Я бы не сказал, что это деление имеет абсолютный смысл, но постараюсь его
использовать как некую попытку ввести в мир современной литературы, в мир
современной прозы и показать, как патриотическая и либеральная эстетика, а
соответственно и идеология, собирают вокруг себя самых разных писателей.
Кратко расскажу о тех писателях, которые формируют указанные направления, при этом буду стараться представить каждого заголовками одного или
двух художественных текстов.
Патриотическое направление. Александр Проханов — журналист,
писатель, главный редактор газеты «Завтра». У него много романов, наверное,
перевалило за двадцать, и читатели, стремящиеся следить за его творчеством,
часто не успевают их читать. Романы «Последний солдат империи», «Господин
гексоген», «Надпись» и «Пятая империя» вполне представляют этого автора.
Очень популярен ныне и молодой писатель, один из лидеров «младопатриотов»
Захар Прилепин — нижегородский писатель, известный по романам
«Патологии» и «Санькя», сборнику рассказов «Грех» и многим
224
публицистическим выступлениям, которые сделали Прилепину имя и принесли
ему популярность в среде российской молодежи и тех, кто постарше.
Ростовский писатель Денис Гуцко — «Покемонов день», «Русскоговорящий»,
«Домик в Армагеддоне». Владимир Личутин — немолод, но сохраняет особые
позиции в русском литературном процессе, романы «Раскол», «Миледи
Ротман», «Беглец из рая». Павел Крусанов с романами «Укус ангела», «Бомбом», «Американская дырка». Максим Кантор с романом «Учебник
рисования». Алексей Варламов, писатель, который в начале 1990-х годов
занимал высокие позиции, романы «Рождение», «Затонувший ковчег», «11
сентября». Очень быстро развивающийся писатель из Перми Алексей Иванов, у
которого, наверное, лучший роман называется «Сердце Пармы». Михаил
Елизаров, с романом «Библиотекарь». Юрий Мамлеев с книгой под названием
«Русские походы в тонкий мир». А есть еще Роман Сенчин и Сергей Шаргунов.
Все эти авторы объединяются вокруг газет «Завтра», «День литературы»,
«Литературная Россия» и «Литературная газета», вокруг журналов «Наш
Современник» и «Москва». Вместе с тем не надо забывать о том, что, упрощая
литературный процесс до блоков и направлений, мы решаем задачу
систематизации и рационализации. Чтобы понять душу конкретного
произведения и его автора, смысл судьбы его героев, нужно говорить не о
патриотическом и либеральном, а о том, что происходит в тексте в каждый час
и минуту его жизни в наших сердцах.
Тем не менее, кто все-таки относится к либеральному направлению? Кто
считает себя его представителем? Совсем не молодой Виктор Ерофеев,
известный по самым разным текстам: «Русская красавица», «Русский
апокалипсис». Ведущий единственной литературной программы «Апокриф» на
канале «Культура», и эта программа, на мой взгляд, лучше его текстов. Читая
его тексты, часто испытываешь неловкость за автора, который, приближаясь к
почтенным семидесяти, говорит языком двадцатилетних и актуализирует всю
ненормативную лексику и эротические мотивы, как будто без них в его
возрасте не обойтись.
Татьяна Толстая — серьезная писательница со многими романами, из
которых для понимания образа России важен роман с диковатым названием
«Кысь», как бы делегирующем абсурд в наши души, но передающим характер
всего повествования. Это один из самых тяжких текстов, потому что для
человека, любящего Россию, эстетика Татьяны Толстой, которая не может
скрыть своей, часто высокомерной иронии, достаточно мрачное испытание.
Ведь мир, изображенный Татьяной Толстой, не знает катарсиса, просветления,
а когда происходит общение с текстом, который не дает катарсиса, очищения,
еще не ясно, как поведет себя душа читателя, тем более молодого, насытившись
безграничным смехом, выходящим за пределы текстов и наступающим в
порядке агрессии.
Владимир Шаров. Его мало знают. Удивительный писатель, конечно,
безумный, не скрывающий особых, высоких патологий сознания. Почти все
герои Шарова — это люди, которые имеют отношение к психиатрическим клиникам. Но происходящее в текстах Шарова по-настоящему интересно. Влади225
мир Шаров пытается показать: то, что случилось в эпоху русской революции, в
России происходило всегда. Шаров буквально «сел» на одну и ту же мысль и
проводит ее во всех текстах. Суть ее в том, что русская революция есть классическое русское сектантство, вырвавшееся наружу и активизировавшее те идеи,
которые и без русской революции всегда были в русской голове. Поэтому Владимир Соловьев и Владимир Ленин — соратники у Шарова, а Сталин —
отчасти религиозная личность. Поэтому русская философия и большевизм
имеют много общего, а Николай Федоров, автор «Философии общего дела» и
«Теории и практики воскрешения», — своеобразный идеологический лидер
русского XX века. Абсолютный бред, на первый взгляд. Когда читаешь Шарова
впервые, то побаиваешься, как бы не попасть туда, где находятся его
персонажи. Но когда проникаешь в душу текста, понимаешь, что, когда Шаров
играет именами (у него Ленин, Сталин, Каганович и другие имена — это
своеобразные знаки игры), с ними происходит то, что не происходило в
действительности. Формально Шаров неправ. Он берет историческое имя,
сложившуюся судьбу и начинает крутить-вертеть эту судьбу так, как будто за
именем не живой человек, а какая-то фантомная ситуация. Не в литературе —
нельзя, а в литературе — можно. Я думаю, что литература — это одна из
немногих сфер, а может быть, и единственная сфера, где подобный риск
оправдан. В историческом сочинении нужно следовать фактам, в докладе,
основанном на событиях — быть верным событиям, а литература остается
игрой, и этого нельзя забывать. Мы часто думаем, что нравственными являются
высокая дидактика, высокое поучение и контакт на уровне духа писателя и
доверчивого духа читателя. Но ведь литература остается игрой, и что же
выбирают современные читатели? Они выбирают игры без конца. Вряд ли это
та ситуация, которая устраивает нас с вами. Владимир Шаров, играющий в не
самую простую и не самую корректную игру, на мой взгляд, имеет право быть
увиденным. А уж дальше как с ним быть, решает каждый отдельно.
К либералам относится Дмитрий Быков — писатель, который не может
остановиться в своей торопливой функции письма. Статьи, интернеткомментарии, романы... Неплохие тексты — «Эвакуатор», «Оправдание»,
роман «ЖД», полемика с пастернаковским «Доктором Живаго» в нем есть.
Виктор Пелевин, которого мы, на мой взгляд, недооцениваем, не так
прост, как кажется. И та массовость, которая приносит ему деньги, а нам часто
смех, — отнюдь не всё. Дело в том, что в современном гуманитарном процессе
огромное значение и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в России имеет
некий буддизм. Не как конкретное религиозное учение, а как особое
пространство мысли, в которое проваливается все, что слишком напрягает
своей однозначностью. Европеец, а русский тоже европеец, часто устает от всех
этих сигналов, поступающих от материального мира, от этой страшной суеты,
от проблем контакта с немилосердным миром. А буддизм говорит — вот
нирвана, вот путь, вот цель. Там есть пустота, она же полнота. Чтобы
достигнуть этого, необходимо совершить некие прорывы, которые покажут
тебе, что ты даже не душа, которая будет страдать в аду или в раю, и такие
версии в буддизме есть. Как говорил Будда, а точнее, его ученики: «В аду
226
сгорают от ненависти, в раю страдают от любви». Очень не русская позиция, но
очень популярная. Пелевин эту буддийскую позицию современной словесности
делает очевидной, а значит — безопасной. Когда в нас бродят неочевидные
мотивы, мы беззащитны. А когда мы видим текст, который сделал из
неочевидных мотивов сюжет и предоставил его нам, с этим легче работать. Не
обязательно любить Пелевина, совсем нет. Нет необходимости перечитывать
его странные матерные композиции в стиле японского «дзэн» или китайского
«чань», когда фраза должна ударить по сознанию и совершить прорыв в ничто,
в пустоту или в смысл. Но надо знать, кто он, как он работает, потому что его
тексты, совмещая рекламное, политическое и религиозное, представляются
весьма серьезными. А смех — это знак особой серьезности в современное
время.
К либеральному направлению относится и многократно записанный в
негатив Владимир Сорокин, автор жутких рассказов «Утро снайпера»,
«Первый субботник», построенных на взрыве сознания, постигающего
немотивированный ужас. Но если у вас будет желание увидеть Сорокина,
философствующего на темы мира и России, но в стиле современного
«фэнтези», что делает его вполне доступным для молодого читателя, то это так
называемая трилогия, состоящая из романов «Лед», «Путь Бро» и «Двадцать
три тысячи». «Путь Бро», вторая часть трилогии, обладает самостоятельным
статусом, и, я бы сказал, знакомство с этим текстом показывает, что не так все
просто в Сорокине, которого пытаются записать в порнографы и
матершинники. Все это у него есть, но, работая с современной литературой,
надо понимать, что мы входим в особую зону риска, когда всякий эксперимент
писатель считает оправданным.
Недавно почивший Василий Аксенов, со всеми своими последними
романами («Редкие земли», «Кесарево свечение», «Вольтерьянцы и
вольтерьянки»), пожалуй, неформальный лидер либерального направления.
Кроме того, есть Александр Кабаков, Владимир Войнович, есть журналы этого
направления — «Знамя», «Новое литературное обозрение», существует его
поддержка «Известиями» и «Независимой газетой».
Что есть патриотическое и что есть либеральное — как идея? Я предложу
вам то, что мне кажется внутренним содержанием этих направлений и типов
сознания в литературе.
Патриотическое направление: Россия — это духовный мир и
неповторимая цивилизация, которая должна отстаивать свою герметичность,
высокую закрытость. Во все времена у России независимо от ее названия (Русь,
Россия, СССР) был очевидный враг — западный мир, способный маскировать
захватнические планы словами о крестовых походах, борьбе с большевизмом
или речами о спасительной демократии. Помимо внешних врагов всегда есть
враги внутренние — люди, которых легко купить обещанием призрачного
земного счастья. События, связанные с распадом СССР, — катастрофа,
«спланированная врагами» и по масштабам превосходящая катастрофу 1917
года. Советский период воспринимается как в целом удачный опыт
строительства великой империи. Православие в его ярко выраженном русском
227
варианте,
духовном,
социальном,
бытовом,
должно
оставаться
мировоззренческим центром.
Либеральная идея, как она видится мне. Есть единая цивилизация, общая
мировая история (Россия ее часть), мир, который должен чаще учиться, чем
учить. Весь российский путь, по мнению «либералов», от древности до наших
дней отмечен главным национальным злом — склонностью к тоталитаризму, к
растворению личности в коллективе, который ищет вождя и жесткую идею,
чтобы поклониться им. Россия всегда религиозна, даже тогда, когда она не религиозна в классическом смысле. Смысл русской религии в слишком большом
доверии к вечности и в слишком презрительном отношении к земной жизни, в
неистребимой готовности страдать, объясняя страдания высокими принципами.
Либеральные писатели считают: желая называться православным миром, Россия чаще воплощает в жизнь те или иные сектантские установки, которые
позволяют укрепиться у власти то монархам, то коммунистам, то особым
демократам, не похожим на правильных демократов Запада.
Несколько слов об эстетике направления, и тут есть очень интересные
вещи, с которыми мы сталкиваемся, общаясь с текстом, телевизором, массовой
культурой в целом. Смех должен быть под контролем. Ироническое начало
легко становится началом разрушительным. Все мы знаем феномен вхождения
современного мира в бесконечную смеховую культуру. Когда-то смех был
только карнавалом — определенным временем, когда средневековому человеку
и людям более поздних временных систем дозволялось смеяться и очищаться
смехом от некоего гнета неба или гнета земных владык. В современной
культуре, особенно молодежной, смеховое пространство безгранично и
требование смеха иногда становится просто навязчивым.
По мнению патриотов, реалистическое искусство, принесшее русскому
XIX веку всемирную славу, должно оставаться главным способом
художественного воссоздания мира, но при этом контакт с новейшими
технологиями литературы возможен. Он есть и у Александра Проханова, и у
Павла Крусанова, петербургского писателя, и те, кто хочет сказать, что все
постмодернистское — чужое, не совсем правы: есть, наверное,
постмодернистское и чужое, но есть и свое. Патриотическая эстетика
настойчиво требует (и этим она, конечно, хороша) найти и показать
положительного героя — того, кто способен стать нравственным центром в
сознании читателя, — создать некое активное житие, дать пример.
Очень большое доверие эпосу — и как объемному изображению
мироздания, и как типу конфликта. В эпосе есть добро и зло, но при этом автор
нам подсказывает, «за кого», «против кого» и что будет дальше — и здесь, и в
вечности. По мнению патриотического крыла, литература должна помогать
читателю разобраться в хитросплетениях мировых конфликтов, выявить друзей
и врагов, и читатель должен, прочитав текст, остаться с ясной мыслью о том,
что он получил некий совет. Не призыв к делу, а совет, с помощью которого он
попытается выстроить душу в особом векторе духовного развития.
Публицистическое начало, длинный авторский комментарий, расставляющий
мировоззренческие акценты, — все это приветствуется. Изображение
228
провинциального быта значительнее, чем изображение столичного, которое
часто демонизируется как чуждое и западное. Читатель, входящий в мир
патриотического текста, может быть уверен, что лексическая ненормативность
в нем сведена к минимуму.
Что касается либеральной эстетики, то смеховое, ироническое и
агрессивно-саркастическое начало востребовано ею как должная реакция на
мир. Реакция сарказма часто объединяет автора, повествователя, героя и
читателя. «Кысь» Татьяны Толстой, небольшой роман Сорокина «День
опричника», его же сборник новелл «Сахарный кремль» показывают, насколько
читатель отторгает себя от России, пытаясь высмеять ее тоталитарные
привычки. Лексическая беспринципность оценивается как признак свободы,
независимости человека от тоталитарного сознания. В либеральном крыле нет
уважения к историческим именам; покидая исторический контекст, они
становятся фигурами в авторской игре. Общее, коллективное, соборное,
собирательные образы добра являются негативным началом в своеобразном
антигерое. Если есть позитивный герой, он оказывается героем так называемой
«всемирной реализации». Он может быть близок к буддизму, являться
европейцем или, по словам Аксенова, «байроническим» современным героем, и
он отторгает себя от национальной почвы.
При всей этой системе кланов остается сила и значение каждого
отдельного текста, и, что немаловажно, остаются некие общие тенденции и в
либеральном, и в патриотическом направлении.
Одной из общих тенденций является так называемый «эсхатологизм». Что
такое эсхатология? Учение о конце света. Трудно даже представить себе, как
много в современной литературе — и русской, и западной — экскурсов в конец
мира. Конец мира происходит в сюжетном варианте, в речах, диалогах и
монологах героев. Конец мира — в предчувствиях, и такое ощущение, что
самые разные авторы — Виктор Ерофеев, Фридрих Горенштейн, Виктор
Пелевин, Владимир Сорокин, Владимир Шаров и другие — живут неким
предчувствием Апокалипсиса, который возникает по самым разным причинам.
Это, с одной стороны, литературное начало — то, что происходит в литературе,
происходит только там. Но ведь, с другой стороны, если так часто обращаются
к мысли об Апокалипсисе, в европейской литературе в том числе, — тогда это
симптомом чего? Симптом усталости, но, наверное, есть тут и более глубинные
ситуации и причины.
В современной литературе, на мой взгляд, некой общей чертой является не
слишком высокий уровень психологизма. И слишком частым является увлечение гротеском. Постоянная мысль о конце света есть, а вот трагизма нет. Такое
ощущение, что эсхатология — ощущение конца мира — лишает героев и авторов возможности показать трагизм отдельной судьбы. Во многих текстах лично
меня не удовлетворяет то, что характер, развитие внутренней судьбы героя
часто не так серьезно показаны, как его внешняя судьба. Фабулы, действия
хватает, а внутренних трагедий, катастроф и изображения их — не так уж и
много.
229
Литература должна давать миф, с которым трудно расстаться. Когда
литература становится мифом, нам жалко расставаться с произведением. В этом
причина популярности Гарри Поттера, текстов Толкиена или Михаила
Булгакова. Сейчас проза слишком прозаична. После прочтения большинства
современных текстов остается некое явление стиля: стиль Крусанова, стиль
Проханова, стиль Алексея Иванова. А вот явления какого-то события, которое
остается в тебе навсегда как некое событие, с которым хорошо быть, — этого
нет. Вроде бы и воспринимается текст, и просто его пересказать, но вот за душу
не берет. Такое чувство, что для перехода от изображения интересного события
к изображению ключевого чего-то не хватает. И здесь несколько слов можно
сказать в оправдание Виктора Пелевина. Его тексты оставляют в душе читателя
некую дидактическую идею, с которой человек должен что-то делать. Эта
дидактическая идея, выраженная весьма хитрыми образами, начинает в
читателе жить дальше. Ведь мы с вами знаем, что текст остается понастоящему тогда, когда продолжает свою жизнь в душе читателя, постоянно
цементируя его память. И как ни крути Пелевина, как ни относись к нему, а
после его текста остается не просто шутка, не просто некий ненормативный
сдвиг, а некая мысль о том, что тем, кто познал пустоту, почему-то лучше, чем
тем, кто ее не познал. А это, в общем-то, уже задача для активного читателя. В
современной литературе мало динамики героизма, мало риска, безумцев много,
но интересных - мало. Поэтому так популярен Захар Прилепин, автор
известного романа «Санькя». Это роман о молодом человеке, которого
отличает экстремизм, тяга к революции и категорическое несогласие с миром
взрослых. С одной стороны, этот роман можно заподозрить в разжигании
каких-то внутренне-экстремистских черт, которые в каждом характере,
наверное, есть. Но я думаю, что это было бы слишком простой оценкой, потому
что перед нами молодой герой, который действует не идеями. Прилепинский
герой не идеолог, это человек здорового инстинкта самосохранения,
сохранения ближних и сохранения страны. Революционность Прилепина — это
не революционность молодежи, накачанной внешними идеями, идущими от
взрослых. Экстремизм его героев — это некое оправдание нормальной
молодежной реакции на мир взрослых, допустивших все то, что они допустили
в последнее десятилетие. Прилепинский молодой человек радует читателя тем,
что он не просто накручен разными идеологемами, которые часто от лукавого,
а живет страстями и чувствами, заставляющими его не соглашаться с теми, кто
сеет неправду. Это люди власти, бизнеса, это те, кто поставил себя в центр
российской вселенной и пользуется тем, что получил или даже заработал,
иногда и такое бывает. И поэтому прилепинский герой есть некое
олицетворение нормальной, молодой, здоровой реакции, а экстремизм там
скорее форма реализации, но отнюдь не суть и не смысл.
Слишком много в современной литературе уныния, жалоб, сетования,
вздохов — женских вздохов в мужском исполнении. Мало истинного,
продуманного отрицания тех сил, которые писатель не рискует даже назвать
своими словами. Замечательный писатель Владимир Личутин. Интересно
общаться с ним лично, но когда читаешь роман «Миледи Ротман» или роман
230
«Беглец из рая», такое ощущение, что кончилась Россия, погибла деревня, обе
столицы, завершился русский человек и надо только плакать и стенать о том,
что мы все это допустили. На фоне этого плача в современной литературе
востребован Александр Проханов, в своих романах показывающий активное
противостояние человека системе, нередко слишком активное. Прохановские
герои — интеллектуалы, люди творческого начала, умеющие любить, воевать,
но прохановский стиль, конечно, совершенно особый. И тот, кто входит в мир
Проханова, должен согласиться с тем, что в его романах публицистика будет
иметь огромное значение, и должен быть готов к тому, что многие
исторические личности, особенно последних двадцати пяти лет, показаны в
весьма гротескном отрицании. Прохановский стиль не отличается простотой,
он избыточный, как давнее искусство барокко. Проханов не жалеет эпитетов и
речевых конструкций, чтобы показать своих противников и, по его мнению,
врагов России в максимально сниженном гротескном варианте. Скажем, у
Прилепина любимый писатель — Проханов, он на нем, по его словам, рос и
воспитывался. Но молодого человека, воспринимающего лексический строй
текста, стиль Проханова, конечно, весьма удивит.
Еще одна беда современной литературы в том, что наши писатели, как это
ни парадоксально, слишком много пишут. Такое ощущение, что, желая
издавать каждый год по роману, они выговариваются, и не остается сил на
какую-то концентрацию в рамках одного текста. Это касается и Дмитрия
Быкова, и Виктора Пелевина, и Сорокина, которые в гонке за тиражами не
слишком следуют качеству. По мне, так хорошо было бы, если бы один
писатель был равен одному своему тексту, в котором он максимально выразил
себя и оставил на века. И такой объемный роман, наверное, был бы
замечательным выражением авторского мира, с которым можно общаться.
Когда читаешь Быкова, то каждый новый текст есть повторение предыдущего,
и отсюда концентрация мысли и «эстетического удара» по читателю становится
все-таки меньше.
Когда современные критики размышляют о том, есть ли такой писатель,
который сможет в ближайшем времени стать неким лидером художественного
осмысления России и русской истории, кто-то указывает на Захара Прилепина,
но при этом сомневается: и там «но» больше, чем утверждений. Есть шансы у
пермского писателя Алексея Иванова, который многими романами уже
знаменит, лучшим является роман «Сердце Пармы». Иванов общается с нами
эпосами. Он создает большие тексты, 400-500 страниц — это норма, меньше
практически не бывает. Чем лично мне нравится Иванов? «Сердце Пармы» —
роман, посвященный XV столетию, когда Московия завоевывала пермские
земли, шла на Урал и прирастала территориями, людьми и этносами,
входившими в один великий русский народ. Роман посвящен серьезнейшей
проблеме разрастания Империи, при этом в нем совершенно отсутствует пафос.
Нет там плохих аборигенов и безупречных русских, есть большая трагедия,
суть ее в том, что когда народы соединяются, это не может не быть трагичным.
У Алексея Иванова есть самые различные элементы психологического,
фантастического и философского романа, и есть постоянное присутствие
231
судьбы, которая позволяет ему, оставаясь в рамках большого патриотического
направления, быть вне него. Неангажированность, внутренняя свобода от
категорических оценок православия или зырянской пермской веры, от оценок
конкретных личностей (допустим, русских царей) показывает, что это текст,
который дает читателю какую-то идеологическую свободу в ощущении
созданного мира. Этот жест, призывающий к свободе и позволяющий в
большом романе себя чувствовать своим, имеет серьезное оправдание, а что
будет дальше с русской темой, с темой русской истории, покажет время.
Я не согласен с мнением о том, что современная литература сильно упала.
Когда литературу читаешь и любишь, умеешь видеть, что происходит в
сознании читателя, скуки быть не может, независимо от того, с кем
общаешься — с правым Личутиным, левым Сорокиным, с левым Пелевиным
или правым Прилепиным. Интересной литература остается всегда, и главная ее
нравственная функция в том, что она есть, а уже потом в том, что она нам
предлагает.
Не забудем и о зарубежной литературе. Каждый из нас прекрасно знает,
что детство — наше, наших детей, наших родителей — украшено литературой,
написанной за пределами русской традиции в разные века. Кто из нас не читал
и не переживал произведений Ремарка, Хемингуэя, Томаса Манна, возможно,
Голдинга, Фолкнера, Альбера Камю, может быть Жан-Поля Сартра и десятков
других авторов, которые создавали нравственные тексты? Безусловно,
нравственные. Не даны были им истины восточного христианства, не в той
культуре они воспитывались. Но каждый, читавший книги Хемингуэя
(«Прощай оружие» или «По ком звонит колокол»), помнит о том, какой заряд
духовной энергии они давали.
Сразу хочу сказать, что современная западноевропейская и американская
литература в большинстве случаев отстает от тех образцов, на которых
воспитывались мы и те, кто старше нас. В современной западной литературе
уровня Ремарка, братьев Манн, Томаса, Генриха, мало кто достигает.
Современная западная литература такая же многоликая, как и современная
русская литература. Как и у нас, единый литературный процесс, как таковой,
там заметить сегодня не так-то просто, если он вообще, кстати, есть. Многие
отмечают, что современная английская литература весьма скучна. Есть такой
современный классик английского романа Джулиан Барнс. Кое-кто его читает,
но сказать, что Джулиан Барнс способен стать другом надолго — я бы не
решился.
Современная французская литература. Есть там непричесанный депрессант
Мишель Уэльбек. Весь мир читает его как некое облегченное явление
философской прозы. Но с французским писателем Луи Фердинандом Селином
или замечательным французским экзистенциалистом Альбером Камю он не
выдерживает сравнения. Активно молодежь читает Фредерика Бегбедера «99
франков», «Любовь живет три года» и другие тексты. Один посвящен, скажем,
России, под названием «Идеаль». Но назвать Бегбедера большим художником,
наверное, ни у одного литературоведа язык не повернется. Сказать так о
232
бывшем рекламщике, который ушел из рекламы, чтобы более дешевым
способом зарабатывать свои «евро от словесности», вряд ли возможно.
Многоликость в современной западной литературе просто чудовищная.
Зайдите в любой книжный супермаркет в крупном городе: даже профессионал,
смотря на полки современной западной литературы, не все книжки узнает. Удивительное многообразие имен, сюжетов, текстов, ярких обложек! Рынок вроде
бы насыщен, но при этом сказать, что все читается, вряд ли можно.
Вообще литература, независимо от региона, русская ли, западная,
переживает серьезный кризис личности. Многие говорят о том, что идет
удивительный процесс дегуманизации искусства. О дегуманизации говорили в
эпоху футуристов, в эпоху Пикассо, Сальвадора Дали и сюрреализма. Тогда
тоже был кризис личности, но он как-то совмещался с другими явлениями —
параллельными и более живыми. А сейчас кризис личностной литературы
действительно весьма силен. С одной стороны, активно живет и агрессивно
атакует так называемый постмодернизм. Не вдаваясь глубоко в суть термина,
скажу одно: постмодернизм строит свое бытие не столько на создании новых
ценностей, сколько на взрыве старых. Поэтому Пелевин не постмодернист, ибо
он живет особо осознанными буддийскими ценностями. Постмодернизм в
классической форме строит свое существование на том, что отрицает
устойчивое повествование, устойчивую историю прошлого, устойчивые
удивительно важные ценности, не слишком заботясь о предложении ценностей
новых. В постмодернизме, если его понимать широко и без границ,
торжествует так называемая серийная поэтика. Суть серийной поэтики
(серийных художеств, серийных сюжетов) заключается в том, что исчезает
герой. Вы прекрасно знаете, что для многих, особенно для юных созданий,
притягательность литературы — в герое. Герою подражают, его любят. Какой
текст самый популярный? Наверное, «Гамлет» Шекспира. Как бы ни был
Гамлет депрессивен, сколько бы он с черепом Йорика ни разговаривал, но в нем
аккумулирована потрясающая энергия борьбы — за смысл, за жизнь, за
благородство, за свою смерть, в конце концов, в контексте гибели Клавдия и
всех, кто выступает против гамлетовского пути. Вот это действительно герой!
В современной литературе господствует принцип исчезновения героя.
Суть серийной поэтики неплохо выразил французский, значимый некогда
писатель Ален Роб-Грийе. У него есть роман под названием «Проект революции в Нью-Йорке». В тексте нет ни проекта, ни революции, ни Нью-Йорка. В
постмодернизме название может совершенно не соответствовать смыслу
текста. В романе Бориса Виана, французского писателя, «Осень в Пекине» нет
Пекина, нет осени, но читаешь и чувствуешь присутствие и Пекина, и осени.
Некий желтый цвет атакует нашу душу странной осенней прозрачностью. Вот и
у Роб-Грийе текст называется «Проект революции в Нью-Йорке». Постоянно в
разных ракурсах повторяется одна и та же сцена. Некий маньяк лезет в дом к
некоей Лоре. Ни начало сцены, ни конец сцены не ясны. Лора постоянно
разная. Сохраняется только имя. Текст строится на страхе и ожидании. Бред,
скажем мы. Наверное, но на этом и строится новый французский роман. Суть
233
серийной поэтики заключается в том, что постмодерну интересен не герой, а
стиль, тип сюжета, «прикола», как говорят студенты.
А кроме серийной поэтики существует еще одна поэтика, гораздо больше
известная вам — поэтика сериальная. Сериальная поэтика — это женские
романы,
детективы,
разнообразные
триллеры,
романы-биографии,
фантастические и реальные. В сериальной поэтике есть удивительное действие
сюжета, но сюжета предельно облегченного. Романы в мягких обложках,
приносящие отдых. И это вы знаете по себе, а я знаю по тем контекстам,
которые вижу: например, говоришь с человеком о литературе, и он говорит о
высоких материях с полной отдачей души, а потом видишь его читающим — в
руках у него идиотская книга. Ну вот, скажем, название недавно видел, прошу
прощения, — «Хочу бабу на роликах», и таких текстов море. Я спрашиваю: «А
зачем читаешь? Ведь ты же знаешь полеты духа. Зачем?!» «Я устаю в школе
(это учитель), а с такими романами отдыхаю». Один роман, второй, десятый,
двенадцатый... А потом мы говорим, что не знаем современную литературу.
Конечно, не знаем. Потому что если от литературы ждать только какого-то
физиологического отдыха, то все эти «высокоблагородные» авторы будут с
нами постоянно. Чего греха таить, даже люди серьезные и интеллектуальные
часто выбирают несерьезный текст. Они говорят, что литература усложнена,
пессимистична, там вечный мрак действительности, вечный мрак нашей
фантазии, а вот мы берем любовный роман какой-нибудь — и так становится на
душе легко, и временно мы забываем о больном соседе, и так далее...
Так что кризис личности проявляется не только в текстах, где сюжет
утрачен, он проявляется и в текстах, где сюжета слишком много, а психологии
слишком мало. Тяжелый кризис психологизма касается и русской литературы.
Гораздо удобнее создавать эффектные ситуации, давать внешнюю риторику,
гнать публицистику, — все это читателем лучше ухватывается. А создать
серьезную судьбу, создать некий стиль бытия человеческого и показать его на
примере современных будней — вот это доступно далеко не каждому. Когда же
мы возвращаемся к XIX веку, будь то «Госпожа Бовари» Флобера, «Красное и
черное» Стендаля, «Отец Горио» Бальзака или повести Тургенева, романы
Достоевского, мы видим другую цивилизацию, другой мир, в котором была
жива душа и настаивала на том, что жизнь души — самое интересное.
Современная литература не слишком настаивает на жизни души,
предпочитая или распыление героя в каких-то внешних эффектных ситуациях,
или некую «сериальность», лучше всего проявляющуюся в телевизионных
сериалах, главная беда которых — они не могут закончиться. Настоящее
произведение искусства заканчивается быстро, настоящий стих длится недолго,
настоящая поэма ограничена во времени и пространстве, а настоящий роман —
все-таки это роман на пятистах страницах, а не бесконечный текст Джойса,
вспомните «Улисса». Он говорил: «Мой идеальный читатель должен отдать
мне всю свою жизнь». «Как бы не так!» — ответим мы и будем абсолютно
правы. Зачем отдавать Джойсу, его несчастному «Улиссу» всю свою
замечательную, неповторимую, единственную жизнь?! При этом как-то нужно
быть с современной литературой, особенно учитывая, что не слишком большой
234
процент, но все-таки читает ее. Я, конечно, имею больше дело со студентами, а
студенты в современном литературном процессе ориентируются неплохо. Не
думаю, что я предложу сейчас какой-то идеальный рецепт. Но мне кажется, что,
используя более-менее высокие современные (в широком смысле слова) тексты, в данном случае зарубежной прозы, можно вытеснить влияние или снизить
влияние и вытеснить агрессивное воздействие совсем плохой литературы. Поэтому я предлагаю вам размышление на тему, что чем вытеснять. Это экспромт,
и в нем есть легкая необязательность, но все-таки.
Наверняка вы знаете, что сегодня очень популярна литература
упрощенной дидактики, литература смягченного поучения. Таких книг много.
Вы видели у детей книги бразильского писателя Пауло Коэльо. «Алхимик»,
«Пятая гора», «Вероника желает умереть», «Одиннадцать минут», «Книга
воина света»... «Алхимик» неплох. Но когда книг Коэльо шесть-семь, я
называю это «спасение в трамвае». Сел в трамвай, три остановки проехал, пять
остановок проехал, почитал, вышел слегка просветленным, — в принципе,
неплохо. Есть и хуже. Есть еще Ричард Бах, американец, тоже неплохо. А есть
еще Кастанеда, который не совсем ясно, чему учит, какому опыту. Но эта
дидактика мне кажется несколько прямолинейной, — ведь не случайно почти
во всех книгах Пауло Коэльо возникает мотив счастья в финансовой
состоятельности. Вспомните «Алхимика». Там герой, который шел за чудом, за
собственным сном, за мечтой, в конце концов, обретает некий денежный
эквивалент своего счастья. А это, согласитесь, небезопасная дидактика.
Предложите детям вместо Пауло Коэльо Германа Гессе.
Герман Гессе — немецкоязычный писатель, который всей своей жизнью
шел к дидактике, соединяя учения Востока и Запада, соединяя принципы самых
разных философий. Да, он эклектичен, но у него есть жизненный опыт, есть постоянное преодоление суицидальности. Суицидальность — страшная проблема
современного мира. Процент самоубийств в России вам известен наверняка не
хуже, чем мне. Он страшный, этот процент, среди молодежи особенно. Гессе,
который раза два или три был на границе небытия, границу, в общем-то,
переходил в обратном направлении. Например, текст под названием
«Демиан» — о взрослении молодого человека — не самый простой и не самый
предсказуемый, но очень неплохой, способный подсказать молодому сознанию,
почему нельзя туда, откуда нет возврата. Или текст под названием
«Сиддхартха». Сиддхартха — это имя Будды, но у Гессе Сиддхартха — не
Будда, а некий параллельно двигающийся человек, который в эпоху Будды
переживает собственное просветление, приходя к учению о любви. Как вы
помните, Будда сказал, что последнее искушение — искушение любовью.
«Лишь тот свободен, кто преодолел любовь».
Кстати, серьезное искушение Запада — не ислам. Ислам наступает
числом. Франция или Германия столкнулись с этой реальностью, которая будет
только усиливаться. А в идейном плане Запад не под исламом, не под Кораном,
который слишком жесток для западного человека, а скорее, под таким странно
мутирующим учением Будды, где и «пустотность», и замирание, и отказ от
рождения. Ни для кого не секрет, что когда западная женщина рожает первого
235
ребенка, мусульманская ровесница рожает уже седьмого или восьмого. А что
будет дальше, можно представить себе. Одним словом, буддизм, который
проявляется в отказе от каких-то бытийных, житейских моментов, в
стремлении к отказу от суеты, а вместе с ней к отказу от страданий, а вместе с
отказом от страданий к отказу от самой динамики бытия, наступает. И Гессе
хорош тем, что он проходит по узкой грани между буддизмом и христианством
и приходит к истине в любви. Будда говорит, повторю: «В Аду сгорают от
ненависти, в Раю сгорают от любви». Слишком многие в современной
словесности и Запада, и России с этой мыслью согласны. Горение в любви —
столь русский процесс и столь всемирный процесс в классике — сегодня, к
сожалению, не слишком очевиден.
Я отношу к дидактике и книгу, некогда очень сильно действовавшую,
сейчас почти забытую, — помните, был такой Дэн Браун: «Ангелы и демоны»,
«Цифровая крепость», «Код Да Винчи». Для меня Дэн Браун — симптом и
проект. И для многих так же. Книга Дэна Брауна написана неряшливо, я бы
сказал, писателем, плохо владеющим словом. И Дэн Браун не скрывает, что он
не особо мощный писатель, но из Дэна Брауна сделали проект. Он написал
текст, которым пытался показать, что все западное христианство и
христианство в целом — обман, Христос был женат. Мария Магдалина супруга
Иисуса Христа, у них были дети, а плохие церковники все это взяли и оболгали,
поэтому есть тоталитарное католичество и тоталитарное христианство, а есть
истинное христианство, которое погибло в неистинном католичестве.
Белиберда, прошу прощения за сниженную лексику. Но что происходит
дальше? На всех возможных сайтах, новостных и культурологических, в
прессе, а также в книжной индустрии возникают тексты, поддерживающие и
объясняющие Дэна Брауна. И это действует, я это видел по студентам.
Студенты говорят: «Дэн Браун впервые открыл нам правду, он сообщил нам о
том, что действительно настоящий Иисус не тот, которого знаем мы, а тот,
которого спрятали, закрыли со всеми его истинными писаниями». Получается,
что Дэн Браун — настоящее христианство, а настоящие христиане не знают о
том, кем был настоящий Христос. В чем здесь опасность? Опасность в том, что
литературный текст, к тому же плохой литературный текст, выдается за
историческую правду.
На мой взгляд, в литературе опасности не то чтобы нет (ведь можно сойти
с ума и от «Красной Шапочки»!), но все-таки большой опасности нет, литература чиста по своей сути. Настоящая литература даст читателю шанс выжить,
выдержать, спастись, или просто сохранить свою душу. А вот та литература,
которая начинает врать, пытается представить себя исторической правдой,
неким знанием об истине, как делает Дэн Браун или как делают с ним, такая
литература есть массивный небезопасный обман.
То же самое, кстати, случилось, если вы знаете, с недавно
опубликованным древним текстом под названием «Евангелие от Иуды». Там
говорится о том, что Иуда Искариот был соратником Иисуса Христа и принес
себя в жертву как самый посвященный ученик. Этот текст написан гностиками,
были такие любопытные и интересные еретики (П-Ш век, Восток), и эта идея
236
давно известна. Но тут начинают говорить о том, что наконец мы узнаем
правду. Да не в правде дело! Просто энное количество веков назад
существовала околохристианская (не христианская) община, которая считала,
что Христос и Иуда — в едином договоре, а все остальные ученики правды не
знают. Но это частное суждение частной секты, а разные СМИ пытаются
показать, что это и есть истинная правда. Одним словом, страшно, когда
литература, оставаясь, по сути, литературой, начинает быть чем-то иным.
Большая полемика, я в ней принимал тоже активное участие, вокруг столь
близких нам текстов, как роман Булгакова «Мастер и Маргарита» и поэмы
Юрия Кузнецова «Сошествие в Ад» и «Путь Христа». Многие пытаются
доказать, что Кузнецов и Булгаков ошиблись, а некоторые (не буду называть
имена, не все, к сожалению, живы) говорят, что эти тексты — сущая ересь.
Читать Булгакова — нельзя! Читать Кузнецова — нельзя! И многие авторы
придерживаются мнения, что раз Кузнецов коснулся образа Христа, то он впал
в апокриф, а апокриф — это некое ненужное, ложное, тайное знание о Христе.
Его трогать нельзя. А уж Булгаков... Там Воланд есть. Но почему роман любят?
Роман-то любят не за сатанизм, а за то, что в романе с максимальной
честностью выражен дух тех лет — двадцатых-тридцатых годов прошлого века,
когда иначе и невозможно было приблизиться к Богу, когда вся страна впала в
некую ересь, если уж с позиций православия смотреть на тот советский мир,
рассуждающий о Христе. Поэтому мне кажется, что, когда сюжет остается в
рамках литературы, его стоит понять, простить, или не касаться этих
произведений. Я студентам говорю: «Чувствуешь себя в опасности — не читай
рассказ Андреева "Иуда Искариот"». Ну, не думай много о романе Булгакова
«Мастер и Маргарита», не перечитывай поэмы Юрия Кузнецова. Но если
боишься, что от прочтения текста Булгакова потеряешь веру в Бога, то
непонятно, во что и в кого ты верил раньше. Литература по сути своей не
может забирать веру, она может ее только проверять. И сила души в том и
состоит, чтобы сверить себя с идеалом и понять, что литература есть
литература, а идеал есть идеал.
Не знаю, как школьники, а вот студенты активно читают тексты, в
которых пересказываются евангельские события, причем пересказываются поразному, часто дерзко. Например, роман Жозе Сарамаго «Евангелие от
Иисуса», романы американца Нормана Мейлера «Евангелие от Сына Божия» и
француза Эрика-Эммануэля Шмитта «Евангелие от Пилата» — тексты
неоднозначные, больные тексты. Неплохой и относительно спокойный роман
Мишеля Турнье, французского писателя, посвященный трем волхвам,
называется «Каспар, Мельхиор и Балтазар». Но когда эти тексты читает душа,
склонная спросить себя: «А тверда ли твоя вера?»... Я не думаю, что человека,
ищущего свой путь, смутит текст португальца Жозе Сарамаго, а это «крутой»,
наглый текст, он завершается странной сценой, где все не так. Может, я не
прав, но мне кажется, что когда в секте, в речи подпольного проповедника или
в какой-то кухонной сцене один другого призывает отказаться от веры, то это
кощунство. В литературе же есть некий простор, который позволяет автору
рисковать. Конечно, риск — всегда риск, и нет никаких гарантий. Но дает ли
237
литература гарантии? Возможно, в этом отсутствии гарантий литература и
сохраняет свою настоящую свободу, а читатель, чувствуя свободный порыв
автора, ищет свою свободу в качестве ответа? Но это, конечно, под вопросом.
Все вы знаете, как популярны массовые любовные или женские романы.
Наверное, нет в них ничего дурного. Мало я их знаю, но вижу, что когда об
этих романах говорят, лица полны не любовью, а пересказом и какими-то
чувствами, в которые трудно влюбиться. Дайте детям вместо сериальных
женских романов классный роман Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы»,
текст, который прослеживает любовь двух латиноамериканцев от 17 до 80 с
лишним лет. Это не наш текст, даже не христианский, наверное. Он не без
эротики, не без тончайшего юмора, даже черного, в конце концов, но это роман,
который делает любовь силой, в которую можно поверить. А это ведь важно.
Или, скажем, популярный у молодежи сербский писатель, специалист по
русской литературе, православный человек, очень уважающий компьютеры, а
ему 80 лет — Милорад Павич. Называется сборник «Страшные любовные
истории». Короткие рассказы, не претендуя ни на какую дидактику, просто
позволяют пережить момент встречи с чем-то интересным, нестандартным. А
разве любовь стандартна? Разве любовь ограничивается какими-то рамками,
формами и дидактическими сценами? Конечно, нет.
Все мы знаем, как популярны книги о преступлениях, детективы, которые
лежат на полках какими-то массивными красочными кирпичами, эти
бесконечные современные авторы, которые дают нам пустоватые книги.
Может, стоит посоветовать почитать о преступлениях более интересные
тексты, психологические, тексты высокого качества? Например, очень
странный японский писатель Юкио Мисима. Да, он закончил жизнь харакири,
стал самурайским героем в 1970 году, когда Япония уже и не вспоминала о
самураях. Да, он был мрачным декадентом, но «Золотой храм» — это
удивительный текст о том, как тяжело общаться человеку с красотой. А если
мы вспомним, что японская литература в зависимости от Достоевского, а
Достоевский проверен нами, наверное, «от и до», то, видимо, стоит узнать,
почему весь мир считает Мисиму одним из лучших писателей Востока в XX
столетии. Можно почитать еще японского писателя Акутагаву, мастера
короткой новеллы. Ведь часто бывает так, что на роман нас не хватает, а
прочитаешь рассказ, и импульсы короткого текста поражают насквозь.
Почитайте рассказ Акутагавы «В чаще». Это и пространственный образ,
действие происходит в чаще, и это чаща нашего сознания. В рассказе есть преступление, и есть три его версии. Изложив их, автор ставит точку. Текст о том,
что многие живут в мире, в котором нет истины, а есть только речи об истине.
Есть слова о реальности, а сама реальность находится «в чаще». Кто-то,
наверное, скажет: в этой чаще живем и мы. Но многие скажут: да нет же, все
совсем иначе. Рассказ хорош, и мысль рассказа интересна, но с такой мыслью
жить нельзя. Это называется негативным катарсисом, суть его заключается в
следующем: мы находимся в унынии иногда, наш мир нам видится в серых
тонах, мы устали от обыденности, которая «достает», наверное, каждого в свой
час. И вот мы берем текст — яркий, суровый, жестокий, непредсказуемый.
238
Берем с опаской, читаем его, видим, что на фоне этого дикого текста наша
жизнь «очень даже ничего» и возвращаемся из книги в жизнь с чувством любви
к этой обыденности, которая теперь уже стала переносимой. Да, это путь
непростой. Это путь, наверное, с долей большого риска. Но, честное слово, есть
такие люди, которые, прочитав мрачный текст, зажигаются серьезным оптимизмом, потому что действие текста, по своей сути, непредсказуемо. Это действительно так, хотя, конечно, чем больше нравственных текстов, чем больше позитивных героев, чем больше какой-то ненавязчивой дидактики просветления,
тем, конечно, лучше.
Многие сидят на дешевых триллерах. Все эти вампиры... Такое
ощущение, что без вампиров мы не справились бы ни с чем. Но, может, стоит
вместо дешевых триллеров взглянуть на триллеры хорошие? Скажем,
современный английский, классик Джон Фаулз, его романы «Коллекционер» и
«Волхв» — непростые тексты, и маньяки там есть, но как-то он перерабатывает
и их усилия, и их маньячество. Или взять роман итальянского писателя и
преподавателя Умберто Эко «Имя Розы». Это пример романа, который, оставаясь очень умным, где-то слишком умным, в то же время очень богат сюжетом,
событиями. И детектив там есть, и элементы триллера тоже есть. Любят дети
компьютеры, любят сильно: полстраны, а может и больше, сидит в
виртуальном мире. Может быть, стоит сказать: вот писатель из Сербии
Милорад Павич обожает компьютеры, компьютерную литературу и создает
свои рассказы и романы по типу компьютерных игр. Непростые это вещи —
романы Павича «Хазарский словарь», «Пейзаж, нарисованный чаем»,
«Последняя любовь в Константинополе». Но меня удивляло, что дети,
студенты, не слишком склонные к чтению, к преодолению сложностей в
чтении, читают Павича. Говоришь им, что его сознание, полное виртуальности,
действительно интересно, и с ним неплохо побыть хотя бы недолгий срок.
Фэнтези. Давно уже вышли за пределы книг и герои Толкиена, и Гарри
Поттер, который уже стал героем повседневности. Но ведь есть в современной
литературе то, что очень напоминает фэнтези, например совершенно
феноменальный роман колумбийского классика Гарсиа Маркеса «Сто лет
одиночества». Но это не просто фэнтези, это фэнтези с элементом семейного
романа, с элементом духовного текста, фэнтези с элементом удивительного
психологизма, и текст затягивает в себя читателя. Есть и фанаты романа. Быть
фанатом Гарри Поттера, по-моему, слишком просто. Быть фанатом романа
Маркеса, если уж придется быть чьим-то фанатом, хотя и не стоит быть ничьим
фанатом в литературе, все-таки перспективнее. Ты пойдешь дальше, если
будешь читать Маркеса, Кортасара или Борхеса.
Известно, что тексты, которые дают намек на депрессию автора, как правило, имеют большую популярность. Почему? Как объяснить, что каждый из
нас прекрасно знает, что шекспировский Гамлет к концу спектакля умрет, он не
может не умереть, что умрут все, всех вынесут: Клавдия, Гертруду,
Розенкранца, Гильденстерна, Офелию чуть раньше, кого-то позже, — всё, сцена
пуста, но, зная сюжет, мы идем, сидим и смотрим? Одна постановка, другая,
экранизации Гамлета каждый год, каждый театр ставит. Почему такая
239
привязанность к пессимистическому тексту? Или Ромео и Джульетта — они
ведь, в конце концов, погибают, ему 16, ей 14, — а мы смотрим, думаем,
чувствуем. Наверное, дело здесь не в факте гибели героев и даже не в
пессимизме автора. Это действует тот самый катарсис, который есть очищение.
Он действует таинственно, и в этой таинственности есть какая-то великая сила
искусства, когда, рискну сказать, депрессия депрессию вытесняет. Иногда мне
кажется, что школьнику, которому не слишком хорошо, можно дать
стихотворение Бодлера, которому было еще хуже, и эта встреча двух «плохо»
сделает одно «хорошо». Это, конечно, не аксиома, и я не ручаюсь, что это так,
но я видел массу примеров, когда текст, преисполненный пессимизма, вдруг
создает некую полноту, и в этой полноте появляется свет красоты, который
вытаскивает человека из действительно серьезной депрессии.
В заключение еще раз скажу, что при всех довольно высоких словах,
конечно, писателей уровня Хемингуэя, Шолохова, Леонида Леонова или
Фолкнера в современной литературе нет. Чуть мельче, чуть хуже. Но все равно
это литература, и поэтому она терапевтична не в медицинском смысле, а в
смысле психологическом.
240
А.В. Татаринов*
Проблемы современной литературы: концепция
Претензии к современной художественной литературе слышны часто. Современная литература перестала решать нравственные задачи, вышла из пространства художественной дидактики. Она слишком пессимистична, заставляя
читателя останавливать взгляд на мрачных сторонах существования. Современная литература не способна предложить героя, которого мы привыкли
называть положительным. Слишком инертна и бедна по сравнению с другими
формами культурного сознания. В ней много разных версий и деконструкций,
но мало жизненной правды. Современная литература, соблазненная западными
технологиями, изменила национальным традициям, перестала быть русской.
Великая литература прошлых веков не сделала русскую жизнь светлей, а литература, свободная от истинных художественных потрясений, и тем более не
сделает. Совсем нет гениев, исчезли творцы, готовые умирать за собственные
сюжеты; одни игроки и ремесленники.
Эти претензии – в контексте общего недовольства литературой как родом
деятельности, объединяющей писателей, простых читателей и литературоведов.
Литература – дело несерьезное, зыбкое и небезопасное. Религия, например, дает устойчивые формы нашим моральным чувствам, предостерегает от ада, обещает рай; литературные пространства – сплошная неконкретность. Все большие писатели – несчастные люди, много у них психических болезней, слабая
выживаемость, суицидальность – на высоком уровне. Будет ли счастлив читатель в общении с несчастным гением? Литература, если относиться к ней серьезно, плодит мечтателей, отлетающих от реальности; наш мир нуждается в спокойных рационалистах, способных не смешивать временный культурный досуг
с постоянной включенностью в здоровую действительность. Литература – пространство, в котором прячется недобитая интеллигенция, вечно недовольная
усилением государства и теми простыми эпосами, которые государство проповедует. Литературный человек – аутист, маргинал, путаник и пустотник, который не сможет превратить жизнь в эффективное служение – идеям и корпорациям; да и любовь к Отечеству у литературного человека какая-то вялая, с
вопросами. Литература – не идеология с четкой системой ценностей, не философия – с очерченным контуром мировоззрения, не история – с понятной системой священных событий, не религия – с обязательным ритуалом и привычной нравственной дидактикой. Слишком размыта, слишком субъективна,
слишком фантастична. Литература не приносит денег: ни писателям, ни читателям, ни тем, кто ее преподает, ни тем, кто ее изучает. Литература увлекает
иллюзиями, несуществующими личностями и поступками. Она способна подменить мир, в котором живут все, миром, в котором только ты, и твои любиТатаринов Алексей Викторович – доктор филологических наук, завкафедрой зарубежной
литературы КубГУ
*
241
мые герои – призрачные имена, приснившиеся писателям. Архаичное занятие
для аутсайдеров, которым не хватает силы и ума для эффективной практики
жизни. Литературоцентричный человек – беспочвенный романтик, сотканный
из цитат, из речей, которым нет применения.
Как ответить современному миру, пытающемуся вымести литературу из
образовательного процесса, сделать ее смешной на фоне разных позитивных
дел, представить бесперспективным арьергардом гуманитарной армии? Читать, думать, говорить, писать. Мыслить без страха показаться смешным и неактуальным. Действовать, быть активным – в согласии с динамикой художественного чувства, знающего и свои этические законы. Быть счастливым в сопричастности словесному искусству. Не ради искусственного результата (оценка, ученая степень, похвала удивленных собеседников), а для присутствия в
мире – человека, способного сделать жизнь интереснее одним явлением своего
сознания, которое открыто для диалога и лишено стандартных схем управления/подчинения. Есть смысл не презирать современную речь, отмахиваясь от
нее надоевшим словом постмодернизм, а стремиться к качественной оценке
литературы наших дней. И хорошо бы помнить о том, что если литературный
процесс – тотальное нисхождение, движение от мощного и непотворимого к
кризисному и вторичному, то сама филология рискует стать чем-то музейным,
возможно, обреченным на вымирание. Тем, кто причастен к анализу текста и к
истории процессов, с текстом связанных, стоит задуматься об апологии литературной современности, какой бы иной, в сопоставлении с классикой, она ни казалась. Этот шаг не скроет тех проблем, которые действительно существуют. И
еще одно замечание, основанное на опыте: тот, кто часто обращается к текстам,
создаваемым сегодня, практически не сетует, не скучает, не жалуется на снижение уровня. Основные жалобы – от тех, кто читает мало, предпочитая понимать и судить без знания.
Теперь о проблемах.
Децентрация отличает современный литературный процесс. В нем легко
увидеть маргинальность, эпизодичность и необязательность. Нет консолидирующей фигуры, вокруг которой мог быть образован диалог, который нельзя отменить. Такой фигурой не является ни Гарсиа Маркес, ни недавно ушедшие
Сэлинджер или Павич. Такая же ситуация и в русской литературе. Высок авторитет, допустим, Распутина или Белова, но они имеют лишь косвенное отношение к современной литературной ситуации. Публицистика интересует их больше, чем поэтика. Нарастает ощущение факультативности каждого художественного текста. Трудно не прочитать, допустим, Коэльо, книги о Поттере или
романы Дэна Брауна, потому что все читают и говорят, но это не совсем литература. Нет литературных направлений и школ, способных бороться за созданную ими эстетику. Тому, кто помнит о литературных спорах «серебряного века», о теургических контекстах поэзии и прозы, сейчас может стать скучно.
Есть очевидная зависимость от экономического фактора, от массовости. На
первом плане - не читатель, а покупатель, не обсуждение, а потребление. Видна
ставка на формальный успех, внешняя обреченность интеллектуального текста – не тайна, стоит только посмотреть на тиражи. Проектность в литератур242
ном процессе – на должном уровне. Трудно скрыть писателю мечты о связи с
газетами, с Интернет-ресурсами, с телевидением, прежде всего. Превращение
писателя в СМИ-личность решает много имиджевых и житейских задач: именами Быкова, Ерофеева, Слаповского, Иванова, Проханова, Прилепина список
претендентов на превращение не ограничивается. Заметно, что литература часто хочет быть другим искусством, желает превратить текст в кинопроизведение. Присутствие литературности в мире усиливается за счет беллетризации
кинематографа: «Идиот» и «Мастер и Маргарита», «Братья Карамазовы» и
«Доктор Живаго». Сначала роман превращается в фильм, потом радуется книготорговля: классические произведения хорошо продаются еще и потому, что
на обложках фотографии любимых актеров. Сегодняшний мир любит, когда
воображение читателя поддерживается и координируется рядом кинообразов.
Уже нет ничего странного в том, что популярные книги быстро становятся
компьютерными играми. И даже такой значительный писатель, как Милорад
Павич, считал, что это закономерно и хорошо. Активным читателям сербский
писатель предлагает роман-словарь («Хазарский словарь»), роман-кроссворд
(«Пейзаж, нарисованный чаем»), роман-карты Таро («Последняя любовь в Константинополе»).
Часто отмечают кризис самобытного сюжета, отсутствие события. Динамичная фабула стала уделом массовых жанров, будущих экранизаций. «Трилогия» («Путь Бро», «Лед», «23000») Владимира Сорокина – самый контактный
текст писателя, пишущего так, «чтобы бумага дымилась», но и жажда наладить
диалог с Голливудом в этом гностическом фантэзи очевидна. Порой кажется, и
не без основания: массовая литература – фабула, серьезная литература – речь,
мысль, искусство монолога и диалога. С этим могут согласиться те, кто знаком
с романом Леонида Леонова «Пирамида», который создавался полвека и был
напечатан в 1994 году: речь разрывает границы романа, превращает художественный текст в трактат; чем серьезнее задачи, тем больше проявляется ослабленность сюжетного действия, вплоть до исчезновения событийной динамики
ради историософии или художественного богословия. Кризис события (в его
социально-историческом ракурсе) в западной литературе еще значительнее, чем
у нас. Там мысль о конце истории как-то органичнее воспринимается – в силу
внешнего, общественного благополучия и уровня жизни. У нас был распад
страны, катастрофа целостности, возвращение былых традиций, конфликт
идеологий. Все это активно переживается и обсуждается в произведениях Личутина и Крусанова, Проханова и Быкова, Маканина и Пелевина.
Событием может стать не поворот фабулы, а индивидуальное мироздание
писателя, его художественная модель мира, авторская поэтика. Событие - творческий стиль; не пересказываемая фабула текста, а неповторимость данной литературности. Милорад Павич – событие поэтической, непредсказуемо гротескной речи (в рамках романа или рассказа), в которой фабула растворяется в
художественных парадоксах, выстраиваемых по логике сновидения. Пересказать вроде бы нечего, но пребывать в этом мире, где возможен словарь хазар и
внутренняя сторона ветра, интересно. Милан Кундера – явление философствующего сознания, озабоченного освобождением себя от агрессивной суеты,
243
сопричастностью невыносимой легкости бытия, пребыванием в неспешности и
подлинности. Владимир Сорокин – событие немотивированной жестокости человеческого существа, которое призвано развеять и миф о гуманизме, и миф о
духовной силе литературы в той мрачной повседневности, которая открывается
в дне опричника или пути Бро. Мишель Уэльбек – художественная концепция
неизбежного и логически обоснованного конца человечества, растерзанного
желаниями, комплексами и усталостью от неразрешимости главных проблем
жизни. Захар Прилепин – образ укрепляющегося самосознания молодого героя,
который выбирает быть, любить, защищать – не потому, что идеи так диктуют;
сама жизнь в сознании персонажа требует служить ее созидательной простоте.
Умберто Эко – игровая, но сохраняющая серьезность литературная проповедь о
верных и ошибочных формах миропознания; введение в семиотику, не без элегантности ставшее романом. Виктор Пелевин – бесконечно повторяющееся
опустошение всех устойчивых реальностей; утрата границ между сознаниями,
явлениями, историческими фактами, при сохранении неизменного интереса к
образам дикого гламура и смеховой реакции на зависимость человека от мыслей, чувств и предметов.
Значительное событие всегда эпично, и тогда, когда происходит в границах
небольшого стихотворения. Пример увеличения внутреннего масштаба при сохранении лаконичной формы в современной литературе – поэзия Юрия Кузнецова. Но это исключение. Каким бы субъективным, бытовым и семейным ни
был сто лет назад Василий Розанов, он практически всегда поднимается до
эпической серьезности, и, когда говорит православию «да», и, когда говорит
православию «нет», и в размышлениях о поле и браке, и в комментариях к
судьбам русских писателей. Эпос – не только признак жанра, прежде всего,
эпос – образ существования личности, преодолевшей суетливость и мелочность. Вот с этим сейчас часто возникают проблемы. Пытается быть эпическим
писателем Дмитрий Быков («Эвакуатор», «Оправдание», «ЖД»), но внутренне
сильная форма требует внимания, пауз, умения ждать, а Быкова опять ждет газетная статья или телевизионная камера. В итоге, диагноз времени: публицистика пытается замаскироваться под философию, но остается газетножурнальным дискурсом. Возможно, новый эпос (в первом, очевидном значении) вырастет под пером Алексея Иванова, пермского писателя, стремящегося
оставаться суровым объективистом в трагических отношениях человека и государства, части и целого. Есть в современной литературе и образцы субъективного эпоса, напоминающего литературный удар по тем силам, по которым не
удается ударить в социально-исторической действительности. Таковы романы
Александра Проханова.
В последние годы эпос часто уступает место апокалипсису – инверсии трагического, возвышенно оптимистического сознания в каких-то небытийных
контекстах. Христианский Апокалипсис катарсичен, потому что зло, отпущенное на полную свободу, приводит к последнему кошмару истории, но и перестает быть, не выдерживая испытания постисторическим раем. Современная
апокалиптика иная: усталость и мотивы исчезновения очевиднее катастрофического столкновения добра и зла. Апокалипсис оказывается интуицией, напоми244
нающей своей пустотностью буддийскую нирвану. Это общемировая литературная тенденция: освободиться/успокоиться/угаснуть, лишь бы не суетиться,
не испытывать надоевших страданий. Об этом (совершенно, впрочем, поразному) пишут Пелевин и Кундера, Сорокин и Уэльбек, Бегбедер и Шаров,
Мерль и, из менее известных, Александр Иванченко. Эсхатологизм все сильнее,
а вот очевидность зла, образ сатаны готовы раствориться в неогностической
мысли о том, чтобы мира лучше не было. Именно такую мысль находят противники Леонида Леонова в романе «Пирамида», который является ярким примером трансформации эпического в апокалиптическое. На наш взгляд, Леонова
надо поблагодарить и за титанический труд по созданию тупика Достоевского
(«Пирамида» - додумывание до самого последнего конца небытийности его
многих героев), и за диагностику современной культуры. Конечно, эта благодарность не мешает нам признать, что «Пирамида» - темный, тяжелый, мрачноагрессивный текст, но способный запустить у современного облегченного человека механизм мысли о главном. И снова исключение – Юрий Кузнецов, с собственным апокалипсисом (поэма «Сошествие в ад»): здесь за антибытийные
тенденции в границах экспрессивно-публицистической поэтики горят и древние философы, и современные политики.
Леонов, Кузнецов, Проханов – национально ориентированные художники.
Но поиск национально значимого – не самая перспективная тема в современной
литературе. Отсутствие национального самолюбия кочует из текста в текст.
Орхан Памук – самый известный в мире турецкий писатель, но в самой Турции
отношение к Памуку весьма непростое: слишком критичен к своему, слишком
открыт западному. В современной русской литературе критицизм по отношению к национальном архетипу - константная проблема. К ней обращены тексты Войновича, Ерофеева, Кабакова, Аксенова, Быкова, Толстой. Многих пугает, и не без оснований, отсутствие любви к той земле, на которой живут и творят. Но, надо признать, что любовь в современном литературном процессе занимает не самое видное место. В жанре антиутопии, который сохраняет стабильное влияние, много остроумного, гротескного, политически актуального;
любовь здесь не востребована. Логично, что даже пустотно-холодный, нарочито экспериментальный Владимир Сорокин нашел себя в этом типе повествования («День опричника», «Сахарный Кремль»). В западной литературе есть пример осторожного возвращения к традиции в рамках состоявшейся антиутопии:
роман британца Джулиана Барнса «Англия, Англия». Остается в памяти Россия
Владимира Шарова: в романах «Репетиции», «До и во время», «Воскрешение
Лазаря» герои наращивают человеческие страдания в контексте русских революций, чтобы Бог быстрее решил завершить историю этого несовершенного,
неудачного мира.
С конца 80-х годов прошлого века российский читатель привык, что одна из
главных миссий литературы – разоблачение тоталитаризма, который можно обнаружить везде, где есть та или иная надличностная система. С одной стороны,
антитоталитаризм – общий принцип литературной поэтики, предлагающей модель диалогических отношений. С другой стороны, специальная миссия современной литературы: освобождение от самых разных зависимостей. В станов245
лении этой тенденции без парадоксов не обходится. Например, Пелевин и Бегбедер уже который год освобождают читателей от власти гламура и безобразий
рекламной цивилизации. Но поэтика подобных текстов не мыслима без разрастающегося рекламного слогана. Борьба с деспотизмом не ограничивается литературным развенчанием сталинизма как символического государства-людоеда,
о чем можно прочитать у таких разных писателей, как Солженицын и Рыбаков,
Горенштейн и Аксенов. Современная антитоталитарная мифология прямо или
косвенно бьет по теологической модели мира, считая, что наиболее последовательно людская несвобода проявляется в религиозном, монотеистическом сознании. Гуманистическое богоборчество выдает себя за знакоборчество, за
практическое антифарисейство. Об этом романы Джона Фаулза («Волхв»,
«Червь»), Умберто Эко («Имя розы», «Маятник Фуко»), Паскаля Брюкнера
(«Божественное дитя», «Похитители красоты»). Еще раньше эту идею развивал
шведский писатель Пер Фабиан Лагерквист («Смерть Агасфера», «Сивилла»,
«Мариамна», «Варавва»), считавший, что религиозные комплексы, даже оставаясь в границах мифологического сознания, быстро вернут бессмертную пару
архетипов жертва – палач. В романе Барнса «История мира в 10 ½ главах» не
только деконструируется классическое теологическое мышление, но и утверждается мысль об опасности истории как фабуляции, рождающей фантомы,
убивающей любовь одного человека к другому человеку. Если бы Барнс писал
о дантовской любви, что движет солнца и светила, он бы и ее упрекнул в тоталитаризме. В области художественно-теоретических исканий преодоление
разных идейных монолитов находит место в развитии нелинейных форм повествования. Здесь не только Милорад Павич, веселый борец с пересказываемой фабулой, но и Морис Бланшо, Итало Кальвино, шведский прозаик Корнель, Джон Барт, Ален Роб-Грийе, наш Дмитрий Галковский с симптоматичным «Бесконечным тупиком».
Современная литература любит смех, потому что, по мнению многих художников слова, читатель готов смеяться всегда. Речь идет не о специальных
юмористических текстах, а о поэтике смеха, которая вполне соотносима с драматизмом и упомянутой выше апокалиптикой. Смех сегодня и катарсичен, и
философичен, в нем – страстность, предполагаемое здоровье эстетической реакции, и массовость сюжетного пространства. У Пелевина, например, смех
вполне согласуется с художественной дидактикой дзэн-буддийского образца.
Не всегда понятно, где буддийский коан, где современный анекдот, и эта неясность, неочевидность границ позволяет писателям смешивать восточные погружения с активной ненормативностью уличного маргинала. «Мы не ругаемся,
не материмся, мы демонстрируем свободу от сковывающих нормативов, наш
лексический беспредел, наш озорной смех – знак преодоленных штампов», могли бы сказать многие участники современного риторического процесса.
Смех – и новая форма мужественности, объединяющей ничего не страшно с
более частотным мне все равно. Смех - и реакция на случайность, на неразрешимую трагичность бытия и конечность человека. Такой смех звучит у Луи
Фердинанда Селина («Путешествие на край ночи»), наставника современных
пессимистов, в романах Кундеры, в «Пирамиде» Леонова, в жестоком романе
246
Анатолия Королева «Эрон». Майя Кучерская показывает, что сегодня и православное сознание имеет свое смеховое пространство. «Современный патерик.
Чтение для впавших в уныние» - сборник анекдотов, но в основе жанровой
формы – византийские повествования о жизни монахов.
Трудно говорить о современном герое; мир живет без идеи, радуясь тому,
что героев много, что героя нет. Есть умные пустотники, познавшие тщетность
суеты (тексты Кундеры, Пелевина, Уэльбека), борцы с мировой закулисой и энтропией (тексты Проханова, Крусанова, Прилепина), разные причудливые маньяки (тексты Фаулза, Зюскинда, Брюкнера, Сорокина, Эко, Шарова, Мураками, давно ушедших, но популярных ныне Мисимы, Кортасара, Миллера), готовые интеллектуально обосновать свой особенный путь. Не так уж много качественных изображений судьбы человека, по-настоящему причастного обыденности. Зато нет проблемы найти трикстера. Этот тип персонажа, представляющего гротескную, злую инверсию культурного героя, пребывает во многих
текстах. Современный герой – не Христос; он – Христос плюс Иуда, в итоге –
торжествующая амбивалентность: движение вверх согласовано с движением
вниз. Рок-поэзия часто разрабатывает эту тему негативного героизма погибающих: «в нирвану через ад» («Мастер»), «тем, кто сам добровольно падает в ад,
ангелы добрые не причинят никакого вреда» («Агата Кристи»), «стану морем
света или горстью пепла» («Кипелов»), «куда бы я ни падал, с кем ни воевал,
никто не проиграл, никто не проиграл» («Гражданская оборона»). Иуда в
текстах последних десятилетий появляется часто («Безымянная могила» венгра
Сильвестера Эрдега, «Любимый ученик» Юрия Нагибина, «Се человек» Эрнста
Бутина, «Евангелие от Иуда» польского писателя Генрика Панаса), и это не
безнадежный предатель, отравленный сребролюбием, а друг и соратник Иисуса, нередко тот, кто сознательно ведет на крест ради исполнения плана.
В условиях укрепления неканонических тем и жанров в современной литературе устойчивый интерес вызывает рок-поэзия и рок в целом как явление дионисийское, сочетающее музыку, текст и превращения слушателя в участника
мистерии. Здесь многих подкупает честность субъекта – автора, исполнителя,
страдающего героя, в одном лице. Братья Самойловы, Летов, Кинчев, Цой, Гребенщиков, Башлачев, Шевчук, Васильев работают в современной словесности
никак не меньше, чем Пелевин, Акунин или Прилепин. Литературность - как
интеллигентская поза – отсутствует в феномене рока. Правда падших/павших
героев, не способных отказаться от силы, смысла и света, обжигает сильно. В
современной литературе страсти часто исходят из ума, горение – в рамках интеллектуального плана или запрограммированной игры. Дионисизм, чуждый
имитациям, редкость. Он – кипящая страсть, он есть у Пушкина и Достоевского, Андреева и Бунина. У Ерофеева или Татьяны Толстой, таких лексически/тематически смелых и раскрепощенных, близко нет дионисизма. В рокпоэзии, когда она звучит со сцены и уходит в темный пульсирующий зал, эта
энергия присутствует. Есть и серьезность при сохранении смеха и текстового
лаконизма. Присутствует и трагизм вполне обыкновенной судьбы, и эпический
размах лирической формы. Читателю/зрителю/участнику необходимы те, кто
готов умереть за слово. В самосжиганиях Эдгара По, Бодлера, Лермонтова,
247
Цветаевой угадывается рок. А рок-поэзия, как явление современной литературы
в самом свободном смысле понятия, оказывается и живой памятью о Владимире Высоцком, который - реальнее многих ныне здравствующих писателей и поэтов. В регулярном воспроизведении его образа есть и печаль об отсутствии харизматического лидера в сегодняшней жизни-словесности. Энергия веры в трагически звучащее слово много значит. Плохо, когда она исчезает. Сильный писатель Владимир Личутин, но при чтении «Беглеца из рая» или «Миледи Ротман» возникает мысль о фатальной усталости автора. Ладно бы он не верил в
положительную динамику современной культуры, нет даже веры в значение и
силу собственного слова, которое превращается в жалобу, сетование, унылую
констатацию объемного поражения всей системы добра. Сто лет назад творцы
русского «серебряного века» верили в теургический смысл литературы. Пусть
они во многом ошибались, но словесное произведение представлялось им Делом. Сегодня такой веры значительно меньше.
Часто писатели хотят говорить о религии, прежде всего, о христианстве.
Озадачивает отсутствие религиозных озарений, мистических прорывов, касаний высших апофатических сфер духа. Даже у Пелевина, который не мыслим
без восточных контекстов, не учение Будды, не японский дзэн, а некий попбуддизм, зона обычной безответственности в контексте идей освобождения. Но
и это уже что-то. Мотивы возможного просветления сознания могут действовать в человеке и при отсутствии целостного духовного посвящения и служения. В романе Робера Мерля «Мадрапур» соединение авторского атеизма и
буддийской символики приводит к созданию значительного образа современного миропонимания. Не только ритуализованная теология, но и крепкое религиозное чувство в современных текстах подлежат деконструкции. Это не поэтика бунта (вызывающая в памяти образ Иова), которая делает духовные проблемы значимыми в творчестве Лермонтова, Ницше или Кафки, а некое преодоление метафизики как формы насилия над человеком, обретение мысли о
глубокой ненужности религиозной картины мира. Может, наиболее последовательно эта мысль выражена в прозе Милана Кундеры. При этом о религии
охотно говорят все, даже Бегбедер, творящий свои сюжеты из бесконечного путешествия по ночным клубам. Особым жанром стали литературные апокрифы –
художественные пересказы, трансформации, переложения-версии событий
Священного Писания. В этом проявляется и коммерческий дух сегодняшней
словесности, и тоска по новой встрече с истинным первоисточником, и жажда
сенсации, пусть художественно-имитационной, и мысль об особом статусе текста, который хоть как-то касается сакрального. Подобных произведений очень
много: «Человек из Назарета» Энтони Берджесса, «Евангелие от Иисуса» Жозе
Сарамаго, «Евангелие от Сына Божия» Нормана Мейлера, «Евангелие от Пилата» Эриха Шмитта, «Евангелие от Афрания» Кирилла Еськова, «Мой старший
брат Иешуа» Андрея Лазарчука. Эти многочисленные литературные евангелия – симптом повышенного интереса к повествовательным экспериментам, к
взрывным ракурсам восприятия не нами изреченных истин, и – признак отсутствия по-настоящему цельной идеи, которая сумела бы выстроить свой эпохальный сюжет, Гамлета или Фауста наших дней.
248
Некоторые говорят об апостасии современной словесности – об отступлении
от Бога авторов, текстов, героев. Но миссия литературы заключается не в том,
чтобы иллюстрировать религиозную правду и показывать ее очевидное действие в человеке. Возможно, такой задаче соответствует современный православный роман: «Миссионер» Александра Петрова или «Кто услышит коноплянку?» Виктора Лихачева. Но современный текст, не ориентированный конфессионально, скорее полезен другим: не святого стремится он создать, а от
внутреннего фарисея избавить. Это достаточно высокая миссия – обезопасить
человека от секты как формы мрачной рационализации, когда вера в нечто
оборачивается жизнью в ничто. Современная литература не требует веры, она
направлена на поддержание уверенности в силе разума, который готов наблюдать за интересными иллюзиями, но не собирается превратить их в дело собственной жизни. Вдвойне опасны и нечистоплотны проекты, стремящиеся подать литературное как истинное, исторически достоверное, как это произошло
с романом Дэна Брауна «Код да Винчи». Когда средства массовой информации
стремятся убедить читателя, что в плохом романе, и тематически, и стилистически принадлежащем культуре потребления, наконец-то открывается правда о
Христе, появляется опасность девальвации литературы, используемой криэйторами, ищущими финансово выгодного скандала. Впрочем, человек, серьезно
увлеченный современной литературой, знающий ее мир, сможет сам исцелить
себя от вируса. Литература лжет лишь тогда, когда раздувается от гордыни, пытаясь выдать себя за правду, равную истории, религиозной истине или юридическому закону. Когда литература остается фантазией, открытой для личной
интерпретации самостоятельного читателя, она не знает лжи.
Есть ли у современной литературы свой собственный миф, каким был миф
классицизма, романтизма или экзистенциализма? Говорят о постмодернизме
как о координирующем термине, позволяющем осознать тотальность происходящих в последние десятилетия деконструкций. Но сегодня этот термин не
слишком эффективен в практике отделения одного художественного мира от
другого. Постомодернизм – это Барнс и Галковский, Фаулз и Ерофеев, Бланшо
и Сорокин, Павич и Пелевин, Рансмайр и Шаров, Зюскинд и Соколов, Кальвино и Пепперштейн. Большинство из названных авторов не соглашаются с тем,
что они – постмодернисты. И правильно делают, слишком размыт объем понятия, набирающего массу, поглощающего личности и субъективные техники. И
все же, если допустить, что постмодерн является доминантой многих (но не
всех) литературных практик, то черты его следующие: согласие с концепцией
негативного катарсиса, с косвенной дидактикой текста; недоверие к пафосным
оптимистам и проповедникам; готовность к языковым играм, к лексическим
новациям, к бесконечным сюжетным трансформациям; свобода от классических ритуалов, от реализма как формы служения жизни и искусству; увлеченность эпатажем и возможностью смешения всего и вся в новых сочетаниях, соответствующих духу пустотности, виртуальности каждого образа, который есть
искусство, но не жизнь.
Возможно, самым востребованным мифом современной литературы является Борхес – не жизнь знаменитого аргентинца, рожденного в 1899 и скончавше249
гося в 1986, а внедренный им метод производства литературности. Что есть
Борхес? Интерес ко всем без исключения эстетическим образам и духовным
идеям без признания приоритета и доминирования одного образа или идеи.
Умение создавать симулякровые личности – даже не героев, а повествовательные инстанции, которые могут сходить с ума, гореть и сгорать на виду у спокойного, слегка ироничного автора. Накаченность знаниями, виртуозное владение архетипами, которые вступают в причудливые отношения, составляют немыслимые сочетания. Стремление к экономичности и лаконизму, мечта о сжатии текста в притчу, анекдот или коан, которые при необходимости свободно
трансформируются в роман солидного объема. Недоверие к канонам и нескрываемая увлеченность апокрифами, версиями, которые способны пересоздать
знакомое, сделать его иным, соответствующим другим логикам. Потенциально
многожанровая природа произведения, соединяющего миф и статью, эссе и религиозное исповедание, новеллу и стихотворение. Мысль о том, что все есть
литература (даже богословие), что все великие сюжеты уже созданы, но бесконечность новых сочетаний рожденных слов все-таки оставляет надежду. Не
все в современной литературе есть Борхес, но его действительно очень много.
Что делать литературоведу в контексте представленных нами проблем?
Можно повторять, что классика – хорошо, а постмодернизм – плохо; у нас была
великая литература, а сейчас, мол, кончилась. Если это так, то скоро и литературоведы кончатся, а солидными авторами и текстами минувших эпох будут
заниматься, скажем, музееведы-словесники. Никто не обязывает нас любить
сейчас происходящие художественные события. Когда литературовед в период
зрелости начинает перечитывать Тургенева и Стендаля, Достоевского и Томаса
Манна, перечитывать просто так, это знак качества внутренней филологической культуры. Классика выше современности – по константным прозрениям,
по глубине художественного психологизма, по включенности в архетипы сюжетов, давно ставших своими. Но современный литературный процесс динамичнее, хотя бы потому, что его качество зависит от тех, кто пишет и живет
сейчас, обладая способностью вторгаться в незавершенное, усиливая его звучание. Часто говорят: нет ныне литературного процесса! Темы мельче, писатели
злее, конфликты глупее, герои маниакальнее. Писатель – одинокое сознание,
измученное лавиной образов, с которой надо справиться в тех или иных жанровых границах. Он думает о судьбе ребенка-произведения, подчас совсем не заботясь о том, как на это посмотрят отцы-соседи, решающие собственные проблемы. Писатель эгоистичен, соборность творца в риторике всегда относительна, но критик должен видеть движение там, где есть лишь тексты, старающиеся
заявить о своей обособленности. Если нет литпроцесса, значит, критики и литературоведы занимаются не тем, чем нужно. Значит, не могут они подняться над
своей усталостью и скорбью от видимого отсутствия великого, и посмотреть
как один художественный мир с другим в диалоге пребывает, как рождается
общий сюжет времени, наблюдение за которым имеет смысл не только в рамках науки о литературе. Когда Пелевин превращает общение с гламуром в буддийский коан, а Уэльбек создает романы-апокалипсисы, когда Прилепин ищет
активного героя ради любви к жизни, а Кундера охлаждает читателя мыслями о
250
преодолении ненужных скоростей, когда Проханов воскрешает героический
эпос в условиях информационной цивилизации, а Коэльо готовит новый текст
для быстрого просветления, когда только что ушли Кузнецов и Солженицын,
Павич и Сэлинджер, а Маркес еще жив, - литературный процесс есть. Точнее,
он ждет своего воссоздания – в сознаниях тех, кому не скучно, от самих себя,
прежде всего.
251
СОДЕРЖАНИЕ
А.В. Татаринов
«Современная литература: поэтика и нравственная философия»
как единый текст 3
Раздел I.
Анализ и интерпретация современного художественного текста
С.Н.Чумаков
Гомер и Барикко, или Как сегодня сделать «Илиаду»
6
Ю.В. Гончаров
Испытание «зверем», или Человек эпохи Apocalypsis
(Опыт эссеистского прочтения романа
К. Маккарти «Дорога») 15
М.П. Блинова
Особенности повествовательной структуры постмодернистского детективного
текста (на примере романа
А.Переса-Реверте «Фламандская доска») 21
Г. А. Ветошкина
Вещь и человек в художественном пространстве Ч. Паланика
(на материале романа «Беглецы и бродяги») 27
Е.С. Носикова
Рассказ Х.Л.Борхеса «Deutsches requiem»
в контексте работы Ф.Ницше «Антихристианин» 35
А.П. Фисун
Особенности дискретного повествования
в романе Х. Лунтиала «Последние сообщения» 41
Е.С. Теплинская
Художественная модель человеческих отношений
в романе Дж.Барнса «История мира в 10 ½ главах» 44
В.А.. Поддубская
Буддистская картина просветления в произведении Ричарда Баха
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 50
252
А.П. Муха
О романе Л. Петрушевской «Номер Один, или
В садах других возможностей», или попытка объять необъятное 54
С.В. Ротай
Повествовательные стратегии в «романе-апокрифе»
Эрнста Бутина «Се человек» 62
С.В. Ротай
Идейно-художественный мир романа
Андрея Лазарчука «Мой старший брат Иешуа» 68
Е.Р. Ямалтдинова
Гностическая мысль в романе В. Сорокина «Путь Бро» 74
А.И. Гаврилова
Повесть Михаила Веллера «Белый ослик»
как литературный апокриф
78
Раздел I I.
Сопоставительный анализ современных художественных текстов и
литературных миров
Е.В. Подзюбанов
Путешествие на край ночи: от Бодлера до Бегбедера 83
А.А. Арджанова
Флоберовский код в творчестве Фредерика Бегбедера 86
Т.Н. Марушко
Концепция рекламы в романах
Ч. Паланика «Уцелевший» и Ф.Бегбедера «99 франков» 91
А.В. Хомухина
Невозможность острова: эскапистские мотивы
в творчестве Бегбедера и Уэльбека 95
П.Ю. Коваленко
Сюжетика романа Дж. Джойса «Улисс» в современной литературе 99
Я.С. Жарский
Лейтмотивы как средство сохранения распадающегося мира
в произведениях Джеймса Джойса и Генриха Бёлля 104
253
Э.Л. Балабина
Рассказы Г. Маркеса («Ева внутри своей кошки»)
и Х. Кортасара («Лента Мебиуса») в контексте
магического реализма 108
К.В. Штейнбах
Экстремизм героев Юкио Мисимы и Захара Прилепина 112
О.В. Ивашкина
Г. Сапгир и Л. Рубинштейн: кенозис языка 125
Д.С. Тавакалян
Мортальные настроения в поэзии Ю. Кузнецова
и И. Бродского 133
Раздел III.
Авторские модели мира и теоретические проблемы современного
литературного процесса
Л.Н.Татаринова
Православный роман Виктора Лихачева 141
П.А. Жукова
Продуктивная горечь Юрия Кузнецова 146
А.П. Муха
Павильон невзрачного серого цвета,
или мои размышления о Милораде Павиче 152
А.В. Мусиенко
Поэтика барокко в рассказах Милорада Павича 160
А.С. Коломийченко
Поэтика льтернативной прозы Чака Паланика 166
О.А. Гримова
Онтологичность и дедуктивность поэтики М. Шишкина
(роман «Взятие Измаила») 170
Е.В. Болдырева
Владимир Сорокин: новый русский синкретизм
178
Юсупова Ю.Л.
Джон Фаулз и пространство художественного текста 184
254
М. А. Гурская
«Полезные советы по приручению вещей, времени и пространства» или
«нестрашная смерть» в современной детской литературе
191
Т.Э. Руссо
О ″религии″ Фредерика Бегбедера 201
В.К. Вислогузов
О поэзии Виктора Цоя
205
О.Н. Мороз
Проблема сомнения в творчестве Юрия Одарченко 209
А.В. Татаринов
Проблемы современной литературы: импровизация 223
А.В. Татаринов
Проблемы современной литературы: концепция 241
255
Научное издание
СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: ПОЭТИКА
И НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ
Сборник статей и творческих работ
Редактор А.В. Татаринов
256