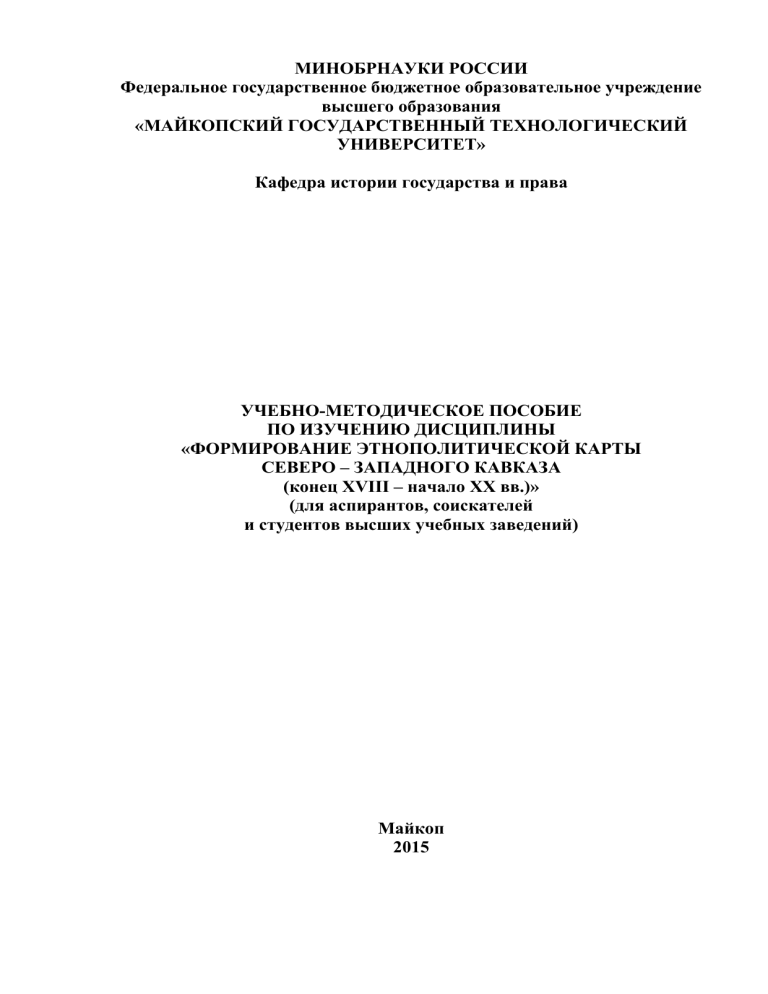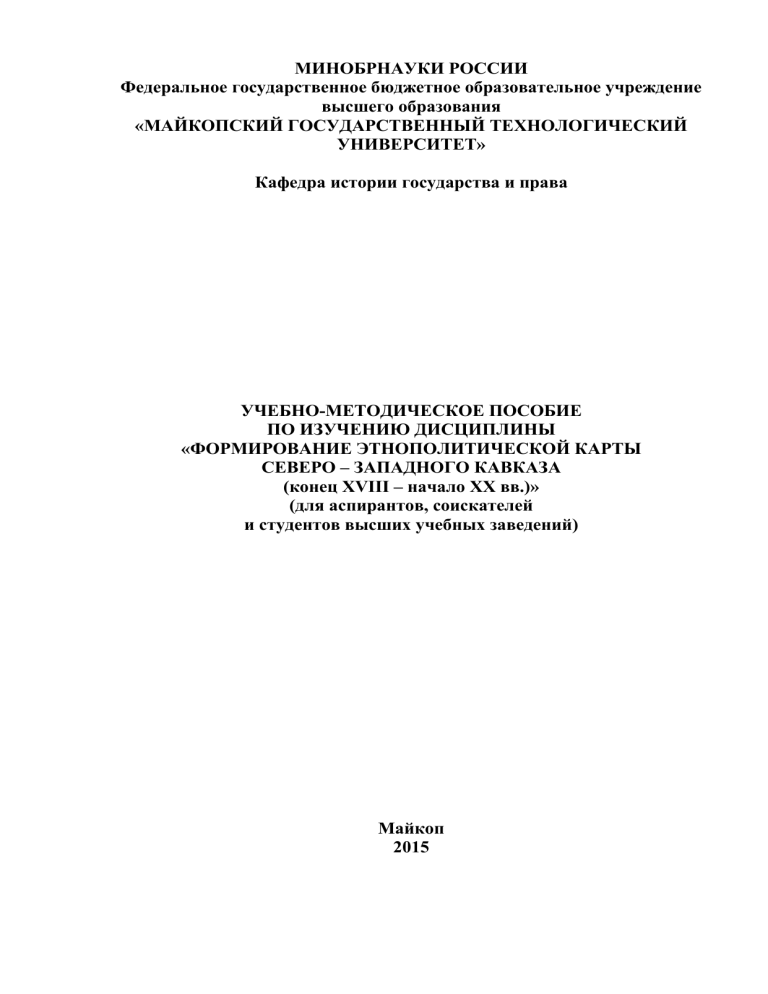
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра истории государства и права
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ
СЕВЕРО – ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
(конец XVIII – начало XX вв.)»
(для аспирантов, соискателей
и студентов высших учебных заведений)
Майкоп
2015
Печатается по решению научно-методического совета ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Составители: Кудаева С.Г.,
доктор исторических наук, профессор
Адзинова З.Ю.,
кандидат исторических наук, доцент
Рецензент:
Учебно-методическое
пособие
по
изучению
дисциплины
«Формирование этнической карты Северо – Западного Кавказа (конец XVIII
– начало 20-х гг. XX вв.)» (для аспирантов, соискателей и студентов высших
учебных заведений).
В пособии рассматриваются проблемы, связанные с трансформацией
этнической карты Северо-Западного Кавказа в ходе и после Кавказской
войны и оформлению административных границ в начале 20-х гг. XX в.
Характеризуются особенности российской колонизации Северо-Западного
Кавказа в процессе включения адыгов в политико-административную
систему Российской империи.
Учебно-методическое пособие адресовано аспирантам, соискателям и
студентам высших учебных заведений.
2
ВВЕДЕНИЕ
Социополитическое
и
социокультурное
состояние
российского
общества в настоящее время характеризуется значительной регионализацией
общественной
жизни.
В
результате
четко
обозначилась
проблема
востребованности истории отдельных народов и регионов, что в немалой
степени
объясняется,
непрерывностью
культурной
традиции,
ее
неизменностью по отношению к смене властей и политических режимов.
Региональная
история
является
частью
исторической
науки,
изучающей национальное или региональное и своеобразие культуры, особые
потребности и интересы в области образования народов нашей страны в лице
субъектов Федерации, в которой важнейший исследовательский акцент
направлен
на
организации,
анализ
исторических
изменений
в
территориальной
природных условий, населения, хозяйства, культуры,
позволяющих вскрыть генезис современных явлений и событий, объективно
оценить исторические корни современных процессов.
Одной из таких проблем являются
1. события XIX в., связанные с присоединением Северного Кавказа
Российской империей привели к кардинальному изменению
этнической структуры Северо-Западного Кавказа.
2. история трансформации этнической и административной карты
региона Северо-Западного Кавказа входе его включения в состав
Российской империи с конца XVIII в. до начала 20-х гг. XX в.
Воссоздание
достоверной
и
достаточно
полной
истории
формирования этнической карты Северо-Западного Кавказа в исследуемую
3
историческую эпоху, выявление главных, узловых этапов этого процесса
представляется необходимым и важным не только с точки зрения
правильного освещения проблем этнической истории народов СевероЗападного Кавказа, но и для понимания многих явлений в современных
национальных процессах.
Актуальность поддерживается и состоянием историографии проблемы
и
обусловлена ее недостаточной разработанностью. О народах Северо-
Западного Кавказа и их культурах создано много исследований но, несмотря
на это, остаются еще «белые пятна» в этой сложной и «тонкой» теме. Вне
должного специального внимания научных кругов региона остаются вопросы
истории формирования и динамики национального состава
Северо-
Западного Кавказа, межэтнического взаимодействия различных народов.
Между тем, научное, практическое и идеологическое значение данной
проблемы
исключительно
предпринималось
попыток
велико.
До
комплексного
настоящего
времени
исследования
не
процесса
формирования этнической карты Северо-Западного Кавказа. В наши дни в
историческом знании все более четко проявляется интерес к истории
вхождения различных регионов и народов в состав России, исследуются их
причины и последствия. В этом плане обращение к такому масштабному и
сложному
явлению,
как
история
трансформации
этнической
и
административной карты Северо-Западного Кавказа в ходе включения
региона в состав Российской империи, способно обогатить складывающиеся
исследовательские подходы и придать большую аргументацию основным
выводам и обобщениям.
Хронологически курс включает в себя исторический период с конца
XVIII в. до начала 20-х гг. XX в. Выбор нижней границы обусловлен тем, что
к этому времени, в основном, сформировалась этническая структура региона
с характерным для него полиэтническим составом при значительном
доминировании адыгского коренного компонента. Верхняя граница связанна
4
с трансформацией этнической карты Северо-Западного Кавказа в результате
Кавказской войны и окончательной интеграцией в состав Российской
империи,
а
также
завершением
административно-территориального
устройства в регионе в 20-е гг. XX в. Эти изменения оказали
непосредственное
воздействие
на
формирование
этнической
и
административной карты Северо-Западного Кавказа.
Целью
изучения
дисциплины
является
изучение
истории
трансформации этнической карты Северо-Западного Кавказа с конца XVIII
до 20-х гг. XX в.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
-
проанализировать
историографический
уровень
исследования
проблемы с целью определения степени ее разработанности, выявление
нереализованных исследовательских возможностей;
- ввести в научный оборот источники, повысить информационную
отдачу традиционно используемых документальных материалов;
- охарактеризовать исторически сложившуюся этническую структуру
Северо-Западного Кавказа к концу XVIII в.;
- выявить внешнеполитические причины и факторы, положившие
начало трансформации этнического состава региона;
- исследовать основные направления политики Российской империи
на Северо-Западном Кавказе и ее влияние на миграционные процессы;
- исследовать переселенческое движение адыгов на завершающем
этапе Кавказской войны и его последствия, отразившиеся на этнической
структуре региона;
- охарактеризовать этническую структуру региона в контексте
административно-территориальных преобразований.
5
I. ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ
Историографический
обзор
свидетельствует
о
том,
что
в
отечественной историографии накоплен опыт изучения истории народов
Северо-Западного Кавказа, отдельных вопросов, связанных с изменением
этнической структуры региона, что позволяет определить круг базовых
вопросов,
общие
подходы
к
теме
диссертационного
исследования.
Сложность и многоуровневость изучения изменения этнического состава
Северо-Западного Кавказа с конца XVIII до начала 20-хгг. XX вв. требует
привлечения
различных
по
направленности
и
насыщенности
историографических
источников.
сложившейся
историографии,
представляется
информационной
Учитывая
характер
целесообразным
сгруппировать имеющуюся литературу.
В первую очередь следует выделить фундаментальные исследования,
посвященные
истории
народов
Северного
Кавказа,
содержащие
значительный фактический и теоретический материал1. Авторами введен в
научный оборот широкий круг источников,
значительно расширяющих
общее представление об историческом развитии народов Северного Кавказа.
Очерки истории Адыгеи / отв. ред. Бушуев С. К. Майкоп, 1957. Т. I; Аутлев М., Зевакин
Е., Хоретлев А. Адыги. Историко-этнографический очерк. Майкоп, 1957; Кумыков Т. Х.
Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX в. Нальчик, 1965;
История Кабардино-Балкарской АССР. 1967; История народов Северного Кавказа / под
ред. А. Л. Нарочницкого. М.,1988. Т. 1, 2; История Адыгеи / под ред. Матвеева О. В.,
Даначева В. Н., Даначева Д. Н. М., 1991; История Абхазии. Гудаута,1993; По страницам
истории Кубани (краеведческие очерки) / отв. ред. В. Н. Ратушняка. Краснодар, 1993;
Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г / под ред. В. Н. Ратушняка.
Краснодар, 1996; Земля адыгов. / под ред. проф. А. Х. Шеуджена. Майкоп, 1996; Край наш
– Ставрополье. Очерки истории. Ставрополь, 1999; Шадже А. Ю., Шеуджен Э. А.
Северокавказское общество: опыт системного анализа. М.,-Майкоп, 2004; Трехбратов Б.
А. История Кубани. Краснодар, 2005; Северный Кавказ в составе Российской империи /
авт. коллектив: Д. Ю.Арапов, И. Л.Бабич, А. А. Цуциев и др. М., 2007 и др.
1
6
Наряду с анализом общих закономерностей и особенностей истории
народов Северного Кавказа в этих работах затрагиваются некоторые аспекты
изменения этнической структуры Северо-Западного Кавказа, связанные с
Кавказской войной, а также интеграцией в состав Российской империи и
формированием
новых
административных
единиц.
Итогом
развития
традиций советской историографии явилась коллективная работа «История
народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в.», в
котором особое место отведено и народам Северо-Западного Кавказа. В
работе рассматриваются вопросы, связанные с численностью и расселением
народов Северного Кавказа, причинами, этапами и ходом переселения
северокавказских народов, а также заселением Северного Кавказа русскими,
украинцами и другими переселенцами, что позволило выявить основные
факторы, повлиявшие на процесс формирования этнической карты СевероЗападного Кавказа.
В отдельную группу целесообразно выделить общие работы, которые
дают представление о состоянии этнического состава региона к началу
XIX в.2 В этих исследованиях, наряду с детальной характеристикой
различных
сторон
жизни
адыгов,
анализируется
информация
о
территориальном и численном составе адыгских субэтносов. Авторы
Броневский С. М. Новейшия Известия о Кавказе, собранныя и пополненныя Семеном
Броневским: в 2 томах: Т. 1, Т. 2 / Подг. И. К. Павлова. СПб, 2004; Хан-Гирей. Записки о
Черкесии. Нальчик,1991; Люлье Л. Я. Общий взгляд на страны занимаемые: Черкесами
(Адыге), Абадзехами (Азега) и другими смежными с ними / Черкесия. Историкоэтнографические статьи. 1990; Берже А. Краткий обзор горских племен на Кавказе.
Нальчик, 1992; Дьячков-Тарасов А. Н. Мамхеги // ИКОРГО. Т. XIV. Тифлис, 1901;
Дьячков-Тарасов А. Н. Абадзехи // ЗКОРГО. Книга XXII, Вып. 4. Тифлис, 1902; Гарданов
В. К. Общественный строй адыгских народов (XVIII- первая половина XIX вв.). М., 1967;
Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII- начале XX в. М.,
1974; Покровский М. В. Из истории адыгов в конце XVIII – первой половине XIX века.
Краснодар, 1989; Бижев А. Х. Абадзехи // Адыги. 1991. № 2; Бетрозов Р. Ж.
Происхождение и этнокультурные связи адыгов. Нальчик, 1991; Его же: Этническая
история адыгов. Нальчик, 1996; Его же: Адыги: возникновение и развитие этноса.
Нальчик, 1998 и др.
2
Покровский М. В. Указ. соч. С. 16.
2
7
исследуют вопросы, связанные с проблемами этногенеза, возникновения
эндо- и экзоэтнонимов, субэтнических названий.
Одними
характеристику
из
первых
размещения,
работ,
дающими
численности,
достаточно
процессов
полную
формирования
субэтнических групп адыгов, дали авторы начала XIX в. С. Броневский и
Хан-Гирей. Ценность работы С. Броневского заключается, прежде всего, в
том, что в его основе лежат сведения, почерпнутые из малодоступных
сочинений, архивные материалы, хранившиеся в Коллегии иностранных дел,
копии указов и реляций российского правительства, дневники и записки
путешественников и другие. В своей работе автор затрагивает вопросы,
связанные с этническими процессами на Кавказе и взаимоотношениями
горцев с соседними цивилизациями.
Работа Хан-Гирея, одного из первых адыгских ученых, помогает ответить на
целый ряд важных для нашего исследования вопросов. Автор, рассматривая
вопросы семейного и общественного быта, культуры, преобразований
внутреннего устройства адыгского общества, дает описание и географии
расселения адыгских субэтнических групп, а также общих границ Черкесии в
начале XIX в.
Внимания заслуживает труд А. Берже, в котором на основе
материалов архива Главного штаба войск, сочинений русских и иностранных
писателей представлен краткий обзор коренного населения Кавказа.
Подробное описание адыгских субэтносов позволяет определить географию
их расселения, численность, а также некоторые аспекты их внутреннего
развития в 40-50-х гг. XIX в.
Значительный вклад в исследование поставленной проблемы внес
М. В. Покровский. Автор дает подробное описание адыгских субэтнических
групп в конце XVIII – первой половине
XIX в., а также выводы о
количественном составе адыгов3. В связи с исследуемой проблемой интерес
8
представляет и работа В. К. Гарданова, который в ходе детального
исследования общественных отношений адыгских народов пришел к выводу,
что в первой половине XIX в. у адыгов происходило смешение и слияние
различных субэтнических групп. Увеличение территории «демократических»
субэтносов происходило за счет «княжеских владений», что не влияло на
общие границы территории, занятой адыгскими народами4.
Для воссоздания достоверной и достаточно полной этнической
картины Северо-Западного Кавказа интерес представляет исследование Н. Г.
Волковой. Автор рассматривает проблемы этнических территорий на
Северном Кавказе в целом в XVIII - начале XX вв., дает характеристику
основным этапам формирования этнической карты в рассматриваемый
период. Наряду с этим в работе имеются сведения о расселении западных
адыгов в конце XVIII – 30-х гг. XIX вв., что позволяет проследить в
динамике изменение этнической карты региона вплоть до начала XX в.
Следует указать, что существует значительное число исследований,
посвященных другим народам, населявшим Северо-Западный Кавказ в
рассматриваемый период, проживавшим среди адыгов (черкесские греки,
4
Гарданов В. К. Указ. соч. С. 46.
9
черкесогаи, горские евреи) 5. Эти работы содержат подробное описание их
социально-экономического, политического и культурного состояния в
период проживания в адыгской среде, а также изменения в исторической
судьбе этих народов в связи с завоеванием края Российской империей. Еще
Ф. А. Щербина характеризовал Северо-Западный Кавказ как полиэтническое
общество, утверждая, что «в среде самих черкесов находились в достаточном
количестве армяне, в меньшем - евреи и греки»6. С. Броневский отмечал, что
за бесленеевцами на черкесских землях живут ногайцы и абазины7.
Существенным шагом в исследовании вопросов истории таких
этнических групп, как черкесские греки, черкесогаи и горские евреи, стал
выход в свет публикаций И. Кузнецова, В. Колесова, Д. Сеня. На основе
архивных документов и материалов авторы охарактеризовали их быт,
самосознание, а также процесс переселения на подвластные Российской
империи территории. В диссертационном исследовании М. С. Симоняна,
посвященном
армянской
проанализирована
история
диаспоре
Северо-Западного
возникновения
своеобразной
Кавказа,
группы
Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1913; Его же:
История Армавира и черкесогаев. Екатеринодар,1916; Микаэлян В. Адмирал Серебряков.
Ереван, 1979; Аракелян Г. С. Черкесогаи // Кавказ и Византия. Ереван, 1984. Т. 4;
Виноградов В. Б. Средняя Кубань: земляки и соседи. Армавир, 1995; Кузнецов В. И.
Понтийские греки. Краснодар, 1997; Абрамян Л. Армения и армянская диаспора:
расхождение и встреча // Диаспоры, 2000. № 1-2; Колесов В., Сень Д. Недолгая история
горских евреев Северо-Западного Кавказа // Диаспоры. № 3. М.,2000; Кузнецов И.,
Колесов В. «Черкесские греки» - идентичность, культура, религия // Диаспоры. М., 2002.
№1; Николаева Н. От Урарту до Адыгеи // Советская Адыгея. 14 февраля 2002; Колесов В.
И. Черкесские греки – кто они? (К проблеме классификации этнической общности) //
Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного
Кавказа. Краснодар, 2003; Симонян М. С. Армянская диаспора Северо-Западного Кавказа:
формирование, конфессиональный облик, взаимоотношения с властью, обществом и
религиозными объединениями (конец XVIII-конец XX в.) / Дисс. на соиск. уч. степ. канд.
ист. наук. Краснодар, 2003; Аракелов Р. К. Очерки топономии Армавира и его
окрестностей. Армавир, 2004; Черкесогаи – уникальный армянский субэтнос // Эл. ресурс.
[httr:// forum/ open Armenia. com index.php? showtopie=19538] и др.
6
Щербина Ф. А. Указ. соч. С. 14.
7
Броневский С. М. Указ. соч. С. 155.
5
10
адыгоговорящих армян – черкесогаев в Черкесии. В работе также достаточно
подробно исследованы вопросы связанные с процессом миграции армян на
территорию
Северо-Западного
Кавказа,
причины,
обусловившие
его;
определены этапы и время переселения, места компактного проживания.
В эту же группу входят труды, посвященные истории ногайцев и
абазин, содержащие информацию о географии их расселения8. Об изменении
территории
расселения
ногайцев
под
влиянием внешнеполитических
факторов в конце XVIII в. пишет М. Сенютин, утверждая, что они
«удалились
большей
частью
за
Кубань»9.
Этой
же
точки
зрения
придерживается и И. Дебу, отмечая, что «по покорении Крыма ногайцы
перекочевали за реку Кубань»10.
Особую группу составили специальные работы, посвященные
локальным проблемам нашего исследования, комплексное изучение которых
позволило в динамике проследить процесс трансформации этнической карты
Северо-Западного Кавказа:
- внешнеполитической ситуации в регионе;
- Кавказской войне и массовому переселению северокавказских
народов и особенно адыгов в пределы Османской империи;
- заселению освобожденных от коренных народов территорий
Северо-Западного Кавказа новыми поселенцами (русскими и иностранными);
Сенютин М. Военные действия донцов против ногайских татар в 1781-1783 годах //
Черкесы и другие народы Северо-Западного Кавказа в период правления Екатерины II.
(1781-1786 гг.) Сборник документов. Нальчик, 2000. Т.3; Дебу И. О Кавказской линии и
присоедененном к ней Чернморском войске, или Общие замечания о поселенных полках,
ограждающих Кавказскую линию, и о соседственных горских народах. (Извлечение) //
Русские авторы XIX века о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа. Т.1.
Нальчик, 2001; Хатисов И. С. Отчет комиссии по исследованию земель на северовосточном берегу Черного моря // Старые черкесские сады. Ландшафт и агрикультура
Северо-Западного Кавказа в освещении русских источников. 1864-1914. / Сост. С. Хотко.
М., 2005. Т.1; Кипкеева З. Б.Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа:
Миграции и расселение (60-е годы XVIII – 60-е годы XIX.). М., 2006 и др.
9
Сенютин М. Указ. соч. С. 242.
10
Дебу И. О Кавказской линии… // Русские авторы XIX в…. Нальчик, 2001. Т.1. С. 73.
8
11
- размещению и интеграции в состав России, оставшейся на СевероЗападном Кавказе части адыгского населения и других народов;
- территориально-административным преобразованиям в регионе в
начале 20-х гг. XX в.
В этом ряду важное место занимают исследования, посвященные
политике европейских держав в борьбе за право преобладания на СевероЗападном Кавказе, последствия которой отразились на этническом состоянии
региона11. Появление монографии А. Х. Бижева явилось значительным
шагом вперед в исследовании этой проблемы. На обширной документальной
основе автор обстоятельно анализирует вопросы изменившегося внешне- и
внутриполитического положения адыгов, влияния очередной фазы кризиса
Восточного вопроса на политику европейских государств в регионе
в 20-30-е гг. XIX в. А. Х. Бижев приходит к выводу, что царское
правительство не видело других методов обеспечения своих интересов на
Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год.(Извлечения).
Нальчик, 2001; Дружинина Е. И. Кючук-Кайнаджирский мир 1774 г. М., 1955; Тхомоков
Н. Х. Укрепление русско-кабардинских отношений в XVIII веке // Ученые записки
Кабардино-Балканского университета. Нальчик, 1960. Вып. 9; Шеремет. В. И. Турция и
Адрианопольский мир 1829 года. М., 1975; Дегоев. В. В. Кавказский вопрос в
международных отношениях 30-60-х годов XIX века. Владикавказ, 1992; Чирг А. Черкесы
в русско-османских отношениях второй половины XVIII века // Россия и Черкесия (вторая
половина XVIII – XIX вв.). Майкоп, 1993; Бижев А. Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и
кризис восточного вопроса в конце 20-х начале30-х гг.XIX в. Майкоп, 1994;
Феофилактова Т. М. Политические отношения России с народами Северо-Западного
Кавказа в период подготовки второй русско-турецкой войны второй половины XVIII в.
(1783-1787) // Россия и Черкесия (вторая половина XVIII – XIX вв.). Майкоп, 1995; Гугов
Р. Х. Кабарда и Балкария в XVIII веке и их взаимоотношения с Россией. Нальчик, 1999;
Дегоев В. В. Большая война на Кавказе: история и современность. Статьи, очерки, эссе.
М., 2001; Клычников Ю. Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840 гг.).
Пятигорск, 2002; Карданов А. Х. Из истории Кавказской войны в верховьях Кубани //
Черкесия. Черкесск, 2004. № 2; Куадже Р. З. Некоторые вопросы колониальной экспансии
царского самодержавия против Адыгеи (Черкесии) // Черкесия. Черкесск, 2004. № 2;
Дегоев В. В. Дипломатическая история Кавказских войн 1 трети XIX века: о методологии
изучения проблемы // Кавказский сборник. Т.3(35). М., 2006; Чеучева А. К. СевероЗападный Кавказ в политике Великобритании и Османской империи в последней четверти
XVIII - 60-е гг. XIX в. Майкоп, 2007 и др.
11
12
Северо-Западном
Кавказе,
сопутствующими
им
кроме
грабежами,
как
а
военными
также
действиями
уничтожением
и
коренного
населения, что повлияло на дальнейшие события, связанные с изменением
этнического состава региона12.
посвященные
К следующей группе относятся работы,
отдельным проблемам Кавказской войны, непосредственно
переселенческому движению адыгов и его последствиям, отразившимся на
этнической карте региона. Первые работы, посвященные этой проблеме,
начали появляться уже во второй половине XIX в.13 Эти работы написаны в
основном участниками и очевидцами событий, освещающих различные
аспекты изучаемой проблемы. Они выражают разные политические взгляды,
часто носят тенденциозный характер. Так, в работах Н. Ф. Дубровина, В. А.
Потто, Ф. А. Щербины, С. Эса-дзе наблюдается оправдание военнофеодальных методов Российской империи, применявшихся при завоевании
Северо-Западного Кавказа. Но, в то же время, они содержат большой
фактический
материал,
позволяющий
проследить
планы
царского
правительства и Османской империи в отношении Северо-Западного Кавказа
и адыгов, которые были нацелены на изменение этнического состава региона.
В советское время проблема Кавказской войны и связанное с ней
массовое переселение адыгов и других народов за пределы своей
исторической родины, кардинально изменившее этнический облик региона,
находилась под негласным запретом. Искажение истории народов Северного
Кавказа в работах этого периода было связано со сложившейся в то время
крайне
догматизированной
системой
исторического
знания,
когда
Бижев А. Х. Указ. соч. С. 324.
Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1888.;
Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1913; Фонвиль А.
Последние годы войны Черкесии за независимость: 1863-64 гг. Краснодар, 1927; Потто В.
А. Кавказская война. Т. 1-5. Ставрополь, 1994; Эса-дзе С. Покорение Западного Кавказа и
окончание Кавказской войны. Майкоп, 1993; Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского
офицера. Черкесск, 1994; Берже А. Выселение горцев с Кавказа // Русские авторы XIX
в…. Нальчик, 2001 и др.
12
13
13
историками осуждалась освободительная борьба горцев северокавказских
народов, и при этом восхвалялась «цивилизаторская миссия» царизма14.
И только со второй половины 50-х гг. XX в. наблюдается
постепенный переход к более научному освещению этого сложного периода
в истории народов Северного Кавказа15. Учитывая, что изменения во
внешней политике России и Османской империи сказывались на состоянии
этнической карты Северо-Западного Кавказа, следует отметить работы
историков А. В. Фадеева, Н. С. Киняпиной, Х. О. Лайпанова и др., где
отражается более объективный анализ сущности и характера восточной
политики царизма.
В последние годы советского периода и в постсоветское время
появляется целый ряд работ, в которых авторы, опираясь на широкую
источниковую базу, дают правдивую оценку историческим процессам
рассматриваемого периода16. Эти работы затрагивают разные аспекты
Багиров М. Д. К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля // Большевик.
1950. № 13; Бушуев С. К. Из истории внешнеполитических отношений в период
присоединения Кавказа к России. (20-70 гг. XIX в.); Тотоев М. С. К вопросу о переселении
осетин в Турцию (1859-1865) // Известия Северо-Осетинского НИИ. Дзиуджикау, 1948. Т.
ХIII; Смирнов Н. А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX веках. М., 1958; Его же:
Мюридизм на Кавказе. М., 1963 и др.
15
Фадеев А. В. Социально-экономические предпосылки внешней политики царизма в
период Восточного кризиса 20-х гг. XIX в. // Исторические записки. М., 1955; Пикман А.
М. О борьбе кавказских горцевс царскими колонизаторами // Вопросы истории, 1956. № 3;
Лайпанов Х. О. К истории переселения горцев Северного Кавказа в Турцию // Труды
Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института. Вып. 5. Ставрополь, 1966;
Киняпина Н. С. Внешняя политика России второй половины XIX в. М., 1974; Ее же:
Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России. М. 1984; Киняпина Н. С., Георгиев
В. А., Панченко М. Т., Шеремет В. И. Восточный вопрос во внешней политике России:
конец XVIII – начало XX вв. М., 1978 и др.
16
Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми,
1975; Аутлев П. М. О причине махаджирства адыгов в XIX веке // Зэкъошныгъ. № 4, 1989;
Думанов Х. М. К вопросу о периодизации Кавказской войны // Черкесия в XIX в.
(Материалы 1 Кошехабльского форума «История – достояние народа»). Майкоп, 1991;
Касумов А. Х., Касумов Х. А. Освбодительная борьба адыгских народов в XIX в. //
Черкесия в XIX в. (материалы 1 Кошехабльского форума «История – достояние народа»).
Майкоп, 1991; Касумов А. Х., Касумов Х. А. Геноцид адыгов. Из истории борьбы адыгов
14
14
исследуемой нами проблемы и позволяют достаточно полно осветить
изменения в этнической карте региона, связанные с освобождением
значительных территорий от автохтонного населения. Из работ советского
периода наиболее крупной является монография Г. А. Дзидзария, в которой
автор, наряду с проблемами абхазского махаджирства, касается общих
проблем переселения
северокавказских
адыгов и абазин. При исследовании эмиграции
народов
в
пределы
Османской
империи
автор,
характеризует его как вынужденное17. Более того, Г. А. Дзидзария четко
прослеживает переселение адыгов на последнем этапе Кавказской войны,
сопровождая материал статистическими данными. Автор констатирует, что
«уже в ходе переселения горцев начинается колонизация их земель»18,
свидетельствуя об изменении этнической структуры региона.
Дальнейшее исследование
последствий
для
автохтонного
проблемы Кавказской
населения
войны и
Северо-Западного
ее
Кавказа
проведено в работах Т. Х. Кумыкова, А. Х. Касумова, Х. А. Касумова, А. Ю.
Чирга,
С. Г. Кудаевой. Наряду с вопросами социально-экономических
отношений и политической истории, в работах достаточно подробно
изучаются формы и методы военно-колонизационой политики царизма. Это
позволяет более полно изучить ее влияние на изменение этнического состава
за независимость в XIX в. Нальчик, 1992; Виноградов В. Б. Страницы истории средней
Кубани. Армавир, 1993; Его же: Российский Северный Кавказ: факты, события, люди. М.Армавир, 2006; Кумыков Т. Х. Выселение адыгов в Турцию – последствие Кавказской
войны. Нальчик, 1994; Чирг А. Кавказская война. Черкесия в огне. Гибель Черкесии.
Краснодар, 1994; Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказская война. М., 1994; Бэрдзэдж Н.
Изгнания черкесов. Майкоп, 1996; Губжоков М. Фактор этнических миграций в
Кавказской войне // Литературная Адыгея. 1998. № 2; Чирг А. Ю. Развитие общественнополитического строя адыгов Северо-Западного Кавказа. Майкоп, 2002; Кудаева С. Г.
Огнем и железом. Вынужденное переселение адыгов в Османскую империю. (20-70 гг.
XIX в.). Майкоп, 1998; Ее же: Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX веке:
Процессы трансформации и дифференциации адыгского общества. Майкоп, 2006;
Кипкеева З. Б.Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: Миграции и расселение
(60-е годы XVIII – 60-е годы XIX.). М., 2006 и др.
17
Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 214.
18
Там же. С. 211.
15
региона. А. Х. Касумов, Х. А. Касумов считают, что основным фактором,
повлиявшим на трансформацию этнической карты региона, является военноколониальная политика царизма, в результате которой значительная часть
адыгов оказалась на чужбине. Авторы подчеркивают, что «это явилось по
отношению к народу тягчайшим преступлением»19, что подтверждает факт
смены населения на Северо-Западном Кавказе. Такой же точки зрения
придерживается
А. Ю. Чирг, утверждая, что «военное начальство
стремилось выдавить горцев в Турцию»20. С. Г. Кудаева также подтверждает,
что «массовое переселение адыгов явилось результатом крайне реакционной
политики царизма на последнем этапе Кавказской войны, нацеленной на
освобождение этой территории от народа, не пожелавшего покориться.»21.
В другой монографии С. Г. Кудаевой22 проведено комплексное
исследование переломного периода истории адыгов XIX в., когда в
результате
Кавказской
войны
подверглось
дифференциации
и
адыгское
общество
трансформации,
что
принудительно
отразилось
на
этнической структуре Северо-Западного Кавказа. Впервые предпринята
авторская интерпретация категории дифференциации не только как
социального явления, но и внесоциальной поляризации, обусловленной
экстремальными ситуациями военного противостояния. В монографии
рассмотрены процессы трансформации адыгского общества при вхождении
частей разорванного общества в две разные среды – в Российскую и
Османскую империи, в результате чего изменяется территория расселения
адыгов и других коренных народов.
В монографии З. Б. Кипкеевой исследуется российский фактор в
массовых миграциях и формировании этнических и административных
Касумов А. Х., Касумов Х. А. Геноцид адыгов. С. 197.
Чирг А. Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов Северо-Западного
Кавказа (конец XVIII - 60-е гг. XIX в.). Майкоп, 2002. С. 170.
21
Кудаева С. Г. Огнем и железом. Вынужденное переселение адыгов в Османскую
империю. (20-70 гг. XIX в.). Майкоп, 1998. С. 112.
22
Кудаева С. Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа... Майкоп, 2006.
19
20
16
границ современных народов Северо-Западного и Центрального Кавказа.
Автор в общем контексте миграционных процессов в регионе касается и
причин адыгского переселения, а также заселения новыми поселенцами этой
территории.
Но
следует
отметить,
что
некоторые
выводы
автора
представляются спорными. Так, в заключении З. Б. Кипкеева пишет, что
«необходимость занятия станицами стратегически важных мест в Закубанье
была обусловлена отсутствием крупных постоянных селений местных
народов, подвижным и немногочисленным характером их поселений,
которые легко снимались с места и перемещались в неконтролируемые
места»23, что противоречит теории этногенеза адыгов24.
Следует отметить, что различные аспекты исследуемой проблемы в
разные периоды стали предметом исследования не только отечественных
историков, но и зарубежных. В основном это труды турецких, арабских
авторов и представителей адыгского зарубежья25. Они посвящены описанию
дальнейшей исторической судьбы переселенцев в Османской империи.
Вместе с тем, мы находим в них описание фактов, подтверждающих
изменение этнической карты Северо-Западного Кавказа в ходе переселения
адыгов в пределы Османской империи. Так, Карлаиль Мак-Коан утверждает,
что причиной переселения адыгов в пределы Османской империи является
«строгость, с которой русское правительство обошлось с большинством»
кавказских народов26.
Кипкеева З. Б. Указ. соч. С. 355.
Уже с первой половины X в. письменные источники считали адыгов единым народом,
населявшим значительные территории от Таманского полуострова на Западе и до Абхазии
на юго-востоке, на севере до Приазовья и р. Кубань. (См.: Бетрозов Р. Ж. Происхождение
и этнокультурные связи адыгов. Нальчик, 1991. С. 32.)
25
Карлаиль Мак-Коан. Наш новый протектор. Описание географических, этнографических
и экономических свойств Турецкой Азии. Т. I. М., 1884; Трахо Р. Черкесы. Мюнхен, 1956;
Berkuk I. Tarihte Kafkasya. Istanbul, 1958; Ademir Izzet. Goc: kuzey kafkasualilurin goc tarihi.
Ankara, 1988; Бэрзэдж Н. Изгнания черкесов. Майкоп, 1996и др.
26
Карлаиль Мак-Коан. Указ. соч. С. 115.
23
24
17
Важное место занимает и изучение процесса заселения СевероЗападного Кавказа казачьими станицами и русскими поселениями, который
происходил параллельно с процессом выселения кавказских народов, что
существенно отразилось на этническом облике региона. В связи с этим,
интерес представляют работы, в которых анализируются миграции на
Северо-Западный Кавказ казаков и российских крестьян27. Так, М. И.
Венюков поэтапно прослеживает изменения в этническом составе СевероЗападного Кавказа в ходе его завоевания, описывая появление новых русских
поселений. Русской колонизации Закубанья посвящены и работы П. П.
Короленко. Автор в хронологическом порядке излагает данные о появлении
казачьих станиц в рассматриваемом регионе. Ф. А. Шамрай описывает
важнейшие события и законоположения, имеющие отношение к Кубанской
области. В этом ряду значительное место занимает исследование Л. В.
Бурыкиной. Автор на основе обширного документального материала
исследует переселенческое движение представителей различных этносов на
Северо-Западный Кавказ в 90-е г. XVIII – 90-е г. XIX вв.
Венюков М. И. Население Северо-Западного Кавказа в три эпохи его колонизации
русскими: 1841, 1860 и 1863 годах // Записки императорского русского географического
общества. СПб., 1864. Т.1; Его же: Очерк пространства между Кубанью и Белой //
Ландшафт, этнографические и исторические процессы на Северном Кавказе в ХIХ –
начале ХХ века. Нальчик, 2004; Короленко П. П. Переселение казаков за Кубань. Русская
колонизация на Западном Кавказе // Кубанский сборник. Екатеринодар, 1911. Т. XVI; Его
же: Закубанский край // Ландшафт, этнографические и исторические процессы на
Северном Кавказе в XIX- начале XX века. Нальчик, 2004; Шацкий П. А. Сельское
хозяйство Предкавказья в 1861-1905 гг. (Историческое исследование) // Некоторые
вопросы социально-экономического развития юго-восточной России. Ставрополь, 1870;
Бентковский И. В. Заселение Западных предгорий Главного Кавказского хребта //
Кубанский сборник. Т.1. Екатеринодар, 1883; Щербина Ф. А. Естественно - исторические
условия и смена народностей на Кубани. Екатеринодар, 1906; Кавказ. Описание края и
краткий исторический очерк его присоединения к России. Изд. 3. СПб., 1911; Ратушняк В.
Н. Вхождение Северо-Западного Кавказа в состав России и его капиталистическое
развитие. Краснодар, 1978; Громов В. П. Формирование русского населения Адыгеи в XIX
в.// Черкесия в XIX веке (материалы 1 Кошехабльского форума «История – достояние
народа»). Майкоп, 1991; Бурыкина Л. В. Переселенческое движение на Северо-Западном
Кавказе в 90-е годы XVIII -90-е годы XIX века. Майкоп, 2002 и др.
27
18
В отдельную группу необходимо выделить работы, в которых
отражается колонизация края иностранными переселенцами28. Авторы этих
работ выясняют причины переселения иностранцев на Северо-Западный
Кавказ, льготы, предоставляемые Российской империей для привлечения
наибольшего числа иностранных поселенцев, территорию их расселения в
регионе. Данные работы позволяют проследить динамику изменения
этнического состава региона в процессе иностранной колонизации.
Значимую
интеграции
группу
народов
территориальную
и
составляют
Северо-Западного
работы,
посвященные
Кавказа
социально-экономическую
в
анализу
административно-
структуры
Российской
империи29. Особенности вписания адыгов в социально-экономическую и
политическую
структуру
Российской
империи
достаточно
детально
описываются в работе Р. А. Тлепцока30. Некоторые аспекты интеграции в
Городецкий Б. М. Немецкое землевладение на Кубани. Екатеринодар, 1915; Клинген
И.Н. Основы хозяйства в Сочинском округе. 1897 г. // Старые черкесские сады. Ландшафт
и агрикультура Северо-Западного Кавказа в освещении русских источников. 18641914./Сост. С. Хотко. М., 2005. Т.1; Хатисов И. С. Отчет комиссии по исследованию
земель на северо-восточном берегу Черного моря… // Старые черкесские сады…;
Дьячков-Тарасов А.Н. Гагры и их окрестности (в историко-географическом отношении).
1903. // Старые черкесские сады… Т.2;. Игнатова М. Е. Греческий и немецкий
(Ванновский) национальные районы Краснодарского края в 20 – 40 гг. XX в. // Дисс. на
соиск. уч. степ. канд. ист. наук; Кузнецов И. В. Понтийские греки. Краснодар, 1997;
Николаева Н. От Урарту до Адыгеи // Советская Адыгея. 14 февраля 2002; Марков В. Н.
Евреи Кубанской области // Дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. Майкоп 2007 и др.
29
Джимов Б. М. Социально-экономическое и политическое положение адыгов в XIX в.
Майкоп,1986; Его же: Общественный строй дореформенной Адыгеи (1800-1868) / Ученые
записки. Майкоп, 1970. Т. XI; Гиш С. Н. Горцы Северо-Западного Кавказа по материалам
I Всероссийской переписи населения 1897 г / Черкесия в XIX веке. (Материалы 1
Кошехабльского форума «История – достояние народа»). Майкоп, 1991; Кудаева С. Г.
Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа… Майкоп, 2006; Северный Кавказ в составе
Российской империи / авт. коллектив: Д. Ю.Арапов, И. Л.Бабич, А. А.Цуциев и др. М.,
2007; Кандор Р. С. Административное управление и судебная власть в черкесском ауле
середины 60-х годов XIX в. // Новые технологии. Майкоп, 2008. № 6; Хакуринохабль и
мамхеги 2 пол. XIX в. // Эл. ресурс. [http:// www/ adygi/ ru/] и др.
30
Тлепцок Р. А. Вхождение Северо-Западного Кавказа в социально-экономическую и
политическую структуру Российской империи (пореформенный период). Майкоп, 2001.
28
19
состав Российской империи оставшихся на родине адыгов освещены в
монографии
С. Г. Кудаевой. Подтверждение изменения этнической
структуры региона мы находим в выводах автора, где подчеркивается, что
«реализовать принцип включения в государство адыгов Северо-Западного
Кавказа не представляло никакой сложности, так как после эмиграции
значительной части адыгов
в пределы Османской империи количество
оставшихся в Закубанском крае адыгов составляло всего около 100 тыс.
чел.»31.
К
отдельной
посвященные
группе
исследований
проблемам
следует
отнести
работы,
территориально-административных
преобразований и национально- государственного строительства на СевероЗападном Кавказе32. В исторических исследованиях этого периода показаны
предпосылки создания советской национальной автономии, формы и методы
государственного строительства, изменения в размещении адыгов и других
народов Северо-Западного Кавказа в процессе коренных административнотерриториальных преобразований в регионе.
Таким образом, изучение имеющейся литературы показывает, что
историческая наука достигла определенных успехов в исследовании целого
ряда проблем, имеющих непосредственное отношение к теме исследования.
В научный оборот введен значительный фактический материал, сделан ряд
ценных обобщений по отдельным аспектам поставленной проблемы, но до
сих пор отсутствует комплексное исследование, посвященное изучению
Кудаева С. Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа… Майкоп, 2006. С. 252.
Мекулов Д. Х. Советы Адыгеи в социалистическом строительстве 1922-1937 гг. Майкоп,
1969; В дружной семье братских народов // Сборник статей о социально-экономических
преобразованиях в Адыгее за годы Советской власти. Майкоп, 1982; Кубов Ч.Ч.
Деятельность КПСС по созданию и укреплению национальной государственности
адыгейского народа; Тлехас М. С. Под знаменем Советской государственности и
демократии // В дружной семье братских народов. Майкоп, 1982; Хлынина Т. П. Адыгея в
1920-е годы. Проблема становления и развития автономии. Краснодар, 1997 и др.
31
32
20
процесса трансформации этнической структуры Северо-Западного Кавказа с
конца XVIII в. до 20-х гг. XX в.
II.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ
Источниковая база исследования составляют фонды центрального и
местных архивов, опубликованные сборники документов и материалов,
среди которых значимое место занимают
законодательные акты и
статистические
в
материалы.
Кроме
того,
работе
использовался
картографический материал.
Существенная
информация,
отражающая
различные
аспекты
исследуемой темы, получена из источников, выявленных в
фондах
Российского военно-исторического архива (РГВИА)33. Весьма ценными
оказались материалы по истории адыгов и других народов, населявших
Ф. 38. Департамент Генерального штаба (с 1863 – Главное управление Генерального
штаба) 1796–1877. Оп. 30. Д. 109.
Ф. 90. Раевский Николай Николаевич. 1811-1921. Оп.1. Д.120.
Ф. 414. Статистические, экономические, этнографические и военно-топографические
сведения о Российской империи. 1735-1914. Д. 300.
Ф. 846. Военно-ученый архив. 1520-1918. Оп.16. Д. 18510, 18511, 18254, 18154, 6234.
Ф. 14257. Штаб командующего войсками Кубанской области. 1794-1882. Оп. 2. Д. 528;
Оп. 3. Д. 214.
33
21
рассматриваемый
регион,
находящиеся
в
Государственном
архиве
Краснодарского края (ГАКК)34. Вышеперечисленные архивные фонды
содержат
различные
официальные
документы
российского
военного
командования, военно-политические, экономические и этнографические
обзоры Северо-Западного Кавказа, переписку военных чиновников и другие
материалы. Фонды Государственного учреждения «Национальный архив
Республики Адыгея» (ГУНАРА)35 дали значительный объем информации,
касающейся периода конца XIX - начала XX вв. Они позволяют проследить
процесс оформления административных границ и образования Адыгейской
Автономной области, дают информацию о национальном составе региона.
Важную группу источников составили опубликованные сборники
архивных документов и материалов, среди которых значимое место
занимают законодательные акты. К их числу следует отнести материалы
законодательного характера, сконцентрированные в «Полном собрании
законов Российской империи»36, позволяющие судить о внутренней и
Ф. 249. Канцелярия войсковых наказных атаманов Черноморского казачьего войска. Оп.
1. Д. 491, 904, 1335 а, 1392, 3028.
Ф. 252. Канцелярия войскового управления Кубанского казачьего войска. Оп. 1. Д. 1561.
Ф. 254. Войсковое дежурство Черноморского казачьего войска. Оп. 1. Д. 940, 105; Оп. 2.
Д. 216.
Ф. 261. Канцелярия начальника Черноморской кордонной линии. Оп. 1. Д. 634, 1332.
Ф. 347. Канцелярия начальника Лабинской кордонной линии. Оп. 2. Д. 38, 39.
Ф. 670. Коллекция документов истории Кубанского казачьего войска. Оп. 1. Д. 50. Л. 84.
Ф. 774. Канцелярия помощника начальника Кубанской области по управлению горцами.
Оп. 1. Д. 2, 124, 216, 306; Оп. 2. Д. 2, 139, 371.
35
Ф. Р-1. Майкопская городская управа. Оп. 1. Д. 131.
Ф. 1/15. Городская управа. Оп. 1. Д. 35.
Ф. Р-5. Плановая комиссия адыгоблисполкома. 1922-1936 гг. Оп. 1. Д. 42.
Ф. Р-7. Управление сельского хозяйства Адыгейского облисполкома. 1922-1998. Оп. 1. Д.
17, 428.
Ф. Р-8. Адыгейский областной административный отдел. 1922-1930 гг. Оп.1. Д. 1.
Ф. Р-328. Исполнительный комитет Горского окружного национального Совета рабочих и
крестьянских, казачьих и горских депутатов (1920-1922 гг.). Оп. 1. Д. 4. Л. 57.
36
Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗРИ): Собр. 1-е. СПб, 1830.
Т.19.
34
22
внешней политике на Кавказе. Значительное место в исследовании занимают
трактаты и договоры России с другими государствами37. В них изложены и
аргументированы условия и обязательства сторон, подписывающих их.
Данная информация позволяет проследить изменения во внешней политике
противоборствующих держав, отражающие их интересы на Кавказе.
Значительный интерес представляют «Акты, собранные Кавказской
археографической комиссией»38 в 12 томах, изданные в 1886-1904 гг.,
Несмотря на то, что в «Актах …» опубликованы материалы, отражающие
интересы царизма, в них содержится значительный фактический материал,
который при критическом осмыслении позволяет сделать существенные
выводы о социально-экономическом, общественном строе адыгов, их
территориальном размещении, а также материалы, отражающие события,
связанные с завоевательной и переселенческой политикой Российской
империи с 1762 по 1862 гг., повлекшие за собой кардинальные изменения в
этнической структуре Северо-Западного Кавказа.
Важное место занимают материалы, опубликованные в сборниках
дореволюционной
России.
В
этих
выпусках
содержится
материал,
отражащий официальную точку зрения царского правительства
по
отношению к народам Северо-Западного Кавказа. Это работы историковкавказоведов Е. Д. Фелицина, И. Бентковского, В. Томпкева и другие39,
Договор России с Востоком / Сост. Т. Юзефович. СПб., 1869.
Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (далее АКАК). Под ред. Ад.
Берже. Т. I-XII. Тифлис, 1866-1904.
39
Списки населенных мест по сведениям 1882 г., составленные действительным членом
Кубанской области статистического комитета, есаулом Е. Д. Фелициным // Сборник
сведений о Кавказе. Т. VIII. Кубанская область. Тифлис, 1885; Бентковский И. Заселение
Западных предгорий Главного Кавказского хребта // Кубанский сборник. Т. I.
Екатеринодар, 1883; Короленко П. П. Переселение казаков за Кубань. Русская
колонизация на Западном Кавказе // Кубанский сборник. Т. XIV. Екатеринодар, 1911;
Шамрай В. С. Хронология важнейшим событиям и законоположениям, имеющим
отношение к истории Кубанской области и кубанского казачьего войска // Кубанский
сборник. Екатеринодар, 1912; Томпкев В. Кавказская линия под управлением генерала
Эмануэля (продолжение) // Кавказский сборник. Т. XIX. Тифлис, 1898.
37
38
23
представляющие
ценность
ввиду
использования
авторами
архивных
документов.
В советский период в связи с идеологическими ограничениями в
научных исследованиях архивные документы и материалы о событиях
Кавказской войны во многом не были введены в научный оборот. И только в
постсоветский время, то есть с 1990-х гг., был опубликован целый ряд
сборников документов, извлеченных из различных центральных и местных
архивов. Самыми обширными публикациями, содержащими документы и
материалы о переселении адыгов в Османскую империю и заселении СевероЗападного
Кавказа
новыми
поселенцами,
отражающими
процесс
кардинального изменения этнического состава региона, явились сборники,
подготовленные
Р. Х. Гуговым, Х, А. Касумовым, Д. В. Шабаевым и Т.
Х. Кумыковым40.
В этот период также была проведена большая работа по сбору и
систематизации разноплановых письменных источников и их публикации в
сборниках41. В них содержится существенная информация об адыгах: область
Под стягом России: Сборник архивных документов. М., 1992; Трагические последствия
Кавказской войны для адыгов: вторая половина XIX – начало XX века. Сборник
документов и материалов / Сост. Р. Х. Гугов, Х. А. Касумов, Д. Д. Шабаев. Нальчик: «Эльфа», 2000; Проблемы Кавказской войны и выселение черкесов в пределы Османской
империи (20-70-е гг. XIX в). Сборник архивных документов / Сост. Т. Х. Кумыков.
Нальчик: «Эльбрус», 2001.
41
Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов. Нальчик, 1974;
Черкесы и другие народы Северо-Западного Кавказа в период правления Екатерины II.
(1781-1786 гг.) Сборник документов. Т.3. Нальчик, 2000; Русские авторы XIX века о
народах Центрального и Северо-Западного Кавказа. Т.1., 2. Нальчик, 2001; Ландшафт,
этнографические и исторические процессы на Северном Кавказе в XIX- начале XX века.
Нальчик, 2004; Старые черкесские сады. Ландшафт и агрикультура Северо-Западного
Кавказа в освещении русских источников: 1864-1914 / Сост. С.Х. Хотко. М., 2005. В двух
томах; Бесленей – мост Черкесии. Вопросы исторической демографии Восточного
Закубанья. XIII – XIX вв.Сборник документов и материалов / сост. и вступ. ст. С. Х.
Хотко. Майкоп, 2009.
42
Энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон: Репринтное воспроизведение
издания 1890 г. М., 1992. Т. 54; ГУНАРА. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 42. Л. 30.; Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 428.
Л. 24.
40
24
их расселения, описание природно-климатических условий, хозяйственной
деятельности,
отдельные
факты
политической
и
военной
истории,
социального строя, религиозных и этнографических данных. Указанные
источники также достаточно подробно описывают освоение СевероЗападного Кавказа новыми поселенцами
– представителями разных
национальностей, включившихся в этническую структуру региона. Богатый
материал содержится в сборнике «Старые черкесские сады. Ландшафт и
агрикультура Северо-Западного Кавказа в освещении русских источников:
1864-1914». В него вошли путевые заметки известных авторов – очевидцев
или участников описываемых событий, публиковавшиеся в различных
периодических изданиях. Большой информативностью отличается и сборник
«Русские авторы XIX в. о народах Центрального и Северо-Западного
Кавказа». Одним из последних сборников документов и материалов является
«Бесленей – мост Черкесии», представляющий собой обширный свод
сведений об этнической, политической и культурной истории Восточного
Закубанья.
Информативно
значимое
место
занимают
статистические
источники. Наиболее важными являются данные Всероссийской переписи
населения 1897 г. и переписи населения 1920 г.42 В исследовании
использованы
отдельные
статистические
сведения
о
численности
и
национальном составе Северо-Западного Кавказа43.
Сборник сведений о Кавказе. Т. 2. Тифлис, 1880.; Списки населенных мест по сведениям
1882 г., составленные действительным членом Кубанской области статистического
комитета, есаулом Е. Д. Фелициным. // Сборник сведений о Кавказе. Т. VIII. Кубанская
область. Тифлис, 1885; Буткевич Н. «Мусульманский вопрос на Кавказе» // Трагические
последствия Кавказской войны…; Гиш, С.Н. Горцы Северо-Западного Кавказа по
материалам I Всероссийской переписи населения 1897 г. / Черкесия в XIX веке.
(Материалы 1 Кошехабльского форума «История – достояние народа») / Гиш С.Н. Майкоп, 1991; Кабузан В. М. Население Северного Кавказа в XIX-XX веках.
Этностатистическое исследование. СПб., 1996 и др.
43
25
Специфика
исследования
потребовала
привлечения
картографического материала44. Карты занимают значительное место в
нашем исследовании. Благодаря картам мы имеем возможность визуально
проследить динамику изменений в этническом и административном
состоянии Северо-Западного Кавказа, которые произошли с конца XVIII до
20-х гг. XX в. В связи с усилением геополитических интересов в регионе со
стороны России в XIX в. появилось значительное количество карт по
Кавказу, составленных топографами, представителями царского военного
командования. Значительное число карт Кубанской и Кавказской областей
хранится в Российском Государственном военно-историческом архиве в Ф.
415. Также большой интерес представляют карты Черкесии 1830 и 1860-1864
гг., которые дают возможность наглядно проследить продвижение границ
русских завоеваний и поэтапное покорение адыгских субэтнических групп.
Особого внимания заслуживает Атлас, подготовленный А. А. Цуциевым.
Атлас содержит 50 карт и комментарии, где кратко прослежено более чем
200-летнее развитие административно-территориальной и национальногосударственной композиции края.
Таким образом, источниковая база работы отражает различные
аспекты процесса трансформации этнической и административной карты
Северо-Западного Кавказа в конце XVIII – начале XX вв. и помогает решить
поставленные в диссертационном исследовании задачи.
Ф. 846. Оп. 16. Д. 21172. Карта Закубанского края,. Составленная Генеральным штабом
Отдельного Кавкзского корпуса. 1852 г; Карта окрестных земель крепости Анапа; Карта
Черкесии. 1830. См. Люлье Л. Я. Черкесия. Историко-этнографические статьи. МТЦК.
«Возрождение», 1990; Карта Черкесии. 1860-1864 гг. См. Фонвиль А. Последний год
войны Черкесии за независимость. 1863-1864 гг. МТЦК. «Возрождение», 1990; Черкесия в
картах. Нальчик, 2000; Цуциев А. А. Атлас этнополитической истории Кавказа (17742004). М., 2006.
44
26
III. ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС
№
п/п
Раздел, тема учебного курса
Количество
часов
Вводная лекция. Этническая история и её место среди
других дисциплин. Теоретические подходы к
пониманию базовых категорий «этнос», «этногенез».
Раздел I. Этнический состав Северо-Западного Кавказа
(конец XVIII – первая четверть XIX вв. )
1
2
Северо-Западный Кавказ: геополитическое
положение, характеристика адыгских субэтнических
групп
2
3
Расселение и состояние полиэтнического состава
региона
2
1
Раздел II. Истоки трансформации этнической структуры
Северо – Западного Кавказа (20-50-е гг. XIX в.)
Народы Северо-Западного Кавказа в контексте
2
геополитических интересов противоборствующих
держав (20-е гг. XIX в.)
5
Начало военной колонизации Северо-Западного
4
Кавказа Россией и миграционные процессы (30-50-е
гг. XIX в.)
Раздел III. Формирование этнической и административной карты СевероЗападного Кавказа (50-е гг. XIX – начало 20-х гг. XX вв.)
4
6
7
Вынужденное переселение адыгов Северо-Западного
Кавказа в пределы Османской империи и изменение
этнической карты региона
Миграционная политика Российской империи
на Северо-Западном Кавказе и административнотерриториальные преобразования в регионе
Итого
27
4
2
17
Лекция 1. Этническая история и её место среди других
дисциплин. Теоретические подходы к пониманию базовых категорий
«этнос», «этногенез».
Вводная
лекция
предполагает
рассмотрение
роли
и
места
региональной и этнической истории в истории России, и среди других
дисциплин. В ходе рассмотрения темы определяются теоретические подходы
к
пониманию базовых
категорий «этнос», «этногенез», «диаспора».
Рассматриваютя предмет, объект и исследовательские методы этнологии.
Раскрываются основные понятия: этнос, этничность, культура, ассимиляция,
этническое сознание, менталитет, народность, нация, национальность,
национализм. Проблема этнической территории и этнических границ.
Раскрываются принципы и типы классификации народов региона.
Этнолингвистическая
Религиозная.
классификация.
Историко-культурная.
Географическая
классификация.
Демографическая
классификация.
Основные этапы этнической истории. Структура этногенеза. Этнонимы.
Актуальность изучения этносов и их традиций обусловлена наличием
множества нерешенных проблем в современном мире, связанных с
этническим бытием. Среди них обострение, конфликтность межэтнических
отношений,
этническая
дискриминация,
растущая
межрегиональная
финансово-экономическая,
имущественная
дифференциация,
снижение
уровня жизни ряда этносов и угроза безвозвратной утраты их культуры.
Упрочение
экономических,
информационных,
культурных
связей
на
современном этапе сплетает судьбы народов в единую всемирную судьбу,
однако сплочения человечества не происходит. На карту мира наносятся все
новые и новые государства, и процесс сепаратизма продолжается. Во многих
странах идут гражданские войны, миллионы людей ищут спасения в
отмежевании и расколе.
28
Все эти процессы ставят необходимость осмысления происходящего,
создания концепции устойчивого развития, построения альтернативных
моделей трансформации общества. Наука должна обосновать приоритеты
выживания земной цивилизации, одним из условий которого является
сохранение гармонии многоголосия этнических культур.
Этнокультурное многообразие есть тот неиссякаемый источник
обогащения мировой культуры человечества, без которого она неизбежно
деградирует. С этой точки зрения сохранение этносов, их жизненного мира и
исторической перспективы имеет фундаментальное значение в глобальном
масштабе.
В связи с этим во всем мире наблюдается возрастание интереса людей
к своей этнической идентичности – принадлежности к определенному
этносу, повсеместное желание народов сохранить свою самобытность,
акцентировать уникальность обычаев и психологического уклада.
В рамках положения о многообразии культур сохраняет свое значение
идея исторической преемственности бытия. Воспроизводство и сохранение
общества через преемственность поколений, социальных отношений и
духовных достижений – та важная задача, от решения которой зависит
длительность
бытия
общества,
его
развитие
или
прекращение
существования. История человечества – бесконечный процесс прерывности и
непрерывности, смены поколений, формаций, цивилизаций. В этом процессе
от поколения к поколению бережно передаются накопленные ценности
духовной и материальной культуры. Сохранению и преумножению этих
ценностей
служат
традиции,
исследование
которых
позволяет
формулировать и решать принципиально важные проблемы строения и
функционирования общества и проводить содержательный анализ различных
сфер общественной деятельности. Традиции поддерживают преемственность
между прошлым, настоящим и будущим, формируют историю как
протяженность социокультурного бытия, позволяют человечеству направить
29
свою деятельность на преумножение духовного или
материального
достояния.
Изучение традиций имеет не только теоретическое значение, оно
вызвано практическими потребностями развития общественных систем.
Перспективы социального развития, социального прогресса во многом
определяются подходами к решению проблем выбора традиций, воспитания
молодежи,
предотвращения
разрывов
культурной
преемственности.
Традиции играют чрезвычайно емкую роль в поддержании стабильности
общества, сохранения элементов консенсуса, они же могут и затормозить,
замедлить развитие общества.
Современные темпы общественного развития значительно обостряют
указанные проблемы. Новое миропонимание, научная картина мира,
обобщающая
достижения
предшествующих
парадигм,
требует
более
объемного, разностороннего и целостного понимания проблем этнического
развития и сохранения традиций.
Понятие этнос (греч. ethnos – группа, племя, народ) определяется как
межпоколенная группа людей, объединенная длительным совместным
проживанием на определенной территории, общими языком, культурой и
самосознанием. Понятие “этнос” как категории, обобщающей признаки
этнических общностей на всех этапах истории человечества, разрабатывалось
преимущественно в российской, советской и постсоветской этнографии.
Современное определение этноса как группы людей, связанных
единством своего происхождения и общностью культуры, включая язык,
является практически общепризнанным и в значительной мере восходит к
определению, данному еще в 1923 году С. М.Широкогоровым: “Этнос есть
группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое
происхождение,
обладающий
комплексов
обычаев,
укладом
жизни,
хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от таковых других
групп”. Он рассматривал этнос как основную форму существования
30
локальных групп человечества, а основными признаками его считал
“единство происхождения, обычаев, языка и уклада жизни”. В 1960-1980-е
концепция Широкогорова была развита советскими этнографами. Наиболее
последовательной ее марксистской интерпретацией стала теория Ю. В.
Бромлея. Он предлагал различать этникосы (этнос в узком значении слова)
как совокупности людей, объединенных общим языком, культурой и
самосознанием, и этносоциальные организмы, ЭСО (этнос в широком
значении слова) как этнос, сопряженные с территориально-политическими
общностями. Последние, по Бромлею, представляют собой самостоятельные
макроединицы общественного развития. В зависимости от принадлежности к
определенной
общественно-экономической
формации
этносоциальные
организмы выступают в форме племени, народности (рабовладельческой или
феодальной), нации (буржуазной или социалистической). Значительное
место в теории Бромлея занимала детализированная классификация
этнических
процессов
–
изменений
этноса,
проинтерпретированная
применительно к различным эпохам прогресса человечества. В работах
представителей другого теоретического направления А. С. Арутюнова и Н.
Н. Чебоксарова этнос был рассмотрен в контексте теории коммуникации.
Этносы представлялись как ареалы повышенной плотности информации.
Особое
внимание
было
обращено
на
межпоколенную
трансляцию
информации, обеспечивающую преемственность и стабильность этнической
системы во времени. Стадиальные типы этнических общностей – племена,
народности и нации рассматривались как три разных типа информационной
плотности.
Концепция
Арутюнова
и
Чебоксарова
стала
наиболее
продуктивным в инструментальном и прикладном отношении вариантом
теории этноса.
Последовательно немарксистский подход к феномену этноса отличает
работы Л. Гумилева. В них этносы представлены как элементы этносферы –
особой биосоциальной реальности, развивающейся по своим уникальным
31
законам. Этнос, по Гумилеву, может пребывать в “персистентном”
(цикличном) и “динамичном” состоянии. Переход в последнее обусловлен
своего рода мутациями – пассионарными толчками. По Гумилеву, этнос
проходит ряд стадий развития и, подобно живому организму, умирает.
Благодаря откровенному нонконформизму концепция Гумилева приобрела
необычайную популярность, особенно за пределами профессиональной
аудитории. При всех различиях концепции этноса имеют ряд общих
недостатков. Опора на понятия, объем которых сам по себе является
предметом дискуссии (язык, культура, территория), делает построение
теории и самого определения этнос крайне затрудненным. Понятие ” этнос ”
отражает
в полной
степени
лишь свойства этнических
общностей
индустриальной эпохи – наций. По отношению к до-национальным стадиям
развития,
с
характерными
для
них
культурно-лингвистической
вариативностью и внеэтническими формами самосознания, понятие ” этнос ”
оказалось
непродуктивным
(например,
зарубежной социально-культурной
категория
антропологии
“народность”).
понятие
В
” этнос ”
употребляется сравнительно редко, а построение его теории не считается
актуальным. Более употребительным является понятие “этничность”,
отражающее принадлежность к определенной нации или этнической группе.
Основные концептуальные модели развития этнических групп.
Отдельные этнографические гипотезы были выдвинуты еще во
времена античности, термины “этнология” и “этнография” появились в конце
XVIII века, однако как самостоятельная отрасль знаний, наука о народах
сформировалась под влиянием идей об универсальных закономерностях
всемирно-исторического процесса лишь к середине XIX века.
Народоведение в разных странах имело различные наименования,
цели и основные объекты исследования. Французская этнология, английская
социальная антропология, а позднее американская культурная антропология
в течение второй половины XIX века проводили сравнительное изучение
32
первобытных внеевропейских народов и индейцев Америки, а в ХХ в.
заинтересовались и развитыми народами.
В Германии, Австрии, немецкоязычной части Швейцарии наука о
народах традиционно подразделялась на два независимых направления:
этнологию и народоведение, изучавшие соответственно внеевропейские
отсталые народы и развитые народы Европы.
Одним из первых направлений в этнологии был эволюционизм,
созданный на основе эволюционной теории исторического развития
природных явлений (Ж. Кювье, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, Т. Г. Гексли, Э.
Геккель и др.). В основе эволюционизма лежит предложенная Спенсером
концепция эволюции как особого типа последовательности необратимых
изменений культурных феноменов. Признание эволюционистами равенства
всех народов и рас в физическом, психическом и умственном отношениях,
последовательная
гуманистическая
направленность,
представления
о
закономерном прогрессе культуры и общества позитивно повлияли на науку
своего времени.
В конце XIX – начале XX вв. активно развивалась концепция
культурной диффузии (заимствования, переноса, смешения ее элементов) как
основы изменения культуры. Сущность этого разнородного направления,
получившего в науке название диффузионизм (Ф. Ратцель, Л. Фробениус, Ф.
Гребнер и др.), состояла не просто в учете давно открытого явления
культурного взаимодействия, а в стремлении заменить принцип историзма в
понимании культуры на механистические принципы изменения культуры
посредством перемещения ее элементов. Вместо всемирно-исторических
законов на первый план выходила идея единичности, неповторимости
явлений. Культура рассматривалась в отрыве от ее живых носителей –
людей, от этноса.
К 20-м годам ХХ в. диффузионистское направление стало терять свою
популярность в связи с тем, что в нем не были убедительно обоснованы
33
выводы
о
ходе
культурных
процессов.
Эмпирические
наблюдения
опровергали искусственно сконструированные “культурные круги” и
“культурно-исторические” построения. Поиски новых путей привели к
созданию “функционального” направления в англоязычной зарубежной
этнологии.
Функционализм (Р. Турнвальд, Б. Малиновский, А. Р. Радклиф-Браун
и др.) видел основные задачи этнологии в изучении функций культурных
явлений, их взаимосвязей и взаимообусловленности в рамках каждой
отдельной культуры, вне взаимосвязи с другими культурами. Основное
внимание в функционализме уделялось изучению способов удовлетворения
потребностей, запросов, интересов людей, структурам процессов такого
удовлетворения. В функционализме особенно ценен призыв изучать
культуру каждого общества как единое явление, в котором все элементы
связаны между собой выполнением определенных функций.
В конце ХIХ века во Франции на основе философии позитивизма
сложилась “социологическая школа” Э. Дюркгейма, считавшего, что
главным объектом исследования должно быть общество, его система
нравственных связей, проблемы этнопсихологии. При этом, к сожалению,
каждое общество рассматривалось в рамках данного учения изолированно,
исторические законы развития выпадали из поля зрения ученого.
Значительное распространение этнопсихологическое направление
получило в США. Наиболее последовательные представители этого
направления (Р. Бенедикт, М. Мид, А. Кардинер и др.) считали, что каждое
общество обладает своей “моделью культуры”, причем различные модели
качественно
несопоставимы.
Высшей
психологической
моделью
необоснованно объявлялась англосаксонская модель социума.
Важное
место
понятию
“этнос”
отводилось
в
антропологии.
Антропология в США (Ф. Боас) с начала ХХ века традиционно объединяет
четыре дисциплины, которые в других странах сохраняют самостоятельный
34
статус: физическую антропологию, археологию, лингвистику и культурную
антропологию
(этнологию), изучающую
культуры
народов
мира. В
послевоенные годы структура антропологии постоянно усложнялась в связи
с углублением специализации антропологических исследований и развитием
контактов со многими “смежными” дисциплинами.
В России этнография (этнология) сложилась в виде научного
направления к середине XIX века. До Октябрьской революции ученыеэтнографы (Н. Н. Миклухо-Маклай, Н. М. Пржевальский, Г. Н. Потанин, Д.
Н. Анучин, В. Г. Богораз, В. И. Иохельсон и др.) занимались и полевыми, и
теоретическими этнологическими исследованиями. Определенное влияние на
развитие отечественной этнологической мысли оказал марксизм (Н. И. Зибер,
Ф. Кон, М. М. Ковалевский) и эволюционизм (Ю. Э. Петри, Л. Я. Штернберг,
Н. и В. Харузины и др.).
Этнология в России последовательно отстаивала идеи гуманизма,
глубоко враждебного проявлениям расизма. Термин “этнос” в отечественной
литературе
появляется
в
начале
ХХ
в.
Первую
обстоятельную
характеристику понятия “этнос” дал в 20-е гг. русский этнограф С. М.
Широкогоров, причислявший этносы к биологическим общностям.
После 1917 года этнология в России переживала трудные времена. В
конце 20-х гг. понятие “этнос” было объявлено категорией буржуазной
науки, а этнография обратилась к изучению социально-экономических
формаций в их конкретных вариантах. В 20-е – 30-е гг. этнологи участвовали
в проведении в жизнь национальной политики Советского государства,
осуществлении
преобразований
культуры
и
быта.
Возникли
новые
этнографические учреждения, кафедры при университетах, готовились
профессиональные кадры.
Интенсивное развитие этнографии (этнологии) началось после
окончания Великой Отечественной войны. Проводились многообразные
полевые исследования, активизировалась теоретическая работа.
35
Становление отечественной этнологии связано, в первую очередь, с
именами В. Г. Богораза, П. Ф. Преображенского, С. П. Толстова, Б. А.
Куфтина, С. И. Руденко, Н. Н. Чебоксарова, С. А. Токарева и др. С конца 40-х
гг. большое внимание уделялось исследованиям этногенеза народов мира,
истории их формирования, изучению культуры и быта.
В начале 1950-х гг. в работах отечественных авторов вновь возникает
вопрос,
что
же
представляет
собой
этнос.
Однако
по-настоящему
теоретические проблемы этноса начали разрабатываться лишь с середины 60х гг. С. А. Токаревым, Н. Н. Чебоксаровым, В. И. Козловым. Особую роль в
этом отношении сыграли работы Ю. В. Бромлея, который попытался
переосмыслить теорию этноса С. М. Широкогорова. Согласно концепция Ю.
В.
Бромлея,
этносы
характеризуются
определенными
собственно
этническими свойствами (язык, культура, этническое самосознание и
самоназвание), но эти свойства формируются только в соответствующих
условиях
–
территориальных,
природных,
социально-экономических,
государственно-правовых.
Единство этноса обеспечивается синхронными (в пространстве) и
диахронными (во времени) информационными связями. Социобиологическое
понимание этноса представлено в отечественной науке работами Л. Н.
Гумилева, который считал этнос “биосоциальным организмом”, чье
существование включает закономерные периоды. Значительное внимание в
концепции Л. Н. Гумилева уделено исследованию проблем этногенеза,
детерминированного в основном географическими и геокосмическими
факторами. Тем самым Гумилев связал воедино два ряда далеких друг от
друга явлений – геохимический и цивилизационный, природный и
исторический.
В
последние
десятилетия
ХХ
века
отечественная
этнология
переживала кризис: некоторые из этнологов-теоретиков пришли к отрицанию
36
существования этносов, как реальных субъектов истории; появились
сомнения в возможности дать в рамках традиционной этнографии
всеобъемлющую типологию этносов; сложилось мнение о несостоятельности
многих теоретических постулатов, сформулированных в народоведении в
советское время. К этнографической науке советского периода необходимо
подходить с позиций “доброкачественного релятивизма”, учитывая научно
оправданные методические разработки и типологии, способные послужить
основой глубоких теоретических обобщений.
Этнос – многогранное социальное образование. Важное значение для
понимания
этноса
имеет
категория
“этничность”,
обозначающая
совокупность в каком-либо явлении этнического, т. е. этнических черт,
характеристик, признаков. Понимание этничности вызывает дискуссии,
порождает различные объяснительные модели в теориях социальных
изменений,
межгрупповых
отношений,
дискриминации,
этнической
идентичности, ассимиляции и др. Накопленные в ходе дискуссий способы
понимания этничности ныне сводятся к трем основным теоретическим
подходам:
примордиалистскому,
инструменталистскому
и
конструктивистскому.
Сторонники
конструктивистского
подхода
рассматривают
порождаемое на основе дифференциации культур этническое чувство и
формулируемые
в
его
контексте представления
и
“доктрины”
как
интеллектуальный конструкт писателей, ученых, политиков.
Сторонники
гедонистического)
удовлетворения
инструменталистского
понимания
каких-либо
этничности
потребностей
видят
(утилитаристского,
в
ней
средство
индивидов
или
группы,
осуществления их интересов и целей, достижения более комфортного
состояния и т. д.
Примордиалистский (объективистский) подход трактует этничность
как объективную данность, биологический либо культурно-исторический
37
феномен, изначальную (примордиальную, т. е. исконную) характеристику
человечества.
Примордиалистское
представление
об
этносе
широко
распространено в мировой науке, а в нашей стране оно было практически
единственным до начала 90-х годов.
Полемика
между
перечисленными
направлениями
трактовки
этничности не может привести к однозначному предпочтению одного из них,
поскольку в рамках каждого из этих направлений выдвинут ряд идей,
адекватно характеризующих этнос. Так, в примордиалистских концепциях
важны выводы об этничности как продукте культуры и истории, а также о
влиянии географических факторов на этническую специфику, в то же время
трудно
согласиться
предрасположенности
с
тезисом
этнических
о
врожденности,
характеристик.
генетической
Инструменталистский
подход верно указывает основные функции этничности, такие как
психологическая защита в мире отчуждения и мобилизация группы на
реализацию своих интересов. Можно принять и конструктивистскую идею о
пространственно-временной и ситуационной относительности этничности,
но недопустимо абсолютизировать эту относительность, воспринимая
этничность исключительно как интеллектуальный конструкт писателей,
ученых, политиков.
Изучая этнос, нельзя обойти проблему этнических признаков
(этнодифференцирующих, этноспецифических признаков, этнообразующих
факторов), т. е. признаков, необходимых и достаточных для определения
этноса как особой общности людей, и тем самым для разграничения этносов
между собой и для отделения их от других форм социальных группировок
людей. В работе подробно анализируются такие этнические признаки, как:
-
определенная
целостная
территория;
развитие
социально-
экономических связей между отдельными частями этноса; специфические
черты традиционной материальной и духовной культуры; общность родного
(и совпадающего с ним основного разговорного) языка; общность
38
религиозных представлений; некоторые особенности групповой психики
(проявляющиеся
в
системе
ценностных
ориентаций,
эстетических
представлений и т. п.); этническое самосознание, т. е. осознание членами
этноса своего единства; самоназвание этноса (этноним) как внешнее
проявление его самосознания.
Во многих современных исследованиях определяющим этническим
признаком признается самоназвание индивида или группы (этноним). С этим
можно согласиться, если рассматривать самоназвание как определенный
маркер, показатель некоторой культуры. Человек способен сам определить
свою принадлежность к тому или иному этносу, но определение это
осуществляется не произвольно, за ним стоит овладение этническим
способом жизнедеятельности. Иными словами, этнос – самореферентная
группа, но самореферентность этноса в целом и этнофора в частности
относительна,
предполагает
соответствие
субъективного
этнического
самосознания объективному этническому бытию, баланс субъективного и
объективного. Например, если поставлен вопрос, является ли некоторый
индивид представителем того или иного этноса, то ответить на этот вопрос
можно на основе анализа совокупности его действий и определения их
этнической
специфики.
Если
индивид
систематически
осуществляет
действия, характерные для нескольких этносов, то он обладает смешанной
этничностью.
Самым “неуловимым” этнодифференцирующим признаком является
национальный
(этнический)
характер
как
воплощение
национальной
(этнической) психологии. Под национальным характером понимается
поведенческая модель, типичная для данного народа и обусловленная
единством общественного сознания, общностью системы надличностных
коллективных представлений о мире, обществе, личности и нормах
поведения каждого человека. Национальный характер не наследуется от
предков, а приобретается в процессе воспитания; он гораздо сильнее
39
проявляется в тех случаях, когда действуют не отдельные представители
отдельного народа, а целые их группы.
“Измеряемой” формой проявления национального характера служат
этнические
стереотипы
–
социально
обусловленные
схематические
стандартные представления этнофора о своей этнической общности
(автостереотипы) или о других этнических общностях (гетеростереотипы).
Стереотипы,
сформированные
в
ходе
этнокультурной
социализации,
необычайно устойчивы и сохраняются даже при переселении этнофора в
иноэтническую среду. У отколовшихся вследствие миграции частей этноса
число этнических признаков уменьшается, на их месте формируются новые.
В этой связи важно рассмотреть проблему этнической идентичности, остро
стоящую в мультикультурных обществах.
Этническая идентичность – это отождествление себя с определенным
этносом.
Основные
тенденции
в
рассмотрении
понятия
этнической
идентичности заключаются в раскрытии его многоаспектности и динамики,
процесса формирования этнической идентичности в детстве и юности,
особенностей внутрисемейной и межпоколенной трансмиссии этнической
культуры и самосознания. В этой связи этническую идентичность можно
считать важнейшей частью личности индивида, которая выступает мощным
фактором формирования этнических групп и их социальных связей. Границы
этнической идентичности подвижны, динамичны и культурно обусловлены.
Этносы – коллективы с размытыми границами. Размытость понимается не
только в смысле диаспоричности проживания этносов, но и в смысле
невозможности однозначного разделения всех людей по этническому
признаку;
нестопроцентной,
неоднозначной
этничности
отдельных
выделяется
также
индивидов.
В
качестве
этнического
признака
и
внутриэтническая эндогамия, однако роль данного признака практически не
исследована. По мнению некоторых исследователей внутриэтническая
40
эндогамия служит в историческом масштабе одним из важнейших условий
гомогенизации культурного потенциала этноса, связующим механизмом
последнего. Математика подтверждает, например, что 10 поколений назад (а
это всего 200 лет) у каждого из нас было более тысячи прямых предков,
мудрость которых мы в той или иной степени усваиваем. Соблюдаемый в
большинстве этносов запрет инцеста обеспечивает не только генетическое
здоровье потомства, но и постоянный рост его культурного потенциала.
Внутриэтническая эндогамия способствует сохранению целостности этноса и
его социокультурного своеобразия. При нарушении внутриэтнической
эндогамии
происходит
маргиналы,
что
отрицательное
в
размывание
конкретных
явление.
Тем
этноса,
появляются
случаях
может
менее
в
не
быть
этнические
оценено
исторических
как
масштабах
межэтническое общение и в том числе межэтнические браки следует
оценивать
позитивно,
поскольку
они
способствуют
повышению
жизнестойкости популяции как в генетическом, так и в культурологическом
плане.
Значимыми параметрами этнической общности являются этническое
сознание и самосознание, которые фиксируются в самоназвании (этнониме) и
выступают в массовой или персонифицированной форме. В самосознании
этноса фокусируются представления об общности происхождения и
исторических судьбах составляющих данную группу людей. Как полагает
большинство отечественных этнологов, этносом является не всякая
совокупность людей, обладающая комплексом специфических черт, а только
осознающая оппозицию “мы” – “они”, т. е. отличающая себя от членов всех
иных подобных общностей. Тем самым этническому самосознанию
отводится важнейшая роль среди всех этноразличающих признаков.
Признавая
важность
этнического
сознания
(самосознания)
для
характеристики этноса, тем не менее, представляется неправомерным
придавать ему преувеличенное значение. В свете диалектики общественного
41
бытия и общественного сознания, а также с учетом того, что этнос является
социальной
группой,
в
рамках
которой
действуют
все
основные
социологические законы, следует признать определяющую роль этнического
бытия по отношению к этническому сознанию. Поскольку этнос – это
самопорождающаяся и самоорганизующаяся открытая система, постольку
этническое бытие не может не включать в себя полный спектр всех видов
деятельности. П. Сорокин показал, что социокультурная группа, каковой
является этнос, определяется всей целостностью культуры. Культура любого
этноса складывается исторически в ходе приспособления определенного
социокультурного
сообщества
к
условиям
существования,
создания
устойчивых связей межличностного взаимодействия.
Этноспецифические черты культуры передаются от поколения к
поколению с помощью механизма действия традиции и поддерживаются за
счет коллективной реализации в социокультурном творчестве людей.
Этническая культура, выступающая всеобъемлющим отличием одного
этноса от другого, будучи сложнейшим и многоаспектным явлением
социальной жизни, не поддается описанию через какой-то единственный
элемент. Таким образом, простейшего универсального этнического признака
нет и быть не может. Специфика этноса определяется всеми уровнями его
культуры. Последнее утверждение справедливо и по отношению к
отдельному этнофору. Этническая самореализация индивида осуществляется
путем повышения его этнической культуры. Только осваивая все виды
жизнедеятельности этноса, можно стать полноценным этнофором. Чем
больше видов этнической деятельности доступно индивиду, тем богаче его
этничность, тем крепче его связи с родным этносом.
Виды этнических процессов
Под миграцией (от латинского migratio – переселение) понимается
передвижение этнических групп в пределах этнической территории,
переселение их в другие районы. Довольно часто в этнографии, особенно
42
зарубежной, термин миграция прилагается к культуре, в таком случае
миграционные процессы рассматриваются как вторжение населения или
культур в чуждую этническую или культурную область.
Широко употребляемые для определения характера этнических
процессов понятия интеграция, консолидация, ассимиляция означают как бы
последовательные стадии таких процессов.
Интеграция (буквально “объединение в целое каких-либо частей”)
характеризует процесс установления этнических культурных контактов
разнородных этносов в пределах одной социально-политической общности
(например, формирование в России у разных этносов быта и традиций и т. д.)
Консолидация – процесс слияния относительно самостоятельных
народов и их крупных подразделений, обычно родственных по языку и
культуре в единую этническую общность (например, теленгитов, челканцев,
кумандинцев, телеутов и др. в алтайский народ).
Наряду с этнической консолидацией может иметь место этническое
включение,
или
этническая
инкорпорация,
—
превращение
ранее
самостоятельного этноса в субэтнос в составе крупного соседнего этноса.
Так, например, к настоящему времени мегрелы, а в какой-то степени и сваны,
еще
недавно
бывшие
самостоятельными
народами,
превратились
в
субэтносы в составе грузинского этноса.
Прямой противоположностью этнической консолидации является
процесс этнического расщепления, или этнической дивергенции, —
разделение ранее единого этноса на несколько новых самостоятельных
этнических общностей. Чаще всего это связано с распадом того или иного
геосоциального организма. После монгольского нашествия Северная Русь
оказалась под властью Золотой Орды. Остальные части Руси в конце концов
вошли в состав либо Польши, либо Великого княжества Литовского. В
результат люди, образовывавшие один этнос, оказались в составе разных
геосоциальных организмов.
43
Ассимиляция
сформировавшихся
–
процесс
этносов,
этнического
значительно
взаимодействия
уже
различающихся
по
происхождению, культуре и языку, в результате которого, представители
одного этноса усваивают язык и культуру другого и полностью утрачивают
прежнюю этническую принадлежность. Ассимиляция бывает естественная
(добровольная) и насильственная, последняя сопровождает национальное
угнетение одного народа другим, на котором и базируется так называется
“ассимиляторская политика”.
В зарубежной (особенно американской) этнографии и культурной
антропологии, где глубинные этнические процессы исследуются с точки
зрения различной степени контактов культур (причем происхождение
культуры понимается как независимое от социально-экономической жизни, а
потому культура играет роль субъекта в истории народов) возникла
соответствующая этой концепции терминология.
Аккомодация, или адаптация (приспособление приноровления) –
приспособление людей к жизни в новой этнической среде или прилаживание
этой среды к ним для взаимного сосуществования и взаимодействия в
экономической
и
социальной
сферах.
Оба
эти
термина
взяты
из
биологических наук, где широко применяются.
Аккультурация – процесс взаимопроникновения культур, в результате
которого происходит изменение их первоначальных моделей. Зачастую в
зарубежной этнографии аккультурация предстает как синоним европеизации,
т. е. означает процесс распространения у народов Азии, Африки, Америки и
Океании элементов европейской культуры, форм хозяйства, социальных
институтов.
Нельзя также игнорировать процессы, характеризуемые термином
пришедшим из политической прессы – трейбализм (от английского tribe –
племя). Этим термином характеризуют этническую ситуации в молодых
государствах Азии и Африки, где существовавшая при колониальном режиме
44
племенная обособленность сохраняется в настоящее время, оказывая влияние
на процессы консолидации и порождая межплеменные противоречия. В
политической прессе трейболизм используется как синоним национализма.
Важнейшим стабилизирующим фактором социокультурной динамики
этноса является традиция.
Этнические обычаи и традиции – это компоненты психического
склада, объективирующие субъективные представления о нормах поведения,
передающиеся из поколения в поколение.
Содержание понятия “традиция” неоднократно менялось. Вплоть до
шестидесятых годов нашего века научный взгляд на понятие “традиция”
определялся тем подходом, который был сформулирован Максом Вебером и
сводился к жесткому противопоставлению категорий традиционного и
рационального. Традиционные институты, обычаи и способ мышления
рассматривались как препятствия к развитию общества. Собственно, интерес
исследователей сосредотачивался на проблемах модернизации, и потому
традиционные черты определялись главным образом в негативных терминах,
как оппозиция модернизации. Соответственно, если исходить из данной
точки зрения, процессы модернизации всегда подрывают, ослабляют и
вытесняют традицию. Традиция рассматривалась как явление отмирающее,
неспособное ни реально противиться современным формам жизни, ни
сосуществовать с ними. На традиционные явления культуры смотрели как на
рудимент, который должен был исчезнуть по мере все возрастающей
активности модернизационных процессов.
Основной причиной того, что теории модернизации сложилась
именно в таком виде и ее практически неотрывным компонентом стал до
нельзя
упрощенный
взгляд
на
традицию,
послужило
широкое
распространение в начале ХХ века (а по инерции в некоторых общественных
науках вплоть чуть не до наших дней) эволюционистских воззрений о
прогрессивно-стадиальном развитии общества. Сама традиция, как феномен,
45
отнесена была к предшествовавшей стадии социального развития, поскольку
под
традиционными обществами понимали
все докапиталистические
общественные структуры. “Традиционными, — пишет С. Айзенштадт (один
из наиболее оригинальных и компетентных авторов, из тех, кто пишет
сегодня о проблемах традиции и модернизации) — обычно называют самые
различные общества — от примитивных бесписьменных обществ до
племенных федераций, патримониальных, феодальных, имперских систем,
городов-государств и т. п.” Все они рассматриваются как некие застывшие
формы,
которые
изменяются
только
под
воздействием
внешних
обстоятельств или причин экономического, политического и т. п. характера,
но в любом случае вопреки самой сути традиционного общества.
Однако в первой половине шестидесятых годов взгляд на традицию
как на застывшую форму был поставлен под сомнение. Сделали это в первую
очередь не теоретики модернизации, а ученые-страноведы — востоковеды и
африканисты, которым приходилось непосредственно в ходе своей полевой
работы изучать те самые общества, которые обычно и называли
традиционными. Так, американский востоковед Люсьен Пай, утверждал, что
процессы модернизации оказываются “бесконечно более сложными, чем
предполагают существующие подходы.”
Выделяют следующие подходы к пониманию сущности традиций:
структурный
организованных
(традиция
стереотипах
как
выраженный
групповой
опыт,
в
социально
который
путем
пространственно-временно передачи аккумулируется и воспроизводится в
различных человеческих коллективах, или некоторый элемент такого опыта –
Э. С. Маркарян, Д. М. Угринович, А. Г. Спиркин, И. В. Суханов и др.);
коммуникативный (традиция как разновидность коммуникативной
инфраструктуры общества – А. П. Цветков) и др.
функциональный
(традиция
как
общественной жизни – И. А. Барсегян);
46
механизм
воспроизводства
нормативный (традиция как норма, разновидность социальной
регуляции – Р. А. Аленина);
номологический (традиция как общесоциологический закон – В. Д.
Плахов);
Каждый из указанных подходов имеет определенную познавательную
ценность, а многообразие подходов свидетельствует о сложности понятия
“традиция”. Велика роль традиций в сохранении жизненного мира этноса.
Традиция, воплощающая в себе процесс научения и трансляции культурного
опыта, сама является важнейшим механизмом поддержания, сохранения
устойчивости норм, ценностей, образцов этнической культуры. Вместе с тем,
традиция в жизни этноса – это не только трансляция специфических
культурных форм от поколения к поколению, но и соблюдение строгого
следования таким формам. Благодаря действию механизма традиции
структурируется опыт социокультурной идентификации, упорядочиваются
взаимодействия с представителями других групп в стандартных ситуациях.
Этому процессу благоприятствует то обстоятельство, что под действием
традиции в ходе социализации индивид может и осваивать стандартный
этноспецифичный опыт, и отходить от него.
Традиция выполняет также функцию селективного механизма по
отношению к инновациям. Благодаря действию традиции из инноваций
отбираются только те, которые не оказывают разрушительного воздействия
на этноспецифичные черты социума, и отвергаются те, которые грозят
последнему серьезными структурными изменениями. Функционирование
традиций обеспечивается не юридическими установлениями, а силой
общественного
мнения,
авторитетом
традиции.
Последнее
наиболее
труднопреодолимо при необходимости изменения существующих традиций,
введения в жизнь каких-либо новаций. Традиционность – важное свойство
этнической культуры во все периоды, определяющее как ее ценностнонормативное и смысловое содержание, так и социальные механизмы его
47
передачи, наследования в непосредственном общении от лица к лицу, от
мастера к ученику, от поколения к поколению, минуя институциальноорганизационные формы. Традиционная этническая культура определяет и
нормирует все аспекты жизнедеятельности этноса: уклад жизни, формы
хозяйственной деятельности, обычаи, обряды, регулирование социальных
взаимоотношений членов сообщества, тип семьи, социализация детей,
характер жилища, освоение окружающего пространства, тип одежды,
питания, отношения с природой, миром, предания, верования, поверья,
знания, язык, фольклор как знаково-символическое выражение традиции.
Существует точка зрения, согласно которой сфера применения
традиций особенно широка в архаических и докапиталистических обществах,
а в современном обществе их действенность снижается. Однако корректнее
говорить не о снижении значения традиции в современном обществе, а об
ускорении циклов селекции традиций из новаций и о сокращении
жизненного периода современной традиции. Эта особенность генезиса
традиций отражает наблюдаемую тенденцию ускорения общественного
развития.
Традиции
выступают
важнейшим
фактором
социокультурной
динамики. Социальная динамика осуществляется не сама по себе, а через
целенаправленную
деятельность
сознательных
индивидов,
через
совокупность действий, связывающих субъект и объект деятельности.
Традиции
в
большей
или
меньшей
мере
определяют
все
уровни
социокультурной динамики:
1. Каждый индивид, прежде чем он станет сознательным, должен
войти в культуру, пройти через процессы социализации и инкультурации,
усвоить достижения культуры, закодированные в виде традиций;
2. Любой вид деятельности осуществляется на основе традиций, в
диалоге
с
ними
(поэтому
традиции
рассматриваются
информационные модели успешной деятельности);
48
здесь
как
3. Выбор объекта деятельности осуществляется на основе опыта
предшествующих поколений, механизмом хранения, функционирования и
передачи которого выступают традиции. Именно традиции позволяют этносу
как
субстанциальной
системе
самостоятельно
поддерживать
специфицирующее качество, выступая одновременно в роли и самого этого
специфицирующего качества, и механизма его сохранения.
Совокупность традиций составляет специфику этноса, служит
своеобразной матрицей для воспроизводства этнической культуры. Традиции
нацеливают равнодействующую миллионов воль отдельных индивидов в
определенном направлении. Традиции – это константы социокультурной
динамики, камертоны и эталоны социальной деятельности.
В ходе освоения темы необходимо рассмотреть традиции в отдельных
отраслях
духовной
культуры:
политике,
морали,
праве,
искусстве,
философии, религии, науке.
Традиции в морали служат накоплению нравственного опыта,
который служит особо важной, а в ряде случаев исключительной
детерминантой человеческих поступков и поведения. Долговечность,
прочность и значительная устойчивость свойственны моральным традициям.
Многие из них, будучи сугубо историческим продуктом, порождением
своего времени, пережили целые исторические эпохи, не подвергшись
сколько-нибудь существенным изменениям, хотя нередко подлинный смысл
и вызвавшие их причины навсегда утрачены.
Право
служит
сознательным
и
рациональным
инструментом
общественного регулирования и занимает в классовом обществе главное
место в системе социального управления. Наличие традиций в праве служит
проявлением его непрерывности и преемственности. Традиции в праве
закрепляют связь между разными этапами его развития и сохраняют
определенные элементы или стороны права (касающиеся сущности,
содержания, формы, структуры, функций и др.)
49
Традиции в искусстве (художественные традиции) рассматриваются
как особый тип связи прошлого и настоящего, осуществляемой на разных
уровнях в соответствии с закономерностями исторического развития
искусства. Художественное творчество в своем развитии прошло несколько
ступеней.
Среди
них
–
традиционное
искусство
и
современное
профессиональное индивидуальное творчество, кардинально различающиеся
по своему отношению к традициям. Для искусства нового времени
характерно менее прямолинейное отношение к художественным традициям,
однако роль традиций в искусстве с его развитием не уменьшается, а
усложняется и возрастает. Появляются новые способы освоения прошлой
культуры, такие как цитирование, полистилистика, остранение, подражание,
коллаж и др. Традиции в искусстве не только сохраняют старое, но и
способствуют появлению нового.
В философии традициями называют относительно устойчивую
совокупность философских понятий и утверждений, относящихся к
онтологии,
гносеологии,
социологии,
или
этике,
совокупность
эстетике
и
относительно
теоретическим
устойчивых
основам
принципов
разрешения философских проблем. Формы и содержание преемственности, а
также методы реализации относительной непрерывности философской
традиции могут в значительной степени варьироваться.
Традиции в религии проявляются в религиозном сознании и
действиях, воплощаясь в мифах, догмах, вере, либо в религиозных культовых
обрядах, ритуалах, церемониях и т. д. Религиозные отношения по своей
природе статичны, малоподвижны, поэтому традиции в религии занимают
особое место, отличаются силой и устойчивостью.
В науке традиционность является столь же фундаментальным
свойством,
как
инновационность.
Традиционными
бывают
теории,
концепции, учения, научные школы. Существование традиций в науке
обусловлено тем, что наука является развивающейся социальной системой, и
50
все научные достижения оказываются продуктом исторического развития
специфических научных отношений. Роль традиций в науке бывает
позитивной – закрепление и передача научного опыта, осуществление
преемственности в познании, однако иногда, при появлении знаний,
отклоняющихся от императивов традиций, последние превращаются в
консервативные силы, научные догмы, препятствующие возникновению
принципиально нового.
Традиции присутствуют во всех отраслях духовного производства и
имеют в каждой отрасли специфическую окраску, определяемую структурой
конкретной отрасли духовного производства, отражают историю ее
возникновения и развития.
В связи с тесным переплетением и взаимовлиянием различных
отраслей духовного производства, показанным на примере Китая, в
диссертации
отмечается,
что
традиции
одной
отрасли
духовного
производства способны оказывать воздействие на ход развития других
отраслей духовного производства в пределах одной культуры. Кроме того,
это воздействие возможно и на межрегиональном уровне. Так, сегодня
пятитысячелетняя
китайская
культура,
ядро
которой
составляет
конфуцианство, обладает прежней жизнеспособностью и благотворно влияет
на
развитие
мировой
культуры.
Таким
образом,
традиции
могут
способствовать интеграции духовной жизни, диалогу культур и накоплению
позитивных ценностей в истории человечества.
В заключение следует отметить, что человечество объединится, или
оно погибнет – альтернативы этому в условиях современного мира не
существует. Но принудительное единство далеко не гарантирует ни
подлинного процветания человечества, ни дальнейшего развития его
культуры, ни даже прочного и длительного существования землян. Уже
сегодня недостаточно взаимной терпимости и желания понять друг друга:
51
необходимо именно активное стремление к братскому единству людей и
народов во всечеловеческом масштабе.
Человечество не может далее развиваться и процветать как
Человечество без максимальной свободы развития каждого человека и всех
народов. И в то же время и люди, и народы уже теряют возможность
дальнейшего развития и подлинно человеческого существования вне единой
мировой культуры, цивилизации единого всечеловеческого сообщества.
Решение этой дилеммы требует нестандартных путей и методов,
главным из которых, пожалуй, является воспитание интернационализма как
мировосприятия и мировоззрения в широком смысле этого слова.
Здесь
не
обойтись
традиционными
средствами
образования,
просвещения, воспитания молодежи. Воспитание интернационализма в
широком смысле слова предполагает: создание информационной среды,
обеспечивающей полноту и непрерывность “знакомства” народов друг с
другом
—
от
их
великих
исторических
достижений
до
каждого
значительного явления современности; стремление и готовность людей и
этносов к дружественной заинтересованности друг в друге и в восприятии
“чужого” достояния не только как равноправного собственному, но и как
желанного для своего национального и личностного развития; не только
приятия
совместной
“всечеловеческой”
жизни
как
исторической
необходимости, но и отношение к ней как к высшему благу, как самой
перспективной возможности для всех.
В этих условиях любая защита своей национальной самобытности,
которая приводит — хотя бы в малейшей степени — к самоизоляции народа
и неприязни или пренебрежению к другим народам и культурам, уже сегодня
может вести только к тоталитаризму, к фашизму или расизму — если не
политическому и экономическому, то, во всяком случае, к культурному,
духовному.
52
Тогда
напрашивается
вопрос:
как
же
при
этом
обеспечить
одновременно и дальнейшее объединение народов в целостное человечество,
и самобытное развитие каждого из народов, и условия для самореализации
каждого человека?
Прежде всего,
необходимо гарантировать для каждого народа и
каждого человека максимально широкий доступ к информации о культуре и
жизни, нуждах, достижениях, проблемах и чаяниях всех народов и
социальных
групп.
Такую
возможность
потенциально
представляет
современные средства массовой информации.
На сегодня это во многом возможность только потенциальная: ее
полной реализации мешают и политические соображения, и соображения
прибыли, и предрассудки самих народов, и многое другое. Но эта
возможность уже существует и технически будет возрастать во все больших
масштабах, и лишь от самих народов, от человечества в целом будет зависеть
ее подлинная реализация.
Какие-то элементы этой реализации уже наблюдаются в настоящем.
Так, ЮНЕСКО каждый год отмечает по всему миру юбилеи наиболее
выдающихся
деятелей
культуры
всех
времен
и
народов.
Неправительственные организации, творческие союзы и даже правительства
новых стран спонсируют пропаганду достижений своей национальной
культуры и информацию о жизни своего народа в ряде стран мира. И это —
не только средство объединения народов в мировую культуру. Это —
мощный фактор развития национальной культуры и национального
самосознания.
Предпосылкам современного интернационализма возникает не только
потому, что этого требуют экономика и политика, наука и техника,
материальные нужды и безопасность народов. Он возникает в его
современной форме как настоятельная необходимость всех народов земли
(при всей их национальной самобытности и всем стремлении не утратить ее)
53
в духовном взаимообогащении, совместном поиске новых путей к лучшему
будущему
и
максимальном
разнообразии
средств
его
достижения.
Историческая неизбежность взаимотяготения и взаимной нужды народов
друг в друге все более становится ныне еще и духовной потребностью. Это
уже не только неизбежность, но и свободный выбор.
Раздел I. Этнический состав Северо-Западного Кавказа
(конец XVIII – первая четверть XIX вв.)
Лекция 2. Северо-Западный Кавказ: геополитическое положение,
характеристика адыгских субэтнических групп
В ходе изучения данной темы анализируется геополитическое
положение Северо-Западного Кавказа к началу XIX в., а также этнический
состав региона до начала военной колонизации края.
Северо-Западный Кавказ – историко-культурная, этническая и
географическая область, ограниченная Черным морем на западе и
центральной частью северного склона Кавказского хребта на востоке,
охватывает часть территории правобережья Кубани до Главного Кавказского
хребта, а также территорию Причерноморья. Этническая
структура
северокавказского региона в основном сложилась в XVI-XVII вв. но, как и в
предыдущие эпохи, не оставалась неизменной: известные ранее народы
исчезали с этнической карты, менялись территории их расселения,
малочисленные
группы
складывались
в
более
крупные
этнические
объединения, а многочисленные распадались в результате сложных
внутриэтнических подвижек, но окончательное ее формирование произошло
к XIX в. Население Северо-Западного Кавказа характеризовалось этническим
многообразием при превалирующем влиянии адыгского этноса.
54
Динамика
этнической
структуры
Северо-Западного
Кавказа
в
рассматриваемый период была обусловлена изменением стратегических
планов в ходе освоения и интеграции региона в состав Российского
государства. К началу XIX в. Россия территориально значительно
продвинулась на юг, в результате чего северная часть Северо-Западного
Кавказа вплоть до реки Кубань уже стала имперскими владениями. Северный
Кавказ на его юго-западной оконечности номинально оставался в сфере
влияния Османской империи. Вне российского контроля продолжали
оставаться труднодоступные горные территории Северного и Центрального
Дагестана и Южной Чечни. Власть России не распространялась и на горные
районы Закубанской Черкесии. Эти территории служили убежищем для всех
непризнававших власть России и бежавших за Кавказскую укрепленную
линию. Перед Российским государством стояла задача объединить весь
регион de fakto.
В итоге русско-турецких войн политическая ситуация к концу XVIII –
началу XIX вв. изменяется в пользу России. Российская империя
территориально значительно продвинулась на юг, в результате чего северная
часть Северо-Западного Кавказа, вплоть до реки Кубань уже стала
имперским владением. Для закрепления своих позиций в приобретенных
землях царизм предпринял решительные меры.
Основное население территории между реками Ея и Кубанью в
рассматриваемый период составляли ногайцы и адыги. Для закрепления
своих позиций в приобретенных землях генерал А.В. Суворов в качестве
командира Кубанского корпуса в 1777 г. вытеснил адыгов-жанеевцев,
владения которых располагались по правому берегу реки Кубань. Жанеевцы,
проживавшие на правом берегу реки Кубань выше Копыла, в 1778 г.
переселились на левый берег реки Кубань, спасая себя от приближавшихся
российских
войск.
Окончательное
разорение
жанеевских
владений
произошло в 1802 г.. Истреблению подверглись и ногайцы. На местах, где
55
они кочевали, впоследствии было поселено Черноморское казачье войско,
сформированное из бывших запорожцев «по высочайшему соизволению
князем Потемкиным-Таврическим». Указом Екатерины
II оно было
переселено из-за Буга на Таманский полуостров и Прикубанские земли.
По мере продвижения российских границ на юг этот регион требовал
хозяйственного освоения. Крепостное право сдерживало массовый приток
крестьян из России, и царскому правительству пришлось прибегнуть к
энергичным иммиграционным мерам. Одной из них было привлечение на
новые территории иностранцев. Еще в 1763 г. был издан «Манифест о
даруемых иностранным переселенцам правах и преимуществах». В основном
иммигрантами являлись армяне и греки, южные славяне, которые бежали из
Османской империи под покровительство единоверной России, а также
немцы, в основном протестанты из тех районов Германии, где победила
контрреформация. Массовая эмиграция в Россию представителей из других
стран, а именно – переселение армян и греков с территории Османской
империи в Россию во второй половине XVIII в., совпадала с интересами
Российского государства.
Адыги, занимавшие правобережье Кубани, были вытеснены на левый
берег реки Кубань, ногайцы подверглись депортации, а на их место поселено
Черноморское казачье войско. Северный Кавказ на ее
юго-западной
оконечности, в том числе и Черкесия, номинально оставался в сфере влияния
Османской империи. Но, несмотря на это, царские войска предпринимают
многочисленные карательные экспедиции в адыгские владения, уничтожая
население и опустошая их селения. Усиление позиций Российской империи
предопределило в XIX в. развитие политической ситуации на СевероЗападном Кавказе, повлекшей за собой постепенное изменение этнического
облика региона.
Изучение этнического состава Северо-Западного Кавказа показывает,
что к концу XVIII – первой четверти XIX вв. адыги составляли основное
56
население двух территориально-политических образований Кавказа –
Закубанской Черкесии и Кабарды, делясь на западных и восточных адыгов.
Кабарда и Черкесия занимали значительную часть Большого Кавказа –
Западный (от Черного моря до Эльбруса) и Центральный (от Эльбруса до
Казбека). Начиная от северо-западной оконечности гор Большого Кавказа,
адыги занимали обширную территорию по обе стороны главного хребта
примерно на 275 км, с переходом на северные склоны Кавказского хребта, в
бассейн Кубани, затем Терека, простирались на юго-восток еще примерно на
350 км. По свидетельству адыгского этнографа Хан-Гирея, черкесские земли
простирались приблизительно на 600 верст, начиная от устья Кубани вверх
по этой реке, а потом по Куме, Малке, Тереку до границ Малой Кабарды,
которые простирались прежде до самого слияния Сунжи с рекою Тереком.
Ширина различная и меняется от 20 до 100 верст расселения, составляя,
таким образом, длинную узкую полосу, которая, начиная от восточного угла,
образуемого слиянием Сунжи с Тереком, то расширяется, то опять
стесняется, следуя на запад вниз по Кубани до берегов Черного моря.
Черкесские владения на севере граничили с территорией черноморских
казаков и Кавказской областью; на западе начинались от Черного моря; на
востоке достигали владений дагестанских и чеченских селений; на юге
земель осетин, балкарцев и абхазов. Согласно документам царской
администрации черкесы заселяли берег Черного моря от реки Сочи вверх до
Анапы и все пространство земли между Кубанью и главным хребтом
Кавказских гор.
В работе В.К. Гарданова границы территории, которую занимали
адыги к началу XIX в., показаны более четко. Автор указывает, что адыги
вдоль побережья Черного моря занимали территорию протяженностью около
250 км, граница на юге по реке Шахе с убыхами. В самом широком месте
земли адыгов простирались от берегов Черного моря на восток до Лабы
примерно на 150 км (считая по линии Туапсе-Лабинская), затем при переходе
57
из бассейна Кубани в бассейн Терека эти земли сильно сужались, чтобы
опять расшириться на территории Большой Кабарды до 100 с лишним
километров» Автор, на основе изучения труда Хан-Гирея уточняет линию
границы Черкесии вдоль реки Кубань, сокращая территорию лишь до устьев
Лабы, которая далее служила границей для адыгских земель примерно до
середины течения, где граница постепенно отходила на восток до Урупа, а
уже с этой реки переходила на Куму.
Для выяснения территориальных границ и численности населения
исследуемого региона в определенный исторический период достаточно
важную информацию с приложением карты Черкесии 1830 г. представляет
нам Л.Я. Люлье, известный кавказовед, проживший
значительное
время,
имея
возможность
среди адыгов
непосредственно
заниматься
изучением края. На карте мы находим подтверждения границ адыгских
земель, определенных Хан-Гиреем и В.К. Гардановым. Л.Я. Люлье
подтверждает, что под общим названием «черкес» подразумеваются все
народы, живущие на северном скате Кавказского хребта и на равнинах
кубанских, начиная от Кубани до крепости Анапы и оттуда по южному скату
хребта вдоль восточного берега Черного моря до земли убыхов. Сюда
входит, считая и землю убыхов, вся Малая Кабарда, большая половина
Кабардинской плоскости между реками Череком и Малкою, подгорное
пространство между Тебердою, Кубанью, Лабою, Белою, левый берег
Нижней Кубани и, наконец, восточный берег Черного моря от устьев Кубани
до реки Бзыби.
Согласно карте Черкесии 1830 г. северная граница Черкесии,
проходившая по левому берегу реки Кубань от самого устья впадения в нее
реки Лабы, отделяет ее от владений Российской империи, где находились
поселения украинцев и русских. Земли в северо-западной части Прикубанья
от Тамани до устья реки Лабы отведены были грамотой Екатерины II от 30
июля 1792 г. черноморским казакам, получившим название Черномория,
58
население которой в 1793 г. составило примерно 25 тысяч человек. Всего за
первую половину XIX в. в район Черномории мигрировало около 100 тысяч
переселенцев. На северо-востоке, в междуречье Лабы и Кубани, по соседству
с адыгами проживали ногайцы – тюркоязычные народы. На юго-востоке в
горах и предгорьях Большого Кавказа располагались абазины – народ адыгоабхазской языковой группы кавказской языковой семьи. Южная граница
Черкесии проходила по реке Шахе, где проживали убыхи. Черноморское
побережье Кавказа до реки Шахе служило юго-западным рубежом. Таким
образом, картографы и кавказоведы прошлого столетия, обозначая границы
Черкесии, включили в ее пределы земли, занимаемые абазинами и
ногайцами.
Адыги в рассматриваемый период делились на субэтнические группы.
Однако процесс консолидации этнических групп, политическая обстановка,
сложившаяся к началу XIX в., приводили к усилению миграционных
процессов, стирая внутренние границы между ними. В результате
перемещений отдельные этнические группы исчезали либо становились
частью других, более крупных, подвергаясь ассимиляции и миксации.
Историческая судьба каждой из субэтносов неповторима.
На территории от нижнего течения Кубани на севере до реки Джубги
на юге проживали натухайцы (натхкуадж) – один из самых многочисленных
адыгских народов. Их владения представляли нечто вроде треугольника,
основанием которого служила Кубань, а вершиной – река Джубга. На востоке
натухайцы граничили с Большой, а на юге, по реке Джубга, с Малой
Шапсугией. Земли граничили к востоку с шапсугскими владениями, к северу
– с Таманским полуостровом, к югу – с Черным морем, к юго-востоку (где
живут смешанно с шапсугами) – с абхазами. Они проживали в горах, на
равнинах, в окрестностях крепости Анапа.
Шапсуги (шапсыгъ) были самым многочисленным адыгским народом.
Они занимали северную покатость хребта гор от истока реки Псекупс до
59
Кубани и берег Черного моря от Анапы до реки Шахе. Земли шапсугов были
разделены на две части. Большая Шапсугия находилась севернее и от
натухайцев отделялась рекой Адагумом, а также Главным Кавказским
хребтом и представляла собой большой четырехугольник, образуемый
реками Адагумом, Кубанью и Супс. Малая Шапсугия была расположена по
южному склону Кавказского хребта по побережью Черного моря от реки
Пшады до реки Шахе, которая была границей с убыхами. От натухайцев
Малую Шапсугию отделяла река Джубга. Несмотря на большую территорию,
чем земли натухайцев, в ее состав входило много труднодоступных и
малозаселенных мест. Дворянскими фамилиями шапсугов были Абаты,
Шеретлуко и другие.
На юго-востоке от Большой Шапсугии, между реками Афипс и Белая,
жили абадзехи (абдзах). На севере они граничили с бжедугами в низовьях рек
Пшиш и Псекупс, южной границей служил главный Кавказский хребет. На
востоке территория адыгов
ограничивалась рекой Лаба. Абадзехи жили
ниже по отношению к абазинам, на северном склоне Кавказского хребта в
долинах рек Белая, Пшиш, Лаба, Псекупс, Вонобат, Супс, по последней они
граничили с шапсугами.
Достаточно подробное описание абадзехских владений мы находим у
автора XIX в. - А.Н. Дьячкова-Тарасова, который считал, что территория
абадзехов была огромной, достигая 7.150 квадратных верст, где западной
границей служила река Шебш, северная проходила «близ станицы
Калужской, Пшехской, Пензенской, поднималась вверх по Белой мимо
Майкопа через Фарс к Псефиру. Восточной границей служила река Псефир
вверх по течению мимо горы Тхач, подходя к горе Шугус. На юге
абадзехские земли ограничивались главным хребтом Кавказских гор.
Плотность населения была весьма высокой. Долина Псекупса представляла
собой сплошной аул, утопавший в фруктовых садах. Особенно густое
население по реке Хоарзе (Фарс) и близ Псефабе (Горячий Ключ). Долина
60
реки Пшехи очень густо населена. В ущельях, образуемых хребтами Котхом,
Пшафом, Тхамахинским, существовали сплошные поселения. Между реками
Курджипсем и Пшеха, в 10 верстах от последней, в 80-х гг. XIX в.
находилось значительное селение Даур Алим Гирея, давшее впоследствии
начало абадзехскому селению Хакуринохабль.
По соседству с бжедугами на Кубани находились жанеевцы (жанэ),
жившие также среди натухайцев на Адагуме и в 70 км. вниз по течению
Кубани, являясь их северо-восточными соседями, а также северо-западнее
Туапсе на реке Пшада. Ранее жанеевцы жили в долине Цемез и вдоль берегов
Черного моря до Пшады, оттуда перешли на северный скат горы, и под
влиянием различных событий их часть поселилась в низовьях Кубани в 70
верстах
от
бжедугов
и
на
Адагуме
среди
натухайцев,
образовав
немногочисленную этническую группу. Одной из причин их миграции с
правобережья Кубани явились события периода русско-турецкой войны
1787-1791 гг. На их землях, по указу Екатерины II, поселяются казаки, в
результате столкновений с которыми жанеевцы были фактически истреблены
«до
основания
черноморскими
казаками,
и
тогда
их
самобытное
существование исчезло». Остатки жанеевцев в первой половине XIX в. были
сосредоточены в одном ауле в бжедугских владениях на реке Пшише, на
Каракубанском острове и по реке Адагум среди натухайцев, где они были
подвержены процессу этнической ассимиляции другими субэтническими
группами адыгов.
Между нижним течением рек Белой и Лабы располагались
темиргоевцы (кlэмгуй). Темиргоевские владения были окружены землями
адамиевцев,
мохошевцев
и
абадзехов.
Сведения
о
темиргоевцах,
содержащиеся в русских, турецких, французских документах XVII-XVIII вв.
в основном обозначались фамилией их владельца – князя Болотоко. В
сведениях Штаба Отдельного Кавказского корпуса границы темиргоевских
земель определяются по правому берегу Белой и по гребню гор,
61
разделяющих сию реку от Лабы. В начале XIX в., под властью князя Мисоста
Айтекова насчитывалось 5 тыс. семей темиргоевцев. И. Дебу определяет
количество темиргоевцев в 10 тыс. дворов, находившихся на берегу реки
Кубани, начиная от Григориеполисского поста до Усть-Лабы.
На севере от абадзехов жили бжедуги (бжъэдыгьу), которые делились,
свою очередь, на хамышеевцев (хъымыш) и черченеевцев (чеченай).
Хамышеевцы располагались от шапсугской границы по реке Супс до реки
Псекупс; черченеевцы – далее на восток, до реки Пшиш. Помимо низовьев
рек Пшиша и Псекупса, местом проживания бжедугов указывается и
правобережье реки Кубань. На западе они граничили с шапсугами, на
востоке – с хатукаевцами. По утверждению Хан-Гирея, четыре брата –
бжедугские князья Черчан, Хмыш, Бегерсеко и Бастеко – разделили владение
между собой на четыре удела. Древнее название «бжедуги» сохранила та
часть общества, которая вошла в уделы князей Черчана и Хмыша.
Далее, по направлению к юго-востоку от темиргоевцев, проживали их
соседи – егерухаевцы, махошевцы, хатукаевцы, адамиевцы и мамхеговцы,
считавшиеся родственными темиргоевцам и объединенные под властью
княжеской фамилии Болотоко. Территория егерухаевцев (еджэркъуай) на
севере граничила с темиргоевскими землями, на юге сжатая между
территорией махошевцев и мамхеговцев. На востоке границей их земель
была река Лаба. Выделение егерухаевцев в самостоятельную категорию
произошло в результате конфликта Мисоста Айтекова с двоюродным братом
Джембулатом Болотоко, который в 1830 г. объединил эти два владения под
своей властью.
При впадении реки Курджипс в Белую, на территории в форме
треугольника, с вершиной в устье реки Курджипс обитали мамхеговцы
(мамхэгъ). Эта местность находилась во владении мамхеговцев, небольшого
племени, островком приютившегося среди обширной территории абадзехов.
На юге и западе они граничили с абадзехами, на востоке – с егерухаевцами, а
62
на севере лишь узкая полоса земель егерухаевцев отделяла мамхеговцев от
темиргоевских земель. В 1822 г. при столкновении с русскими войсками
мамхеги потерпели поражение, в результате около 1000 семейств было
поселено близ Прочного Окопа, оставшееся сосредоточилось в шести аулах:
Тлепсежи – на речке Кубиок, впадающей в Белую; Патукай – в 6 верстах от
Хачемзий, на месте которого позднее была основана станица Тульская; ДачеХабль – между Курджипсом и Белой; Кураль (самый многолюдный аул,
центр мамхеговцев) – на водоразделе между Белой и Курджипсом. Во второй
четверти XIX в. возник ряд новых мамхегских аулов (Хуретли, Бодржукай,
Куижи, Таганай, Бадженай, Уордане, Хакунай и др.), причем численность
мамхегов увеличилась, главным образом, благодаря переселению к ним
абадзехов и др. Всего мамхеговцев автор насчитывает около 1.500 дворов.
Территория расселения махошевцев (мэхъош) представляла собой
треугольник, вершина которого на севере упиралась в реку Лабу, а основание
граничило на юго-западе с землями абадзехов, на юго-востоке – с землями
бесленеевцев. Западная сторона этого треугольника проходила вдоль земель
егерухаевцев, а восточная – вдоль Лабы, где граничила с ногайцами. Их
селения распологалсь по ручьям Чехурадж, Белогиак и Шеде. Махошевцы
были немногочисленными, их небольшое владение расположено на запад от
бесленеевцев по рекам Фарс, Псефир, на левом берегу реки Лабы выше
егерухаевцев и др. Владетельной княжеской фамилией махошевцев были
Богорсуковы. Данный субэтнос исчез в результате эпидемии чумы в начале
XIX в., а также в ходе Кавказской войны с ее жесточайшими методами
покорения Северо-Западного Кавказа. Уцелевшие несколько десятков
человек нашли приют у бесленеевцев, проживавших в верховьях реки Лабы.
В 30-х гг. XIX в. бесленеевцев и махошевцев переселяют на низину в долине
рек – Большой и Малой Тегеней и Уля.
Родственные
темиргоевцам
адамийцы
(адэмый)
проживали
в
нескольких селениях сначала вблизи Кубани на реке Пшиш и по обеим
63
сторонам нижнего течения реки Белой, затем были вытеснены на правый
берег Кубани. Впоследствии адамийцы вновь переселились в Закубанье,
заняв земли по обоим берегам реки Белой, поблизости от устья и в низовьях
Пшиша. Они также, как и темиргоевцы, подчинялись князьям Болотоко.
Севернее абадзехов и восточнее бжедугов-черченеевцев, между
нижним течением рек Пшиш и Белая, обитали хатукаевцы (хьатикъуай).
Основателем хатукаевских владений был князь Хатико – младший братблизнец князя Болотоко. Получив свой удел, Хатико продвинулся на запад и
там поселился. Это доказывает родство темиргоевцев и хатукаевцев.
Хатукаевцы делились на 3 локальные группы: по реке Кубань, в 12 км от
крепости Прочный Окоп; по реке Лабе, недалеко от темиргоевской деревни
Базукай и на правом берегу реки Белой, между устьем последней и
впадением в нее реки Пшехи, около владений абадзехов. В «Кратком обзоре
горских племен…», датированном 1839 г., упоминаются две локальные зоны
расселения хатукаевцев – на Лабе и на Белой, между устьем ее и впадением в
нее реки Пшехи.
В ряду адыгских субэтносов были бесленеевцы (бэсльний), по
происхождению
близкие
к
кабардинцам.
К
1828
г.
бесленеевцы,
пострадавшие от чумы, стали довольно малочисленным сообществом. На
западе их земли находились по верхнему течению правобережья реки Лабы и
ее притоку Ходзю. В «Описании восточного берега Черного моря» за 1835 г.
упоминается 12 бесленеевских аулов, расположенных на Большой Лабе.
Бесленеевцы занимали территории в кубанской котловине, орошаемой
водами речек Ферзь, Б. Тегень, М. Тегень и Уруп.
На
северо-западе
по
реке
Ходзь
бесленеевцы
граничили
с
махошевцами, на востоке и северо-востоке – по реке Урупу и ее притокам –
Большому и Малому Тегеням – с ногайцами, пришедшими к ним на реку
Ходзь с Большого Зеленчука. С юго-запада в земли бесленеевцев врезались
селения абазин – баракаевцев. На юго-западе земли абазин огибали
64
бесленеевские владения по течению Ходзя, распространяясь на восток до
реки Урупа, образуя, таким образом, юго-восточную границу Черкесии за
Кубанью. Согласно ведомости 1804 г., бесленеевцев считалось до 17.000
дворов, а от западного редута до Кавказского укрепления Мохоши, по той же
ведомости, считалось 3.700 дворов, что, в общем, составляло 20.700 дворов,
то есть примерно 124.000-145.000 чел. Княжескими родами бесленеевцев
считались Каноковы и Шалоховы, потомки Беслана, сына легендарного
Инала, родоначальника кабардинских князей.
Среди
бесленеевцев
проживала
большая
часть
закубанских
кабардинцев (къэбэртай), проживавших ранее по Большому и Малому
Зеленчуку, а также по реке Уруп. Откуда в последующем они переместились
в западные районы Черкесии. В 30-е гг. XIX в. закубанские кабардинцы
проживали частично и среди абадзехов, по рекам Белая и Курджипс.
Закубанские
кабардинцы
являлись
частью
населения
Кабарды,
переселившегося в Закубанье в начале XIX в. В 20-х гг. XIX в. восемь
кабардинских аулов поселились в верховьях Фарса. На реке Ходзь
обосновался аул Магомеда Багашева. Аулы Жудова, Мамижева, Созарукова,
Мошозова, Натырбова находились между Лабой и Фарсом. В русских
источниках первой половины XIX в. кабардинцев Закубанья называют
«закубанскими» или «беглыми кабардинцами». В настоящее время они
составляют большую часть адыгского населения Карачаево-Черкесии, на
территории Адыгеи потомки их проживают в аулах Уляп, Ходзь, Блечепсин,
Кошехабль.
Причиной их переселения в Закубанье послужили восстания против
царизма 1804 и 1822 гг. После восстания в Кабарде в 1821-1822 гг.
кабардинцы массово переселились за Кубань. До переселения во всей
Кабарде насчитывалось 176 аулов, в том числе в Большой – 156, в Малой –
20 аулов. После переселения в Большой Кабарде оставалось всего 94 аула, то
есть около 60 аулов поселились в Закубанской Черкесии.
65
По соседству с шапсугами и убыхами, по верховьям рек Шахэ,
Псезуапе, Аше, жили хакучи (хьакlуцу), между современным Туапсе и Сочи.
Бжедуги, шапсуги и натухайцы звали их «агой», а темиргоевцы и другие –
«хакучи».
Самое южное черкесское побережье между Хостой и Шахэ занимали
убыхи (пех), на севере гранича с Малой Шапсугией, на юге – с Абхазией, на
северо-востоке от владений абадзехов их земли были отделены Кавказским
хребтом. Согласно документам царской администрации, убыхи занимали
территорию на юго-западной покатости Кавказских гор между реками Саше
и Шахэ. Влиятельными родами убыхов являлись Берзедж и Дишан.
В XIX в. перестали существовать такие адыгские субэтнические
группы, как хегаки, чёбсин (цопсын), гоайе. Гоайе занимали долину Псеюзе,
но постепенно подверглись ассимиляции со стороны натухайцев и шапсугов.
Субэтническая группа чёбсин, занимавшая большие территории в
Причерноморье и Приазовье, также растворяется среди натухайцев. К 90-м
гг. XVIII в. сохранилась лишь небольшая часть субэтноса под Анапой.
Сегодня «цопсын» – адыгское название Архипо-Осиповки. Одна из долин
восточного берега Черного моря, где было
построено укрепление
Михайловское, сохранила это название.
К началу XIX в. хегаки расселялись на речке Анапка, в местности
между Анапой и Суджук-Кале, то есть окруженные натухайцами и частично
шапсугами. Хегеки составляли владение Бей-Магомета Занова, бежавшего в
Турцию, где он был известен под именем Сефер-Бея и проживали среди
натухайцев. В первой половине XIX в. наблюдается их миксация с
натухайцами и шапсугами. Известно, что 4000 дворов хегаков в период
русско-турецкой войны 1828-29 гг. переселились во владения темиргоевцев,
натухайцам и шапсугам. что сократило владения Занов. В начале XIX в.
большинство документов называют и хегаков, и жанеевцев натухайцами и
шапсугами, не выделяя их в самостоятельные группы. На сокращение
66
численности хегаков также повлияла чума 1812 г., в результате оставшиеся
совершенно слились с натухайцами. Среди шапсугов и натухайцев
растворяются и жанеевцы.
Как видно, значительно разрастаются такие группы, как абадзехи,
шапсуги и натухайцы, в результате социальной борьбы, политических и
экономических причин. Численность темиргоевцев возрастает в силу
политической зависимости от темиргоевских князей некоторых адыгских
субэтнических групп, что приводило к вливанию их в темиргоевскую среду.
Численный состав адыгов в исследуемый период – вопрос сложный и
до сих пор остается спорным. Весьма противоречивые сведения затрудняют
изучение данной проблемы. Адыги не вели статистики народонаселения.
Полезными являются данные царского командования, которое официально
занималось этим вопросом. Но авторы применяли различные методы
исчисления, неодинаноковым был и подход их к оценке сведений,
полученных от своих информаторов. К тому же, адыги негативно относились
к переписи населения.
Численность адыгских субэтносов
Название
К.Ф. Сталь
Торнау
Г.В.Новицкий
народностей
1840-1850 гг.
1830 г.
1830 г.
Натухайцы
20.000
300.000
240.000
(вместе
с
шапсугами.)
Шапсуги
160.000
–
300.000
Абадзехи
50.000
160.000
200.000
Бжедуги
4.000
6.000
60.000
Хатукаевцы
6.521
5.000
20.000
Темиргоевцы
8.168
9.000
80.000
(вместе
с (вместе
егерухаевцами.)
егерухаевцами.)
67
с
Мамхеговцы
3.420
-
-
Егерухаевцы
-
-
-
Махошевцы
5.000
2.500
8.000
Бесленеевцы
5.115
8.000
70.000
Кабардинцы
45.254
5.000
-
Всего
307.478
495.500
1.082.200
Самыми многочисленными были шапсуги: К.Ф. Сталь насчитывает
160.000 чел., Торнау – 300.000 чел. (вместе с натухайцами), Г.В. Новицкий –
300.000 чел. Вторыми по численности были абадзехи: К.Ф. Сталь – 50.000
чел., Торнау – 160.000 чел., Г.В. Новицкий – 200.000 чел. Натухайцы, по
сведениям К.Ф. Сталя, насчитывали 20.000 чел., а Г.В. Новицкий определял
их численность в 240.000 чел.
Все источники свидетельствуют о том, что шапсуги, натухайцы и
абадзехи в первой половине XIX в. составляли около 2/3 численности
населения, то есть больше половины населения Черкесии. Эти субэтносы, в
результате классовой борьбы не допустившие установления верховенства
власти со стороны княжеско-дворянской верхушки, стали относиться к
демократическому
численности
типу
общества.
демократических
На
самом
народностей
деле,
произошло
превосходство
по
причине
социального характера. Население территории шапсугов, натухайцев и
абадзехов пополнялось за счет крестьянских масс из аристократических
обществ. Также, на этот процесс не мог не повлиять и политический фактор,
то есть народно-освободительное движение против экспансии царизма.
Таким образом, в первую половину XIX в. у адыгов происходило
массовое смешение и слияние различных субэтнических групп, значительное
увеличение как численно, так и территориально одних, и уменьшение других.
Имели место и факты полного исчезновения некоторых народностей. Это
было связано не только с консолидацией адыгского народа и обострением
68
классовой борьбы, но и с осложнением внешнеполитических факторов.
Основой складывавшихся народностей у адыгов становятся шапсуги,
абадзехи, натухайцы, темиргоевцы, бесленеевцы.
В монографии С.Г. Кудаевой приводятся данные различных авторов о
численности адыгов: с точки зрения В.К. Гарданова, численность адыгов не
превышала 500.000 чел. По данным Хан-Гирея, эта цифра составляла 265.140
чел., Ф.Ф. Торнау – 495.500 чел., К.Ф. Сталя – 307.478 чел., Г.В. Новицкий
определял численность адыгов в 1.082.200 чел., Т. Лапинский – 800.000 чел.,
А. Лангворт – около 1.000.000 чел. Такое расхождение в цифрах объясняется
тем, что Ф.Ф. Торнау учитывал лишь мужскую часть населения. Сведения
Хан-Гирея совпадали с данными русской военной разведки, определявшей
количество
вооруженных
людей,
которых
могли
выставить
адыги.
Исследователи более позднего периода считают, что адыгов насчитывалось
около
700.000-750.000
Черноморском
чел.
побережье,
Если
суммировать
высланных
всех
сухопутным
умерших
путем,
а
на
также
оставшихся на родине адыгов, то можно согласиться с данными
фельдмаршала И.Ф. Паскевича – 1.700.000 чел.45
Таким образом, в результате длительного соперничества России и
Османской империи на Северо-Западном Кавказе, вызвавшего серию русскотурецких войн, политическая ситуация к концу XVIII – началу XIX вв.
изменяется в пользу России. Границей между этими государствами
становится река Кубань. Несмотря на то, что адыги номинально оставались в
сфере
влияния
турецкого
султана,
царские
войска
предпринимают
многочисленные карательные экспедиции в их владения. Усиление позиций
Российской империи предопределило в XIX в. развитие политической
ситуации на Северо-Западном Кавказе, повлекшее за собой постепенное
изменение этнического облика региона.
45
Кудаева С.Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа…С. 97.
69
В ходе изучения этнического состава Северо-Западного Кавказа
следует
отметить,
что
адыги,
несмотря
на
активные
внутренние
миграционные процессы, неизменно сохраняли внешние границы этнической
территории, с конца XVIII – 30-х гг. XIX в. вошедшей в историю под
названием Черкесия. Несмотря на внутреннее деление на субэтнические
группы, для адыгов характерным являлось единство этноса, а субэтносы в
результате постоянного взаимодействия не имели особых этнических
различий. Внутренние миграции, процесс поглощения одних этносов
другими, то есть ассимиляция, а также процесс консолидации происходили в
Черкесии в конце XVIII – начале XIX вв. в основном под влиянием
политических факторов. В результате этого менялись границы владений
различных субэтнических групп, внешние же границы Черкесии оставались
неизменными.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что в рассматриваемый
период прослеживались некоторые изменения в этническом расселении
адыгов. Одни адыгские субэтнические группы сокращались численно и
территориально, другие, наоборот, становились более крупными. К началу
XIX в. жанеевцы, чёбсын, гоайе, хегики были почти полностью поглощены
другими, более жизнеспособными адыгскими субэтническими группами,
потеряв свою самобытность. Другие – такие, как хегаки, мамхеговцы,
адамиевцы, уже в ходе Кавказской войны стали сливаться с более крупными
народностями. Так, адамиевцы, мамхеговцы соединились с темиргоевцами,
хегаки – с натухаевцами, растворившись в них полностью.
В целом же территория расселения адыгов, называемая в русских,
турецких, английских и других источниках «Черкесия», с ее автохтонным
населением с самоназванием «адыги» и иноназванием «черкесы» в начале
XIX в. занимала огромную территорию Северного Кавказа. Ее владения
начинались от Черного моря на западе до реки Уруп на востоке. На севере
границей ее являлась река Кубань от устья до впадения реки Лабы, на северо70
западе от Таманского полуострова. На Черноморском побережье Кавказа
владения адыгов тянулись от устья реки Кубани до реки Шахэ на юге.
Таким образом, внутренние миграционные процессы не влияли на
сохранность внешних границ этнической территории адыгов с конца XVIII
по 30-е гг. XIX в. В рассматриваемый период прослеживались некоторые
изменения в этническом расселении адыгов. Одни адыгские субэтнические
группы сокращались численно и территориально, другие, наоборот,
становились более крупными. К началу XIX в. жанеевцы, чёбсын, гоайе,
хегики были почти полностью поглощены другими, более жизнеспособными
адыгскими субэтническими группами, потеряв свою самобытность. Другие,
такие как хегаки, мамхеговцы, адамиевцы, уже в ходе Кавказской войны
стали сливаться с более крупными народностями. Так, адамиевцы,
мамхеговцы соединились с темиргоевцами, хегаки – с натухаевцами,
растворившись в них полностью. Но, несмотря на внутреннее деление на
субэтнические группы, для адыгов характерным являлось единство этноса, а
субэтносы, в результате постоянного взаимодействия, не имели особых
этнических различий.
Лекция 3. Расселение и состояние полиэтнического состава региона
Тема лекционного занятия посвящена изучению причин миграции и
географии расселения различных пришлых народов, населявших территорию
Черкесии
и
Северо-Западного
Кавказа,
а
также
особенностям
их
этнокультурного взаимодействия с адыгами.
Для воссоздания этнической картины, сложившейся к началу XIX в.,
необходимо изучение всего народонаселения исследуемого региона, так как
без глубокого историко-демографического анализа этнических групп
невозможно восстановление этнического облика любой страны, или ее
71
отдельного региона. Этническая карта края и культурное многообразие
населяющих ее национальностей формировались в условиях исторически
достаточно
длительного
совместного
проживания
и
взаимовлияния
различных по языку и культуре народов. В связи с этим интерес представляет
изучение географии расселения не только адыгов, но и других этносов,
проживавших на Северо-Западном Кавказе.
В начале XIX в. территория Черкесии и Северо-Западного Кавказа в
целом была достаточно пестрой по национальному составу. Среди адыгов
проживали представители армянского, греческого и еврейского народов.
Проблема истории возникновения микроэтносов — греков-урумов и
черкесогаев - среди адыгов рассматривается неразрывно в силу того, что их
взаимоотношения имеют длительную совместную историю.
Проживание по соседству, единая религия приводили к миксации этих
двух этносов. Совместное проживание и единая религия приводили к
миксации этих двух этносов путем заключения межнациональных браков.
Частые браки между черкесскими армянами и греками можно объяснить тем,
что у тех и других конфессиональный фактор доминировал над этническим в
восприятии
других
культур.
То
есть
в
условиях
доминирования
мусульманской культуры, когда смешанные браки неизбежны, черкесогаи и
урумы отдавали явное предпочтение лицам, исповедующим христианство,
вне зависимости от их этнической принадлежности. Позитивное отношение к
смешанным бракам было основано на убеждении, что, несмотря на различия
в христианских толках, можно обеспечить этническое воспитание детей хотя
бы как носителей христианской культуры. Таким образом, религия являлась
для них связующей нитью.
Говоря о смешанных браках, следует объяснить наличие брачных
союзов адыгов с черкесскими армянами и греками. В силу своей
экономической деятельности, представители армянской и греческой диаспор
обладали высоким социально-экономическим статусом, в результате чего
72
они являлись представителями аристократического класса. Адыгские же
аристократы предпочитали вступать в брак, руководствуясь сословной
принадлежностью. В свою очередь, для черкесогаев и урумов это был способ
успешной интеграции в черкесское общество. В архивных документах
упоминается Панделий Девтеров и его жена Хакуз, сыновья Шумахо, Тыкъо,
дочь – Гуашь; вдова Бзыбз Девтерова и ее сыновья Пшимаф, Егор, Петер,
дочери Гуашь, Елена.
Длительное проживание армян греков и евреев среди адыгов в
условиях изоляции от основного этноса с течением времени привело к тому,
что они стали адыгоязычными и мало чем отличались от адыгов внешне. То
есть, адыгский язык являлся единственным коммуникативным средством и
естественной основой метаязыка культуры.
Национальный язык в большей степени является хранителем
культуры. Другой язык – это всегда другая культура. Поэтому внешне, по
своим культурным признакам, черкесские греки и армяне практически не
отличались от адыгского населения. Длительное совместное проживание с
адыгами способствовало установлению тесных хозяйственных и культурнобытовых
контактов
между
ними.
Это
привело
к
интенсивным
трансформациям в образе жизни черкесогаев, урумов и евреев под влиянием
окружаемой адыгской материальной и духовной культуры в соответствии с
социо-культурной и экономической характеристикой Черкесии. Основные
фольклорные жанры были адыгскими, то есть их фольклорная традиция была
часто общеадыгской фольклорной традицией. Они жили в саклях, не
отличались от адыгов одеждой, системой питания, соблюдали все пищевые
запреты, которые к тому времени, с принятием ислама, получили
распространение среди западных адыгов. Соблюдали все основные правила
адыгского этикета – адыгэ хабзэ. В свадебных обрядах присутствовали
адыгские ритуально-игровые элементы: конные соревнования во время
перевоза невесты в дом жениха, бой всадников дубинами при приближении к
73
дому жениха (къорэгъзау), борьба за сафьяновую кожу верхом на лошадях
(шъозехь).
Черкесские
греки
и
армяне
соблюдали
основные
соционормативные институты гостеприимства, аталычества, куначества,
кровомщения.
Единственно, что внешне отличало их от адыгов, – это иная
этноконфессиональная принадлежность. Как черкесские греки, так и
черкесские
армяне
представляли
собой
довольно
устойчивые
этноконфессиональные общности, в определении самосознания которых
доминирующее значение отводилось религии. В этничности данных
этноконфессиональных
религиозной
групп
принадлежности,
делался
акцент
на
противопоставлении
исключительности
себя
адыгам,
исповедующим мусульманскую религию, хотя и говорящим на одном и том
же с ними языке и характеризирующимся общей культурной традицией.
Греки являлись православными христианами, черкесогаи принадлежали к
армяно-григорианской
христианской
религии,
евреи
являлись
представителями иудаизма. В силу этого отдельные элементы традиционного
воспитания все же сохраняли и у черкесогаев, и у урумов, и у евреев
некоторые
отличия
в
образе
жизни.
Их
иная
конфессиональная
принадлежность особенно проявлялась в обрядах похоронно-поминального
цикла, который наиболее тесно связан с идеологическими ценностями и как
никакая другая зависит от конфессиональных условий. Так, похороны
проводились согласно христианским требованиям, в гробу, на могилу
ставили крест, в отличие от адыгов, которые поступали в соответствии с
предписаниями ислама. Их женщины имели возможность посещать
кладбища. Хотя и в похоронно-погребальных обрядах были традиции,
характерные для традиций адыгов начала XIX в.
Находясь под ассимиляционным воздействием адыгов, они все же еще
сохраняли свою конфессиональную принадлежность. В силу этого отдельные
элементы традиционного воспитания все же сохраняли и у черкесогаев, и у
74
урумов некоторые отличия в образе жизни.
Важнейшим условием
сохранения своей самобытности для греков-урумов и армян-черкесогаев
являлось самосознание.
Черкесские греки армяне и евреи имели торговую профессиональную
ориентацию. Основным их занятием являлась промышленность и мелкая
торговля. Разбросанные среди адыгов армяне сосредоточили в своих руках
практически все торговые обороты. Развитие торговли стимулировало рост
армянской, греческой и еврейской общин на протяжении XIX в., что
непосредственно влияло на процесс этнических перемен на Северо-Западном
Кавказе.
Локальными группами в крайних пределах этнической территории
адыгов проживали абазины. Они представляли две обособленные группы –
северокавказскую и южную. Северокавказская группа представляет абазиншкарауа:
башильбай,
баракай,
баговцы,
тамовцы,
чаграи.
Абазины
северокавказской группы локализировались в трех местах северо-восточной
покатости Кавказского хребта: у истоков реки Уруп, по Большому и Малому
Тегеням, а также у правых притоков Большого Зеленчука, в лесистых горах.
Но последнее место обитания башилбаевцы покинули вследствие чумы,
поселившись по реке Уруп, расположившись к 1807 г. в двух местах: по
Урупу и Большому и Малому Тегеням.
Представители территориальной
группы южных абазин были садзы или джигеты, жившие ближе к морю
между адыгами и абхазами в междуречье Мзымта и Бзыбь, в долине реки
Сочи. Известны также группы аигба, медовеевцы, ахчипсоу, псху и другие.
В конце XVIII в. изменение геополитической ситуации на СевероЗападном Кавказе, а также продвижение пограничья Российской империи к
географическим пределам Черкессии позволяют налаживать контакты с
черкесогаями и черкесскими греками. С этого момента среди христиан
Черкессии прослеживается пророссийская ориентация, что приводит к
усилению
иммиграционных
процессов
75
из
Закубанья
на
российские
территории, что непосредственно влияло на этнический состав СевероЗападного Кавказа. Наиболее крупным селением, которое было основано на
Российской территории выходцами из Черкесии, был аул Гривенской,
возникший в 1799 г.
На Северо-Западном Кавказе среди адыгов и абазин проживали
горские евреи. Так же, как черкесские греки и армяне, горские евреи СевероЗападного Кавказа внешне мало чем отличались от кавказских народов. П
Также на рассматриваемой территории находились закубанские
ногайцы и абазины, проживавшие по соседству и среди адыгов. На севере и
северо-востоке до конца XVIII в. соседями адыгов являлись ногайцы,
которые под давлением России постепенно меняют место расселения. С юга
и юго-востока, вклиниваясь в адыгские владения, проживали родственные им
абазины,
делившиеся
на
две
этнолокальные
группы
–
южные
и
северокавказские.
Раздел II. «Истоки трансформации этнической структуры
Северо-Западного Кавказа (20-50-е гг. XIX в.)»
Лекция 4. Народы Северо-Западного Кавказа в контексте
геополитических интересов противоборствующих держав (20-е гг. XIX в.)
В ходе изучения данной темы исследуются вопросы, связанные с
накоплением и обострением межгосударственных противоречий в борьбе
ведущих европейских держав с конца 20-х гг. XIX в., в центре которых
оказался Северо-Западный Кавказ, а также их последствий, повлиявших на
последующие изменения в этнической структуре региона.
Северо-Западный
Кавказ
занимал
важное
место
во
внешнеполитических планах Османской империи, России, Англии и
76
Франции. Османская империя активизировала антирусскую деятельность,
направленную
на
укрепление
своего
политического
влияния
в
рассматриваемом регионе, а английское правительство, сталкивая между
собой Россию и Османскую империю, преследовало цель ослабить позиции
России на Кавказе.
Проблему
трансформации
этнической
карты
Северо-Западного
Кавказа необходимо рассматривать на широком фоне международной
политики ряда держав, особенно России и Османской империи, где Кавказ
имел важное международное значение. С конца 20-х гг. XIX в. происходит
накопление и обострение межгосударственных противоречий в борьбе
ведущих европейских держав за источники сырья, рынки сбыта, в центре
которых
оказался
антагонизма,
Северо-Западный
изменение
Кавказ.
интересов разных
Постепенное
держав в
нарастание
этом
регионе
прослеживается по основным историческим вехам. Это Адрианопольский
(1829 г.) и Ункяр-Искелессийский (1833 г.) договоры, Лондонские конвенции
(1840-1841 гг.), Крымская война (1853-1856 гг.), и, наконец, последний этап
Кавказской войны. Эти договоры и события знаменовали поступательное
движение России по Черноморскому побережью. Все вышеперечисленные
исторические вехи наложили значительный отпечаток на дальнейшее
этнополитическое развитие региона.
Россия в борьбе с Османской империей преследовала собственные
политические интересы, которые состояли в урегулировании пограничных
проблем на Дунае, ликвидации там турецких крепостей, подтверждении
привилегий Дунайских княжеств и Сербии, восстановлении прав торгового
судоходства России в черноморских проливах. Кроме того, Россия ставила
задачу вытеснения Османской империи с северо-восточных черноморских
берегов. Территория Черкесии находилась под протекцией турецкого
султана, и Россия стремилась к их завоеванию. С выходом к морским
коммуникациям
открывалась
прямая
77
дорога
на
Константинополь
–
сокровенную мечту российского самодержавия. Поэтому для России было
чрезвычайно важно утвердить, а затем и упорядочить свое господство на
Черноморском побережье, в частности, в Черкесии. Несомненно, царское
правительство в своей внешней политике отражало интерес российской
аристократии, стремившейся к приобретению новых земель, желавшей
расширения сферы феодальной эксплуатации, рынков сбыта и источников
сырья для развивающейся российской промышленности, так как рамки
внутреннего рынка были ограничены и стеснены крепостным строем.
Черкесия
же
обладала
разнообразными
природными
богатствами
и
сырьевыми ресурсами.
В военно-стратегическом отношении Северо-Западный Кавказ также
имел большое значение, являясь связующим звеном между Россией и
Закавказьем.
Присоединение
Северо-Западного
Кавказа
укрепляло
безопасность южных границ Российской империи. Но для реализации целей
России необходимо было заставить отступить Османскую империю.
Реваншистские настроения в Османской империи поддерживала Англия,
являясь соперником России в овладении Кавказом. Именно сплочение
европейских держав, в частности Англии и Франции, в защиту Османской
империи, препятствовали царизму в достижении его целей.
Англия была заинтересована в торговле с кавказскими народами.
Экспорт Англии в Черноморские гавани в 40-х гг. XIX в. оценивался в 2 млн.
фунтов стерлингов. Ежегодно в начале 30-х гг. XIX в. с черкесского
побережья в Англию отправлялось до 200 судов, груженных продуктами
местного происхождения. Английские дипломаты, стремясь не допустить
закрепления позиций России на Черноморском побережье, всячески
поддерживали устремления Османской империи на КавказеАнглийское
правительство, провоцируя действия Османской империи против России,
использовало ее как серьезную силу для ослабления России на Кавказе.
Османское правительство и европейские державы, поддерживая кавказские
78
народы, не думали о их благоденствии, но пользовались ими как средством
противодействия России – «загребания жара чужими руками». Политика
султанской Турции на Кавказе находила поддержку не только со стороны
Англии, но и Франции, которая преследовала собственные экономические и
политические выгоды, стремясь к ослаблению позиций России на Кавказе и
на Черноморском побережье. Активизация антирусских действий со стороны
Англии и Франции развивалась с начала XIX в., продолжаясь и после
подписания Адрианопольского мира 1829 г., несмотря на то, что Османская
империя отказалась от притязаний на Кавказе и восточном побережье
Черного моря.
Особое внимание уделяется
результатам русско-турецкой войны
1828-1829 гг., вследствие которых
Северо-Западный Кавказ становится
частью Российской империи. В контексте рассматриваемой проблемы
внимание акцентировалось на влиянии политических событий этого периода
на
процесс изменения этнической карты Северо-Западного Кавказа.
Выясняется, что Россия в ходе разрешения международного конфликта
подготовила почву для утверждения своих позиций на Северо-Западном
Кавказе.
Побежденная Османская империя подписала 14 сентября 1829 г.
Адрианопольский мирный договор, в 4 статье которого отмечалось о
передаче участка Черноморского побережья от устья Кубани до пристани
Св. Николая в вечное владение Российской империи, что весьма
отрицательно сказалось на исторической судьбе адыгов. Победа России в
русско-турецкой войне в 1828-1829 гг. давала ей возможность сосредоточить
все свое внимание на присоединении Кавказа. Внешнеполитическая же
ориентация народов Северо-Западного Кавказа не имела решающего
значения, так как самостоятельно, без обращения к внешним политическим и
силовым рычагам, решить проблему было невозможно.
79
В царском правительстве не было единого мнения относительно
способов фактического включения Северо-Западного Кавказа в состав
Российской империи. Русская колонизационная и переселенческая политики
были настолько же сложными и противоречивыми, каким был круг
вовлеченных в ее осуществление политических сил, социальных и
этнических групп. Общие принципы колонизационной политики могут быть
прослежены
по
изменению
правительственного
курса,
пытавшегося
использовать различные стратегии для одной, главной задачи – укрепления
русского присутствия в регионе и прочного присоединения Кавказа к России.
К моменту окончания русско-турецкой войны 1828-1829 гг. очевидным было,
что отдельные карательные экспедиции против кавказского населения не
приносили желаемых результатов. К тому же, не все царские чиновники
поддерживали военный метод покорения Северного Кавказа. В правящих
кругах России существовало два диаметрально противоположных подхода в
методах покорения народов Кавказа. К первому принадлежали сторонники
мирной по средствам и торгово-хозяйственной по характеру экспансии, ко
второму относились российские военные, являющиеся ярыми сторонниками
широкомасштабных военных действий.
Сторонником первого подхода С.Е. Десницким в эпоху правления
Екатерины II в документе 1768 г. «Представление о учреждении
законодательной, судительной и наказательной власти в Российской
империи» предлагалось превращение адыгов и других кавказских народов,
проживавших на подвластных России территориях Северо-Западного
Кавказа, в военное сословие наподобие казачества, путем просвещения.
Правительство эпохи правления Павла I также не поддерживало политику
военной экспансии и утверждения в регионе каких-либо российских
административных порядков. Александр I поддерживал проект князя А.Б.
Куракина о добровольном переселении на территорию Черноморского
войска. В 1816 г. адмирал Мордвинов предлагал установить мирные и
80
торговые отношения, изменить характер и методы политики в отношении
кавказских народов, критикуя действия военными методами. Но данный
проект
оказался
экспансионистской
проигрышным
политики
в
царизма
условиях
на
Кавказе
осуществления
генералом
А.П.
Ермоловым, у которого был другой взгляд - повелевать властью, а не
просьбами. Он действовал только военными методами. Политика генерала
А.П. Ермолова на Кавказе (1816-1827 гг.) отличалась кровопролитными
действиями. Собственно, и Мордвинов отвергая военный метод, исходит из
политики русификации кавказского населения, что также характеризует его
подход как колонизаторский. Итак, в противовес предлагаемым мирным
методам покорения Северного Кавказа, в 20-30-е гг. XIX в. здесь
осуществлялась политика командующего царскими войсками на Кавказе с
1817 г. генерала А.П. Ермолова. Именно метод военного присоединения
Северо-Западного Кавказа обусловил дальнейшие процессы в изменении
этнической структуры региона. Отказавшись от отдельных карательных
экспедиций, А.П. Ермолов перешел к планомерному продвижению вглубь
Северного Кавказа, окружая горные районы укреплениями, прокладывая
дороги, сжигая «непокорные» аулы.
После подписания Адрианопольского мирного договора 1829 г.
царское правительство начинает активные военные действия по завоеванию
региона. Заселение «очищенных от горцев земель» новыми поселенцами
воспринималось царским правительством уже как дело внутренней политики
России.
Дальнейшие
события
послужили
началом
трансформации
этнической карты Северо-Западного Кавказа.
В целом, структура и процесс колонизации определялись целым
комплексом разных стратегий, встроенных в имперское внешнеполитическое
соперничество и российское освоение региона: от военно-казачьего
расселения,
инородческой
колонизации
до
стихийных
крестьянских
миграций в регион, а также выселение адыгов и других народов Северо81
Западного Кавказа в Османскую империю. Полоса военно-казачьих
поселений становилась самой границей Российского государства. В тылу
этой полосы разворачивается гражданская колонизация. Еще в конце XVIII в.
была построена Кавказская линия – сплошная полоса расселения казачьих
войск от Тамани и устья Кубани на западе и до устья Терека на востоке. И
теперь предполагалось продвижение таким же образом и в Закубанье.
На рубеже 20-30 гг. XIX в. оформилась общая структура трех зон
российского имперского освоения Кавказа, одной из которых становится
зона Большого Кавказа, то есть земли кавказских народов, которые
находились в различной степени зависимости от Российской империи или же
полностью независимых от нее. Земли адыгов оказались в этой зоне. Новые
русские кордонные линии, возникавшие в качестве оборонительных
барьеров, развивались как череда военно-казачьего наступления в регионе,
уничтожая селения адыгов, вынуждая их покидать исконные земли.
Кавказская
война
XIX
в.
стала
борьбой
за
обеспечение
военно-
административного контроля Российской империи над зоной Большого
Кавказа, чтобы соединить все три зоны в устойчивую часть империи с
прочной внешней границей, которая продвигалась на черноморское
побережье,
Карское
нагорье
и
Аракс.
Военно-казачья
экспансия
определялась и логикой борьбы с «непокорной» частью кавказского
населения, и стремлением упрочить коммуникации между Предкавказьем и
Закавказьем, которое в первой половине XIX в. становится территорией
Российской империи.
На рассматриваемой территории царское правительство применяло
различные
типы
колонизации
–
военно-казачью
и
гражданскую,
крестьянскую и помещичью, организованную и стихийную, которые
связаны с доминирующими политическими и хозяйственными стратегиями
освоения края на том или ином этапе. Черкесия становится продолжением
зоны сплошной колонизации и полной смены населения, осуществленной в
82
Российской
империи
в
военно-стратегических
целях
и
по
внешнеполитическим основаниям. Термин «колонизация» имеет различные
значения: военная экспансия, грабительская практика, процесс освоения
новых территорий. В ходе интеграции в российское государство адыгских
земель проявили себя все эти аспекты; колонизационная политика была столь
же сложной и противоречивой, каким был круг вовлеченных в ее
осуществление политических сил, социальных и этнических групп. Но в
целом она, используя различные стратегии, преследовала главную цель –
укрепление русского присутствия в регионе и прочного присоединения
Кавказа к России. Изменения в административной, военной и миграционной
политике
отражали
лишь
особенности
того,
каким
представлялось
«национальное освоение» империи ведущим кавказским военачальникам.
Лекция 5. Начало военной колонизации Северо-Западного Кавказа
Россией и миграционные процессы (30-50-е гг. XIX в.)
Для
полного
осмысления
данной
темы
необходимо
изучить
особенности военных действий Российской империи в Черкесии в 30-50-е гг.
XIX в.
Начиная с 1830 г. Россия разворачивает активные военные действия в
Закубанье. Царские войска вторглись в Черкесию со стороны реки Кубань и
на Черноморском побережье. Как известно, восточный берег Черного моря
был признан территорией России с 1829 г. В 1822 г. к России окончательно
была присоединена Кабарда. На юго-востоке от Черкесии к началу военных
действий уже был покорен карачаевский народ, принявший присягу 23
октября 1828 г. Покорность карачаевцев, занимавших верховья реки Кубань,
была весьма важной для России как первый шаг к усмирению остальных
закубанских народов. Они преграждали пути сообщения закубанским
83
народам с Кабардою и вообще с народами Центрального и Левого фланга
Кавказской
линии.
Карачаевцы
контролировали
находившиеся
выше
Каменного моста тропинки, ведущие через Кубань. С севера и востока
адыгские земли от России отделяла река Кубань. Народы административно
преобразованных Армянской области
и Грузинской губернии были
лояльными в отношении Российской империи, что также служило
достаточно устойчивой опорой с юга. Что касается Абхазии, находившейся
между Черкесией и Закавказьем, генерал-фельдмаршал И.Ф. Паскевич писал:
«хотя сия часть земли более 30 лет считалась под влиянием нашего
правительства, но мы не имели средств удержать оную в повиновении…».
Весь период Кавказской войны Гагра оставалась границей между Черкесией
и занятой царскими войсками Абхазией.
Таким образом, Черкесия к 1830 г. оказалась окруженной кавказскими
народами, частично или полностью признавшими власть русского царя. И
только Чечня и Дагестан в восточной части Северного Кавказа, также как и
Черкесия, были охвачены освободительным движением. Для достижения
главной цели – покорения Черкесии – царизм применял разнообразные
методы аннексионистско-колонизаторской политики: это и карательные
экспедиции, и создание, а также продвижение в глубь Кавказа укрепленных
линий, военно-казачья колонизация, насильственное выселение адыгов из
горной зоны, привлечение черкесской аристократии на русскую службу, а
также использование в своих интересах внутренней классовой борьбы
адыгов и др. Но, безусловно, сооружение укрепленных линий и основание
казачьих
станиц
являлось
приоритетным
в
ходе
осуществления
завоевательной политики царизма.
Вторжение в Черкесию началось с восточной стороны – то есть
началось планомерное продвижение от реки Кубань, где уже существовала
Кавказская линия, к рекам Лаба и Белая, а также со стороны Черноморского
побережья, где осуществлялся
план
84
покорения
главнокомандующего
русскими войсками на Кавказе графа И.Ф. Паскевича. Царское военное
командование
первоочередной
задачей
поставило
вопрос
изоляции
«покорных» народов от «непокоренных». Поэтому военные действия России
сопровождались переселением «покорных» аулов на подконтрольные
российской администрации территории, по левобережью Кубани. Однако эти
меры не привели к ожидаемым результатам. Усилившиеся военные действия
породили частые переселения местного населения из одного места на другое
с целью укрыться от наступления царских войск.
Среди множества средств, применяемых царским правительством для
успешного продвижения и колонизации Северо-Западного Кавказа, было
маркирование завоеванного пространства при помощи системы кордонов и
крепостей. Используя военные действия и «продавливающую» силу
кордонных линий, решалась задача расширения колонизируемой территории.
В 30-х гг. XIX в. очень важным стал вопрос о переносе кордонной линии с
Кубани на Лабу. Однако в 1831 г., в связи с назначением нового
командующего войсками Кавказской линии и в Черномории – генерала А.А.
Вельяминова, активные военные действия на данном направлении были
приостановлены. Царские войска были переправлены в Чечню и Дагестан.
Вплоть до 40-х гг. XIX в. войскам удавалось лишь оборонять занятые
позиции между реками Кубань и Лаба; более того, миграции бесленеевцев и
абазин за р. Белую привели к опустошению территории между Верхней
Кубанью и Лабой, а отсутствие крупных селений делало их захват и
принуждение
жителей
к
покорности
невозможным.
План
создания
Лабинской линии был осуществлен только лишь десятилетие спустя, на
рубеже конца 30-х – начала 40-х гг. XIX в., начальником Кубанской линии
генералом Г. Х. Зассом. Для укрепления российских позиций в Закубанье
Г.Х. Засс применил военно-колонизационный метод, в основе которого
лежала постройка укреплений в стратегически важных местах, а также
заселение завоеванного пространства станицами и «мирными» аулами.
85
Проект А.А. Вельяминова и Г.Х. Засса предполагал расселение аулов между
казачьими станицами с целью сдерживания их взаимоотношений с
«непокорными». Такой метод осуществлялся до полного покорения Черкесии
в 1864 г. В феврале 1834 г. царизм предпринял целый ряд карательных
экспедиций. Русские войска, руководимые генералом Г.Х. Зассом, в
закубанском крае уничтожили десятки аулов, в том числе и «мирные».
Крайне жестокие методы, применяемые царскими войсками, привели к
опустошению значительной территории между реками Кубань и Лаба.
Лабинская укрепленная линия играла важную роль для управления и
обустройства «мирной» части населения. Она оставляла в тылу покоренные
аулы бесленеевцев, башилбаевцев, закубанских кабардинцев и ногайцев, а
также препятствовала их взаимодействию с непокореными адыгами. Но, как
показало время, многие адыги, признавшие власть русского царя, после
поднимали оружие против царских войск. Во время строительства Лабинской
укрепленной линии и позже большая часть прилабинских жителей –
бесленеевцы, закубанские кабардинцы, абазины – мигрировали за реку
Белую. На реке Лаба, которая стала новым рубежом между подвластной и
непокорной
России
территориями,
укрепления:
Махошевское,
первоначально
Зассовское,
были
Михайловское,
возведены
Новодонецкое,
Георгиевское, Темиргоевское. С возникновения Лабинской укрепленной
линии началась колонизация Закубанского края между реками Лаба и
Кубань, в связи с чем постепенно меняется этнический состав населения.
Здесь появляются русские поселенцы, стесняя владения бесленеевцев,
абазинов и ногайцев.
Первые станицы становятся главными отправными точками, от
которых пошло дальнейшее заселение края по разным направлениям. За
период с 1841 по 1857 гг. в крае было устроено еще 15 станиц. Таким
образом, колонизация Закубанья продвигалась медленно, но постоянно и в
основном между реками Лаба и Кубань. Завершить этот процесс царскому
86
правительству удалось только к концу Кавказской войны. В 50-е гг. XIX в.
начинается строительство Урупской укрепленной линии по реке Уруп,
которая попутно окружалась новыми станицами: Бесстрашная, Бесскорбная,
Отрадная, Упорная и др. Всего по Новой линии к 1861 г. основано было 32
станицы вместо 14 запланированных. В этническом отношении, состав
казаков,
населявших
станицы
Закубанского
края,
являлся
весьма
разнообразным, но доминировала среди них великорусская культурная
традиция. Русская этнографическая группа Северо-Западного Кавказа
формировалась в тесном взаимодействии с украинской этнографической
группой, представленной черноморским казачеством. Этому способствовали
совместная служба, общность военно-политической обстановки на Кавказе,
близость славянской культуры, православное вероисповедание, смешанные
браки, совместное освоение Закубанья.
В ходе военных действий генерал Г.Х. Засс, которого называли
«благодетелем армян», переселил семьи черкесогаев из горных районов
Черкесии на левый берег реки Кубани, напротив станицы Прочноокопской.
Здесь был образован аул горских армян. Это были гяурхабльские и
егерухаевские, затем к ним присоединились шапсугские черкесогаи. В 1839
г. аул переместился за реку Уруп, на левый берег Кубани, а в 1848 г. этот аул
получил название Армавир. В Армавире черкесогаи, вышедшие из разных
адыгских земель, образовали 4 квартала: Гяурхабль (Джаурхьабль), где жили
выходцы из старейшего в Черкесии аула черкесогаев Джаурхьабль,
находившегося в землях темиргоевцев на реке Белой, между станицами
Белореченская и Ханская; Еджерокай (Еджеркъой) – из земель егерухаевцев;
ХьагIупэкъохьабль или ХьакIуцу – по этноназванию адыгского субэтноса
хакучи; Хатукай (Хьатикъуай), основанный черкесогаями из земель
хатукаевцев. В 50-е гг. XIX в. черкесогаи в основном проживали в Армавире
– около 5 тыс. чел. и станице Переясловской. Из последней в 1859 г.
черкесогаи переселились в Армавир.
87
В 40-х гг. XIX в. недалеко от этого поселения, за рекой Уруп, на левом
берегу Кубани, был основан другой армянский аул – Джасус, что в переводе
означает «аул перебежчиков». Его жителями являлись бывшие крепостные
крестьяне, принадлежавшие мамхегскому князю Богарсукову. В 1880 г. эти
черкесогаи переселились в Османскую империю. Сегодня на месте аула
Джасус находится село Вольное
Та часть населения, которая покорялась, подвергалась военноадминистративному надзору и расселению на постоянное место жительства
на указанных местах. Ногайцы были первыми, кто присягнул на верность
русскому царю. Бесленеевцы и абазины, признававшие российскую власть,
впоследствии отказывались ей подчиняться и уходили вглубь непокоренной
Черкесии. Царские власти не могли предотвратить этот процесс и считать
край полностью покоренным, что подтверждает несостоятельность как
Лабинской, так и Черноморской береговой линий. В этот период этническая
картина внутренних районов Черкесии практически не менялась. 30-40-е гг.
XIX в. являются периодом наиболее массового переселения черкесогаев на
подвластные России территории. Наиболее крупными селениями черкесогаев
на левом берегу Кубани становятся аул Армавир, станица Переясловская, а
также аул Джасус, жители которого в 1880 г. переселились в Османскую
империю.
Вместе с вытеснением большей части адыгов и абазин за реку Белую,
осуществлялась колонизация захваченных земель между реками Лаба и
Кубань казачьими станицами. Этому способствовала Лабинская укрепленная
линия. Колонизация продвигалась медленно, но постоянно, хотя вплоть до
1860 г. не переходила за реку Лаба. Таким образом, на северо-востоке
Черкесии и на восточном направлении медленными темпами вживалось
русское население, перемещавшееся с Кубанской линии на Лабинскую.
Эти события вызвали первые незначительные волны переселения
адыгов и других народов Северо-Западного Кавказа в пределы Османской
88
империи. Действия царских войск в регионе в 30-40-е гг. XIX в. не повлекли
за собой массовых переселений, но этот процесс развивался по нарастающей,
что, несомненно, отражалось на этнической картине региона.
В 1832 г. было принято постановление об образовать на территории
Закубанья казачьи поселения и учредить Черноморскую береговую линию в
виде ряда фортов на берегу моря от Анапы до границы Мингрелии.
Интересен тот факт, что разрешалось селиться в крае всем желающим с
дарованием им свободы от податей и повинностей, более того, бродяг
предполагалось не отсылать в Сибирь, а зачислять в закубанские поселяне.
Для привлечения населения были предусмотрены разные льготы лицам,
которые пожелают поселиться в Закубанских пределах. Строительство
Черноморской береговой линии, предпринятое в 1837-1839 гг., было
очередной попыткой укрепиться на Кавказском побережье. Но планы И.Ф.
Паскевича и утвердившего этот план Николая I осуществились не скоро.
Черкесия продолжала оставаться очагом сопротивления вплоть до 1864 г. В
условиях непрекращающихся военных действий, когда адыги упорно
сопротивлялись продвижению царских войск на восточном, как и на
западном, направлении со стороны Черноморской береговой линии царское
правительство
ставило
задачу
попутной
колонизации
завоеванных
территорий.
Начиная с 1831 г., на восточном побережье Черного моря был основан
ряд укреплений – Новороссийское, Кабардинка, Новотроицкое укрепление на
Пшаде, Михайловское на Вулане, Тенгинское на Шапсухе, Вельяминовское
на Туапсе, Лазаревское на Псуабзе, Головинское на Шахе, Навагинское на
Сочи и Св. Духа на Адлере. Одновременно осуществлялось заселение
районов Геленджика и Новороссийска.
В ходе продвижения царских войск были значительно притеснены
натухайцы, шапсуги, на землях которых появляются первые станицы Благовещенская, Николаевская, основанные в 1836 г. в районе Анапы. В 1837
89
г. основана Витязевская, в 1844 г. – Александровская, в 1845 г. – Суворовская
станицы и др.
В 1837 г. центр тяжести переносится непосредственно к восточному
побережью Черного моря, где началось строительство Черноморской
береговой линии, началось встречное направление продвижения войск вдоль
Черноморского побережья от Абхазии с целью окружить адыгов и отрезать
их от Черного моря. Предполагалось, что таким размещением укреплений по
побережью и крейсированием вдоль него русских судов и казачьей гребной
флотилии черкесы будут лишены возможности сношений с турками и
подчинятся владычеству русских. Началось строительство укрепленных
линий с юга на север вдоль Черкесского побережья, то есть со стороны
Сухума. В 1837-1839 гг. было построено еще несколько укреплений. Все
укрепления
были
объединены
в
Черноморскую
береговую
линию,
продолжавшуюся от устья реки Кубань до поста Св. Николая, состоявшую из
17 фортов на протяжении 500 км. Помимо крепостей, была учреждена
специальная флотилия, которая должна была крейсировать вдоль побережья.
Как видно, созданию Черноморской береговой линии царское
правительство придавало весьма большое значение. В целом, она пресекала
все возможности взаимоотношений кавказского населения с иностранными
державами, в первую очередь, с Османской империей и Англией, а также
мешала их возможности пользоваться зимой пастбищами в прилегающей к
теплому морю прибрежной зоне, таким образом, обрекая адыгов на голодную
смерть.
Но надежды, возлагаемые на Черноморскую береговую линию с
целью заблокировать население Западного Кавказа с моря, не достигли цели.
Адыги отказались вступать в какие бы то ни было сношения с русскими
войсками как с неприятелем, продолжая борьбу за независимость. Нельзя
отрицать и положительные моменты, связанные с основанием Черноморской
береговой линии. В первую очередь, она остановила хорошо развитую
90
работорговлю, которую в обширных размерах вели Османская империя и
Англия. Сами же укрепления постепенно становились торговыми пунктами.
Развитие торговых отношений также было одним из методов установления
российской господства. Но надежды, возлагаемые на Черноморскую
береговую линию с целью заблокировать население Западного Кавказа с
моря, не достигли цели. Адыги отказались вступать в какие бы то ни было
сношения с русскими войсками как с неприятелем, продолжая борьбу за
независимость. Более того, царские войска, находившиеся в укреплениях,
оказались в изоляции и постоянно находились в осаде. В таких условиях
Черноморская береговая линия не могла оправдать возлагавшихся на нее
надежд ни с моря, ни на суше. Продвижение в глубь Черкесии
осуществлялось крайне медленно. Блокада побережья с целью прекратить
поставку оружия горцам со стороны Англии и Османской империи также не
удалась.
Начиная с 1840 г., Черноморская береговая линия от Анапы до
Пицунды
подвергалась
непрекращающимся
нападениям
со
стороны
коренного населения. Так, 7 февраля 1840 г. адыгами был взят форт Лазарев,
затем подверглось нападению укрепление Вельяминовское, 17 марта пало
укрепление
Михайловское.
Береговые
укрепления
были
сметены
широкомасштабным наступлением шапсугов, натухайцев, убыхов. К ноябрю
1840 г. они были восстановлены, но сам факт разгрома Черноморской линии
показал, сколь мощным потенциалом сопротивления обладали черкесы
Закубанья. Такое положение дел на Черноморской береговой линии
продолжалось
вплоть
до
Крымской
войны,
в
результате
которой
черноморская линия укреплений была окончательно упразднена.
Использование царизмом жесточайших мер, для завоевания Черкесии
в 30-40-е гг. XIX в. привело к частичному переселение адыгов в пределы
Османской империи. Если действия царских войск со стороны реки Кубань
порождали в большей степени внутренние миграции, то есть адыги уходили
91
в горы, то на Черноморском побережье начинается переселение коренного
населения, большей частью адыгов, в пределы Османской империи. Это была
не первая волна переселения, а продолжение процесса предыдущих лет.
Сведений, касающихся переселения народов Северо-Западного Кавказа в
Османскую империю, для определения количества переселенцев на данном
этапе не существует. Первые явления махаджирства не могли не повлиять на
этническую структуру Северо-Западного Кавказа. Вместе с тем, на
покоренной Закубанской территории правительство занималось внутренним
переселением, то есть перегруппировкой жителей, окружая подвластный
народ образовывающимися русскими поселениями. «Непокорные» адыги под
давлением царского оружия в ходе Кавказской войны также меняли место
жительства в поиске приюта в труднодоступных местах Кавказских гор.
На
данном
этапе
в
ходе
активной
военно-переселенческой
деятельности царизма происходят изменения в этнической структуре
региона. Военные действия вызвали первые волны переселения кавказских
народов в пределы Османской империи. Действия царских войск в 30-е гг.
XIX в. не повлекли за собой массового переселения, но этот процесс
развивался по нарастающей, что, несомненно, отражалось на этнической
картине региона.
Были значительно притеснены натухайцы, шапсуги, проживавшие на
побережье
Черного
моря,
там,
где
осуществлялось
строительство
Черноморской береговой линии. Во время строительства Лабинской
укрепленной линии и позже большая часть прилабинских жителей –
бесленеевцы, закубанские кабардинцы, абазины – ушли за реку Белую. Та
часть
населения,
которая
покорялась,
подвергалась
военно-
административному надзору и расселению на постоянное место жительства
на указанных местах. Ногайцы были первыми, кто присягнул на верность
русскому царю и были поселены за Лабинским укреплением на левом берегу
Кубани от Баталпашинской до устья реки Лаба. Бесленеевцы и абазины,
92
признававшие
российскую
власть,
впоследствии
отказывались
ей
подчиняться и уходили в глубь «непокоренной» Черкесии. Царские власти не
могли предотвратить этот процесс и считать край полностью покоренным
ввиду несостоятельности как Лабинской укрепленной линии, так и
Черноморской береговой линий. Этническая картина внутренних районов
Черкесии практически не менялась. 30-40-е гг. XIX в. являются периодом
наиболее массового переселения черкесогаев на подвластные России
территории. Наиболее крупными селениями черкесогаев на левом берегу
Кубани становятся аул Армавир, станица Переясловская, а также аул Джасус,
жители которой в 1880 г. переселились в Османскую империю.
Вместе с вытеснением большей части адыгов и абазин за реку Белую,
осуществлялась колонизация захваченных земель между реками Лаба и
Кубань казачьими станицами. Этому способствовала Лабинская укрепленная
линия. Колонизация продвигалась медленно, но постоянно, хотя вплоть до
1860 г. не переходила за реку Лаба. Таким образом, на северо-востоке
Черкесии и на восточном направлении, хоть и медленными темпами,
вживалось русское население, перемещавшееся с Кубанской линии на
Лабинскую.
Северо-Западный
Кавказ
занимал
важное
место
во
внешнеполитических планах России, Османской империи и европейских
держав. Их реализация завершилась подписанием Адрианопольского мира
1829 г., в результате чего регион становится частью Российской империи.
Итоги войны повлекли за собой волны миграции из Османской империи
армян и греков, которые оседали на Северном Кавказе в пределах
подвластных России территорий.
С 1830 г. начинается фактическое включение региона в состав России,
которое осуществлялось военно-колонизационным методом. В ходе военнопереселенческой политики России происходит изменение в этническом
составе региона со стороны Черноморского побережья, а также со стороны
93
реки Лаба. На данном этапе преобладают внутренние миграции народов
Северо-Западного Кавказа. Вытесняемые с занимаемых территорий адыги и
абазины устремились в глубь Черкесии.
Раздел III. Формирование этнической и административной карты
Северо-Западного Кавказа (50-е годы XIX в. – начало XX в.)
Лекция 6. Вынужденное переселение адыгов Северо-Западного Кавказа
и изменение этнической карты региона
В ходе изучения данной темы рассматриваются вопросы, связанные с
кардинальным изменением этнической структуры Северо-Западного Кавказа
в 50-е гг. XIX в. Выявляются основные причины массового переселения
адыгов в пределы Османской империи.
С момента окончания русско-турецкой войны 1828-1829 гг. начался
новый период накопления и обострения межгосударственных противоречий,
что, в итоге, вылилось в развязывание Крымской войны. Несмотря на то, что
Северо-Западный Кавказ не являлся ареной военных действий, ход и
особенно итоги этой войны наложили значительный отпечаток на события,
происходившие в крае. Северо-Западный Кавказ занимал важное место в
стратегических планах воюющих держав. Более того, планы, преследуемые в
этой войне коалицией европейских государств и Османской империей,
касались также и адыгских земель. Николай I, несмотря на развязывание
Крымской войны, достаточно сложной для России, запретил переброс всей
армии с Кавказа на фронты Крымской войны, так как Россия утратила бы
свои приобретения в Черкесии, доставшиеся ей большими усилиями. Это
подтверждает значимость для царского правительства удержания уже
занятых территорий в Закубанском крае.
94
Здесь продолжается покорение и освоение края, несмотря на то, что
оно шло медленными темпами. Осенью 1854 г. перестала существовать
Черноморская береговая линия, в результате чего царские власти не могли
осуществлять военно-переселенческую политику на данном направлении,
более того, Россия не смогла удержаться на завоеванном пространстве.
События Крымской войны не мог не отразиться и на процессах,
происходивших на востоке Черкесии. Здесь, в отличие от западного
направления, продвижение царских войск вглубь Черкесии и оттеснение
адыгов с их владений не прекращается, хотя вплоть до 1860 г. колонизация
не
распространялась
за
территорию
Лабы
В
целом
была
налицо
несостоятельность Лабинской линии, в связи с чем «ненадежные»
бесленеевцы, закубанские кабардинцы и абазины-башилбаевцы были
вытеснены с прилинейной зоны для строительства там новых станиц и
укреплений
с
целью
усиления
Лабинской
укрепленной
линии.
Рассматриваемая территория была очищена от этнических хозяев, что,
несомненно,
изменяло
этнический
облик
рассматриваемого
региона.
Дальнейшие значительные продвижения царских войск между Черным
морем и рекой Лабой, то есть в Черкесии, возобновились лишь после
окончания Крымской войны в 1856 г. и покорения Чечни и Дагестана.
В 1856 г. главнокомандующим Кавказской армией был назначен А. И.
Барятинский, по системе которого велось дальнейшее покорение Северного
Кавказа. Вся программа заселения А. И. Барятинского состояла из двух
отдельных задач: 1. Выселение горцев на левый берег Кубани; 2. Заселение
занимаемых ими предгорий главного хребта «русским элементом». С начала
осуществления новой системы война быстро приводила к ощутимым
результатам. Началась быстрая смена населения в пределах Черкесии и всего
Закубанского края. «Очищенные» от коренного населения земли немедленно
занимались станицами, что являлось кульминационным моментом в процессе
формирования этнической карты Закубанья в ХIХ в.
95
Именно на заключительном этапе наблюдается эскалация военных
действий, в результате чего основная масса автохтонного населения этого
региона вынуждена была выселяться за пределы исторической родины.
Вынужденное переселение адыгов в Османскую империю принимает
массовый характер в конце 50-х гг. ХIХ в., что кардинально изменяет
этническую структуру Северо-Западного Кавказа.
Многие ученые сходятся во мнении, что основная причина
переселения адыгов и других северокавказских народов в Османскую
империю лежала в сфере внешнеполитических планов Российской империи.
Особенно на этот процесс повлияла эскалация военных действий на
заключительном этапе. Внутренних причин для исхода адыгов на чужбину не
было, лишь усиление военных действий со стороны царизма, а также
реализация целей, преследуемых Портой, приводят к массовому переселению
адыгов в Османскую империю. Соперничество России и Османской империй
сыграло ключевую роль в этой адыгской трагедии. Выселение народов
Северо-Западного Кавказа стало прямым следствием стремления России
упрочить свои позиции в регионе. Выселение народов Северного Кавказа
российскими властями продолжалось и после массовой депортации черкесов,
изменены были лишь методы миграционной политики России: на смену
изгнания силовым путем, администрация перешла к политике постепенного
вытеснения коренных народов, создавая им невыносимые условия жизни.
Немаловажную
роль
в
процессе
вынужденного
переселения
кавказских народов сыграла и Османская империя, преследовавшая свои
корыстные цели. Османские правители обещали «райскую» жизнь в
империи; Порта ставила задачу перед своими агитаторами: призывать
черкесов
к
«мусульманскому
переселенческое
движение.
братству»,
поощряя
и
провоцируя
Пользуясь
трагическим
социально-
экономическим и политическим положением народов Кавказа, Османская
империя заманивала их в свои пределы, чтобы колонизовать кавказцами
96
безлюдные и малозаселенные пространства опустевшей империи, а также
использовать их в осуществлении военно-политических задач, поселив в
стратегически важных местах. Помимо того, за счет махаджиров турецкий
султан стремился увеличить удельный вес мусульман среди христианских
народов в стране и с их помощью бороться с национально-освободительным
движением.
В рамках темы весьма важным является освещение начавшейся в
конце 50-х гг. ХIХ в. второй волны массового переселения кавказских
народов, большей частью адыгов, в пределы Османской империи. Причем,
если на начальном этапе Кавказской войны преобладали внутренние
миграции, то во второй половине XIX в. начали набирать обороты внешние
миграции. Как общественное явление махаджирство и русская колонизация
выросли из внутренних миграций военного времени. Это и переселение
кабардинцев в Закубанскую Черкесию, и переселение адыгов из горных зон
на равнину, и военно-казачья, и гражданская колонизация. Переселение на
равнину не спасало местное население от многочисленных переселений,
проводившихся чаще всего без их согласия. Внутренние миграции оказались
настоящим бедствием для жителей Закубанья. После окончания Крымской
войны, когда царское правительство поставило задачу скорейшего покорения
Кавказа, началась быстрая смена населения в пределах Черкесии и всего
Закубанского края. В условиях неравной борьбы адыги вынуждены были
покидать свои земли, уходя в горы или в Османские владения. Действия
царских войск порождали как внутреннюю миграцию, то есть адыги уходили
в горы, так и внешнюю, то есть началось переселение их в пределы
Османской империи, которое в целом носило постоянный характер.
«Очищенные» от адыгов земли немедленно заселялись станицами, что
являлось кульминационным моментом в процессе формирования этнической
карты Закубанья в ХIХ в. Здесь была реализована идея сочетания внутренней
97
и внешней миграций для проведения колониальной политики Российской
империи, сформулированная в проекте Н.И. Евдокимова.
С 1858 г. вопрос о переселении адыгов довольно активно обсуждается
в дипломатической переписке между правительствами России и Османской
империи. Более того, в этом обе стороны были весьма заинтересованы.
Россия, изгоняя адыгов, а Османская империя, принимая их, тем самым
пытались решить свои внутригосударственные проблемы. За два года до
этого, в 1856 г., между Россией и Османской империей было заключено
секретное соглашение, где был установлен порядок переселения нескольких
адыгских субэнических групп. А 9 марта 1857 г. вступил в силу закон о
махаджирах, который всячески способствовал увеличению количества
переселенцев. В это же время была сформирована Комиссия по делу о
переселении кавказцев в Османскую империю.
Все усилия царизма были направлены на два театра военных
действий: один охватывал пространство Адагумскою линией, низовьем
Кубани и северо-восточным берегом Черного моря, другой - в нагорной
полосе между верхней частью течения р. Белой и Малой Лабы.
Целью
Адагумской укрепленной линии было отделить натухайские земли от
шапсугских, для скорейшего покорения натухайцев.
На
восточном
направлении,
со
стороны
Лабинской
линии,
продолжается продвижение казачьих станиц и вытеснение адыгов на
пространстве между реками Лабой и Белой. Предполагалось «непокорных»
бесленеевцев, махошевцев, егерухаевцев и других, живущих между Малою
Лабою и Белой, поселить между реками Урупом, Кубанью и Тарсом или
Зеленчуком или же на севере от дороги, соединяющей станицу Лабинскую и
Майкопское
укрепление,
чтобы
они
находились
под
постоянным
наблюдением.
Главное
средство
для
изгнания
местного
населения
заключалось
в лишении его насущных потребностей жизни, отнятием
пространств, удобных для хлебопашества и скотоводства.
98
С 1856 г., с начала осуществления новой системы, война быстро
приводила к решительным результатам. Вместе с увеличением потока
махаджиров усилилась и казачья колонизация. С 1860 г. на территории
Черкесии действовало три крупных царских отряда: Адагумский, для
довершения Адагумской линии; Шапсугский, для военных действий в землях
шапсугов; Лабинский, для постройки укрепления на урочище Хамкеты. В
результате
усилий,
стиснутыми
в
приложенных
железном
царской
армией, адыги
не
больше
кольце,
имея
оказались
возможности
сопротивляться.
В 1858 г. часть бжедугов решила официально принять российское
подданство, после чего они были поселены на подконтрольной Российской
администрации территории на левом берегу Кубани в ауле Тлюстенхабль,
напротив бывшего Малолагерного поста. В начале 1859 г. крупный военный
отряд генерала Бабича вторгся во владения «непокорных» бжедуго, истребив
один за другим 44 укрепленных аула. В августе того же года о своей
покорности заявили адыги, жившие между Лабой и Белой: темиргоевцы,
махошевцы,
егерухаевцы,
бесленеевцы,
шахгиреевцы
и
закубанские
кабардинцы. В марте 1862 г. их насильственно переселили за реку Белую.
Следует отметить, что в обстановке войны «покорные» аулы по указу
царской
администрации
вынуждены
были
неоднократно
менять
месторасположение.
В ходе анализа большого числа работ отечественных и зарубежных
авторов С.Г. Кудаева пришла к выводу, что общее количество покинувших
Северо-Западный Кавказ адыгов за период с 1857 г. по 1877 г. колеблется от
1.400.000 до 1.500.000 чел. Это кардинально изменило состояние этнической
карты региона. Численность адыгского населения значительно сократилась, а
занимаемые ими земли были освобождены для осуществления российским
правительством колонизационной политики. В 1877 г. оставшиеся на родине
адыги составляли лишь 67.185 чел.
99
В 1857 г. царская администрация приступила к переводу ногайцев на
оседлый образ жизни, что привело к увеличению числа ногайцев,
переселявшихся в Османскую империю. Теснимые русскими поселенцами,
ногайцы, привыкшие к кочевому образу жизни и жившие между Кубанью и
Лабой, не удержались на своих местах и, не желая оставаться в зависимости
России, почти все поголовно вышли в Турцию. Те же, которые остались,
были поселены на указанных местах на левом берегу Кубани, за Лабинской
укрепленной линией, с целью прекратить их дальнейшие контакты с
«немирными» кавказскими народами. В результате освободились огромные
пространства степных районов, которые тут же заселялись новыми
поселенцами.
На данном этапе большая часть северокавказских абазин начала
покидать свои земли и переселяться в Османскую империю. Оставшиеся на
родине были поселены царскими властями в Верхнекубанское приставство
вместе с абазинами-тапанта. Численность коренного населения СевероЗападного Кавказа значительно сократилась, а занимаемые ими земли были
освобождены
для
осуществления
российским
правительством
колонизационной политики.
Можно согласиться с классификацией миграционных процессов среди
адыгов в ходе Кавказской войны, предлагаемой М. Губжоковым, который
выделяет
два
однонаправленные
типа
переселений
и
волнообразные,
по
направленности
миграций:
возвратно-поступательные
по
характеру. Первый был более характерным для адыгских субэтнических
групп
с
демократической
формой
правления.
Будучи
наиболее
последовательными противниками России и расселяясь в труднодоступной
местности, эти общества с приближением кордонных линий отодвигали свои
поселения все далее в леса и ущелья, что и привело в самом конце войны к
чрезвычайной скученности населения в горах. Второй был присущ
обществам аристократического типа, которые, не имея возможности в
100
условиях равнины противостоять царским войскам, оказывались под угрозой
прямого физического уничтожения, поэтому вынуждены были принимать
российское подданство. Но в условиях изменения политической ситуации
население целыми аулами уходило к «непокорным горцам», откуда в силу
различных
обстоятельств
возвращалось
обратно.
Именно
такие
миграционные процессы были присущи бжедугам, бесленеевцам и абазинамшкарауа в 30-50-е гг. ХIХ в.
Классифицируя миграционные процессы по степени политической
зависимости территории, в которой они совершались, автор выделяет две
зоны:
неподконтрольную
российской
администрации
и
в
пределах
номинально ей подвластной территории. В последней зоне миграционные
процессы происходили по инициативе российского военного командования,
которое с целью контроля стремилось переселять «мирных» адыгов поближе
к своим укреплениям, заодно превращая места их расселения в «буферные
зоны» для прикрытия кордонных линий от нападений «немирных». Также
использовалось «превентивное отселение», то есть переселение подальше от
«непокорных»
адыгов.
Так
переселялись
бесленеевцы,
ввиду
их
«неблагонадежности», «подальше и безопаснее от непокорных, которые
всеми силами стараются их поднять и увлечь в горы». Но наиболее частыми
и массовыми являлись переходы из зоны в зону.
Лекция 7. Миграционная политика Российской империи
на Северо-Западном Кавказе и административно-территориальные
преобразования в регионе
В
рамках
данной
темы
выделены
две
сквозные
проблемы,
характерные для периода трансформации этнической и административнотерриториальной карты Северо-Западного Кавказа. Первая из них 101
массовый исход основной части адыгов в Османскую империю и военная и
гражданская колонизация региона; вторая - это интеграция в состав
Российской империи оставшихся на родине народов Северо-Западного
Кавказа.
В ноябре 1860 г. указом Александра II Черноморскому войску
повелевалось именоваться Кубанским казачьим войском, к нему добавлялось
шесть бригад из Кавказского линейного войска, остальные же части
образовали Терское казачье войско. Появляется новое само- и иноназвание
казаков, связанное с изменением самосознания «кубанцы», «кубанское
казачество». Кубанское казачество постоянно пополнялось выходцами из
внутренних губерний России, зачислением в казачье сословие казенных
селений в регионе. Часть Черкесии, которая уже была завоевана царскими
войсками и заселена казачьим населением, существенно изменила свой
этнический облик, та же часть, которая продолжала оставаться «непокорной»
Российским властям, сохраняла первоначальный этнический состав.
3 мая 1860 г. была упразднена Кавказская военная линия.
Преобразования
привели
к
образованию
новых
административно-
территориальных единиц: Кубанской, Терской и Дагестанской областей. В
составе Кубанской области оказались Земли Войска Черноморского и
черкесское Закубанье, в том числе и территории, еще не контролируемые
царскими властями. В ноябре 1860 г. указом Александра II Черноморскому
войску повелевалось именоваться Кубанским казачьим войском, к нему
добавлялось шесть бригад из Кавказского линейного войска, остальные же
части образовали Терское казачье войско. Появляется новое само- и
иноназвание казаков, связанное с изменением самосознания «кубанцы»,
«кубанское казачество». Кубанское казачество постоянно пополнялось
выходцами из внутренних губерний России, зачислением в казачье сословие
казенных селений в регионе. Часть Черкесии, которая уже была завоевана
царскими войсками и заселена казачьим населением, существенно изменила
102
свой этнический облик, та же часть, которая продолжала оставаться
«непокорной» Российским властям, сохраняла первоначальный этнический
состав.
Колонизация края в 60-е и последующие годы XIX в. проходила очень
активно. По масштабам заселения Кубанская область стояла на третьем месте
(после Петербургской и Томской губерний) среди 89 губерний России. По
отношению
к
народам
Северо-Западного
Кавказа
Н.И.
Евдокимов
осуществлял идею сочетания внутренней и внешней миграций, то есть
переселение адыгов на прикубанскую плоскость или же насильственное
переселение их в Османскую империю для осуществления колониальной
политики Российской империи. При этом, разделив адыгов на более и менее
«опасных» для российского владычества в регионе, Н.И. Евдокимов
советовал первых поголовно выслать в Османскую империю. Он предлагал
проводить «политику двух стандартов» – на деле выдворяя адыгов за
пределы российских владений, но на словах всячески удерживая их на
родине, выступая с заявлениями, в которых якобы противодействовал их
переселениям в Османскую империю.
Согласно проекту Н.И. Евдокимова, горные и предгорные части
Северо-Западного Кавказа в 60-е гг. XIX в. стали стратегическим объектом
для создания системы безопасности границ Российской империи. Царское
командование целенаправленно осуществляло идею изменения этнической
структуры Северо-Западного Кавказа. Исключительное географическое
положение черкесской стороны на берегу Черного моря, приводившего ее в
соприкосновение с целым светом, не позволяло ограничиться покорением
населявших ее народов. Изгнание коренного населения и заселение
западного Кавказа русскими – таков был план войны в последние четыре
года. То есть, главная задача царского командования заключалась в
кардинальном изменении этнического состава региона.
103
В результате действий Абадзехского, Шапсугского и Адагумского
отрядов царской армии абазины – башилбаевцы, кызылбековцы, тамовцы и
часть шахгиреевцев – переселились в Османскую империю.
В 1859 г. бесленеевцы, обитавшие в верховьях реки Ходзь, чтобы
спасти свои аулы от разорения, изъявили покорность и обязались весной
1860 г. выселиться из гор на плоскость на указанные места по течению
Урупа.
Для военного командования крайне важным был захват натухайских
земель и отделение их от других народов Адагумской линией. В 1860 г.
натухайцы, стесненные окончательно между морем и Адагумской линией,
сложили оружие. В течение 1863 г. практически все натухайцы под
давлением царизма переселились в Османскую империю, за исключением
незначительного их числа, частично растворившегося среди шапсугов,
частично переселившегося на указанный участок между реками Кудако и
Гечепсином.
Единственным
натухаевским
аулом,
оставшимся
после
Кавказской войны от некогда могущественного субэтноса, остался аул
Хатрамтук. После окончания Кавказской войны он был переименован в аул
Суворово-Черкесский. В 1922 г. аул переселился в пределы Адыгейской
Автономной области и был назван аулом Натухай. Освобожденные
натухаевские владения немедленно заселялись станицами. Всего в течение
зимы 1861-1862 гг. в Натухаевском округе к заселению было приготовлено
11
станиц:
Варениковская,
Гастагаевская,
Раевская,
Натухайская,
Новороссийская, Анапская, Благовещенская, Верхне-Баканская, НижнеБаканская, Неберджайская, Крымская. Окружение покоренных аулов
станицами входило в стратегические планы царского командования.
Царскими властями всегда применялась тактика окружения адыгских аулов
станицами и хуторами, с целью установления полного контроля над ними.
В сентябре 1861 г. Александр II прибыл в Кубанскую область с целью
лично убедиться в достигнутых на Западном Кавказе успехах. 18 сентября в
урочище Мамрюк-Огой, в 2-3 км от укрепления Хамкеты, он принял
104
делегацию от абадзехов, убыхов и шапсугов. Адыги объявили о готовности
присягнуть на верность русскому царю в обмен на сохранение за ними права
оставить в неприкосновенности все земли. Император потребовал от них
переселения на указанные места по р. Кубани, или же в Турцию.
Причиной того, что сторонам не удавалось прийти к обоюдному
согласию, было то, что абадзехи, давая присягу, а русские власти, принимая
ее, по разному толковали суть этого акта. Адыги, исходя из опыта общения с
Османской империей, идею политического подданства понимали как
формальное признание внешнего покровительства, что требовало от них
лишь отказа от нападений на Россию. Россия же, в свою очередь, по их
мнению, должна была предоставить им полную самостоятельность. Россия
не могла оправдать надежды абадзехов, так как преследовала собственные
цели в Черкесии – стратегически важной части всего черноморскоближневосточного региона. Так, в 1861 г. была уничтожена возможность
прекращения военных действий в Черкесии. В 1862 г. в результате военных
столкновений с абадзехами, жившими по рекам Пшеха, Белая, в Даховском
ущелье, царские войска вытеснили их с этого пространства. А.Н. ДьячковТарасов отмечает, что в этот период с Ходзя, Псефирь и Фарса на
прикубанскую плоскость было переселено около 90 аулов. К началу лета
1863 г. царскими войсками занято все пространство со стороны Черного моря
по рекам Иль и Мезиб.
Со стороны рек Лаба и Белая было занято и заселено все пространство
до рек Пшехи и Пшиша, на последней реке – до высоты укрепления Хадыжи.
Так же прочно закреплен горный край в верховьях рек Белая и Малая Лаба.
В ходе военных операций на северном склоне Кавказского хребта
«непокорные» адыги, стесненные на пространстве, ограниченном с востока
рекой Пшиш, с запада – рекой Шебш, частью подчинялись царским войскам,
частью уходили в Османскую империю, частью переходили на южный склон.
Оставшиеся же занимали ущелья Пшехи, Пшиша и их притоков, ущелья
Шебша, Афипса и Иля, продолжая сопротивление.
В октябре 1863 г. к генералу Евдокимову явилась многочисленная
депутация от абадзехов. Ими был подписан договор, по которому, к 1
февраля 1864 г. они начнут переселяться на плоскость. Для тех, кто не
соглашался, предоставлялось 2,5 месяца, чтобы покинуть пределы империи.
Той части абадзехов, которые отказались переселяться в Османскую
империю, были указаны места для поселения на равнине у реки Фарс.
105
Первым в 1862 г. здесь поселился аул Даурхабль, состоявший из 5-6 домов.
Вслед за ним на реку Фарс переселились хабли Хакуриновых, Хоретлевых,
Меретуковых и другие. Постепенно абадзехи, осевшие в этой местности,
были
объединены
в
аул
Хакуринохабль,
ставший
впоследствии
единственным местом компактного проживания абадзехов были объединены
в аул Хакуринохабль, ставший впоследствии единственным местом
компактного проживания абадзехов. Почти одновременно с абадзехами
рядом
с
аулом
Хакуринохабль
поселились
покорившиеся
России
мамхеговцы. Первыми на это место переселились жители аула Патукай.
Большая, непокорившаяся часть мамхеговцев отправилась в Турцию.
В октябре 1863 г. покорились шапсуги. Практически все шапсуги
покинули родину, перебравшись в Османскую империю. По окончании
Кавказской войны, оставшаяся на родине одна часть шапсугского населения
была выслана на Кубань, а другая – на юго-западный склон Кавказского
хребта. В 70-х гг. XIX в. шапсуги частично смогли вернуться на свою
этническую территорию (Туапсинский и Лазаревский районы Черноморской
полосы Краснодарского края – часть исторического района расселения
шапсугов).
В середине апреля 1864 г. царские войска заняли все побережье до
Навагинского укрепления и территорию до реки Лаба. «Непокоренными»
оставались общества ахчипсу и хакучи в долине реки Мзытма, а также
джигеты, псху, убыхи в верховьях Бзыби. Они были оттеснены к морю или
загнаны в горы и вынуждены были либо переселиться на равнину, либо в
Османскую империю. Оставшиеся приморские абазины переселились на
верхнюю Кубань, воссоединившись с северокавказскими абазинами и
абазинами-тапанта между Большим и Малым Зеленчуком. 19 марта 1864 г.,
потерпев поражение при реке Годлихе, сложили оружие державшиеся до
последнего убыхи. 26 марта было сломлено сопротивление джигетов. К 20
мая царские войска заняли земли по верховьям Мзымты и Бзыби. 21 мая 1864
106
г. считается днем покорения Западного Кавказа и окончания Кавказской
войны. Но оставались еще псхувцы, которые были повержены к 20-23 июля.
Все они были выселены в Османскую империю. Владения приморских
абазин были полностью очищены от коренного населения, чтобы принять
смешанное население. В целом, царским правительством были предприняты
все меры для выселения наибольшего количества коренного населения.
Оставшиеся адыгские аулы были сосредоточены в узкой полосе вдоль
побережья Кубани и Лабы. Лишь немногие из них перешли на Кубань,
огромное же большинство предпочло выселиться в единоверную им Турцию
К югу от поселенных на указанных местах адыгских аулов в ходе
военных действий в 1862-1864 гг. на образовавшихся обширных пустующих
пространствах по левую сторону реки Кубани и по всему Черноморскому
побережью, на местах бывших горских поселений, разворачивается военноказачья, а затем и гражданская колонизация. С весны 1861 г. до весны 1862 г.
в Закубанском крае было создано 35 станиц, с населением в 5.482 семейства.
В 1861 г. возникло 10 станиц, 5 из которых – за Лабой. В 1862 г., по разным
источникам, образовано от 25 до 28 станиц, 12 из которых – в Натухаевском
округе. В 1863 г. в 20 станицах было поселено 3.541 семейств. В 1864 г.
образовано 17 станиц и 7 поселков. За четыре года, после окончания войны, в
Закубанье было основано 111 станиц. На 1 января 1871 г. в Кубанской
области насчитывалась 171 станица. К концу 80-х гг. XIX в. в области было
176 станиц. Таким образом, на последнем этапе Кавказской войны
колонизация
адыгских
земель
достигла
кульминации.
Адыги
были
выдворены со своих земель, а новые поселенцы заняли станицами и
поселками нижние части горных речных долин, примыкающих к Кубанской
равнине, в границах от устья Лабы и до Черного моря и поднялись вверх по
долинам в предгорья Кавказа.
Гражданская колонизация еще больше повлияла на изменение
этнического состава региона. Ее начало связанно с изменением в
107
законодательстве по вопросам местного землепользования. 29 апреля 1868 г.
издан закон «О дозволении русским подданным не войскового сословия
приобретать собственность в землях казачьих войск», согласно которому
было разрешено указанным лицам приобретать здесь землю, что открыло
широкие возможности переселенцам из других губерний России для
заселения Кубанской области. В связи с этим быстро растет поток пришлого
населения. Крестьяне, преимущественно из южных губерний, двинулись
тысячами на Кубань, и в течение 15 лет число их возросло до 250000 чел. За
период с 1861 по 1881 гг. количество пришлых крестьян на Кубани возросло
с 5.243 до 236.800 чел. и составило 30% всего населения области.
Миграционные процессы привели к образованию иногороднего населения в
казачьих станицах, русских селах, адыгских и абазинских аулах. В результате
колонизации изменился национальный состав Северо-Западного Кавказа.
Значительно увеличилась доля русского и украинского населения, составляя
94,7 % населения.
Полиэтническое свойство империи воспроизводилось и в поглощении
Кавказа. Следует отметить, что колонизация края не была чисто русской в
этническом отношении. Иностранцы были одним из важных элементов
гражданской колонизации, в которой участвовали представители армянского,
греческого, немецкого, еврейского и других этносов, влияя на формирование
этнической карты региона. Российские правящие круги прилагали немало
усилий для переселений колонистов на Северный Кавказ. Это объяснялось
стремлением царизма ускорить освоение новых земель любыми средствами,
в том числе и заселением иностранными колонистами. Массовое переселение
в Закубанье иностранных подданных начинается во второй половине XIX в.,
хотя первые поселения иностранцев в Новороссии сформировались еще в
1782 г.
Когда в 1861 г. в Закубанье начались миграции русского казачьего
населения, тогда же возник вопрос о новых переселениях на Кавказ
108
христианского населения из Османской империи. Российское правительство
было заинтересовано в привлечении иностранцев для заселения края. Первые
военные колонизационные поселения были неудачными. Было признано, что
русские
непригодны
для
заселения.
Результатом
этого
явилось
командирование за границу специального лица с целью вербовки поселенцев
на побережье из среды турецких армян и греков. Для переселенцев были
выделены земли в Кубанской области, Ставропольской губернии, а также на
Черноморском побережье.
Первый поток греков осел на землях натухайцев. Миграции турецких
греков продолжались и позже. В 1862-1864 гг. прибывшие греки были
поселены на месте бывшей станицы Витязевской в количестве 92 семейств
(356 чел.) и на месте бывшего аула Мерчан в Шапсугии. В 60-х гг. XIX в.
греческие села отмечены в Терской области и Баталпашинском отделе
Кубанской области. По материалам обследования Черноморского округа в
1873 г., в районе Новороссийска и Геленжика существовали греческие
поселения: Кабардинка, Дюрсо и другие; между Новороссийском и Анапой
существовало девять населенных пунктов: одно село со смешанным
греческим и русским населением, одно греко-болгарское село, три чешских,
три чешско-русских, одно русское. Согласно данным посемейных списков в
1886 г., численность греков в Черноморском округе составила 2.300 чел.
(12,6 %) населения.
Формирование армянского населения на Северо-Западном Кавказе
происходило преимущественно за счет турецко- и персидскоподданых армян,
переселившихся в течение XVIII, XIX и начала XX вв. Как уже отмечалось
выше, в первой половине XIX в., в связи с изменением геополитической
обстановки
на
Северо-Западном
Кавказе,
наблюдается
перемещение
черкесогаев на подконтрольные России территории, где происходит процесс
слияния их с турецкоподданными и персидскоподданными армянами,
формируя таким образом единую армянскую общность, в результате чего
109
черкесогаи вновь обретают утраченные составляющие национальной
идентичности, включая язык. Армяне-переселенцы приняли участие в
основании аулов Хатукай, Бжедугхабль, станицы Апшеронской и др.
Немецкие
колонисты
на
Северо-Западном
Кавказе
начинают
появляться в XIX в. В ходе завоевания Черкесии их миграция в пределы
Закубанья не наблюдается. В 1852 г. в Ейском уезде были основаны две
немецких колонии – Михельсталь (Воронцовская) и Александрфельд
(Александровская). К 1 января 1859 г. в колонии Михельсталь проживало 235
чел. В начале 60-х гг. XIX в. на левом берегу Кубани, ниже станицы
Тифлисской,
появилась
колония
Семеновка,
образованная
немцами
Саратовской губернии. Часть населения Семеновки в 1864 г. переместилась
на новые земли, образовав колонии Ново-Николаевскую в Кавказском и
Рождественскую в Баталпашинском отделах. В 1863 г. в Баталпашинском
отделе были образованы колонии Вольдемфюрст и Александрфельд.
Немцами из Бессарабской губернии в конце 60-х – начале 70-х гг. XIX в. на
левом берегу Кубани образованы колонии Эйгенфельд (Ванновское) и
Розенфельд (Шереметевское), Адександрфельд (Леоновское). В Лабинском
отделе Кубанской области сформированы еще несколько колоний –
Клеофельд,
Лилиенфельд,
Мариенфельд,
Фриденталь,
Либенталь
(Ливонское), Гнадентау. В Екатеринодарском – Гнадау, в Баталпашинском –
Вольдемфюрст. Немецкие колонисты поселялись также и на Черноморском
побережье. Несколько колоний возникло в районах Сочи и Туапсе.
Столь интенсивное заселение региона немецкими колонистами
объясняется льготами, предоставленными им Российским правительством.
Иностранцев освобождали от несения воинской службы в течение 10 лет (с
1871 по 1881 гг.). Более того, колонисты получали лучшие земли, платили
небольшие налоги. В 1871 г. они составляли 1.913 чел., а в 1877 г. они
насчитывали 6.812 чел.; в Кубанской области, в Черноморском округе – 76
чел. По данным переписи 1897 г., всего на Северо-Западном Кавказе
110
насчитывалось 20700 немцев. К 1915 г в Кубанской области существовало 13
колоний.
Переселенческий поток евреев на Кубань не прекращался в течение
второй половины XIX в. Выделяют три переселенческих волны евреев на
Кубань. Первая пришлась на последний этап Кавказской войны. Это были
евреи-ашкеназы в составе врачей, провизоров, торговцев, мастерового люда,
маркитантов, обслуживающих войска со времен Кавказской войны и
впоследствии осевших на Северном Кавказе. Вторая волна – евреи, выходцы,
преимущественно, из Новороссии, которые получили право покидать
колонии, что увеличило поток евреев в Кубанскую область. После того, как
евреи получили право постоянного проживания в Кубанской области,
начинается третья волна. В результате в конце XIX в. в Кубанской области
появляются евреи, получившие право повсеместного проживания – врачи,
ремесленники, купцы. На протяжении второй половины XIX в. шел процесс
формирования разрозненных групп евреев-переселенцев в устойчивую
группу населения со свойственным ей бытом и укладом жизни
Оставшиеся на родине адыги интегрировались в общее правовое поле
империи. В Кубанской области, как и на всем Северном Кавказе, было
введено раздельное управление для гражданского, казачьего и горского
населения. Адыги стали жить в условиях военно-народной системы
управления, суть которой заключалась в сосредоточении административной
власти на местах в руках начальников и офицеров, подчиненных
Главнокомандующему Кавказской армией. В округа вошли все территории,
компактно населенные коренными народами к 1864-1865 гг. в пределах
Кубанской, Терской, Дагестанской областей, Сухумский и Закатальский
округа. В 1865 г., согласно «Положению об управлении горцами Кубанской
области», для бдительного надзора за горцами было сформировано 5 военнонародных округов: Псекупский, Лабинский, Урупский, Зеленчукский и
Эльбрусский. Земли, отведенные адыгам, были включены в Лабинский,
111
Псекупский, Урупский и Зеленчукский округа. В Псекупский вошли
адыгские аулы среднего течения Кубани и нижнего течения Псекупса. В
Лабинском были объединены аулы, расположенные по Лабе и Белой. В
Урупском и Зеленчукском находились бесленеевско-кабардинские аулы.
Военно-народная система рассматривалась российскими властями как
необходимая форма сохранения военной администрации в мирное время в
тех регионах, население которых еще не было готово к гражданскому
управлению.
Система «военно-народного» управления просуществовала до 1871 г.
1 января 1871 г. в связи с образованием в Кубанской области гражданского
управления военные округа были ликвидированы. Адыги вместе с русским
населением вошли в состав новых уездов, а с 1888 г. – в состав одноименных
отделов:
Ейского,
Темрюкского,
Екатеринодарского,
Майкопского
и
Баталпашинского. 21 марта 1888 г. административной самостоятельности
был лишен Черноморский округ, переданный в подчинение начальника
Кубанской области до 1896 г. Существуют разные данные о численности
адыгов в Кубанской области в 60-80-х гг. XIX в. Они варьируются от 56423
чел. до 106798 чел. Причиной расхождений является то, что подсчет
населения производился в разное время, а также то, что в некоторых из них
учитывалось все коренное население под общим названием – «горцы». Более
того, в этот период не прекращается эмиграция адыгов в пределы Османской
империи, что, несомненно, влияло на данные численности населения в разное
время.
Русские
Черкесы
Татары
Немцы
Армяне
Евреи
Греки
Осетины
Калмыки
Сведения о национальном составе Северного Кавказа на 1877 г.
716.436
66.612
24.212
6.802
5.802
1.426
1.400
500
123
Кубанская
область
112
823.313 ч.
Черноморский округ
14.276
573
–
76
328
30
–
–
–
730.712
67.185
24.212
6.878
6.130
1.456
1.400
500
123
15.703 ч.
Итого
839.016
Согласно данным энциклопедического словаря в 1883 г. в Кубанской
области из адыгских субэтнических групп жили: кабардинцы – 11461чел.,
бесленеевцы – 60163 чел., бжедуги – 11.819 чел., темиргоевцы – 3434 чел.,
шапсуги – 2379 чел. и еще 9 черкесских субэтносов;
Абазины составляли 3286 чел. Здесь же указывается на продолжение
переселенческого потока горцев в Османскую империю. С 1871 по 1884 гг. с
Кубанской области в Османскую империю переселилось 13586 чел. Таким
образом, на фоне не прекращающихся в конце XIX в. миграционных
процессов
этническая
карта
Северо-Западного
Кавказа
продолжала
трансформироваться.
В 1882 г. в Екатеринодарском и Майкопском уездах Кубанской
области насчитывалось 56 аулов, 46 станиц, 4 села, 6 поселков, 240 хуторов.
Население составляло 223.000 чел., в том числе 53.000 адыгов и 170.000
представителей других народов. Согласно алфавитному списку населенных
пунктов Кубанской области, составленному в июле 1895 г., в отделах
Кубанской области и Черноморском округе существовали такие населенные
пункты:
- Екатеринодарский – 25 станиц, 11 поселков, 2 селения, 1 местечко, 2
слободы, 31 аул – всего 72;
- Темрюкский – 41 станица, 14 поселков, 8 селений, 1 слобода, 2
деревни – всего 66;
- Ейский – 25 станиц, 15 поселков, 2 селения – всего 42;
- Кавказский – 25 станиц, 13 поселков, 5 селений – всего 43;
113
- Лабинский – 33 станицы, 11 поселков, 4 селения, 5 аулов – всего 53;
- Майкопский – 45 станиц, 6 поселков, 13 селений, 2 слободы, 15
аулов, 3 урочища, 1 хутор – всего 85;
- Баталпашинский – 19 станиц, 11 поселков, 11 селений, 28 аулов –
всего 69;
- Черноморский округ – 5 поселков, 45 местечек, 1 хутор, 2 посада –
всего 62;
Итого 492 населенного пункта.
Большой интерес представляет I Всероссийская перепись населения
1897 г. Несмотря на то, что она не приводила сведений о национальном
составе, а коренное население проходило под собирательным термином
«горцы», которых было зарегистрировано 4,7% населения области, данные
переписи представляют огромное значение. Всего перепись отнесла к
«горскому» населению Кубанской области 87558 чел. При характеристике
плотности населения было отмечено, что его средняя густота удвоилась. Это
увеличение произошло почти повсеместно, но в особенности сильно в
Кубанской области – с 4,9 до 23,7 или на 384%. Данный факт
свидетельствует о продолжении процесса притока населения. Здесь
приводятся данные численности населения Кубанской области по отделам и
Черноморской губернии по округам. Так, в Кубанской области проживало
1922773
чел.
В
Черноморской
губернии
проживало
54228
чел.
Примечательно то, что по другому источнику данные о численности
населения Кубанской области и Черноморской губернии иные, то есть
1918881 чел. и 57478 чел. соответственно.
В результате анализа графы «родной язык» прорисовывается такая
этническая структура Кубанской области
и Черноморской губернии:
украинцы – 47,36%, русские – 42,56%, черкесы – 2,01%, карачаевцы – 1,4%,
немцы – 1,08%, греки – 1,05%, армяне – 0,73%, белорусы – 0,65%, абхазы –
114
0,65%, ногайцы – 0,31%, молдаване – 0,28%, татары – 0,2%, поляки – 0,14%,
евреи – 0,1%, цыгане – 0,09%, чехи – 0,08%.
Характерной особенностью этнической структуры Черноморской
губернии являлся довольно пестрый национальный состав, включавший в
себя более 40 этносов при низкой плотности населения. К числу наиболее
крупных этносов относились: русские – 42,8%, украинцы – 16,9%, армяне –
10,9%, греки – 10,4%, черкесы – 3,3%, осетины – 3,3%, чехи – 2,2%, евреи –
1,7%, молдаване – 1,6%, немцы – 1,3%, поляки – 1,2%, белорусы – 1,2%.
В процессе реализации миграционной политики Российской империи
преобладающим населением региона стали русские. Западные адыги вошли
в состав различных округов Кубанской области. Политика переселения на
указанные царскими властями места покорившегося коренного населения
привела к закреплению различных этносов на определенной местности.
Одной из важных характеристик динамики этнической структуры населения
Кубанской области было сочетание высоких темпов переселения адыгов и
быстрого прироста переселенцев из внутренних губерний России. Таким
образом сформировалась современная этнолокализация коренного населения
и переселенцев. Примечательно то, что административные реформы,
которыми были насыщенны 60-е гг. XIX в., не носили прогрессивного
характера. В основе административного переустройства лежало право
собственности казачьих войск на землю.
В результате Октябрьской революции на руинах Российской империи
формируется новое государство. Одним из ключевых направлений в
деятельности Советской власти являлось претворение в жизнь национальной
политики.
Большевики
ставили
цель
уничтожения
национальной
замкнутости и всяческих перегородок для более тесного сплочения
российских пролетариев. В основе решения национального вопроса лежал
принцип национального самоопределения. Окончательно право наций на
самоопределение было оформлено в резолюции III Всероссийского съезда
115
советов в январе 1918 г., а также в новой программе РКП(б) в марте 1919 г.
Теперь оно предусматривало две возможности:
1.
Политическую
автономию
для
областей,
представлявших
целостную хозяйственную территорию с особым бытом и национальным
составом населения, с делопроизводством и преподаванием на своем языке.
2.
Отделение для наций, которые не могли и не хотели оставаться в
границах целого.
Осуществление национально-государственного строительства было
приостановлено в связи с началом Гражданской войны. На II съезде Советов
16 апреля 1918 г. в Екатеринодаре принято решение об образовании
Кубанской Советской республики, что являлось характерной чертой для того
времени. Также был поставлен вопрос об объединении ее с Черноморской
республикой. Слияние республик произошло 28 мая 1918 г. на III
Чрезвычайном съезде Советов Кубанской и Черноморской республик, в
результате была образована Кубано-Черноморская Советская республика.
После захвата Кубани Добровольческой армией Алексеева-Деникина в целях
консолидации сил 7 июля 1918 г. в Екатеринодаре на I Северо-Кавказском
съезде Советов была провозглашена Северо-Кавказская республика в составе
РСФСР. В нее вошли Кубано-Черноморская и Ставропольская республики и
Терская область. Северо-Кавказская республика просуществовала до 11
января 1919 г.
С окончанием Гражданской войны большевики смогли вернуться к
решению
вопроса
национальной
территориальном
национального
политике
советской
строительстве
строительства.
власти
является
1920
Значительным
в
и
административно-
г.
В
постановлении
Политбюро ЦК РКП(б), написанном В.И. Лениным и принятом 14 октября
1920 г., говорилось необходимости
признания проведения в жизнь
автономии, в соответствующих конкретным услпвиям формах, для тех
116
восточных
национальностей,
которые
не
имеют
еще
автономных
учреждений.
В августе 1920 г. состоялся I съезд горцев Кубано-Черноморской
области, где были намечены предпосылки создания автономии адыгов. В
марте 1921 г. прошел X съезд РКП(б), где важнейшим решением стала
резолюция «Об очередных задачах партии в национальном вопросе».
Начинается формирование автономных единиц среди народностей, их не
имевших. Этот процесс коснулся и адыгов. 2-8 марта 1921 г. в Краснодаре
прошел II съезд трудящихся горцев Кубани и Черноморья, на котором
обсуждался вопрос национального строительства. Результатом его работы
стало постановление об организации Горского исполкома. В его ведение
были переданы национальные вопросы в государственном, хозяйственном и
культурном строительстве. 19 июля 1921 г. жители аулов Урупского,
Кургоковского и Карамурзинского Армавирского отдела, а также аула
Суворово-Черкесского Темрюкского отдела подали ходатайство о включении
их в территорию, обслуживаемую Горским исполкомом, так как там
невозможно вести работу, не включив их в территорию, обслуживаемую
Горским исполкомом в силу этнографических и бытовых особенностей.
Председателем исполкома был избран Д. Гутекулов. Значимую роль в работе
Горского исполкома сыграл Ш.-Г. У. Хакурате, который позже занял место
председателя Горского исполкома.
Следующим этапом в оформлении автономии адыгов стал III съезд
трудящихся горцев Кубани и Черноморья, который состоялся 7 декабря 1921
г. Здесь было принято решение разработать вопрос о выделении горцев
Кубани и Черноморья в автономную область и оформить ходатайство перед
центром о выделении трудящихся-горцев Кубани и Черноморья и
находящееся среди них иногороднее население в автономную Черкесскую
область. Сразу же была создана комиссия для опроса жителей русских
населенных пунктов, которые находились смешанно с адыгскими аулами. В
117
ходе опроса выявилось желание населения 16 волостей войти в состав
будущей автономной области. Рассмотрев ходатайство, коллегия Народного
комиссариата по делам национальностей РСФСР признала желательным
выделения 33 аулов Краснодарского и 11 аулов Майкопского отделов
Кубано-Черноморской области с чересполосными русскими населенными
пунктами в Черкесскую (Адыгейскую) автономную область. Вопрос о
выделении черкесов (адыгов) в автономию рассматривался на коллегии
Наркомнаца РСФСР до 22 мая 1922 г., в результате чего 1 июня 1922 г.
Президиум ВЦИК принял решение об образовании специальной комиссии из
представителей ВЦИК, Черкесской и Кубано-Черноморской областей для
выяснения на месте вопроса о возможности создания Черкесской области.
Результатом их деятельности стало Постановление ВЦИК от 27 июля
1922 г. об образовании Черкесской (Адыгейской) автономной области. А 24
августа 1922 г. она была переименована в Адыгейскую (Черкесскую)
автономную
область,
во
избежание
недоразумений
и
путаницы,
происходящих от смешения в разных ведомствах Карачаево-Черкесской и
Черкесской (Адыгейской) Автономной области. В ее состав вошли
Псекупский, Ширванский и Фарский округа. В область были включены 44
аула, 7 волостей, 1 село и 13 хуторов. В постановлении № 120 от 27 июля
1922 г. было сказано о выделении из Краснодарского и Майкопского отделов
Кубано-Черноморской области территорию, ныне заселенную черкесами
(адыгейцами) со включением в нее чересполосных селений, хуторов и
образовать из таковой Черкесскую (Адыгейскую) автономную область.
Не все адыгские селения вошли в состав области. За ее пределами
остались шапсуги причерноморских районов, а также бесленеевскокабардинские
аулы
Баталпашинского
отдела.
Из-за
сложившейся
раздробленности адыгов был поднят вопрос о необходимости образовать
единую
Адыгейскую
(Черкесскую)
Советскую
Социалистическую
республику с центром в Туапсе. Но из ЦК РКП(б) и Наркомнаца последовал
118
отказ. В сентябре 1924 г. в составе Черноморского округа был образован
Шапсугский район, неоднократно менявший границы, а 24 мая 1945 г. был
переименован в Лазаревский район. Адыгские аулы Баталпашинского отдела
12 января 1922 г. вошли в состав Карачаево-Черкесской автономной области.
За пределами области остались и несколько аулов современного Успенского
района Краснодарского края.
Для
окончательного
установления
границ
была
образована
специальная комиссия ВЦИК по установлению административных границ
между Кубано-Черноморской и Адыгейской (Черкесской) Автономной
областью. Ознакомившись детально на месте со всеми спорными вопросами
в отношении границ между двумя областями и выяснив путем опроса всех
претензий местного населения, 6 мая 1923 г. комиссия утвердила границы
области. Ее территория занимала 2.300 кв. верст.
В 1920 г. была проведена Всеобщая перепись населения, согласно
которой национальный состав Адыгейской области выглядел таким образом:
большую часть населения составляли черкесы – 65.583 чел. (58,3%); русские
составили 42.334 чел.(37,6%). В графу «прочие», составившую 4.598 чел.
(4,1%), вошли представители других этносов, населявших Адыгейскую
Автономную область. Всего население области составляло 112.515 чел.
(100%), из них в 49 аулах проживало около 55.000 чел.
Таким образом, военная колонизация Северо-Западного Кавказа
повлекла за собой массовый исход основной части адыгов в Османскую
империю, оставшиеся поселились на указанных царскими властями местах,
где складывается специфическая военно-народная система управления, после
упразднения которой в 1871 г. вводится гражданское управление. Западные
адыги и другие народы Северо-Западного Кавказа вошли в состав различных
округов Кубанской области. Политика переселения на указанные царскими
властями места «покорившегося» коренного населения, а также укрупнение
аулов, привели к закреплению различных этносов на определенной
119
местности. Одной из важных характеристик динамики этнической структуры
населения Кубанской области было сочетание высоких темпов массового
переселения
адыгов
переселенцев
из
в
Османскую
внутренних
империю
губерний
и
быстрого
прироста
Таким
образом
России.
сформировалась современная этнолокализация коренного населения и
переселенцев. Примечательно то, что административные реформы, которыми
были насыщены 60-е гг. XIX в., не носили прогрессивный характер. В основе
административного переустройства лежало право собственности казачьих
войск на землю.
Для того, чтобы заселить нагорную полосу на северном склоне
Кавказского хребта, в 1868 г. были изданы особые условия для всех, в том
числе и для иностранцев христианского вероисповедания. Это повлекло за
собой значительный приток на Северо-Западный Кавказ представителей
различных национальностей (армян, греков, немцев, евреев, чехов и др.),
преимущественно из Османской империи, что отразилось на этническом
составе Северо-Западного Кавказа. В ходе описываемых событий произошло
слияние черкесских греков и черкесогаев с греками и армянами,
переселившимися из Османской империи на Северо-Западный Кавказ.
Единственным местом сосредоточения горских евреев стала станица УстьДжегутинская, впоследствии вошедшая в состав Карачаево-Черкесской
Автономной области.
После упразднения Кубанской области и оформления новых
административных единиц происходит разъединение адыгского этноса на два
основных массива: большинство из них – «адыгейцы» – стало проживать на
территории Адыгейской Автономной области; бесленеевцы, закубанские
кабардинцы и бесленеевцы, объединенные общим этнонимом «черкесы»,
стали жителями Карачаево-Черкесской Автономной области. Оформились
также
две
этнотерриториальные
группы
адыгов
в
Лазаревском
и
Туапсинском районах и несколько аулов Успенского района современного
120
Краснодарского
края.
Таким
образом,
в
рассматриваемый
период
формируются новые этнические границы, кардинально меняется этнический
облик территории Северо-Западного Кавказа.
Таким образом, после упразднения Кубанской области и оформления
новых административных единиц
происходит разъединение единого
адыгского этноса на два основных массива: большинство из них стало
проживать на территории Адыгейской Автономной области – адыгейцы.
Бесленеевцы, закубанские кабардинцы, абазины и ногайцы, поселенные на
верхней Кубани, стали жителями Карачаево-Черкесской Автономной
области. Оформились также две этнотерриториальные группы адыгов в
Лазаревском и Туапсинском районах
и несколько аулов современного
Успенского района Краснодарского края. Таким образом, в рассматриваемый
период формируются новые этнические границы, кардинально меняется
этнический облик территории Северо-Западного Кавказа.
121
IV.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе изучения истории трансформации этнической карты СевероЗападного Кавказа, выявления повлиявших на данный процесс причин и
факторов необходимо осмысление следующих выводов.
Этническая карта Северо-Западного Кавказа к концу XVIII – началу
XIX
вв.
представляла
собой
достаточно
устойчивую
структуру,
а
происходившие изменения были обусловлены, в основном, внутренними
причинами. Перемещения и миграции коренного населения, существенным
образом изменившие этническую картину региона, зависели от степени их
вовлечения в военные действия. Трансформация этнической карты СевероЗападного Кавказа начинается в конце XVIII – начале XIX вв., в период,
насыщенный значительными событиями в основном внешнеполитического
плана. Основным фактором, повлиявшим на изменение этнического портрета
региона, являлись стратегические интересы Российской империи.
В конце XVIII – начале XIX вв. Северо-Западный Кавказ становится
объектом споров, где столкнулись интересы России с одной стороны и
Османской империи, при поддержке Англии и Франции – с другой. СевероЗападный Кавказ до начала XIX в. номинально считался сферой влияния
турецкого султана, хотя его власть не распространялась за пределы
крепостей,
находившихся
Кайнарджийского
договора
в
Черкесии.
После
прослеживается
заключения
активизация
Кючукполитики
Османской империи, Англии и Франции в регионе. Османская империя
122
предпринимала попытки использовать адыгов в своих интересах, побуждая
их к принесению присяги. В результате обострения восточного вопроса в 20е гг. XIX в. политическая ситуация на Северо-Западном Кавказа меняется в
пользу Российской империи.
В начале XIX в. большую часть Северо-Западного Кавказа занимала
Черкесия. Ее основным и самым многочисленным населением являлись
адыги, которые, несмотря на внутреннее деление на субэтнические группы,
составляли единый устойчивый этнос. Характерной чертой Черкесии на
данном этапе являлись внутренние миграции, в результате которых
просходил процесс консолидации под влиянием, в основном, политических
факторов. Одни субэтнические группы сокращались численно или вовсе
исчезали, другие сливались с более крупными. Но данные процессы не
меняли границ Черкесии в целом.
Население Северо-Западного Кавказа характеризовалось этническим
многообразием, отличаясь большой этнической пестротой. В адыгской среде
гармонично уживались черкесогаи, черкесские греки и горские евреи,
проживая в адыгских аулах или самостоятельных селениях. В пределах
Черкесии на северо-востоке пространство между Лабой и Кубанью занимали
ногайцы. Этническую карту региона дополняли абазинские субэтнические
группы,
сосредоточенные
в
двух
локальных
зонах
–
южные
и
северокавказские абазины.
После подписания Адрианопольского трактата 1829 г., согласно
которому
Северо-Западный
Кавказ
номинально
становится
частью
Российской империи, наблюдается активизация военных действий царских
войск по завоеванию края. К этому времени Черкесию окружали территории
народов, частично или полностью покорившихся российским властям. Она
становится одним из трех (Черкесия, Чечня, Дагестан) очагов сопротивления
России.
123
Трансформационные процессы этнической карты Северо-Западного
Кавказа начинаются с изменением внешнеполитического положения края. С
подписанием Адрианопольского трактата Россия получает юридическое
основание для фактического овладения территорией Северо-Западного
Кавказа, что положило начало военной колонизации региона Российской
империей. Последовавшие события вызывают первые волны переселения
народов данного региона в пределы Османской империи, хотя на этом этапе
миграционные процессы еще не отразились в значительной мере на
этнической карте региона.
Вторжение царских войск началось со стороны реки Кубань, где уже
существовала Кавказская линия, к рекам Лаба и Белая, а также со стороны
Черноморского побережья. Процесс продвижения царских войск в глубь
Черкесии
сопровождался
целенаправленным
изменением
этнического
состава региона. Военные действия порождали внутренние миграции. В
связи со строительством Черноморской береговой линии были значительно
стеснены натухайцы и шапсуги. Крайне жестокие методы, применяемые
царскими войсками, приводили к опустошению значительных территорий
между Кубанью и Лабой, большая часть прилабинских жителей –
бесленеевцы, закубанские кабардинцы, абазины – ушли за реку Белую.
Заселение
«очищенных
от
горцев
земель»
новыми
поселенцами
воспринималось царским правительством уже как дело внутренней политики
России.
Подчинявшиеся
царским
войскам
народы
размещаются
на
подвластной России территории, остальные же уходят в глубь Черкесии или
в горы. В ходе военных действий все больше проявляется пророссийская
ориентация черкесогаев и черкесских греков, переселявшихся на указанные
им места. Одним из таких значительных поселений становится Армавир.
Этническая
картина
внутренних
районов
практически не менялась.
124
Черкесии
в
этот
период
Кардинальные изменения в этнической карте Северо-Западного
Кавказа связаны с вынужденным массовым переселением народов СевероЗападного Кавказа (преимущественно адыгов) в пределы Османской
империи, военной, а затем и гражданской колонизацией. Расселение той
немногочисленной части адыгов, оставшихся на исторической родине,
проходило на условиях царского правительства. География размещения
других народов Северо-Западного Кавказа (черкесские греки, черкесогаи,
горские евреи, абазины, ногайцы) также существенно изменилась. Численно
доминирующим этносом в регионе становятся представители русского
этноса.
Этническая структура региона претерпела значительные изменения
также в связи с миграцией турецкоподданных армян и греков, а также
европейских переселенцев (немцев, чехов и др.) на территорию СевероЗападного Кавказа.
Для утверждения своего господства в «покоренных» территориях
царизм
применял
военно-казачью
колонизацию.
На
освобожденной
территории появляются русские поселенцы. Кавказская война становится
переломным моментом в заселении русскими Северо-Западного Кавказа.
Постепенное продвижение царских войск порождало волны переселения
адыгов и других народов Северо-Западного Кавказа за пределы своей
родины, которые развивались по нарастающей, что, несомненно, отражалось
на этнической структуре региона.
Начавшаяся Крымская война приостановила колонизацию края, хотя
проблема завоевания Северо-Западного Кавказа оставалась очень важной для
России. Царское командование всеми силами стремилось сохранить занятые
позиции в Закубанском крае. С падением Черноморской береговой линии
Россия не могла осуществлять военно-переселенческую политику в данном
направлении, более того, были разорены те немногие русские поселения,
которые были основаны в окрестностях Анапы. Колонизация пространства
125
со стороны Лабинской укрепленной линии вплоть до 1860 г. не
распространялась
за
реку
Лаба.
В
1856
г.
с
назначением
Главнокомандующим Кавказской армией князя А. И. Барятинского была
введена новая система покорения Северного Кавказа, в основе которой лежал
принцип вытеснения коренного населения и заселения, отвоеванных у них
земель русским казачьим населением. По отношению к адыгам применялась
тактика вытеснения до полного выселения из страны. География и характер
расселения народов Северо-Западного Кавказа на территории этого
обширного региона, начиная уже с первой половины XIX в., во многом
определялись проникновением и конфигурацией расселения здесь русского
населения. Потоки русских мигрантов в Черкесии (военно-казачья и
гражданская колонизация) прошли через этническую территорию адыгов и
абазин и превратили эту территорию в отдельные этнические «острова»
среди расселившегося русского населения. Значительно уменьшилась
этническая территория коренного населения.
В связи с осуществлением плана А. И. Барятинского в конце 50-х гг.
XIX в. началась вторая, еще более мощная волна массового переселения
северокавказских народов, большей частью адыгов, в пределы Османской
империи. В условиях неравной борьбы адыги вынуждены были покидать
свои земли. Адыгские переселенцы составили примерно 1.400.000 –
1.500.000 чел. Началась быстрая смена населения в пределах Черкесии и
всего Закубанского края, совершенно меняя этнический облик СевероЗападного Кавказа. К 1861 г. в Османскую империю переселились почти все
прикубанские ногайцы и абазины. Оставшиеся были поселены на указанных
местах на левом берегу Кубани, за Лабинской укрепленной линией, с целью
прекратить их дальнейшие контакты с «немирными» горцами. С начала 60-х
гг. XIX в. начинается колонизация пространства между реками Лаба и Белая.
Целью Российской империи было кардинальное изменение этнического
состава края.
126
С 1856 г., с началом осуществления новой системы завоевания края,
важной характеристикой динамики этнической структуры населения региона
было сочетание высоких темпов переселения адыгов и усиленной казачьей
колонизацией, осуществляемых Россией, что являлось доминирующим
фактором в изменении этнического облика Северо-Западного Кавказа.
Началась быстрая смена населения в пределах Черкесии и всего
Закубанского края. «Очищенные» от коренного населения земли немедленно
заселялись станицами, что являлось кульминационным моментом в процессе
формирования этнической карты Закубанья в ХIХ в. Потоки русских
мигрантов в регион прошли через этническую территорию адыгов и
превратили эту территорию в отдельные этнические «острова» среди
расселившегося русского населения.
В мае 1860 г. была упразднена Кавказская военная линия, что привело
к образованию новых административо-территориальных едениц: Кубанской,
Терской и Дагестанской областей. Земли адыгов вошли в состав Кубанской
области. Колонизация края в 60-е и последующие годы XIX в. проходила
довольно активно. По масштабам заселения Кубанская область стояла на
третьем месте среди 89 губерний Российской империи, к 1871 г. в Кубанской
области насчитывалась 171 станица.
В условиях беспощадной войны народы Северо-Западного Кавказа
теряли силы. В 1860 г. были покорены натухайцы, бесленеевцы и
северокавказские абазины. В 1863 г. начались мирные переговоры с
абадзехами, окончательное покорение которых произошло в марте 1864 г.
Осенью 1863 г. покорились шапсуги. В первой половине 1864 г. велись
военные действия в горных районах Закубанского края. Окончательно край
был покорен летом 1864 г.
Царскими властями были предприняты все меры для выселения
наибольшего количества коренного населения, что кардинально изменило
этнический облик региона. Немаловажную роль в процессе формирования
127
этнической
карты
Северо-Западного
Кавказа
играла
и
гражданская
(невоенная) колонизация, начавшаяся с апреля 1868 г. после издания закона
«О дозволении русским подданным невойскового сословия приобретать
собственность в землях казачьих войск». В связи с этим растет поток
пришлого населения, как из внутренних губерний Российской империи, так и
за счет иностранных подданных, ставших одним из компонентов процесса
гражданской колонизации. Это были немцы, греки, армяне, евреи, чехи и
другие.
Оставшиеся на родине адыги интегрировались в правовое поле
Российской империи. В Кубанской области было введено раздельное
управление для казачьего, горского и гражданского населения. Адыги стали
жить в условиях военно-народной системы управления в рамках Лабинского,
Псекупского, Урупского и Зеленчукского военно-народных округов. Эта
система просуществовала до 1871 г., после чего с введением в Кубанской
области гражданского управления появляются новые административные
единицы – уезды (с 1888 г. – отделы). Адыги компактно стали проживать в
Майкопском,
Екатеринодарском
и
Баталпашинском
отделах.
По
приблизительным данным, к началу 70-х гг. XIX в. они составляли 60.000
чел.
В 1917 г. численность населения Кубанской области составляла
3.123.000 чел. В результате событий 1917 г. возникло новое советское
государство. Кубанская область была упразднена. В результате оформления
новых административных единиц адыгский этнос был разделен на два
основных массива: большинство – «адыгейцы» – стало проживать на
территории Адыгейской Автономной области; бесленеевцы, закубанские
кабардинцы, объединенные общим этнонимом «черкесы», стали жителями
Карачаево-Черкесской Автономной области. На территории современного
Краснодарского края образовались две этнотерриториальные группы адыгов
– в Лазаревском, Туапсинском и в Успенском районах.
128
В результате переселенческой политики ногайцы стали проживать в
верховьях Кубани, войдя в состав Карачаево-Черкесской Автономной
области. В рамках этой области оказались и северокавказские абазины,
воссоединившись с южными абазинами и абазинами-тапанта.
Появились новые этнические группы переселенцев. В процессе
переселения на Северо-Западный Кавказ турецкоподданных армян и греков,
а также евреев происходит слияние их с черкесогаями, черкесскими греками
и горскими евреями. В результате иностранной колонизации на СевероЗападном Кавказе появились представители и других национальностей –
немцы, чехи, поляки и другие.
Этническая карта региона кардинально изменилась в результате
осуществления
миграционной
политики
Российской
империи,
предполагавшей заселение опустошенных от автохтонного населения
пространств новыми поселенцами. В результате политики советского
государства в начале 20-х гг. XX в. западные адыги, в основном, оказались в
двух разных административно-территориальных образованиях: Адыгейской
автономной области и Карачаево-Черкесской области.
129
V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII –
XIX вв. / сост. В.К. Гарданов. - Нальчик, 1974.
Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией (АКАК).
Т. VII-XII / под ред. А. Берже. - Тифлис, 1866-1904.
Бесленей – мост Черкесии. Вопросы исторической демографии
Восточного Закубанья. XII – XIX вв. Сборник документов и материалов /
сост. и вступ. ст. С.Х. Хотко. Майкоп, 2009.
Военный сборник. - СПб., 1861. - Т. XXI.
Договор России с Востоком / сост. Т. Юзефович. - СПб., 1860.
Кавказский сборник. - Тифлис, 1898.- Т. XIX.
Короленко, П.П. Переселение казаков за Кубань. Русская колонизация
на Западном Кавказе / Короленко П.П. // Кубанский сборник. - Екатеринодар,
1911. - Т. XVI.
Краткий обзор событий на Кавказе в 1851 г. // Кавказский сборник. Тифлис, 1898. - Т. XIX.
Кубанский сборник. - Екатеринодар, 1883. - Т. I.
Кубанский сборник. - Екатеринодар, 1911.
Кубанский сборник. - Екатеринодар, 1912.
Кубанский сборник. - Екатеринодар, 1912.- Т. XVI.
130
Ландшафт, этнографические и исторические процессы на Северном
Кавказе в ХIХ – начале ХХ века. - Нальчик, 2004.
Под стягом России: сборник архивных документов. - М., 1992.
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 1-е. СПб, 1830. - Т.19.
Проблемы Кавказской войны и выселение черкесов в пределы
Османской империи (20-70-е гг. XIX в): сборник архивных документов / сост.
Т.Х. Кумыков. - Нальчик: Эльбрус, 2001.- 496с.
Русские авторы XIX в. о народах Центрального и Северо-Западного
Кавказа. Т.1., 2. - Нальчик: Эль-фа, 2001.
Сборник газеты «Кавказ». 1 полугодие. - Тифлис, 1847.
Сборник сведений о Кавказе. Т. VIII. Кубанская область. - Тифлис,
1885.
Старые черкесские сады: ландшафт и агрикультура Северо - Западного
Кавказа в освещении русских источников, 1864 - 1914. В 2-х т. / сост., вступ.
ст. и примеч. С.Х. Хотко. - М.: Олма-Пресс, 2005. - 448 с.: ил.
Трагические последствия Кавказской войны для адыгов: вторая
половина XIX – начало XX века. Сборник документов и материалов / сост. Р.
Х. Гугов, Х. А. Касумов, Д. Д. Шабаев. - Нальчик.: Эль-фа, 2000.- 461 с.
Черкесы и другие народы Северо-Западного Кавказа в период
правления Екатерины II. (1781-1786 гг.). Сборник документов. Т.3. - Нальчик,
2000.
Юридические произведения
прогрессивных
русских мыслителей
(вторая половина XVIII в.). - М., 1959.
АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Российский Государственный Военно-исторический архив
(РГВИА)
131
Ф. 38. Департамент Генерального штаба (с 1863 г. – Главное
управление Генерального штаба) 1796–1877. Оп. 30. Д. 109.
Ф. 90. Раевский Николай Николаевич. 1811-1921. Оп.1. Д.120.
Ф. 414. Статистические, экономические, этнографические и военнотопографические сведения о Российской империи. 1735-1914. Д. 300.
Ф. 846. Военно-ученый архив. 1520-1918. Оп.16. Д. 18510, 18511,
18254, 18154, 6234.
Ф. 14257. Штаб командующего войсками Кубанской области. 17941882. Оп. 2. Д. 528; Оп. 3. Д. 214.
Государственный архив Краснодарского края (ГАКК)
Ф. 249. Канцелярия войсковых наказных атаманов Черноморского
казачьего войска. Оп. 1. Д. 491, 904, 1335 а, 1392, 3028.
Ф. 252. Канцелярия войскового управления Кубанского казачьего
войска. Оп. 1. Д. 1561.
Ф. 254. Войсковое дежурство Черноморского казачьего войска. Оп. 1.
Д. 940, 105; Оп. 2. Д. 216.
Ф. 261. Канцелярия начальника Черноморской кордонной линии. Оп. 1.
Д. 634, 1332.
Ф. 347. Канцелярия начальника Лабинской кордонной линии Оп. 2. Д.
38, 39.
Ф. 670. Коллекция документов истории Кубанского казачьего войска.
Оп. 1. Д. 50.
Ф. 774. Канцелярия помошника начальника Кубанской области по
управлению горцами. Оп. 1. Д. 2, 124, 216, 306; Оп. 2. Д. 2, 139, 371.
Государственное учреждение «Национальный архив
Республики Адыгея» (ГУНАРА)
Ф. Р-1. Майкопская городская управа. Оп. 1. Д. 131.
132
Ф. 1/15. Городская управа. Оп. 1. Д. 35.
Ф. Р-5. Плановая комиссия адыгоблисполкома. 1922-1936 гг. Оп. 1. Д.
42.
Ф. Р-7. Управление сельского хозяйства Адыгейского облисполкома.
1922-1998. Оп. 1. Д. 17, 428.
Ф. Р-8. Адыгейский областной административный отдел. 1922-1930 гг.
Оп.1. Д. 1.
Ф.
Р-328.
Исполнительный
комитет
Горского
окружного
национального Совета рабочих и крестьянских, казачьих и горских депутатов
(1920-1922 гг.). Оп. 1. Д. 4. Л. 57.
ОБЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, МОНОГРАФИИ,
СТАТЬИ, ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Абрамян, Л. Армения и армянская диаспора: расхождение и встреча /
Абрамян Л. // Диаспоры, 2000.- № 1-2.
Адыгская (Черкесская) энциклопедия / под. ред. Кумахова. - Москва,
2006.
Аракелян, Г.С. Черкесогаи / Аракелян Г.С. // Кавказ и Византия. Ереван, 1984. - Т.4.
Аутлев, М. Адыги. Историко-этнографический очерк / Аутлев М.,
Зевакин Е., Хоретлев А.- Майкоп: Адыг. кн. изд-во, 1957. - 140 с.
Аутлев, П.М. О причине махаджирства адыгов в XIX веке / Аутлев
П.М. // Зэкъошныгъ. - 1989.- № 4.
Багиров, М.Д. К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля /
Багиров М.Д. // Большевик. - 1950.- № 13.
Берже, А. Краткий обзор горских племен на Кавказе / Берже А. Нальчик, 1992. - 48 с.
133
Бетрозов, Р.Ж. Адыги: возникновение и развитие этноса / Бетрозов
Р.Ж. - Нальчик, 1998.
Бетрозов, Р.Ж. Этническая история адыгов / Бетрозов Р.Ж. - Нальчик,
1996.
Бижев, А.Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и кризис восточного
вопроса в конце 20-х начале 30-х гг. XIX в / Бижев А.Х. - Майкоп: Меоты,
1994.- 328 с.
Блиев, М. М. Кавказская война / Блиев М. М., Дегоев В. В.- М.: Росет,
1994. 592 с.
Броневский, С.М. Новейшия Известия о Кавказе, собранныя и
пополненныя Семеном Броневским: в 2 томах: Т. 1, Т. 2. / Броневский С.М.;
подг. И. К. Павлова.- СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004.- 464 с.
Бурыкина, Л.В. Переселенческое движение на Северо-Западном
Кавказе в 90-е годы XVIII -90-е годы XIX века / Бурыкина Л.В. - Майкоп,
2002. - 207 с.
Бушуев, С.К. Из истории внешнеполитических отношений в период
присоединения Кавказа к России. (20-70 гг. XIX в.) / Бушуев С.К.
Бэрзэдж, Н. Изгнания черкесов / Бэрдзэдж Н.- Майкоп, 1996.- 223 с.
Венюков, М.И. Население Северо-Западного Кавказа в три эпохи его
колонизации русскими: 1841, 1860 и 1863 годах / Венюков М.И. // Записки
императорского русского географического общества.- СПб, 1864.- Т.1.
Виноградов, В.Б. Средняя Кубань: земляки и соседи / Виноградов В.Б.Армавир, 1995.
Волкова, Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в
XVIII- начале XX в. / Волкова Н. Г.- М.: Наука, 1974. -239 с.
Гарданов, В.К. Общественный строй адыгских народов (XVIII- первая
половина XIX вв.) / Гарданов В.К. - М.: Наука, 1967. - 331 с.
Городецкий, Б.М. Немецкое землевладение на Кубани / Городецкий
Б.М. - Екатеринодар, 1915.
134
Губжоков, М. Фактор этнических миграций в Кавказской войне /
Губжоков М. // Литературная Адыгея. 1998. № 2. - С. 155-160.
Дегоев, В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность.
Статьи, очерки, эссе / Дегоев В.В. - М.: SPSL - Русская панорама, 2001. – 448
с. – (Кавказский роковой круг).
Дегоев, В.В. Дипломатическая история Кавказских войн 1 трети XIX
века: о методологии изучения проблемы / Дегоев В.В. // Кавказский сборник.
- М., 2006.- Т.№3(35).
Джимов, Б.М. Общественный строй дореформенной Адыгеи (18001868) / Ученые записки / Джимов Б.М.- Майкоп, 1970. - Т. XI.
Джимов, Б.М. Социально-экономическое и политическое положение
адыгов в XIX в. / Джимов Б.М.- Майкоп, 1986.
Дзидзария, Г.А.Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX
столетия / Дзидзария Г.А.- Сухуми: Алашари, 1975. - 526 с.
Дубровин, Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе /
Дубровин Н.Ф. - СПб., 1888.
Дьячков-Тарасов, А.Н. Абадзехи / Дьячков-Тарасов А.Н. // ЗКОРГО.
Кн. XXII, Вып. 4. - Тифлис, 1902. - 50 с.
Дьячков-Тарасов, А.Н. Мамхеги / Дьячков-Тарасов А.Н. // ИКОРГО. Т.
XIV.- Тифлис, 1901.
Земля адыгов / под ред. проф. А.Х. Шеуджена.- Майкоп: Качество,
1996.-747с.
Из истории населенных пунктов Республики Адыгея. Материалы по
ЭНП РА. Вып I, III / под ред. Гишева Н.Т., Панеша А.Д. - Майкоп: Качество,
2004. 184 с.
История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.- 1917 г.) / под ред.
А.Л. Нарочницкого. - М.: Наука, 1988.- Т. 2.- 659 с.
135
Кабузан, В.М. Население Северного Кавказа в XIX-XX веках.
Этностатистическое исследование. Росс. акад. / Кабузан В.М. -СПб.: Рус.балт. Информцентр «Блиц», 1996.
Кавказ.
Описание
края
и
краткий
исторический
очерк
его
присоединения к России. - изд. 3. - СПб., 1911.
Карданов, А.Х. Из истории Кавказской войны в верховьях Кубани /
Карданов А.Х. // Черкесия. Черкесск.- 2004. - № 2.
Касумов, А.Х. Геноцид адыгов. Из истории борьбы адыгов за
независимость в XIX в. / Касумов А.Х., Касумов Х.А. - Нальчик: Логос,
1992.- 199 с.
Киняпина, Н.С. Внешняя политика России второй половины XIX в. /
Киняпина Н.С.- М., 1974.
Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России /
Киняпина Н.С. - М. 1984.
Кипкеева, З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа:
Миграции и расселение (60-е годы XVIII – 60-е годы XIX.) / Кипкеева З.Б.М.: Изд. Ипполитова, 2006.- 360 с.
Клычников, Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (18271840 гг.) / Клычников Ю.Ю. - Пятигорск, 2002.
Ключевский, В.О. Руссая история / Ключевский В.О.- М.: Изд – во
Эксмо, 2005. - 912 с.
Колесов, В. Недолгая история горских евреев Северо-Западного
Кавказа / Колесов В., Сень Д. // Диаспоры. - 2000. - № 3.
Короленко, П.П. Закубанский край // Ландшафт, этнографические и
исторические процессы на Северном Кавказе в XIX- начале XX века /
Короленко П.П. - Нальчик, 2004.
Куадже, Р.З. Некоторые вопросы колониальной экспансии царского
самодержавия против Адыгеи (Черкесии) // Черкесия. Черкесск. - 2004. - № 2.
136
Кубашичева З. Ю. Формирование этнической карты Северо-Западного
Кавказа (конец XVIII – начало 20-х гг. XX в.) / З. Ю. Адзинова. Майкоп, Издво «З.В.Паштов», 2010.
Кудаева, С.Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX веке:
Процессы трансформации и дифференциации адыгского общества / Кудаева
С.Г. - Майкоп, 2006. -305 с.
Кудаева, С.Г. Огнем и железом. Вынужденное переселение адыгов в
Османскую империю. (20-70 гг. XIX в.) / Кудаева С.Г. - Майкоп, 1998.
Кузнецов, И. «Черкесские греки» - идентичность, культура, религия /
Кузнецов И., Колесов В. // Диаспоры. - 2002. -№1.
Кумыков, Т.Х. Выселение адыгов в Турцию – последствие Кавказской
войны / Кумыков Т.Х. - Нальчик: Эльбрус, 1994.- 114 с.
Лопатинский, Л.Г. Заметки о народе адыге вообще и кабардинцах в
частности / Лопатинский Л.Г. // Сборник материалов для описания
местностей и племен Кавказа. - Тифлис, 1981. - Вып. XII.
Люлье, Л.Я. Общий взгляд на страны занимаемые: Черкесами (Адыге),
Абадзехами (Азега) и другими смежными с ними / Люлье Л.Я. // Черкесия.
Историко-этнографические статьи. МЦТК «Возрождение», 1990. - 47 с.
Марков, В.Н. Евреи Кубанской области / Марков В.Н.: дисс. на соиск.
уч. степ. канд. ист. наук. - Майкоп, 2007.
Основные
административно-территориальные
преобразования
на
Кубани 1793-1985. - Краснодар, 1985.
Очерки истории Адыгеи / под ред. проф. С.К. Бушуева, М.Г. Аутлева,
Э.Л. Коджесау. - Майкоп: Адыг. кн. изд-во, 1957. Т. I. - 483 с.
Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г / под ред. В.Н.
Ратушняка. - Краснодар, 1996. – 656 с.
По страницам истории Кубани. (Краеведческие очерки) / отв. ред. В.Н.
Ратушняк. - Краснодар: Советская Кубань, 1993. - 208 с.
137
Покровский, М.В. Адыгейские племена в конце XVIII – 1 половине
XIX в. / Покровский М.В. // Кавказский этнографический сборник. - М.,
1958.- Т.2.
Половинкина, Т.В. Черкесия – боль моя. Исторический очерк
(древнейшее время – начало XX в.) / Половинкина Т.В.- Майкоп, 2001.
Потто, В.А. Кавказская война / Потто В.А. - Ставрополь, 1994. - Т.I.
Ратушняк, В.Н. Вхождение Северо-Западного Кавказа в состав России
и его капиталистическое развитие / Ратушняк В.Н. - Краснодар, 1978.
Симонян, М.С. Армянская диаспора Северо-Западного Кавказа:
формирование, конфессиональный облик, взаимоотношения с властью,
обществом и религиозными объединениями (конец XVIII-конец XX в.) /
Симонян М.С. : дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук.- Краснодар, 2003.
Смирнов, Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX веках / Смирнов
Н.А. - М., 1958.
Тлепцок Р.А. Вхождение Северо-Западного Кавказа в социальноэкономическую
и
политическую
структуру
Российской
империи
(пореформенный период). Майкоп, 2001.
Торнау, Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера / Торнау Ф.Ф.Черкесск, 1994.
Тотоев, М.С. К вопросу о переселении осетин в Турцию (1859-1865) /
Тотоев М.С. // Известия Северо-Осетинского НИИ. - Дзиуджикау, 1948.Т.ХIII.
Трехбратов, Б.А. История Кубани / Трехбратов Б.А. - Краснодар:
Кубанское книжное издательство, 2005. - 440 с.
Фадеев,
А.В.
Социально-экономические
предпосылки
внешней
политики царизма в период Восточного кризиса 20-х гг. XIX в. / Фадеев А.В.
// Исторические записки.- М., 1955.
138
Феофилактова, Т.М. Политические отношения России с народами
Северо-Западного Кавказа в период подготовки второй русско-турецкой
войны второй половины XVIII в. (1783-1787) / Феофилактова Т.М. // Россия и
Черкесия (вторая половина XVIII – XIX вв.). - Майкоп, 1995.
Фонвиль А. Последние годы войны Черкесии за независимость: 186364 гг. / Фонвиль А. - Краснодар, 1927.
Хан-Гирей. Записки о Черкесии / Хан-Гирей. - Нальчик, 1992.
Хлынина, Т.П. Адыгея в 1920-е годы. Проблема становления и
развития автономии / Хлынина Т.П. - Краснодар, 1997.
Хозров, И. остатки христианства между закубанскими племенами,
прошедшее и нынешнее состояние их нравов и обычаев / Хозров И. //
Сборник газеты «Кавказ» за 1846 г., II полугодие. - Тифлис, 1847.
Цуциев, А.А. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774-2004) /
Цуциев А. - М.: Европа, 2006. - 128 с.
Чирг, А. Кавказская война. Черкесия в огне. Гибель Черкесии / Чирг А.Краснодар, 1994.
Чирг, А.Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов СевероЗападного Кавказа / Чирг А.Ю. - Майкоп, 2002.
Шадже, А.Ю. Северокаквазское общество: опыт системного анализа /
Шадже А.Ю., Шеуджен Э.А.- Москва-Майкоп: Аякс, 2004. - 216 с.
Шацкий, П.А. Сельское хозяйство Предкавказья в 1861-1905 гг.
(Историческое исследование) / Шацкий П.А. // Некоторые вопросы
социально-экономического развития юго-восточной России.- Ставрополь,
1870.
Шеремет, В.И. Турция и Адрианопольский мир 1829 года / Шеремет
В.И.- М., 1975.
Щербина,
Ф.А.
Естественно-исторические
условия
народностей на Кубани / Щербина Ф.А. - Екатеринодар, 1906.
139
и
смена
Щербина, Ф.А. История Армавира и черкесогаев / Щербина Ф.А. Екатеринодар, 1916.
Щербина, Ф.А. История Кубанского казачьего войска / Щербина Ф.А. Екатеринодар, 1913.
Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен
до октября 1917 г. / под ред. Б.А. Трехбратова. - Краснодар, 1997.
Энциклопедический
словарь.
Т.32.
Репринтное
воспроизведение
издания Ф.А. Брокгауз - И.А. Ефрон.1890. «ТЕРРА» - «TERRA», 1991.
Эса-дзе, С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской
войны / Эса-дзе С. - Майкоп: Меоты, 1993. - 120 с.
Чернявская Ю. Народная культура и национальные традиции. – Издво Беларусь, 2000;
Иванова Юлия Валентиновна. Этнос: Социокультурная динамика и
традиции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
философских наук. – М., 2000;
Этнические процессы в современном мире / Ю. В. Бромлей, В. И.
Козлов. С. А. Арутюнов и др. – М., 1987;
Арутюнов Ю. В., Дробижева Л. М., Кондратьева B. C., Сусокалов А.
А. Этносоциология: цели, методы и некоторые результаты исследований. –
М., 1985;
Бабаков В. Г. Кризисные этносы/ РАН. Ин-т философии. – М, 1993
140
СОДЕРЖАНИЕ
I.
II.
III.
IV.
ВВЕДЕНИЕ
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС
Вводная лекция. Этническая история и её место среди
других дисциплин. Теоретические подходы к пониманию
базовых категорий «этнос», «этногенез».
Раздел I. Этнический состав Северо-Западного Кавказа
(конец XVIII – первая четверть XIX вв. )
Северо-Западный Кавказ: геополитическое положение,
характеристика адыгских субэтнических групп
Расселение и состояние полиэтнического состава региона
Раздел II. Истоки трансформации этнической структуры
Северо – Западного Кавказа (20-50-е гг. XIX в.)
Народы Северо-Западного Кавказа в контексте геополитических
интересов противоборствующих держав (20-е гг. XIX в.)
Начало военной колонизации Северо-Западного Кавказа
Россией и миграционные процессы (30-50-е гг. XIX в.)
Раздел III. Формирование этнической и административной карты СевероЗападного Кавказа (50-е гг. XIX – начало 20-х гг. XX вв.)
Вынужденное переселение адыгов
Северо-Западного Кавказа в пределы Османской империи
и изменение этнической карты региона
Миграционная политика Российской империи
на Северо-Западном Кавказе
и административно-территориальные преобразования в регионе
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
141