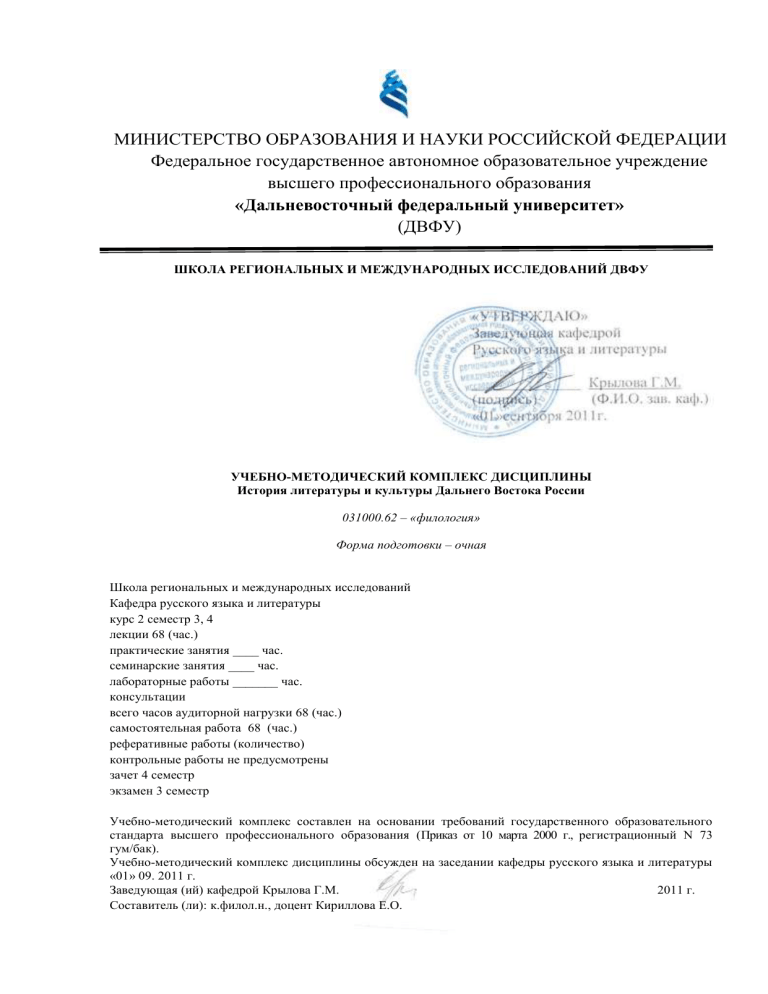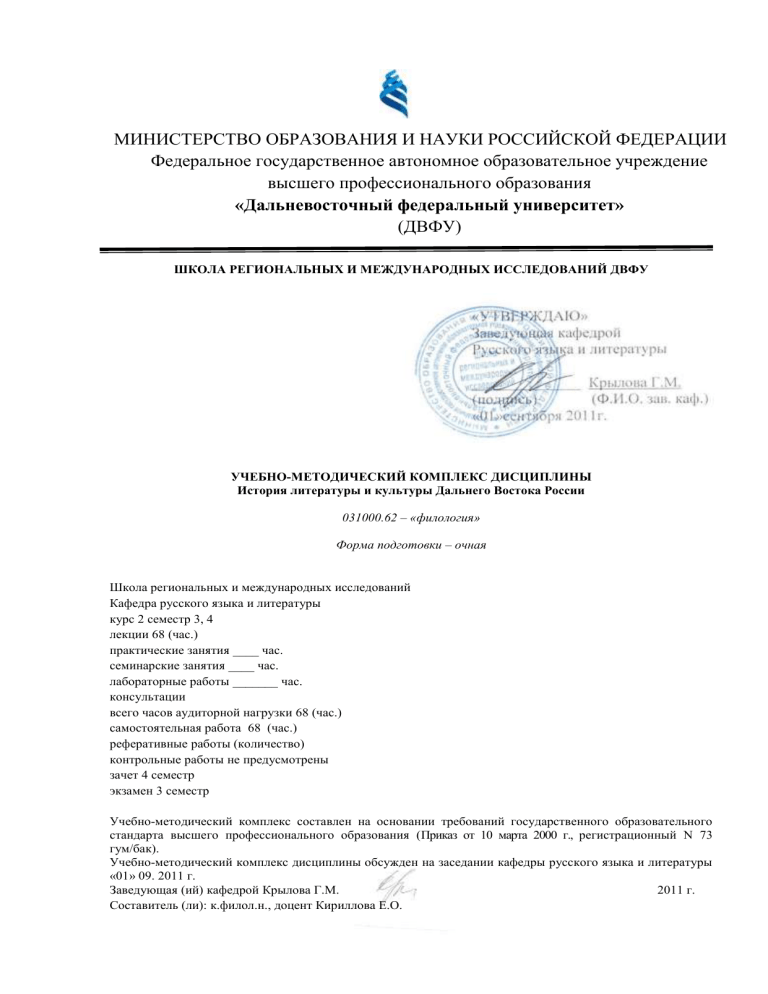
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВФУ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ
История литературы и культуры Дальнего Востока России
031000.62 – «филология»
Форма подготовки – очная
Школа региональных и международных исследований
Кафедра русского языка и литературы
курс 2 семестр 3, 4
лекции 68 (час.)
практические занятия ____ час.
семинарские занятия ____ час.
лабораторные работы _______ час.
консультации
всего часов аудиторной нагрузки 68 (час.)
самостоятельная работа 68 (час.)
реферативные работы (количество)
контрольные работы не предусмотрены
зачет 4 семестр
экзамен 3 семестр
Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (Приказ от 10 марта 2000 г., регистрационный N 73
гум/бак).
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры русского языка и литературы
«01» 09. 2011 г.
Заведующая (ий) кафедрой Крылова Г.М.
2011 г.
Составитель (ли): к.филол.н., доцент Кириллова Е.О.
Содержание
Аннотация……………………………………………………………………………………….3
Рабочая программа…………………...…………………………………………………………4
Конспекты лекций……………………………………………………………………………..30
Материалы для организации самостоятельной работы студентов………………………..135
Контрольно-измерительные материалы…………………………………………………….137
Список литературы……………………………………………………………………….…...154
АННОТАЦИЯ
учебно-методического комплекса дисциплины
«История литературы и культуры Дальнего Востока России»
Учебно-методический комплекс дисциплины «История литературы и культуры
Дальнего Востока России» разработан для студентов 2 курса по направлению 031000.62
«Филология» в соответствии с требованиями по данному направлению и положением об
учебно-методических комплексах дисциплин образовательных программ высшего
профессионального образования.
Дисциплина «История литературы и культуры Дальнего Востока России» входит в
часть ГСЭ – «Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин»
(ГСЭ.Р.1)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 136 часов. Учебным планом
предусмотрены лекционные занятия (68 часов), самостоятельная работа студента (68
часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3, 4 семестре.
Учебно-методический комплекс включает в себя:
аннотацию
рабочую учебную программу дисциплины;
конспекты лекций;
материалы для организации самостоятельной работы студентов;
контрольно-измерительные материалы;
список литературы;
Автор-составитель учебно-методического комплекса
(к.филол.н., доцент кафедры русского языка и литературы Школы региональных и
международных исследований ДВФУ)
Кириллова Е.О.
Зав.кафедрой русского языка и литературы
Крылова Г.М.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВФУ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (РПУД)
История литературы и культуры Дальнего Востока России
031000.62 – «Филология»
Форма подготовки - очная
Школа региональных и международных исследований
Кафедра русского языка и литературы
курс 2 семестр 3, 4
лекции 68 (час.)
практические занятия ____ час.
семинарские занятия ____ час.
лабораторные работы _______ час.
консультации
всего часов аудиторной нагрузки 68 (час.)
самостоятельная работа 68 (час.)
реферативные работы (количество)
контрольные работы не предусмотрены
зачет 4 семестр
экзамен 3 семестр
Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (Приказ от 10 марта 2000 г., регистрационный N 73
гум/бак).
Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры русского языка и литературы
«01» 09. 2011 г.
Заведующая (ий) кафедрой Крылова Г.М.
2011 г.
Составитель (ли): к.филол.н., доцент Кириллова Е.О.
АННОТАЦИЯ
Программа лекционного курса «История литературы и культуры Дальнего Востока
России» входит в цикл ГСЭ; предназначена для студентов, обучающихся по
филологическим специальностям, и составлена в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 136 часов. Учебным планом
предусмотрены лекционные занятия (68 часов), самостоятельная работа студента (68
часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3, 4 семестре.
Дисциплина относится к циклу дисциплин направления, тесно связана с такими
курсами образовательного стандарта, как «История русской литературы XVIII-XXI вв.»,
«Литература русского зарубежья», «История культуры России», «Мировая
художественная культура».
Курс «История литературы и культуры Дальнего Востока России» делится на 2 части в
соответствии с двумя семестрами изучения: «История литературы Дальнего Востока
России» и «История культуры Дальнего Востока России».
Часть 1 − «История литературы Дальнего Востока России». Дисциплина
регионального наполнения примыкает к курсу истории русской литературы России.
Период от ермаковских времен, времен освоения Сибири и Дальнего Востока до наших
дней. Курс включает творчество писателей, побывавших на Дальнем Востоке и
отразивших его в своих произведениях, писателей-дальневосточников (А. Чехов, С.
Максимов, Пржевальский (ХIХ в.), В. Арсеньев, Задорнов (ХХ в.)) и других; включается
творчество писателей коренных народов Дальнего Востока. В курс входит ознакомление с
темой «Дальний Восток в русской литературе», а затем изучение собственно литературы
дальневосточного региона России как части единой русской литературы.
Часть 2 − «История культуры Дальнего Востока России». Дисциплина
регионального наполнения, примыкающая к курсу «История литературы Дальнего
Востока». В курсе рассматривается зарождение, возникновение и развитие основных
культурных факторов, определивших становление и распространение культуры на
Дальнем Востоке, начиная с ХVII до ХХ века (периода от первого появления здесь
русских землепроходцев, присоединения к России и до нашего времени). Освещается
комплекс вопросов, охватывающих основные аспекты историко-культурного процесса в
регионе, вопросы историографии и методологии исследования истории культуры
Дальнего Востока, организации культурного строительства, формирования кадров
творческой интеллигенции. Культура дальневосточного региона России является частью
единой русской культуры, поэтому соответственно рассматриваются различные
источники, истоки формирования профессиональной культуры, в том числе народная
обрядность, устное народное творчество, музыкально-поэтическое и декоративное
искусство, показываются области функционирования различных видов искусств. Особое
внимание в курсе уделено анализу культуры коренных аборигенных народов Дальнего
Востока и встрече, а в дальнейшем - взаимодействию двух культур: культуры русского
народа и культуры коренных народов региона. Дисциплина включает вопросы социальной
истории: великие географические открытия русских людей на Дальнем Востоке, в
Северной части Тихого океана и в Русской Америке, создание здесь городов и других
населенных пунктов, их социально-экономическое развитие. В курсе используется
фактический и теоретический материал.
Цель курса:
1. Исследовать зарождение и развитие русской литературы на Дальнем Востоке
России: выявить специфику «дальневосточной литературы» и «дальневосточный
компонент» в истории русской литературы.
2. Изучить многоуровневое пространство региональной культуры (как русской, так и
коренных народов Дальнего Востока), включая разные составляющие (фольклор,
устное народное творчество, профессиональное искусство (музыкальное,
театральное, изобразительное)).
3. Выявить базовые принципы становления и основные направления развития
литературы и культуры Дальнего Востока, представленной как ценностносмысловое единство.
Задачи курса:
1. Изучить учебную и исследовательскую литературу по представленному курсу (по
двум модулям), различные статьи ученых 19-21 вв.
2. Прочитать и проанализировать тексты дальневосточных авторов, а также писателей,
поэтов, военных, ученых и др., жизнь и творчество которых были связаны с Дальним
Востоком России.
3. Особое внимание уделить литературе русского восточного зарубежья, русской поэзии
Китая и других стран АТР.
4.
Обратиться к культурологическому феномену дальневосточной эмиграции.
5. Изучить устное народное творчество, фольклор, культуру и искусство аборигенного
населения Дальнего Востока России, Камчатки, Чукотки, Аляски, побережья и островов
Северной части Тихого океана.
6.
Заинтересовать студентов литературным краеведением.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: тексты дальневосточных авторов и писателей, побывавших на Дальнем
Востоке России; освоить базовые элементы зарождения культуры на Дальнем Востоке
России (как русской, так и культуры коренных народов Дальнего Востока России,
традиционно проживавших на этих территориях).
Уметь: анализировать текст; обозначить специфические черты зарождения и
развития культуры на Дальнем Востоке (ее двух компонентов: русской и аборигенной).
Владеть: научным аппаратом.
I. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА
(68 часов лекций)
Часть 1 (3 семестр)
(34 часа)
Тема 1. Истоки дальневосточной темы в русской литературе. – 2 часа.
Тема 2. Героика освоения Дальнего Востока русской документально-художественной
маринистике. – 6 часов.
Тема 3. Дальневосточная тема в очерках И.А. Гончарова. Книга «Фрегат «Паллада»». – 2
часа.
Тема 4. Дальневосточная тема в творчестве К.М. Станюковича. – 2 часа.
Тема 5. Героика открытий и освоения Дальнего Востока в творчестве ученых,
путешественников, писателей Н.М. Пржевальского и М.И. Венюкова. – 2 часа.
Тема 6. Тема Дальнего Востока в истории русского путевого очерка второй половины
XIX века (С.В. Максимов, Д.И. Стахеев, П.А. Кропоткин, А.В. Елисеев). – 4 часа.
Тема 7. Чехов на Дальнем Востоке, поездка на остров Сахалин: «научные и литературные
цели». Путевые очерки «Из Сибири», «Остров Сахалин»: тема «маленьких героев».
Пребывание писателя во Владивостоке в 1890 году – 2 часа.
Тема 8. Зарождение и развитие дальневосточной литературы в конце XIX - начале XX
веков. Творчество Н.П. Матвеева и П.И. Гомзякова. – 2 часа.
Тема 9. Трилогия В.К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского края». – 2 часа.
Тема 10. Пути развития русской поэзии на Дальнем Востоке в период революции и
гражданской войны (1917-1922 гг.): реалистические и модернистские направления. - 2
часа.
Тема 11. Литература русского дальневосточного зарубежья. Творчество Арсения
Несмелова. – 2 часа.
Тема 12. Александр Фадеев и Дальний Восток. – 2 часа.
Тема 13. Развитие литературы Дальнего Востока в советский период (1924-1990).
Современный литературный процесс на Дальнем Востоке. – 2 часа.
Тема 14. Литература малых народов Дальнего Востока. – 2 часа.
Часть 2 (4 семестр)
(34 часа)
Тема 1. Культура коренных народностей Дальнего Востока России: история изучения
народностей в ХVII – ХХ вв. Историко-этнографические области коренных народов.
Традиционная материальная культура. - 2 часа.
Тема 2. Духовная культура народностей Дальнего Востока: устное народное творчество. –
2 часа.
Тема 3. Зарождение русской культуры на Дальнем Востоке и в Русской Америке в ХVII –
первой половине ХIХ века. Отечественная общественная мысль о Дальнем Востоке. – 2
часа.
Тема 4. Открытие и присоединение к России Дальнего Востока в ХVII веке: великие
географические открытия, состав населения и хозяйственная деятельность. – 2 часа.
Тема 5. Великие географические открытия русских людей на Дальнем Востоке, в
Северной части Тихого океана и на Аляске в ХVIII веке. Социально-экономическое
развитие. – 2 часа.
Тема 6. Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Русской Америки в ХVШ
– середине ХIХ вв. Отличие административного управления России на Дальнем Востоке
от управления в Русской Америке. Основные города Дальнего Востока и Русской
Америки ХVII – первой половины ХIХ вв. Промышленность. – 2 часа.
Тема 7. Зарождение русской культуры на Дальнем Востоке и в Русской Америке. Роль
русской православной церкви в распространении отечественной культуры на Дальнем
Востоке в ХVIII - ХIХ вв. – 2 часа.
Тема 8. Культурное развитие Дальнего Востока во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.
Отечественная научная мысль о культуре Дальнего Востока». – 2 часа.
Тема 9. Развитие народного просвещения и специального образования на Дальнем
Востоке в середине ХIХ - начале ХХ вв. – 2 часа.
Тема 10. Развитие периодической печати и книгоиздания на Дальнем Востоке в середине
ХIХ - начале ХХ вв. – 2 часа.
Тема 11. Зарождение науки на Дальнем Востоке в конце ХIХ - начале ХХ вв. Создание
Общества изучения Амурского края и открытие Восточного института. - 2 часа.
Тема 12. Русская православная церковь и развитие культуры на Дальнем Востоке. – 1 час.
Тема 13. Зарождение и развитие художественной культуры на Дальнем Востоке во второй
половине ХIХ - начале ХХ вв. – 4 часа.
Тема 14. Традиционная культура русского населения Дальнего Востока ХVII – начала ХХ
вв. История изучения русской народной культуры. Культура русского казачества на
Дальнем Востоке. – 3 часа.
Тема 15. Крестьянская культура на Дальнем Востоке. Традиционная народная обрядность,
фольклорный быт. – 2 часа.
Тема 16. Культура старообрядцев Дальнего Востока. – 1 час.
Тема 17. Известные деятели Дальнего Востока. – 1 час.
II.
КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА
Подготовка к контрольным заданиям по рейтинговой системе оценок
Контрольные вопросы культуре Дальнего Востока России
I вариант
1. Отечественная общественная мысль о Дальнем Востоке России в ХVII – первой
половине ХIХ в: два основных направления (правительственное и демократическое) в
отечественной историографии открытия и первоначального освоения русскими людьми
Дальнего Востока в указанный период. Характеристика зарубежной историографии
(кратко) о русском Дальнем Востоке ХVII – ХIХ в. Ошибки и заблуждения.
2. Характерные особенности семейных обрядов и обычаев коренного населения Дальнего
Востока.
II вариант
1. Своеобразие продвижения русских людей на восток в ХVШ - ХIХ вв. (Великие
географические открытия русских людей на Дальнем Востоке, в Северной части Тихого
океана и на Аляске в ХVШ в.; основные русские научные экспедиции по изучению
Сахалина, Курильских островов и Амура в ХIХ в.).
2. Периодизация развития русской культуры на Дальнем Востоке России в ХVII – ХХ вв.
Ш вариант
1. Историко-этнографические области коренных народностей Дальнего Востока,
историко-культурная характеристика этих народностей (традиционная материальная
культура: жилище, традиционная одежда народов Дальнего Востока в разных
климатических областях).
2. Принятие Нерчинского договора 1689 г. между Россией и Китаем и его последствия
для Приамурья.
IV вариант
1. Причины и начала, определившие движение русских людей в Сибирь и на Дальний
Восток в ХVII в. Основные центры сосредоточения русских людей на Дальнем Востоке в
ХVII в.
2. История изучения народностей Дальнего Востока: имена исследователей культуры
Дальнего Востока и их основные труды.
V вариант
1. Особенности религиозных верований и народных знаний у аборигенного населения
Дальнего Востока (шаманизм). Устное народное творчество и фольклор народов Дальнего
Востока. Классификация жанров.
2. Состав населения и виды хозяйственной деятельности русских людей на Дальнем
Востоке в ХVII в.
Вопросы к экзамену (Часть 1 – 3 семестр)
1. Дальний Восток в русской очерково-мемуарной литературе. Истоки дальневосточной
темы в русской литературе (русские землепроходцы-казаки, первые описания и
записки М. Стадухина, С. Дежнева, «сказки» В. Атласова, «расспросные речи» В.
Пояркова, отписки Е. Хабарова, О. Степанова).
2. Тема освоения Сибири и Дальнего Востока. История Ермака, положившего начало
присоединению Сибири к России, и ее отражение в летописях. Противоречивость
летописей.
3. М.В. Ломоносов о Дальнем Востоке и Сибири (о прирастании могущества России
Сибирью), «дальневосточные мотивы» в его поэзии.
4. «Описание земли Камчатки» (1756) С.П. Крашенинникова. Научно-познавательное и
художественное. Научное описание и путевой очерк, дневник. Характеристика
исторических лиц. Образ Владимира Атласова.
5. Г.Р. Державин, А.Н. Радищев, русские революционные демократы (В.Г. Белинский,
Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев) о востоке.
6. Героика освоения Дальнего Востока в русской дальневосточной маринистике: истоки
морской темы. Г. Шелихов «Российского купца Григория Шелехова странствования
из Охотска по Восточному океану к Американским берегам» (1791). «Личное» начало
и публицистичность Шелихова.
7. Первое кругосветное путешествие русских и отражение его в литературе:
«Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и
«Нева»» (1809-1812) И.Ф. Крузенштерна, «Путешествие вокруг света на корабле
«Нева» в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах» (1812) Ю.Ф. Лисянского. Исторические
предуведомления и нравственный долг. Близость к путевым дневникам. Тема русской
Америки.
8. «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова,
писанное сим последним» (1810, 1812). Жанр путешествия и личностное начало
(авторские отступления) в книге.
9. В.М. Головнин и его путешествия – этап в развитии русской документальной
маринистики. «Записки о приключениях в плену у японцев» (1816), «Путешествие
вокруг света на шлюпе «Камчатка»: увлекательность сюжета, авантюрное начало,
психология в экстремальных условиях. Особенность стиля и слога Головнина. приложение к книге Головнина - «Записки флота капитана П.И. Рикорда о плавании
его к японским берегам в 1912 и 1813 годах и сношениях с японцами».
10. В.А. Римский-Корсаков и его повествование в письмах о походе на шхуне «Восток»
(1852-1857), книга «Балтика-Амур»; Л. Загоскин «Заметки жителя того света» (1840);
записки Н. Бошняка. Своеобразие книг. Героические страницы истории Дальнего
Востока: защита Петропавловска-на-Камчатке.
11. Книга Г.И. Невельского «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке
России. 1849-1855» (1878). Образы морских офицеров. Проблема патриотизма и
гуманизма, будущности России.
12. Особенности русской документальной маринистики: жанровые искания (записки,
путевые очерки, повести в письмах), «смешанное содержание», проблема
героического
характера.
Направления
русской
маринистики.
Высокохудожественность как новое качество документальной маринистики.
13. Русские писатели и Дальний Восток. Дальневосточная тема в путевых очерках И.А.
Гончарова «Фрегат Паллада», своеобразие. Образ автора-повествователя и его место в
сюжетно-композиционной структуре произведения. Героическое и подвижническое
начало, о народном подвижничестве («маленькие титаны», имя которым – легион).
Спор о героическом пафосе.
14. Дальневосточная тема в творчестве К.М. Станюковича. Владивостокские страницы
жизни и творчества. Повесть «Вокруг света на «Коршуне»» (1896), автобиографизм
образа главного героя Володи Ашанина. Героические черты русского национального
характера: открытие образа простого русского моряка, мысль о любви к народу как
«руководящему началу» в жизни.
15. Героика открытий и освоения Дальнего Востока в творчестве Н.М. Пржевальского.
Книга «Путешествие в Уссурийском крае. 1867-1869»: человек и природа Приморья,
страницы истории заселения края. Сплав научного и художественного. Образ
русского путешественника, друзья и недруги.
16. Героика открытий и освоения Дальнего Востока в творчестве М.И. Венюкова.
«Воспоминания о заселении Амура в 1857-1858» (1879) «Путешествие по Приамурью,
Китаю и Японии» (1970). Научные открытия, ученые статьи. Проблема
подвижничества русских ученых.
17. Тема Дальнего Востока в истории русского путевого очерка ХIХ века. С.В. Максимов
и его книга «На востоке. Поездка на Амур» (1861, 1864). Особенности очерковой
книги путешествий. Картины народной жизни Сибири и Дальнего Востока и
«амурский вопрос». Мотив созидания на новых землях.
18. Страницы истории освоения Дальнего Востока: дальневосточные сюжеты и типология
народных характеров в рассказах Д.И. Стахеева (сб. рассказов «На память многим»
(1867); «Записки революционера» (глава «Сибирь») путешественника и географа П.А.
Кропоткина: образы крестьян, казаков, чиновников.
19. Книги очерков «Из Сибири» и «Остров Сахалин» А.П. Чехова: проблематика,
особенности жанра. Научное и художественное изображение действительности.
Сахалинская тема в творчестве писателя, значение книги. Вера Чехова в будущность
России. Писатель во Владивостоке.
20. Эволюция научно-художественной прозы. В.К. Арсеньев - путешественник, ученый,
писатель. Трилогия «В дебрях Уссурийского края» (1926): художественное
своеобразие книг, документализм и личностное начало. Образ Дерсу Узала.
21. А.Я. Максимов – первый писатель Приморья. Жанр путевых очерков «Вокруг света.
Плавание корвета «Аскольд» (1876). Дальневосточная тема в сборнике рассказов «На
далеком Востоке» (1883). Этнографические очерки, экзотические, опыты в
беллетристике. Писатель о значении Владивостока и края как открытой двери в океан.
22. Первые поэты Приморья: морской офицер Павел Гомзяков, издатель и журналист
Н.П. Матвеев. Основные мотивы поэзии.
23. Литературно-поэтические направления на Дальнем Востоке в начале 1920-х гг.
(группа футуристов, партизанская поэзия, поэзия Пролеткульта и др.). Создание во
Владивостоке Литературно-художественного общества Дальнего Востока (ЛХО ДВ).
24. Жанровое своеобразие русской дальневосточной поэзии 1917-1922 гг.
25. Типология русского национального характера в советском историческом романе,
посвященном истории Сибири и Дальнего Востока. Романы и повести о Ермаке: А.
Веселого «Гуляй-Волга» (1932), Е. Федорова «Ермак» (1955) , В. Сафонова «Дорога
на простор» (1955). Герои народной истории - герои литературы: Д. Романенко
«Ерофей Хабаров» (1946-69), Вс. Н. Иванов «Черные люди» (1963). Историзм и
проблема народного характера.
26. Образ морехода в исторической прозе Дальнего Востока. «Морские герои» и черты
исторического романа-путешествия: И. Кратт «Великий океан», В. Григорьев
«Григорий Шелихов», С. Марков «Юконский ворон».
27. Исторические романы об освоении русскими Дальнего Востока Н. Задорнова: «Амурбатюшка» (1940-46), «Капитан Невельской», «Цунами» и др. Типология народных
характеров.
28. Исторические романы о Приморье: И. Басаргин «Дикие пчелы» (1989), С. Балабин
«Пестрые стрелы Сульдэ» (1991) и др.
29. Цикл дальневосточных исторических романов В. Пикуля («Богатство» (1977), «Три
возраста Окини-сан» (1981), «Крейсера» (1985), «Каторга» (1987)). Художественное
своеобразие.
30. Революция и гражданская война на Дальнем Востоке в литературе. Романы и повести
Вс. Иванова, А. Фадеева и др. Героическое и трагическое, классовое и
общечеловеческое. Народный характер в ситуациях социального и нравственного
выбора.
31. Дальневосточная тема в творчестве поэта Павла Васильева.
32. У истоков поэтов фронтового поколения. Творческие судьбы поэтов А. Артемова, В.
Афанасьева, Г. Корешова, П. Комарова и др. Жанровые поиски: лирическое
стихотворение, баллада, поэма. Поэзия мужественного гуманизма.
33. Литература малых народов Дальнего Востока: Джанси Кимонко «Там, где бежит
Сукпай», трилогия Георгия Ходжера «Амур широкий», романы Юрия Рытхэу,
Владимира Санги, поэзия Антонины Кымытваль, Виктора Кеулькута, Андрея
Пассара, проза Николая Дункая.
34. Жизнь коренных народов в творчестве русских писателей. Повесть из жизни нивхов
«Сын орла» (1939) дальневосточного прозаика Т. Борисова; «Белый шаман» (1978),
«Древний знак» (1984) Н. Шундика и др.
35. Поэзия 1970-90-х годов. Поэтические имена: Г. Лысенко, Б. Лапузин, В. Тыцких.
Своеобразие поэзии.
36. Дальневосточное литературное зарубежье: феномен поэзии русского Китая (имена,
тенденции, жанры). Арсений Несмелов, Валерий Перелешин, Виктория Янковская,
Иван Елагин и др.
ЧАСТЬ 2 (4 семестр)
Вопросы к зачету
1. Периодизация развития русской культуры на Дальнем Востоке России в ХVII – ХХ
вв.
2. История изучения народностей Дальнего Востока: имена исследователей культуры
Дальнего Востока и их основные труды.
3. Историко-этнографические области коренных народностей Дальнего Востока,
историко-культурная характеристика этих народностей.
4. Традиционная материальная культура народов Дальнего Востока (традиционное
жилище и традиционная одежда народов Дальнего Востока в разных климатических
областях).
5. Особенности религиозных верований и народных знаний у аборигенного населения
Дальнего Востока (шаманизм).
6. Устное народное творчество и фольклор народов Дальнего Востока. Классификация
жанров.
7. Своеобразие искусства аборигенов.
8. Характерные особенности семейных обрядов и обычаев коренного населения
Дальнего Востока.
9. Отечественная общественная мысль о Дальнем Востоке России в ХVII – первой
половине ХIХ в.: два основных направления (правительственное и демократическое)
в отечественной историографии открытия и первоначального освоения русскими
людьми Дальнего Востока в указанный период.
10. Характеристика зарубежной историографии о русском Дальнем Востоке ХVII – ХIХ
в. Ошибки и заблуждения.
11. Причины и начала, определившие движение русских людей в Сибирь и на Дальний
Восток в ХVII в.
12. Основные центры сосредоточения русских людей на Дальнем Востоке в ХVII в.
13. Состав населения и виды хозяйственной деятельности русских людей на Дальнем
Востоке в ХVII в.
14. Принятие Нерчинского договора 1689 г. между Россией и Китаем и его последствия
для Приамурья.
15. Своеобразие продвижения русских людей на восток в ХVШ в.: великие
географические открытия русских людей на Дальнем Востоке, в Северной части
Тихого океана и на Аляске.
16. Основные русские научные экспедиции по изучению Сахалина, Курильских островов
и Амура в ХIХ в. Роль Г.И. Невельского в присоединении Приамурья и Приморья к
России на основе мирных договоров между Россией и Китаем (Айгунский 1858 г. и
Пекинский 1860 г.).
17. Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Русской Америки в ХVШ –
середине ХIХ вв. Административное управление регионом.
18. Отличие административного управления России на Дальнем Востоке от управления в
Русской Америке. Первые правители Русской Америки.
19. Основные города Дальнего Востока и Русской Америки ХVII – первой половины ХIХ
вв. Промышленность.
20. Зарождение русской культуры на Дальнем Востоке и в Русской Америке в ХVII –
середине ХIХ вв. Ячейки инфраструктуры русской культуры.
21. Роль Русской Православной Церкви в распространении отечественной культуры на
Дальнем Востоке в ХVII – первой половине ХIХ вв. Факторы высокой положительной
роли Русской Православной Церкви.
22. Имена основных церковных деятелей, много сделавших для развития просвещения
русского населения и коренных народов Дальнего Востока и Русской Америки в ХVII
– первой ХIХ вв. Характеристика их деятельности.
23. Основные духовные миссии, работавшие на Камчатке и в Русской Америке в ХVII –
первой половине ХIХ вв. (Камчатская духовная миссия, Американская (Кадьякская)
миссия).
24. Народная школа на Дальнем Востоке и в Русской Америке. Роль И. Хотунцевского и
его духовной миссии для народного образования на Камчатке.
25. Культурное развитие Дальнего Востока во второй половине ХIХ – начале ХХ в. и
отечественная научная мысль о культуре Дальнего Востока указанного периода:
основные события, характеризующие завершение формирования территории России
на востоке.
26. Факторы развития культуры на Дальнем Востоке во второй половине ХIХ – начале
ХХ в. (общероссийское и дальневосточное): реформы общегосударственного
значения, определившие культурный прогресс страны, в том числе и Дальнего
Востока.
27. Развитие народного просвещения и специального образования на Дальнем Востоке в
1860-1917 гг. (учебные заведения разнообразного типа и гибкая сеть учебных
заведений: миссионерские школы, женское образование, среднее специальное и
высшее образование). Имена учителей-подвижников.
28. Роль периодической печати и книгоиздания на Дальнем Востоке во второй половине
ХIХ – начале ХХ вв.: имена, названия.
29. Зарождение науки на Дальнем Востоке во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.:
имена руководителей первых гидрографических и гидрометеорологических
экспедиций, географических, геологических, топографических, биолого-почвенных,
этнографических и др. исследований.
30. Историческое направление исследований на Дальнем Востоке. Создание Общества
изучения Амурского края (ОИАК) и Приамурского отдела Русского географического
общества (ПО РГО) и их роль в развитии культурной жизни дальневосточного
региона.
31. Открытие во Владивостоке Восточного института. Основы русского востоковедения
на Дальнем Востоке: имена профессоров-востоковедов и характеристика научных
направлений (А.В. Гребенщиков, Н.В. Кюнер, А.В. Рудаков, Г.Ц. Цыбиков и др. – по
выбору).
32. Русская православная церковь и развитие культуры на Дальнем Востоке:
необходимость церковного строительства, разделение Камчатской епархии и его
последствия.
33. Зарождение и развитие художественной культуры на Дальнем Востоке в
дооктябрьский период: музыкальное искусство. Роль Владивостока как города-порта:
флот и военно-морская значимость. Формирование отечественной профессиональной
музыкальной культуры: имена, направления.
34. Зарождение и развитие художественной культуры на Дальнем Востоке в
дооктябрьский период: театральное искусство. Истоки, имена, первые постановки.
Театральное строительство во Владивостоке.
35. Зарождение и развитие художественной культуры на Дальнем Востоке в
дооктябрьский период: изобразительное искусство. Выставки, имена, названия. Роль
Общества изучения Амурского края (ОИАК). Жанровая своеобразие дальневосточной
живописи.
36. Зарождение литературы на Дальнем Востоке: истоки дальневосточной темы в русской
литературе. Первые литераторы Дальнего Востока. Роль периодической печати в
зарождении и развитии культуры на Дальнем Востоке.
37. Традиционная культура русского населения Дальнего Востока ХVII-начала ХХ века:
первые засельщики Дальнего Востока, ареалы восточнославянской культуры
(северный и южный типы).
38. История изучения русской народной культуры на Дальнем Востоке: имена
исследователей и их основные труды (досоветский и советский периоды).
39. Культура русского казачества на Дальнем Востоке: группы формирования
дальневосточного казачества. Традиционный компонент и влияние коренных народов.
Очаги традиционной русской культуры (северо-восточная группа: Колыма, Анадырь)
и влияние на духовную жизнь местного населения. Язык и народно-бытовая культура
юга Дальнего Востока (песенный фольклор, свадебные песни, необрядовая лирика и
частушки и др.).
40. Специфика традиционной крестьянской культуры на Дальнем Востоке: состав
дальневосточного крестьянства (конфессиональные объединения). Православное
население, старообрядцы, молокане. Культурные ценности и хозяйственные
традиции.
41. Поселения и постройки Дальнего Востока (основные типы поселений): северные
промысловые и южные земледельческие районы. Сугубо местные особенности в
хозяйственном комплексе русского быта.
42. Традиционная народная обрядность (праздники, составляющие основу традиционного
русского календаря, семейная, свадебная обрядность).
43. Необрядовый фольклорный быт: песенный фольклор (разнообразие песенных
жанров), прозаические жанры фольклора (рассказы о происхождении топонимов).
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Часть 1 (3 семестр)
Основная литература
1. Забияко, А. А. Меж двух миров: Русские писатели в Маньчжурии: моногр. / А. А
Забияко, Г. В. Эфендиева. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2009. – 352 с.
2. Кириллова, Е.О. Дальневосточная гавань русского футуризма. Книга первая.
Модернистские течения в литературе Дальнего Востока России 1917-1922 гг.
(поэтические имена, идейно-художественные искания): монография / Е.О. Кириллова. –
Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2011. – 636 с.
3. Якимова, С.И. Литература русского зарубежья Дальнего Востока: учебное пособие /
С.И. Якимова - 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009.
– 111 с.
Дополнительная литература
(Учебники выделены)
1. Азадовский М.К. Сибирские страницы. – Иркутск, 1988.
2. Александров А. Первый поэт Владивостока // Красное Знамя. 1989. 1 октября.
3. Алексеев А.И. Геннадий Иванович Невельской. 1813 – 1876. – Москва: Наука, 1984. –
192 с.
4. Алексеев А.И. Сподвижники Г.И. Невельского. – Южно-Сахалинск, 1967.
5. Алексеев А.И. Хозяйка залива Счастье. – Хабаровск, 1981.
6. Антология поэзии Дальнего Востока / Сост. В. Пузырев, Ю. Иванов. – Хабаровск:
Хабаровск. кн. изд-во, 1967. – 479 с.
7. Васильев В.П. Сквозь магический кристалл. Камчатка в художественной литературе. –
Петропавловск-Камчатский, 1993.
8. Вильчинский В. Русские писатели-маринисты. – М.; Л., 1966.
9. Героическая поэзия гражданской войны в Сибири / Сост. Л.Е. Элиасов. –
Новосибирск: Наука, 1982. – 337 с.
10. Дворниченко Н.Е. Вчера и сегодня забайкальской литературы: Статьи, очерки,
портреты. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1982. – 272 с.
11. Евтушенко В.П. Древо плодоносящее: Биография уникальной литературной династии
Матвеевых / В.П. Евтушенко. – Владивосток: Изд-во «Делин», 2004. – 186 с.
12. Иващенко Л.Я. Исторические аспекты создания и развития многонациональной
художественной литературы на Дальнем Востоке России. 1917 – середина 1980 годов:
Очерки. – Владивосток: Дальнаука, 1995. – 223 с.
13. Иващенко Л.Я. Корни мужества. – Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во,
1980. – 143 с.
14. Иващенко Л.Я. Советское государство – организатор многонационального
литературно-художественного творчества на Дальнем Востоке в эпоху строительства
социализма в СССР (1917-1977): Монография. – Хабаровск: Хабаровское книжное
издательство, 1987. – 216 с.
15. Крившенко С. Берег Отечества: Литературно-критические статьи. – Москва:
Современник, 1988. – 413 с.
16. Крившенко С.Ф. «И слушаю рокот прибоя…» (О П. Гомзякове) // Дальний Восток.
1998. – № 3-4. – С. 238-251.
17. Крившенко С.Ф. Дальневосточная тема в русской литературе конца ХIХ века
(Творчество А.Я. Максимова) // История культуры Дальнего Востока СССР. ХVII – ХХ
вв. Дооктябрьский период. – Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. – С. 105-121.
18. Крившенко С.Ф. Дорогами землепроходцев. – Хабаровск: Хабаровское книжное
издательство, 1984. – 192 с.
19. Крившенко С.Ф. История русской литературы Дальнего Востока России:
Программа и методические указания для студентов-филологов и учителей русской
словесности. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1994. – 52 с.
20. Крившенко С.Ф. Писатели Приморья. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005.
21. Крившенко С.Ф. Плавать по морю необходимо. Русские мореплаватели в жизни
и литературе: Документально-исторические очерки. – Владивосток: «Дюма», 2001. –
247 с.
22. Кузьмичев И. Писатель Арсеньев. – Ленинград, 1977.
23. Лелаус В.В. Исторические романы Вс.Н. Иванова «Черные люди» и «Александр
Пушкин и его время». Концепция национального характера. Проблема жанровых
модификаций. Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Владивосток, 2001. – 23 с.
24. Литературная Сибирь: Критико-биобиблиографический словарь писателей Восточной
Сибири / Составители В.П. Трушкин, В.Г. Волкова. - Иркутск: Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1986. – 304 с.
25. Лобычев А.М. На краю русской речи: Статьи, рецензии, эссе. – Владивосток:
Альманах Рубеж, 2007. – 336 с.
26. Лосев А. Приамурье в художественной литературе. Аннотированный указатель. –
Благовещенск, 1963.
27. Пайчадзе С.А. Книга Дальнего Востока: Очерк истории. – Хабаровск, 1983.
28. Пайчадзе С.А. Книжное дело на Дальнем Востоке: Дооктябр. период. – Новосибирск,
1991.
29. Писатели Дальнего Востока: Биобиблиографический справочник / Составитель Е.М.
Аленкина. - Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1973. – 304 с.
30. Плотникова Н.И. В.К. Арсеньев: Творческая индивидуальность писателя. Жанровое
своеобразие прозы. Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Владивосток, 2003. – 22 с.
31. Подвиг русской женщины на Амуре (Краткая история жизни, любви и верности
Екатерины Ивановны Невельской по ее письмам родным, письмам и воспоминаниям
современников и другим источникам) / Авт.-сост. Н. Троян. – Владивосток: Русский
Остров, 2008. – 120 с.
32. Пузырев В.Г. Проблемы истории русской советской литературы на Дальнем Востоке
(1917 – 1941 гг.) (Идейно-тематические и стилевые особенности): Дис. … докт. филол. н. Москва, 1971. – 340 с.
33. Русская литература Сибири. 1917 – 1970 гг. Библиографический указатель. Часть II. Новосибирск: «Наука», 1977. – 482 с.
34. Русская литература Сибири. Библиографический указатель. Часть I. – Новосибирск,
1976.
35. Старовойтов Н.В. Формирование художественных принципов В.К. Арсеньева и
жанровое своеобразие его творчества // Вопросы журналистики и литературы. –
Владивосток, 1972.
36. Сто лет поэзии Приморья. Антология / Сост. В.М. Тыцких, С.Ф. Крившенко, А.В.
Колесов. - Владивосток: Издательство «Уссури», 1998. – 296 с.
37. Творчество А.А. Фадеева в контексте русской литературы ХХ века: Материалы
юбилейной научной конференции: Владивосток, сент. 2001. – Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та, 2002. – 208 с.
38. Тропами таежными / Сост. С.И. Красноштанов. – Хабаровск: Хабаровское книжное
издательство, 1969.
39. Трусова И.С. «Если ветер в лицо плеснул…». Литературный Владивосток 20-х годов.
Творчество Арсения Несмелова владивостокского периода // Заветный край.
Литературный альманах. – Владивосток, 1998. № 1. – С. 170-179.
40. Трушкин В.П. Из пламени и света… Гражданская война и литература Сибири.
Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1976. – 368 с.
41. Туманное зеркало времени. Футуристы на Дальнем Востоке. – Хабаровск:
Хабаровский краеведческий музей, 2002. – 72 с.
42. Хайруллина О.Н. Очерк второй половины 19 века: жанрово-стилевая характеристика
(На материале очерков о российском Дальнем Востоке). Автореф. дис. … канд. филол.
наук. – Владивосток, 2001. – 22 с.
43. Хисамутдинов А. Мир библиотеки. – Владивосток, 1990.
44. Хрестоматия по истории Дальнего Востока. Книга I. – Владивосток:
Дальневосточное книжное изд-во, 1982. – 655 с.
45. Хрестоматия по истории Дальнего Востока. Книга II. – Владивосток:
Дальневосточное книжное изд-во, 1983. – 608 с.
Электронные ресурсы
1. Их дальний путь лежал в изгнанье… : антология-хрестоматия произведений литературы
и журналистики русского зарубежья Дальнего Востока / авт.-сост. С.И. Якимова, Е.С.
Бабкина, Н.А. Выхованец, И.Ю. Ковальчук, Н.П. Котельникова, А.В. Тепляшина, А.Х.
Юсупова; под науч. ред. проф. С.И. Якимовой; вступ. статья С.И. Якимовой. - Хабаровск :
Изд-во
Тихоокеан.
гос.
ун-та,
2011.
275
с.
Режим
доступа
http://window.edu.ru/resource/384/77384
2. Трусова И.С. Методические рекомендации к изучению дисциплины «Литература
Дальнего Востока». – Владивосток: МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, 2008. – 19 с.
http://window.edu.ru/resource/634/61634
3. Якимова, С.И. Литература русского зарубежья Дальнего Востока: учебное пособие /
С.И. Якимова - 2-е изд., перераб. и доп. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009.111 с. Режим доступа http://window.edu.ru/resource/383/77383
Часть 2 (4 семестр)
Основная литература
1. История культуры Дальнего Востока России (ХIХ в. – 1917 г.). / [Л. Е. Фетисова, Г. А.
Андриец, В. А. Королева и др.; отв. ред.: Л. И. Галлямова, Л. Е. Фетисова]; Российская
академия наук, Дальневосточное отделение, Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока. – Владивосток: Дальнаука, 2011. – 300 с.
2. Кириллова, Е.О. Дальневосточная гавань русского футуризма. Книга первая.
Модернистские течения в литературе Дальнего Востока России 1917-1922 гг.
(поэтические имена, идейно-художественные искания): моногр. / Е. О. Кириллова. –
Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2011. – 636 с.
3. Подмаскин, В.В. Народные знания ороков (уйльта) // Россия и АТР: научный журнал:
гуманитарные проблемы стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) 2011. - № 1. - С.
107-113.
4. Подмаскин, В.В. Удэгейские мифы, легенды, сказки / В.В. Подмаскин, И.В. Киреева. –
Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2010. – 216 с.
Дополнительная литература
(учебники выделены)
1. Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина ХVII в.). –
Хабаровск, 1984.
2. Алексеев А.И. Амурская экспедиция 1849-1855 гг. – Москва, 1974.
3. Алексеев А.И. Берегова черта. – Магадан, 1987.
4. Алексеев А.И. Бошняк и открытие Советской гавани. – Хабаровск, 1955
5. Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки. –
Москва: «Наука», 1982. – 288 с.
6. Алексеев А.И. Охотск – колыбель русского Тихоокеанского флота. – Хабаровск, 1958.
7. Алексеев А.И. По таежным тропам Сахалина. – Южно-Сахалинск, 1959.
8. Алексеев А.И. Русские географические исследования на Дальнем Востоке и в
Северной Америке (ХIХ – начало ХХ в.). – Москва, 1976.
9. Алексеев А.И. Судьба русской америки. – Магадан, 1975.
10. Алексеев А.И. Сыны отважные России. – Магадан, 1970.
11. Амур – река подвигов: Художественно-документальное повествование о
Приамурской земле, ее первопроходцах, защитниках и преобразователях. –
Хабаровск, 1970.
12. Апостол нашего времени: Жизнь и апостольские труды митрополита Иннокентия
(Вениаминова). – Москва, 1996.
13. Березницкий С.В. Этнические компоненты верований и ритуалов коренных народов
амуро-сахалинского региона. – Владивосток: Дальнаука, 2003. – 486 с.
14. Богораз В.Г. Чукчи. Ч. 1. – Москва; Ленинград, 1934; Ч. 2. – Москва; Ленинград, 1939.
15. Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку. 1732 – 1799. – Москва, 1991.
16. Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски. 1834 – 1867.
– Москва, 1990.
17. Вахрин С.И. Предыстория Камчатской епархии (1705-1840 гг.) // Русская
Православная Церковь в истории Дальнего Востока и Русской Америки. –
Владивосток, 1997.
18. Владивосток. Путеводитель по городу. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та,
1993. – 254 с.
19. Владивосток. Штрихи к портрету / Отв. редактор В.А. Дудко. – Владивосток:
Дальневосточное книжное изд-во, 1985. – 303 с.
20. Георгиевский А.П. Русские на Дальнем Востоке: Фольклор Приморья. – Владивосток,
1929. Вып. 4
21. Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. историография Сибири дооктябрьского периода:
конец ХVI – начало ХХ вв. – Новосибирск, 1984.
22. Груздев А.И. Хроника освоения Россией Дальнего Востока и Тихого океана. 16391989. – Владивосток, 1989.
23. Есаков В.А., Плахотник А.Ф., Алексеев А.И. Русские океанические исследования в
ХIХ – начале ХХ в. – Москва, 1964.
24. Жорницкая М.Я. Народное хореографическое искусство коренного населения СевероВостока СССР как историко-этнографический источник. – Москва, 1979.
25. Забытые имена: История Дальнего Востока России в лицах. – Владивосток, 1994,
Вып. 1.
26. Забытые имена: История Дальнего Востока России в лицах. – Владивосток, 1997,
Вып. 2.
27. История Дальнего Востока России. Книга 1. Дальний Восток России в период
революций 1917 года и гражданской войны. – Владивосток: Дальнаука, 2003. – 632 с.
28. История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (ХVII в. –
февраль 1917 г). – Москва: Наука, 1990. – 471 с.
29. История и культура коряков: Историко-этнографические очерки. / Под общ. ред. А.И.
Крушанова. – Санкт-Петербург: «Наука», 1993. – 236 с.
30. История и культура народов Дальнего Востока. – Южно-Сахалинск, 1973. – 311 с.
31. История и культура орочей: Историко-этнографические очерки. – Санкт-Петербург:
«Наука», 2001. – 172 с.
32. История культуры Дальнего Востока России ХVII – начала ХХ века: Сб. науч. тр. –
Владивосток, 1996.
33. История культуры Дальнего Востока СССР ХVII – ХХ вв. Дооктябрьский период. –
Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. – 200 с.
34. История культуры Дальнего Востока СССР ХVII-ХХ веков. Советский период. –
Владивосток: ДВО АН СССР, 1990. – 200 с.
35. История российского Приморья: Учебное пособие для 8-9-х кл. общеобразов. учрежд.
всех типов. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – 248 с.
36. Кабузан В.М. Дальневосточный край в ХVII – начале ХХ в. (1640-1917): Историкодемографический очерк. – Москва, 1985.
37. Калиберова Т.Н. Прогулки по Владивостоку. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. –
184 с.
38. Кандыба В.И. История становления и развития художественной жизни Дальнего
Востока (1858 – 1938 гг.). – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1985. – 175 с.
39. Карабанова С.Ф. Танцы малых народов юга Дальнего Востока СССР как историкоэтнографический источник. – Москва, 1979.
40. Кириллова Е.О. Литературно-художественное общество Дальнего Востока (ЛХО ДВ)
во Владивостоке и его роль в истории культурной жизни края начала 1920-х годов //
Культура и культурология на Дальнем Востоке. Материалы регионального научного
семинара, посвященного 15-летию кафедры культурологии. 19 ноября 2004 г. –
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. – 96 с. – С. 42-47.
41. Колумбы земли русской: Сборник документальных описаний об открытии и изучении
Сибири, Дальнего Востока и Севера в ХVII-ХVIII вв. – Хабаровск, 1989. – 462 c.
42. Королева В.А. Музыкальная культура Дальнего Востока России. Книга первая: На
рубеже эпох (1880-е – 1917) – (1917 – 1920-е). – Владивосток: Дальнаука, 2004. – 272
с.
43. Костанов А. Русская Православная Церковь на Сахалине и Курильских островах: Ист.
очерк. – Южно-Сахалинск, 1992.
44. Кочешков Н.В. Декоративное искусство народов Нижнего Амура и Сахалина ХIХ-ХХ
вв.: Проблемы этническтх традиций. – СПб, 1995.
45. Кочешков Н.В. Типология традиционной культуры народов Северо-Восточной Азии
(ХIХ – середина ХХ века). – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. – 168 с.
46. Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки, с приложением рапортов, донесений
и других неопубликованных материалов. – Москва; Ленинград, 1949.
47. Кукель-Краевский Н.В. Три века на службе Родине. Из истории древнего русского
рода. – Омск, 2003.
48. Культура Дальнего Востока и стран АТР: Восток-Запад: Материалы научной
конференции 25-26 апреля 2001 года. Вып. 8. – Владивосток: ДВГАИ, 2002. – 288 с.
49. Культура Дальнего Востока и стран АТР: Восток-Запад: Материалы научных
конференций 24-25 апреля 2002-2003 гг. Вып. 9, 10. – Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та, 2004. – 400 с.
50. Культура Дальнего Востока. ХIХ-ХХ вв. Сборник научных трудов. – Владивосток:
Дальнаука, 1992. – 191 с.
51. Лопатин И.А. Гольды амурские, уссурийские, сунгарийские. – Владивосток, 1922.
52. Материальная культура народов Сибири и Севера (вторая половина ХIХ – начало ХХ
века). – Ленинград, 1977.
53. Мезенцева С.В. Музыкальная культура аборигенов Дальнего Востока России. –
Хабаровск: Хабаровский гос. ин-т искусств и культуры, 2010. – 112 с.
54. Мизь Н.Г. Покровский некрополь Владивостока. – Владивосток, 2002. – 75 с.
55. Мизь Н.Г., Турмов Г.П. Страницы забытой истории. – Владивосток, 2000.
56. Модернизм Российского Дальнего Востока (1918-1928): Каталог. – Токио: Токио
Шинбун, 2002. – 254 с. (на японском и англ. языках) (Статьи: Турчинская Е.Ю.
«Зеленая кошка». С. 186-193; Козлова Л.Г. «В поисках нового (Изобразительное
искусство Дальнего Востока 1918-1928 гг. в контексте истории русского футуризма)».
С. 200-206; Мизь Н.Г. «Владивосток. Пропаганда авангарда и революции» С. 194199).
57. Народы Дальнего Востока СССР в ХVII-ХХ в.: Историко-этнографические очерки. –
Москва, 1985.
58. Одежда народов Сибири. – Ленинград, 1970.
59. Ососков А.В. Начальное образование в дореволюционной России (1861-1917). –
Москва, 1982.
60. Памятники истории и культуры Приморского края (аннотированный список) / Под
общ. ред. А.И. Крушанова. – Владивосток: Дальневост. книжное издательство. – 248 с.
61. Памятники культуры народов Сибири и Севера (вторая половина ХIХ – начало ХХ
века). – Ленинград, 1977.
62. По родному краю. – Владивосток: Дальневост. книжное изд-во, 1973. – 318 с. (К.И.
Максимов, М.И. Венюков, Р.К. Маак, А.Ф. Будищев, Н.М. Пржевальский, В.Л.
Комаров, В.К. Арсеньев, А.И. Куренцов, Л.Г. Капланов и др.).
63. Приморский край: Краткий энциклопедический справочник. – Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та, 1997. – 596 с.
64. Прудкогляд Т.В. Печать Дальнего Востока России как фактор культуры (1907 февраль 1917 гг.). – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. – 76 с.
65. Религия и власть на Дальнем Востоке России: Сборник документов Государственного
архива Хабаровского края. – Хабаровск: Частная коллекция, 2001. – 400 с.
66. Русская Православная Церковь в истории Дальнего Востока и Русской Америки: Сб.
науч. тр. – Владивосток, 1997.
67. Русская Православная Церковь в истории Дальнего Востока и Русской Америки. –
Владивосток, 1997.
68. Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в ХVIII – ХIХ вв. – Владивосток, 1992.
Т. 1.
69. Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине
ХVIII века. – Москва, 1984.
70. Рыжков А.Н. Подвиги русских людей на Сахалине и Курилах. – Южно-Сахалинск,
1955.
71. Севильгаев Г.Ф. Народное образование в Приморье. – Владивосток, 1989.
72. Севильгаев Г.Ф. Очерки по истории просвещения малых народов Дальнего Востока. –
Ленинград, 1972.
73. Семейная обрядность народов Сибири: Опыт сравнительного изучения. – Москва,
1980.
74. Семенова И.В., Семенов О.В. Карагод широкий: Календарно-обрядовые песни
переселенцев Суражского, Новозыбковского, Стародубского уездов Черниговской
губернии в Приморье. – Владивосток: ПГОМ им. В.К. Арсеньева, 2003. – 125 с.
75. Старцев А.Ф. История социально-экономического и культурного развития удэгейцев
(середина ХIХ – начало ХХ вв.). Монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. унта, 2000. – 256 с.
76. Стрюченко И.Г. Периодическая печать Дальнего Востока и Забайкалья эпохи
капитализма (1861-1917): Аннот. библиогр. указатель. – Владивосток, 1983.
77. Стрюченко И.Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской
революции (1895-1907). – Владивосток, 1982.
78. Стрюченко И.Г., Кочешков Н.В., Гирийчук В.Я., Фетисова Л.Е., Предатченко
Е.М. История культуры Дальнего Востока России ХVII-ХХ веков. Учеб. пособие.
– Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. – 300 с.
79. Традиционная свадьба: Свадебный обряд переселенцев Черниговской губернии в
Приморье. Сост. И.В. Семенова. – Владивосток: Прим. госуд. объединенный музей
им. В.К. Арсеньева, 1998. – 118 с.
80. Турмов Г.П. Владивостокские гастроли Комиссаржевской: истор. очерк. –
Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. – 96 с.
81. Турчинская Е.Ю. Авангард на Дальнем Востоке: «Зеленая кошка», Бурлюк и другие. –
СПб: Алетейя, 2011. – 196 с.
82. Федоров М.М. Правовое положение народов Восточной Сибири (ХVII – начало ХIХ
в.) – Якутск, 1978.
83. Федорова С.Г. Русское население Аляски и Калифорнии. Конец ХVIII века – 1867 г. –
– Москва: «Наука», 1971.
84. Флорич Ф., Винокуров И. Подвиг адмирала Невельского. – Москва, 1951.
85. Хисамутдинов А.А. Белые паруса на Восточном Поморье. – Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та, 2001 – 164 с.
86. Хисамутдинов А.А. Владивосток. Этюды к истории старого города. – Владивосток:
Изд-во Дальневост. ун-та, 1992. – 328 с.
87. Хисамутдинов А.А. «Славные великими делами…» или подвижники края и общества
(1884 – 2009 гг.): справочник. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. – 228 с.
88. Чиж Г.П. Жизнь за Амур. – Иркутск, 1950.
89. Ширина Д.А. Летопись экспедиций Академии наук на Северо-Восток Азии в
дореволюционный период. – Новосибирск, 1983.
90. Шренк Л.И. Об инородцах Амурского края. Т. 1. – СПб, 1883; Т. 2. – СПб, 1899; Т. 3. –
СПб, 1903.
91. Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. – Хабаровск, 1933.
92. Этнические истории народов Севера. – Москва, 1982.
93. Янчева Т.И. Имена Героев Великой Отечественной войны на карте Владивостока:
Краеведческий справочник. – Владивосток: Изд-во ПИППКРО, 2005. – 122 с.
Электронные ресурсы
1. Их дальний путь лежал в изгнанье… : антология-хрестоматия произведений литературы
и журналистики русского зарубежья Дальнего Востока / авт.-сост. С.И. Якимова, Е.С.
Бабкина, Н.А. Выхованец, И.Ю. Ковальчук, Н.П. Котельникова, А.В. Тепляшина, А.Х.
Юсупова; под науч. ред. проф. С.И. Якимовой; вступ. статья С.И. Якимовой. - Хабаровск :
Изд-во
Тихоокеан.
гос.
ун-та,
2011.
275
с.
Режим
доступа
http://window.edu.ru/resource/384/77384
2. Трусова И.С. Методические рекомендации к изучению дисциплины «Литература
Дальнего Востока». – Владивосток: МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, 2008. – 19 с.
http://window.edu.ru/resource/634/61634
3. Якимова, С.И. Литература русского зарубежья Дальнего Востока: учебное пособие /
С.И. Якимова - 2-е изд., перераб. и доп. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009.111 с. Режим доступа http://window.edu.ru/resource/383/77383
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВФУ
КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ
по дисциплине «История литературы и культуры Дальнего Востока России»
031000.62 - «Филология»
г. Владивосток
2011
Часть 1 (3 семестр)
(34 часа)
Лекция № 1. «Истоки дальневосточной темы в русской литературе». – 2 часа.
Познание истории родной страны немыслимо без литературы. Уже в Древней Руси
она была «свидетельством жизни», художественной летописью времени. Говоря о связи
литературы с историей, Д.С. Лихачев пишет: «Литература огромным потоком
сопровождает русскую действительность, русскую историю, следует за ней по пятам».
Литература сопровождает и русскую действительность, связанную с открытием
Сибири и освоением Дальнего Востока. В литературное движение окраины Русского
государства, прежде всего Сибирь и Дон, включаются в первой половине XVII века. Само
освоение Сибири русским народом — событие всемирно-исторического значения.
Поход Ермака за Каменный Пояс, в Сибирь, начатый в 1581 году, был решающим
шагом, который открыл дорогу русским людям «встречь солнцу». «Последний
монгольский царь Кучум», по словам Карла Маркса, «был разбит Ермаком», и этим «была
заложена основа азиатской России». Русские землепроходцы-казаки в 80— 90-е годы XVI
века разведали и заняли большую часть Обь-Иртышского бассейна. К началу XVII века
они вышли на Енисей, а в 1600 году в устье Енисея была основана Мангазея. В 1619 году
построен Енисейский острог. Затем переход на Лену, освоение Северо-Востока Сибири. В
1633 году Илья Перфильев с товарищами вышел по Лене к Северному Ледовитому океану,
а в 1639 году казаки во главе с Иваном Москвитиным ступили на берега Тихого океана и
11 октября этого года положили начало русскому тихоокеанскому плаванию
(москвитинцы, как доказал историк Б. П. Полевой, ходили в 1640 году до устья Амура). В
1647 году Семен Шелковник основал в устье Охоты первое русское зимовье — будущий
Охотск. На другой год с Охоты на север ушел отряд Алексея Глубокого, который из трехлетнего похода привез описание морского пути, «первую лоцию» Охотского моря. В 1651
году отряд Михаила Стадухина по суше перешел с Анадыря на Пенжину, затем плыл по
«неведомой» северной части Охотского моря. В 1657 году вблизи устья реки Ини
произошла встреча отряда Стадухина с охотскими казаками. Два потока землепроходцев
— с севера и с запада — сомкнулись. Говоря о подвиге землепроходцев, академик А.
Окладников пишет:
«Показателем исторической
закономерности, назревшей
необходимости этого великого исторического процесса, который А. Радищев метко назвал
«приобретением Сибири», служат уникальные по скорости и глубине темпы продвижения
русских в Северной Азии. В самом деле, за какие-нибудь сто лет русские перевалили через
Каменный Пояс — Урал, поднялись по Енисею и Ангаре до Байкала, вышли в Якутию и
на Амур. Прошло полвека, и по рекам Дальнего Востока землепроходцы достигли берегов
Тихого океана, а там и продвинулись еще дальше — «оседлали» острова Тихого океана,
включая Курилы.
...Многие исследователи искали движущую силу этого процесса в деятельности
торгового капитала, в «погоне за соболем», в активности промышленников и купцов.
Отсюда следовали и еще более широкие общие выводы. Процесс освоения Сибири
русскими отождествлялся с историей заморских колоний таких стран, какими в эпоху
первоначального накопления капитала были Испания и Англия. Освоение Сибири
неправильно называли завоеванием.
На самом деле в Сибири все шло иначе, наоборот.
Принципиальное, определяющее значение имело обстоятельство, на которое указал
В. И. Ленин. По его определению, «Россия географически, экономически и исторически
относится не только к Европе, но и к Азии».
Быстро накапливались знания по истории, географии, этнографии. И не только.
Намечались зачатки летописно-художественного познания движения народа на восток,
народного подвига. «Расспросные речи», «скаски» землепроходцев, описание хождений
мореходов, отписки, челобитные — вот истоки такого познания. Без этого и сегодня не
могут обойтись ни историки, ни этнографы, ни географы.
Несомненно, описания землепроходцев имели ценность не только для науки, но и
для развития литературы, особенно — для развития исторической прозы. Они часто
подсказывали сюжеты, образы, картины, давали «ключ» к открытию тайн прошлого. Так,
в «Скаске служилого человека Михаила Стадухина» (1647) дан короткий, но точный
очерк жизни чукчей. В частности, говорится о том, как они зимою переезжают на Новую
Землю и там «побивают морской зверь морж», как устраивают праздник моржа,
вернувшись с охоты. Здесь же детали быта «колымских мужиков», «оленных и пеших»,
служилых и промышленных людей. В отписке Семена Дежнева якутскому воеводе дано
описание драматичного морского похода на реку Анадырь, запечатлены некоторые
особенности быта чукчей. За отдельными штрихами проступают мужество и героизм
землепроходцев. В море их настигла буря, суденышки разнесло в стороны. «И носило
меня, Семейку, по морю после Покрова богородицы всюду неволею и выбросило на берег
в передний конец за Онандырь реку. А было нас на коче всех 25 человек, и пошли мы все
в гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и боси. А шел я, бедной
Семейка, с товарищи до Онандыры реки ровно 10 недель, и пали на Онандырь реку вниз
близско море, и рыбы добыть не могли, лесу нет. И с голоду мы, бедные, врознь
розбрелись. И вверх по Анандыре пошло 12 человек. И ходили 20 ден, людей и... дорог
иноземских не видали». Обессиленные люди вернулись назад, но, не дойдя «до стану,
обночевались, почели в снегу ямы копать». И далее живо, с подробностями, повествуется
о трагичном эпизоде. От голода люди не могли идти дальше. Только Фомка Семенов и
Сидорко Емельянов до стану дошли и сообщили, что люди попали в беду. «И я, Семейка,
последнее свое постеленка и одеялишка и с ним, Фомкою, к ним на Камень послал. И тех
достальных людей на том месте не нашли...»
Жестокие испытания не сломили мужества русских землепроходцев, связанных
узами товарищества. Здесь в сжатом виде даны и события, и конфликты («от того Евсейка
Павлова меж служилыми и промышленными великая смута»), и лица людей. Ни один
писатель, изображавший впоследствии поход Дежнева, не прошел мимо этих живых
подробностей из отписки морехода.
До нас дошли описания походов первых русских землепроходцев на Амуре,
зарисовки быта и нравов малых народов Приамурья. Это «расспросные речи» Василия
Пояркова (1646), отписки Ерофея Хабарова (1652), Онуфрия Степанова (1656) и других.
Замечательным памятником культуры является «Житие» Аввакума, первого ссыльного,
отправленного в Забайкалье в 1656 году. В нем мы находим живые зарисовки природы,
быта этих дальних мест, и не случайно «Житие» становится художественным источником
ряда исторических произведений в наши дни (например, колоритного романа Вс. Н.
Иванова «Черные люди»).
Обстоятельное описание похода русских людей из Якутии на Камчатку в 1697 году,
достопримечательностей этой земли, нравов и обычаев обитателей Камчатки представляет собой «скаска» Владимира Атласова (1701), которого Пушкин назвал
«камчатским Ермаком». Любопытны описания местной природы. Автор стремится найти
поясняющие сравнения, уподобления, чтобы дать представление о незнакомом,
неведомом. Вот несколько примеров такого уподобления. «А зима в Камчатской земле
тепла против московского...», «А Алдан-река величиною будет против Москвы-реки
вдвое». А вот как зримо изображает он вулканы: «А от устья итти вверх по Камчатке-реке
неделю, есть гора, подобна хлебному скирду, велика гораздо и высока, а другая близ ее ж
подобна сенному стогу и высока гораздо; из нее днем идет дым; а ночью искры и зарево.
А сказывают камчадалы: буде человек взойдет до половины тое горы, и там слышит
великой шум и гром, что человеку терпеть невозможно. А выше половины той горы,
которые люди всходили, назад не вышли, а что тем людем на горе учинилось, не ведают».
Этот прием — изображение необычного через обычное, сопоставление незнакомого
с знакомым — станет, как отметят исследователи, традиционным для русского путевого
очерка, в частности, для «Описания земли Камчатки» С. П. Крашенинникова. Описание
Атласова необыкновенно высоко ценил исследователь Сибири С. В. Бахрушин. Называя
его «венцом этнографических известий», он писал: «Как по точности и конкретности, так
и по широкому кругу систематически собранных известий это описание выгодно
отличается от тех поверхностных и стилизованных с определенной тенденцией реляций,
которые часто встречаешь у западноевропейских путешественников XVII в. Можно
сказать, что этот простой якутский «воин» явился достойным предшественником такого
выдающегося этнографа и исследователя Камчатки, как С. П. Крашенинников.
Тема освоения Сибири и Дальнего Востока прочно связана с именем Ермака. И
здесь литература «сопровождала русскую действительность», шла по пятам истории.
Разумеется, литература не в сегодняшнем ее значении, а все та же своеобразная летопись.
Надо сказать, что Сибирь была известна русским людям задолго до похода Ермака. Еще в
XIV столетии новгородские молодые люди, удальцы и промышленники, ходили к Уралу
и на Север. К концу XV века стала известна как земля Мангазея, и о ней было упомянуто
в полулегендарном фольклорном сказании безымянного новгородского книжника «О
человецех незнаемых в Восточной стране». «На Восточной стране, за Югорскою землею,
— писал он,— над морем живут люди самоеды, зовомые Малгонзеи». Туда ходили
русские поморы. До наших дней дошла рукопись пинежского летописца о разведочном
походе русских поморов в Мангазею в 1597 — 1598 годах. Описание ее дано М. И.
Беловым. В 1600 году в устье Енисея был построен город Мангазея, а через девятнадцать
лет сооружен Енисейский острог, который на многие годы стал главными воротами и
важнейшим опорным пунктом русского продвижения в Восточную Сибирь.
История Ермака, положившего начало присоединению Сибири к России и ее
освоению, нашла отражение в Кунгурской, Строгановской, Есиповской и Ремезовской
летописях. В свое время русский литературовед А. Н. Пыпин в «Истории русской
этнографии», заметив, что Ермак не имел своего историка, говорил о крайней противоречивости летописей. Об этом противоречии исследователи пишут и в наши дни,
подчеркивая, что историки, изучавшие вопрос о присоединении Сибири, в том числе и
советские ученые, «опирались обычно на концепцию одной из этих летописей». Надо
сказать, не только ученые, но и писатели, создавая исторический роман о землепроходцах, обращались к этим концепциям. Так, Артем Веселый, сетовавший на то, что
«исторические сведения об Ермаке крайне скудны» и что «казаки прославляли себя
мечом и отвагою, а не суетным писанием», даже составил и опубликовал в приложении к
роману о Ермаке «Гуляй — Волга» вольный пересказ Сибирской (Строгановской) и
Ремезовской летописей. «Летопись полна стилистического своеобразия»,— замечал
писатель, объясняя, почему он приводит Ремезовскую летопись «в литературных
додарках».
Советские ученые проделали огромную работу по изучению летописей. Сибирское
летописание начинается с XVII века. В 1622 году в Тобольске написан «Синодик» для
поминания Ермака. Составлен «Синодик» по указанию сибирского архиепископа
Киприана. Киприан, по словам Есипова, «во второе лето престольства своего воспомяну
атамана Ермака и з дружиною и повеле разпросити Ермаковских казаков, какоони
приидоша в Сибирь... Казаки ж принесоша к нему написание, како приидоша в Сибирь...». Уже в наши дни «Синодик» найден исследовательницей Е. К. Ромодановской.
Много лет этот ценнейший памятник культуры пролежал в архивах Исторического музея
в Москве, как бы поджидая любознательного сибирского ученого. «Синодик» создан на
основе «Написания, како приидоша в Сибирь», составленного участниками похода
Ермака. Так что казаки прославляли себя не только отвагою, но и словом, писанием. Но, к
сожалению, это раннее «написание» не сохранилось. В 1630 году написана повесть «О
взятии царства Сибирского». Затем появились наиболее широко известные летописи —
Есиповская и Строгановская. Первую из них («О Сибири и о сибирском взятии) составил
Савва Есипов, а вторую («О взятии сибирской земли») — неизвестный автор, близкий к
дому Строгановых: оба автора пользовались «Написанием» и «Синодиком», а также
другими источниками, но при этом дали различную трактовку событиям и действующим
лицам — Ермаку, Строгановым. Есипов объясняет события божественным предопределением: отряд Ермака исполняет волю бога. Строгановская летопись, уже судя по названию,
во всей истории присоединения Сибири возвышает Строгановых. Та или иная концепция,
как было отмечено, влияла в разное время и на художников. Советские писатели,
вооруженные марксистско-ленинской теорией, осветили и эту страницу истории с
подлинной историчностью.
Надо сказать, что исследователи не впервые заговорили сказы бывалых людей,
хорошо знавших Амур, его историю. Вводная часть принадлежит самому Спафарию.
Другие части написаны, как отмечал сам Спафарий, коллективно с его помощниками:
«Про Амур писали особое описание». Его считают самым ранним из дошедших до нас
описаний Амура.
До труда Спафария не было таких обстоятельных описаний русских земель за
Уралом. Сам он, как правило, исходил из личных впечатлений, иронизируя над теми, кто
писал понаслышке. «Слыхом слыхали, а никто из искусных не бывал» — это из
«Путешествия через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и Китая русского посланника
Николая Спафария в 1675 году». «То подлинно, что и древние, и нынешние
землеписатели, — продолжает Спафарий,— о стране, что есть за Волгою рекою и даже до
океана-моря Северного и Ледовитого, и меж Иртыша и Оби реки... и Лены и Амура даже
и до самого Китайского государства, где превысокие и предолгие стены Китайского суть,
ничего они о той стране или реках, о жителях до сегодня писати не ведают. А кто и писал
что о них, только басни писали».
Здесь важная установка — на документальную точность, на правдивость. Не басни,
а правдивое «земнописание». Такая летопись требовала подвижнического труда автора.
Так и было на деле. Спафарий, как правило, писал то, что видел. Если же не видел, то
основывал свои описания на тщательных свидетельствах, расспросах бывалых людей,
землепроходцев.
Так, на основании свидетельств таких бывалых людей он описывает Амур. Вводная
часть этого описания дается от первого лица. «Великая и преименитая река Амур еще у
древних и у нынешних земнописателей и слуху про нея нет во Описаниях. Однако же
река Амур превосходит величеством не токмо всех сибирских рек, но, чаю, всех, что кои
есты на свете...»
В сказании есть сведения о быте предков современных нанайцев («Они ездят по
морю подле берега, потому что у них суды небольшие»), о плаваньях в устье Амура
(«Днесь, на устье при море в прошлых годех, тому будет лет 38, казаки даурские
камышники зимовали многажды и сказывали, что море около берегу мерзнет и снега
бывают великие, большей печатной сажени, и стоит зима до майа месяца и до Николина
дни; а вдаль море не мерзнет. А как река Амур и берега морские весною опущаются, и
тогда плавать по морю мочно...»).
Как известно, потом будет долго, до прихода на Амур Невельского, существовать и
ошибочное мнение о недоступности амурского лимана, о том, что Амур теряется в
песках. Русские же казаки знали, что устье Амура судоходно, и Невельской в середине
XIX века восстановит эту истину.
В 1757 году в журнале «Ежемесячные сочинения» публиковалась большая работа Г.
Ф. Миллера «История о странах, при реке Амуре лежащих, когда оные стояли под
Российским владением». Подробно рассказывалось об открытии и освоении этих земель
русскими землепроходцами, о развитии землепашества, о нападении маньчжур, о
героической защите Албазина русскими землепроходцами, чья слава осталась навеки в
истории.
Принципиальное значение имеет обращение к теме Сибири и Дальнего Востока
великого русского ученого и писателя М. В. Ломоносова. Интерес к этой теме у него был
глубоким и устойчивым. Эта тема для него сливалась с темой родной земли, России, ее
исторической будущности.
Широко известны знаменитые слова Ломоносова, что российское могущество
прирастать будет Сибирью и Северным океаном. Прозревая будущее, Ломоносов заботился о могуществе России, об укреплении ее позиций и на Балтийских, и на Северных, и на
Восточных берегах. В 1763 году он пишет «Краткое описание разных путешествий по
Северным морям и показания возможного проходу Сибирским океаном в Восточную
Индию». Открытие Северного морского пути, по мысли Ломоносова,— великое и
преславное дело. Пытались это сделать европейцы — он дает описание разных походов в
прошлом и выделяет мужество и героизм русских мореходов, землепроходцев,
открывших в пространстве Восточного океана «неведомые земли». Призывая «большие
поиски чинить к востоку», Ломоносов говорит о народном характере этих поисков, щедро
называет имена многих и многих русских землепроходцев: Алексеева, Дежнева,
Атласова, Лаптева, Челюскина, Беринга, Чирикова, Стадухина и др. Великий писательпатриот мечтает о том времени, когда
Лекция № 2. «Героика освоения Дальнего Востока в русской документальнохудожественной маринистике». – 6 часов.
Русская маринистика... В литературно-художественной классике, в образцах своих
она представлена «Фрегатом «Паллада» Гончарова, «Севастопольскими рассказами»
Толстого, рассказами и повестями Станюковича, «Цусимой» Новикова-Прибоя,
«Севастопольской страдой» Сергеева-Ценского, произведениями Лавренева, Соболева,
Вишневского, Степанова... Русская маринистика отразила и героические, и трагические
страницы отечественной истории, показала ратный труд русских моряков и подлинно
героический труд мореходов, открывавших и осваивавших новые земли.
С самого истока морская тема вошла в русскую литературу как тема героикоромантическая, как тема героическая. Романтический образ синего моря возникает уже в
гениальном «Слове о полку Игореве», в русских былинах, в народных песнях. Героикоромантическое звучание выдающегося литературного памятника XV века — «Хожение за
три моря» Афанасия Никитина связано с глубоким чувством Родины. «Русская земля, —
восклицает автор, тоскуя по отчим краям на чужбине, — да будет богом хранима! На
этом свете нет страны, подобной ей, хотя вельможи Русской земли несправедливы. Да
станет Русская земля благоустроенной и да будет в ней справедливость!» Никитин
побывал в Персии, потом в Индии. Путешествие продолжалось с 1466 по 1472 год.
Никитин описал «грешное свое хожение за три моря»: первое море — Каспийское, второе
море — Индийское, третье море — Черное, вплоть до возвращения на родину, где он
умер близ Смоленска. Русский путешественник, описывая обычаи, нравы,
достопримечательности Индийской страны, других земель, смотрит на мир глазами сына
своей земли, отзывчивого на все доброе. Литературное значение этого памятника русской
культуры подчеркнуто изданием «Хожения...» в академической серии «Литературные
памятники».
Героя «Гистории о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной
королевне Ираклии Флоренской земли» исследователи называют первым представителем
героической морской темы в литературе XVIII столетия. Высшая человеческая
отзывчивость, самоотверженность и героизм отличают героя «Чудово» (глава
«Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева). Бывалый русский моряк Павел,
участник турецкой войны, «обыкший к опасностям морских происшествий», спасает
людей, когда в бурю судно выбросило на мель.
В нашей исследовательской литературе существует ряд работ о развитии русской
маринистики. В иных из них сделан хозяйский учет маринистической литературы, ее
достижений (например, книги В. Вильчинского о знаменитых русских и советских
маринистах, от Бестужева до Лавренева; «Русские писатели-маринисты» и «Советские
писатели-маринисты»). Особенно полно изучена батальная маринистика. Но ведь
известно, что героическая тема — это не только батальная тема, тема войны. Понятие
героического включает многие явления иного характера. В частности, размышляя о
разновидностях пафоса, о героике, Г. Н. Поспелов в книге «Проблемы исторического
развития литературы» пишет: «Величием обладают важнейшие общенациональнопрогрессивные задачи, возникающие в жизни общества, цели, которые люди
осуществляют при решении таких задач, дело, которому они этим служат, события,
которые при этом возникают. Но сама деятельность отдельных людей, активно участвующих в осуществлении этих великих задач, в служении этим величественным «делам», —
такая деятельность имеет так или иначе героическое значение».
Такие важнейшие общенационально-прогрессивные задачи решались в XVIII—XIX
веках русскими мореплавателями, имена которых известны всему миру. Эта эпоха вошла
в науку как эпоха великих русских географических открытий. Она не осталась
безымянной, безвестной. Если первопроходцы Дежнев, Хабаров, Поярков, Атласов и
другие оставили после себя отписки, более или менее подробные описания, то многие
мореплаватели, первооткрыватели земель на Тихом океане оставили путевые дневники,
заметки, очерки, мемуары. Среди них такие, которые обладают весьма значительными
литературными достоинствами.
О каких же морских путешествиях идет речь? Назовем здесь ряд книг — полный
перечень был бы длинным: «Российского купца Григория Шелихова странствования из
Охотска по Восточному океану к Американским берегам» (1791); «Двукратное
путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним» (в двух книгах, 1810 и 1812); «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806
годах на кораблях «Надежда» и «Нева» И. Ф. Крузенштерна (1809, 1810, 1812);
«Путешествие вокруг света на корабле «Нева» в 1803 —1806 годах» Ю. Ф. Лисянского
(1812); «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в
1811, 1812 и 1813 годах...» (1816); «Путешествие российского императорского шлюпа
«Диана из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта
(ныне капитана I ранга) Головнина в 1807, 1808, 1809 гг.» (1819); «Путешествие вокруг
света, совершенное на военном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах» В. М.
Головнина (1822); книга Г. И. Невельского «Подвиги русских морских офицеров на
крайнем Востоке России. 1849—1855» (1878); воспоминания J1. Загоскина, Н. Бошняка,
В. А. Римского-Корсакова и др. Большинство из них не раз изданы нашими
издательствами. Иные записки годы пролежали в архивах и впервые опубликованы в
наши дни. Назовем здесь книги А. П. Лазарева «Записки о плавании военного шлюпа
«Благонамеренного» в Берингов пролив и вокруг света для открытий в 1819, 1820, 1821 и
1822 годах»; А. И. Петрова «Амурский щит»; В. А. Римского-Корсакова «Балтика —
Амур»; Ф. Матюшкина «Журнал кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» под
командою капитана Головнина», кстати, того Матюшкина, который был лицейским
другом Пушкина. Пушкин давал ему советы, как вести дневник, а в своем стихотворении
«19 декабря» писал: «Счастливый путь!.. С лицейского порога / Ты на корабль
перешагнул шутя, / И с той поры в морях твоя дорога, / О волн и бурь любимое дитя».
Все они были «любимыми детьми» волн и бурь. И все стремились оставить свой
след в литературе.
Как видим, целый пласт русской документальной маринистики (названо здесь
далеко не все)...
Дальневосточная ветвь русской документальной маринистики XVIII — XIX
столетий привлекает нас и как памятник словесности, и как круг сегодняшнего чтения, и
как источник исторической прозы, словом, во всем многообразии, в единстве
познавательного и воспитательного — а патриотическое звучание этих книг и поныне
несомненно.
Может быть, первый вопрос, на который ищешь ответа в записках самих мореходов,
это вопрос: что же вело их, наших предков, в столь отдаленное плавание, на столь
трудные и опасные дела? Что помогало все превозмочь и преодолеть? Ведь, чего греха
таить, иной раз встречаются такие размышления: и ничего-то эти люди высокого не
ведали, и ничего-то они не знали и не хотели, только был бы хорош барыш, была бы
«золотая жила». Этим, мол, все и измеряли. Это вопрос о выявлении нравственного
начала у тех, кто первым осваивал дальние земли и моря. Разумеется, не только на этот
вопрос мы ищем ответ в путевых записках. Здесь и поиск ответа на вопрос, как
развивался русский путевой очерк? Что он вбирал в себя? На какие — нравственные,
исторические, народоведческие — потребности отвечал? Как происходило
художественное освоение Дальнего Востока?
Обратимся к наиболее характерным мотивам «морских путешествий» мемуаров,
очерков.
«Российского купца Григория Шелихова странствования из Охотска по Восточному
океану к Американским берегам...» После знаменитого «Хожения...» Никитина это,
пожалуй, первое морское путешествие, завоевавшее такую популярность у читателя.
Книга эта появилась в 1791 году в Петербурге. О Шелихове писал Державин, с ним был
знаком Радищев, который поддерживал отважного землепроходца. Книга Шелихова,
ставшая библиографической редкостью, в 1971 году была издана в серии
«Дальневосточная историческая библиотека».
Книга состоит из трех частей. Часть первая — это собственно путешествия
Шелихова, своеобразный отчет о странствованиях и превратностях пути. Часть вторая —
историческое и географическое описание островов Тихого океана — представляет в
основном этнографический интерес. Исследователи (в частности, знаменитый американский историк Губерт Бэнкрафт) говорят о нем как об «одном из самых авторитетных
для этого периода истории Аляски». Часть третья — продолжение странствования к
американским берегам в 1788 году галиота «Три святителя».
Нас особым образом интересуют первая и третья части. «Путешествие» Шелихова и
«Продолжение странствования» — это своеобразный отчет, переходящий то в
«репортаж», то в «путевой очерк». «Путешествие» ведется от первого лица, в нем
присутствует сам автор, много автобиографических деталей, подробностей. Мы можем
представить незаурядную личность русского морехода, патриота своей земли, не
щадящего себя для достижения отнюдь не только личных выгод, но, прежде всего, выгод
для отечества. И это оказывается самым главным в характере Шелихова. Кстати,
любопытна для понимания характера «Колумба росского», как его назвал Гавриил
Державин, песня, сочиненная впоследствии правителем Русской Америки Барановым,
«Ум российский промыслы затеял». По мысли автора, выгоды, нужные отечеству,
«сносными делают скуку и труд». Он уверен, что потомки поймут и оценят деяния своих
предков-мореходов: «Нам не важны ни чины, ни богатство. / Только нужно согласное
братство, / То, что сработали, как ни хлопотали, / Ум патриотов уважит потом».
Своеобразное «личное» начало — и в описаниях, и в размышлениях, и в тонких
наблюдениях Шелихова. Автор то и дело замечает: «я приметил», «должен я еще здесь
упомянуть и о галиотах», «теперь долженствую описать» и т. д. В манере
путешественника о трудном, опасном рассказывать без громких слов, как о самом
обыденном. Через эту обыденность просвечивает внутреннее мужество, сила воли,
целеустремленность. Вот несколько примеров такого насыщенного реалиями
повествования. «В Охотск приехал 1787 года генваря 27-го числа... Из Охотска с женою
своею также на собаках выехал февраля 8-го дня, продолжая далее путь, инде на оленях, а
в других местах на лошадях и на быках, претерпев несказанныя трудности и опасности. В
Якутск приехал 11-го числа марта. 12-го числа марта из Якутской области отправился
саньми и, со отбытия с Камчатки в проезде, в рассуждении собачьей и оленьей езды, во
многих пустых местах претерпевал крайнюю и несносную трудность, от коей
многократно с угрожением мучительного страха подвержена была жизнь моя
совершенной опасности... Зима чрезвычайно без перемены почти, при самых жестоких
северных ветрах, была до чрезмерности холодная... Пурги такие нередко на пустых
местах захватывали, что ехать способу никакого, по ремню нарта за нартой связавши, не
было, а только спасались в такие времена лежанием в снегу по два, по три и по пяти дней,
не сходя с места, без воды и не варя пищи. Для утоления жажды, за невозможностию
развести огня, употребляли снег, а вместо пищи сухари или юколу, лежавши в снегу,
грызли».
Или: «12-го числа сделавшийся штурм, продолжаясь двои сутки, разлучил все
галиоты один от другого. Буря сия столь была велика, что лишились было и надежды в
спасении своей жизни...». Колорит эпохи и дух самого русского Колумба чувствуется во
всем, о чем пишет Шелихов.
Землепроходцев испытывали на прочность и холод, и цинготные болезни, и
непредвиденные случайности. «Усердие мое к пользам отечества ободряло меня», —
пишет Шелихов. В книге Шелихова это лишь публицистический штрих, но штрих
немаловажный; заметим, что публицистическое начало, связанное с прямым осмыслением своей деятельности, проявится явственно в путевых дневниках Лисянского, Давыдова,
Загоскина и других русских мореплавателей. С необыкновенной силой это начало
прорвется в мемуарах Невельского: не только факты, но и размышления о них составят
внутренний пафос его книги. Здесь же важно заметить эту публицистичность и у
Шелихова. Тем более что находились истолкователи книги, считавшие автора лишь
искателем прибыли, преувеличившим в «Путешествиях» свои подвиги и присвоившим
себе чужие заслуги. С такой предвзятостью писал о нем А. П. Пыпин в «Истории русской
этнографии». В унисон ему звучали в 30-е годы голоса и некоторых наших авторов,
вульгарно понимавших сложные исторические процессы.
Таким образом, мы видим, что разные эти главы писаны как бы не одной рукой.
«Третья часть книги, — замечает историк Б. П. Полевой в предисловии к хабаровскому
изданию книги, — очевидно, написана не Шелиховым, но само это интереснейшее
исследование «было осуществлено по его поручению». Конечно, сделать это мог не ктото сторонний, случайный. Такие конкретные поденные записи можно было вести только
участнику похода. Можно предположить, что описание принадлежит перу штурмана
Дмитрия Бочарова. Именно он вместе со штурманом Герасимом Измайловым командовал
судном в плавании 1788 года. Характерно, что в «путешествии» несколько раз названо
имя Измайлова, но ни разу (кроме указания вначале) не названа фамилия Бочарова: в
этом могла сказаться скромность автора, который умалчивал о себе. Заключительные
строки «Продолжения странствования» также могут навести на эту догадку: именно
штурман Бочаров доставляет журнал в Охотск — официальным властям и «хозяину
компании рыльскому именитому гражданину Шелихову». Странствования сподвижников
Шелихова, благодаря этому журналу, стали достоянием читателя.
Впрочем, для нас более важно иное. В отличие от первой части третья часть,
повествующая о плаваниях галиота «Трех святителей» под предводительством двух
штурманов — Измайлова и Бочарова, — иная по манере изложения. Здесь от начала до
конца описательно-безличностный подход. Нет рассказчика, повествователя со своим «я».
Язык этой части действительно суховат и официален, в нем больше «казенных»
конструкций. Но больше заметно стремление очертить действия конкретных людей: это
штурман Измайлов, промышленники Черных и Волков и др. Просматриваются
«свернутые» сюжетные линии, конфликты (рассказ об одном местном жителе, который
нанялся на судно, объявил, что он знает небольшой остров, где есть довольно бобров, а
потом, когда судно причалило к этому острову, скрылся). Столь же сдержанно, скупо и
скромно, как и в первой части, говорится здесь об опасностях и трудностях путешествия.
Вот как сказано о причинах прекращения поисков островов и возвращения судна в гавань:
«Продолжающийся без перемены один корм начал промышленных подвергать цинготной
болезни, для чего и решились, оставя дальнейшие поиски островов, возвратиться в свою
гавань на Кыктак по той причине, что начинающиеся с сего времени пассатные от югозапада и запада ветры для плавания крайне тягостные и затруднительные». По массе
деталей в описаниях видно, что автор зорко всматривался во все достопримечательности
— природы, быта, климата и давал обо всем подробный отчет. И островки, и
лиственничные деревья, «из коих у крайнего к воде самая вершина высохла и немного
сломана», и точные указания, где положены медные доски с российскими знаками, и
точные даты — все это свидетельствовало, что описание оформилось как путевой отчет.
Но это отчет, в котором даны живые зарисовки, наблюдения. Автор описывает не только
нравы, обычаи местных жителей, но дает живые примеры общения с ними, постоянного
стремления к добрососедским отношениям.
Все части «Странствования» написаны в разное время, издавались по отдельности, а
затем были объединены в одной книге. Это издание, объединившее и «первое
странствование», и описание Курильских и Алеутских островов, и «Продолжение
странствования», появилось не в каком-нибудь, а в грозном для России 1812 году. Может
быть, эта деталь подчеркивает по-особому патриотическое значение книги знаменитого
морехода, на которой воспитывалась плеяда славных мореплавателей XIX века. И не
только воспитывались, но и продолжали жанр морского путешествия, развили его, сделали популярным, украшающим журналы XIX века. В этом жанре было запечатлено
величайшее событие морской жизни начала XIX столетия — первое русское кругосветное
путешествие. Книги эти принадлежат перу Крузенштерна и Лисянского. Они стяжали
славу не только замечательных мореплавателей, но и авторов, достойно отразивших
плавания в документальной маринистике. Несколько позже, в 1816 году, была издана и
третья книга об этом плавании — «Журнал первого путешествия россиян вокруг земного
шара Федора Шемелина».
Кругосветное плавание было совершено в 1803 — 1806 годах на кораблях
«Надежда» и «Нева». Общее руководство и командование первым кораблем было поручено капитан-лейтенанту Крузенштерну, вторым кораблем командовал капитанлейтенант Лисянский. В 1809 — 1810 годах были изданы за счет адмиралтейства два тома
Крузенштерна. Книга Лисянского вышла только в 1812 году. Адмиралтейский
департамент, придираясь к автору, тормозил ее издание, и автор был вынужден издать ее
на свои деньги. Департамент купил только пять экземпляров. «Неприязненность
видимая», — замечал еще в прошлом веке исследователь морской литературы А. П. Соколов.
Первое плавание русских вокруг света продолжалось три года. Это обычный срок
для таких плаваний в то время. Русские мореходы вышли на арену Мирового океана
сравнительно поздно. Уже три столетия, как Колумб открыл Америку. Уже прославились
Магеллан, Кук, Лаперуз, Ванкувер. Казалось, все уже открыто.
Но русские мореходы сумели сказать и свое слово.
Известный немецкий историк Ф. Гельвальд в книге «В области вечного льда» так
писал об этом: «В начале XVIII столетия уже почти все народы Европы имели свою долю
участия в деле открытия Америки... Но истинным чудом представляется, что наконец и
русские добрались до Америки... Предприимчивые русские казаки нашли путь в Америку,
невзирая на бесконечные пустыни Сибири, и совершенно самостоятельно и своеобразно
открыли эту новую часть света. Всем остальным народам Европы путь в Америку открыл
Колумб, с предприятиями же русских плавание Колумба не имеет почти ничего общего...
Все другие народы шли с востока вместе с солнцем на запад. Русские же шли с запада на
восток... они пробираются через весь север Азии, приходят к берегам Тихого океана, и
там у них является свой собственный Колумб (Г. И. Шелихов), который во имя России
приобретает право владения Северо-Западной Америкой».
Помимо общих исследовательских задач у «Надежды» и «Невы» были задачи свои.
«Надежде» предстояло доставить в Японию русского посланника Резанова: русское
правительство для большего расширения торговли желало установить добрососедские
отношения с японским государством. Необходимо было также доставить грузы в
Петропавловск-на-Камчатке и Ново-Архангельск и описать Курильские острова и устье
Амура. «Неве» необходимо было посетить Русскую Америку, оказать помощь русским
промышленным людям, правителю этого края Александру Баранову. Хотя корабли часть
пути совершили вместе, большая часть их путешествия проходила врозь, по своим
маршрутам. Вот почему Лисянский, книга которого вышла позже, счел нужным заметить:
«Открывались мне многие случаи не токмо совершать особливое плавание, но даже
обозревать и описывать такие места, в которые г. Крузенштерн заходить не имел
никакого случая, а особливо во время годичного пребывания моего на северо-западных
берегах Америки; посему я долгом себе поставил издать в свет и мои краткие записки,
дабы почтенная публика, удостоив прочтения как оные, так и обширное описание г.
Крузенштерна, могла иметь полное сведение о всем путешествии...».
Интересно замечание Лисянского о тех предметах, которые описаны
Крузенштерном. Он считает, что такое повторение не будет излишним, ибо «согласие...
описаний послужит сугубым доказательством их справедливости, а разноречие, ежели
оное где-либо встретится, подаст повод любопытному испытателю к дальнейшему и
точнейшему изысканию истины». Думается, что в этих словах Лисянского из
«Предисловия» важны два момента, которые характеризуют его подход к «сочинению...
путешественных записок», и не только его, но и других русских авторов-мореходов. Это,
во-первых, отношение к сочинению записок как к своему нравственному долгу
(«поставил себе долгом») перед отечественным читателем, ведь для такой работы тоже
необходимо было проявить подвижничество,- тем более, как признается Лисянский, по
роду своей службы, он «никогда не помышлял быть автором». И второе, не менее важное:
автор декларирует, подчеркивает важность документальной точности, «справедливости»,
изыскания истины. Заметим, что и Лисянский, и Крузенштерн следуют этому правилу —
это тоже становится характерной чертой отечественной документальной маринистики.
Составной частью «Путешествия вокруг света» И. Ф. Крузенштерна явился очерк, в
котором даны известия о мореплавателях и открытиях россиян в северной части Великого
океана». «Хотя я и не сомневаюсь, — говорит Крузенштерн, — что читателям известно
повествование о российских открытиях и плаваниях в Великом северном океане, однако,
не взирая на то, помещение здесь краткого об оных известия будет не излишним».
Исторический очерк начинается с преобразовательной деятельности Петра
Великого, пославшего научные экспедиции на Камчатку и Курилы. От прозорливости
Петра не могло скрыться, что «отдаленные сии страны должны сделаться некогда
полезными для государства». Автор высоко ценит достижения предшественников —
Беринга, Чирикова, Креницина, Сарычева, Шелихова, Резанова и других, говорит о
чрезвычайных трудностях, «преодоленных единственно предприимчивым и терпеливым
духом россиян». По его мнению, правительство должно подкрепить российских
мореходов, помочь построению судов, подготовке искусных начальников, способных к
управлению мореходными судами. Горячо говорит Крузенштерн о побуждениях,
заставивших его войти в министерство с просьбами организации кругосветного путешествия — ради большей обширности российской торговли. Поначалу все его старания
возбудить интерес «к такому предприятию были равномерно тщетны». Положительный
ответ пришел, когда автор его не ждал. «Более полугода уже прошло, как я разделял
счастие с любимой супругой и ожидал скоро именоваться отцом. Никакие лестные виды
уже не трогали сильно меня. Я вознамерился было оставить службу, дабы наслаждаться
семейственным счастием. Но от сего надлежало теперь отказаться и оставить жену в
сугубой горести». Над личными чувствами возобладало чувство «обязанности к отечеству
в полной мере». «Мысль сделаться полезным, к чему стремилось всегда мое желание,
меня подкрепляла; надежда совершить путешествие счастливо ободряла дух мой, и я
начал всемерно заботиться о приготовлении в путь, не испытанный до того россиянами».
Как видим, здесь дан элемент личной исповеди. Надо сказать, что судьба наших
мореплавателей дает в руки драматичный материал о личных взаимоотношениях. И хоть
кратко, но пишут они о том в своих дневниках, письмах (Шелихов рассказывает о
плаваниях с женой; Головнин — об уговоре с невестой; Невельской — о подвижничестве
своей жены и т. д. Вот образы женщин, данные самой реальной жизнью! — может ли
пройти мимо них писатель, воссоздающий жизнь того или иного героя?).
Лисянский считает возможным обойтись без исторической части: ведь его «Краткие
записки» (два солидных тома), по его словам, «призваны дополнить обширные описания
Крузенштерна». И он начинает с краткого предуведомления, в котором дает список
находившихся на корабле «Нева» чиновников и «морских служителей», то есть всей
команды, от капитана до матроса. Характерный момент: дать список команды и
Лисянский, и Крузенштерн считают нравственным долгом, своеобразной благодарностью
участникам плавания. Затем и Головнин не обойдется без предуведомления и без
исторической части, когда будет писать «Путешествие на шлюпе «Камчатка». Но при
этом Головнин стремится не повторять много раз писанное, отбросить «всякие мелочи и
описания ничего не значащих случаев». Сообщить читателю «новое и занимательное»,
доставить ему «полезные сведения», будучи внимательным не только к природе, которая,
«хотя и редко, в некоторых отношениях изменяется», но и к политическому бытию
народов. Стремясь достичь этого, Головнин, по его словам, составил свое «описание в
таком виде, в каком ни одно еще морское путешествие издано не было». Он разделил
описание на две части. В первой — простое повествование о плавании, описание стран, во
второй — то, что нужно и полезно для одних мореплавателей. Так происходит отделение
общеинтересного в жанре морского путешествия от специального, научного. Как помним,
такое разделение намечалось уже в книге Шелихова. Это немаловажно для развития
русского путевого очерка. Очерк становился популярнее, доступнее читателю. Однако эта
тенденция не могла быть безмерной: она пересекалась с тенденцией сплава
общеинтересного со специальным, научным.
Что еще характерно для жанра морских путешествий, «путешественных записок»?
Они близки к путевым дневникам. Документально точно описан путь следования,
достопримечательности разных стран, градов и весей, быт, нравы жителей, особенно тех
племен, где сохранились родовые нравы и обычаи, своеобразная экзотика прошлого. Это
подчас острые социальные наблюдения, вызывающие критику колониализма,
хищничества американских, английских и иных претендентов на Мировой океан,
равнодушия к нуждам русских мореплавателей царских чиновников. Ясно, что критика
эта была ограниченная, исходившая из желания упрочить господство купцов и
помещиков, но ведь и речи нет, чтобы превращать мореплавателей в политических
деятелей. Не политические деятели, но передовые люди, на многие стороны
действительности имевшие прогрессивные взгляды, много сделавшие для развития науки,
мореплавания. В книгах Крузенштерна и Лисянского встречаются, как и в
«Странствованиях» Шелихова, отдельные зарисовки быта, труда матросов. Как правило, о
многотрудной и опасной работе моряков говорится с одобрением и восхищением.
Матросы обоих кораблей работали денно и нощно — свидетельствует И. Ф. Крузенштерн, но не называет никого поименно. «Радость, что мы скоро оставим Японию,
обнаруживалась наипаче неутомимостью в работе наших служителей, которые часто по
16 часов в день трудились почти беспрестанно и охотно, для приведения корабля в
готовность к отходу». Такие свидетельства находим мы и у Лисянского. Вот, скажем,
после приключения, случившегося с «Невой», севшей на мель, Лисянский пишет: «Я
также непреложным долгом себе поставлю принесть мою благодарность
сопутствовавшим мне гг. офицерам и нижним чинам, которые, находясь в непрестанных
трудах, и двух суток сряду не имели отдыху более 6 часов и перенесли оные не только без
малейшего ропота, но еще с веселым духом, невзирая на сию угрожавшую нам
опасность». Но редко промелькнет фамилия-другая. Даже позже, у Невельского,
Пржевальского не много мы найдем простых солдат, матросов, лица и действия которых
были бы описаны обстоятельно. Можно упрекать за это... Но вспомним, что и позже
фигура простого матроса еще не раскроется в литературе. Литературе еще предстояло открыть такого героя. Эту задачу успешно решает Станюкович в своих морских рассказах и
повестях, раскрывших не только внешние черты, но и внутреннюю жизнь простого
русского моряка.
Но все же нельзя не видеть, что в русской морской документалистике героика
будничного труда простых моряков не обойдена.
Документальная маринистика открывала русскому читателю непривычные пейзажи.
Впечатляющи у Крузенштерна, Лисянского, Головнина многие описания природы,
картины штормов. Вспомним, как краток был такой пейзаж у Шелихова («Буря сия была
столь велика...» — начало «Путешествия»), Вот Крузенштерн дает подробное описание
бури в Тихом океане по пути с Камчатки в Японию:
«Ветер, постепенно усиливаясь, достиг в один час пополудни до такой степени, что
мы с великою трудностью и опасностью могли закрепить марсели и нижние паруса, у
которых шкоты и брасы, хотя и по большей части новые, были вдруг прерваны.
Бесстрашие наших матросов, презиравших все опасности, действовало в сие время
столько, что буря не могла унести ни одного паруса. В три часа пополудни рассвирепела,
наконец, оная до того, что изорвала все наши штормовые стаксели, под коими одними мы
оставались. Ничто не могло противостоять жестокости шторма. Сколько я ни слыхивал о
тайфунах, случающихся у берегов китайских и японских, но подобного сему не мог себе
представить. Надо иметь дар стихотворства, чтобы живо описать ярость оного».
Конечно, это отнюдь не сухое описание шторма. И такая конкретность, точность
деталей в чем-то противостояла царившим тогда в литературе романтически-вычурным
описаниям морских стихий, против чего будет спорить позже во «Фрегате «Паллада»
Гончаров. Автором подмечен и героизм матросов.
Описание тайфуна, «одно имя которого уже приводит мореплавателей в ужас», дает
и Лисянский — «Нева» встретила его при переходе из залива Ситки до Кантона. Такие
зарисовки, с-конкретными деталями, находим у Давыдова, Головнина, В. РимскогоКорсакова и у других. Любопытно, что и обращение Крузенштерна к мысли о «даре
стихотворства» не осталось втуне. В 1807 году в Петербурге вышло отдельным изданием
большое стихотворение С. Боброва «Россы в бурю, или Грозная ночь на Японских
островах». В прозаическом высокопарном посвящении автор называл «российских
мореходов» соревнователями Колумба, Васко да Гама, Янсона, Кука, Лаперуза и отдавал
русским морякам предпочтение, ибо они «совершили обширнейший круг водошествия,
проникли неведомые дотоль воды, проливы и острова, победили ужасы стихий, презрели
все угрозы... Нептуна с неслыханною отвагою к пользе и славе Отечества». Таким же
пышнословием отличались и стихи, но, повторяем, были у Боброва и зримые, точные
строки: «Какое зрелище чудесно! / Валы не гнут своих гребней Обыкновенными хребтами,
/ Но в мгле воздушной разлетясь И в пыль туманну превратись, / Высоко реют над
пучиной. / Паряща влага обнимает / Весь тьмой исполненный обзор, — / Иль твердь
влечет упорну бездну, / Иль бездна, мнится, твердь влечет, / Иль обе зрятся вдруг
слиянны. / Се новый хаос восстает! / Там — в горных — рдеющая длань /
Громодержителя во мраке / Сечет густые облака; / Здесь — долу — сильна длань
Ифеста / Среди ночные темноты / Снопы огнисты извергает / Из полостей Камчатских
сопок, / Из чрева дымных Ксимских гор. / Толь грозна ночь была в востоке, / Когда
Российские Колумбы Боролись с бурей...»
В стихотворении звучит здравица в честь русских мореходов: «Неустрашимые! Я
вижу, Вас чтит и небо, чтит и бездна, Вас чтит судьба, и сами боги...» Несомненно,
достоверность этой картины объясняется знакомством поэта с морскими путешествиями
русских мореплавателей. Но насколько язык документальных морских путешествий
яснее, демократичнее языка стихотворений, подобных стихам Боброва, с их
мифологической образностью, ухищренностью оборотов, пышнословием.
Путевые заметки русских мореплавателей отличаются содержательностью. Так, в
книге Крузенштерна описана миссия Резанова в Японии. Японское правительство
осталось глухо к предложениям русских, вручило посланнику бумаги, содержащие
запрещение, чтобы ни один русский корабль не приходил никогда в Японию. Автор,
естественно, возмущен и подобной встречей, и «шестимесячным бездействием», и
окончательным решением японских властей, которые приняли столь странное решение.
Оно, конечно, шло вразрез и с задачами развития самой Японии, о чем не могли не
сожалеть передовые люди этой страны. Многие страницы книги рассказывают о
Камчатке, Сахалине.
Насыщены конкретным, интересным материалом страницы книги Лисянского,
посвященные пребыванию в Русской Америке. Это и встреча с Барановым и русскими
промышленными людьми, и путешествие в глубь острова Ситки, и взаимоотношения с
местными жителями. Описания не безымянны: в них обрисованы лица Арбузова,
Повалишина и др. Стремясь к точности, Лисянский иронично относится к некоторым
цифрам и фактам, которые находит у Шелихова. Автор проявляет интерес к обычаям
местных жителей, их поверьям, легендам. Так, он записывает ту же легенду, на которую
обратил внимание еще Шелихов («сей народ почитает же несколько птицу — так
называемого ворона»), Лисянский не ограничивается простым упоминанием. Он
записывает «особливые сказки», которые рассказывали ему на острове Кадьяке. Вот одна
из таких «сказок»:
«Некто рассказывал мне историю о сотворении острова таким образом: «Ворон
принес свет, а с неба слетел пузырь, в котором заключены были мужчина и женщина.
Сперва они начали раздувать свою темницу, а потом растягивать руками и ногами, от
чего составились горы. Мужчина, бросив волосы на оные, произвел лес, в котором
размножились звери, а женщина, испустя из себя воду, произвела море, плюнув же в
канавки и ямы, вырытые мужчиною, превратила оные в реки и в озера... Мужчина и
женщина со временем произвели детей. Первый сын играл некогда камнем, из коего
составился Кадьяк».
Легенда о вороне-светоносце, о людях (заметим — о людях, а не богах), творящих
землю и все вокруг, найдет отзвук также в книге Л. Загоскина, записках И. Вениаминова о
мифах («Сын отечества», 1839, т. 2), а затем, уже в наше время, войдет в исторический
роман С. Маркова «Юконский ворон».
Авторская личность проступает сквозь многие описания, наблюдения,
размышления. Эту личность характеризуют подвижничество, любовь к своему делу,
честность, мужество и стойкость. Эти черты проявляются прежде всего в деле. Мы видим
Лисянского, беседующего с матросами. Видим, как приходит он на выручку поселенцам
Русской Америки. Видим, как по-доброму, гуманно относится он к аборигенам, тонко
подмечает детали их быта, обычаев, поверий, предрассудков. Автор фиксирует свое
внимание на наиболее важном, характерном. Драматичен эпизод, в котором рассказано о
том, как однажды корабль сел на мель. «В 10 часов вечера отдал я приказание вахтенному
офицеру Коведяеву иметь ночью сколько можно менее парусов, ежели ветр сделается
свежее. Лишь только хотел я сойти в каюту, как вдруг корабль вздрогнул сильно... Вся
команда, оставив свои койки, бросилась крепить паруса, а штурман между тем обмеривал
глубину вокруг судна, которое остановилось посреди коральной банки». Гибельное место
было изучено и отмечено на карте. Автор лишь сожалеет о том, что ему не удалось
исследовать остров досконально. Не будь «несчастного для корабля нашего
приключения», пишет он, «отыскал бы что-нибудь важнейшее, ибо нет труда, которого я
не согласился бы преодолеть, нет опасности, которой бы перенести я не согласился, лишь
только бы сделать путешествие наше полезнейшим и новыми открытиями доставить
честь и славу Российскому флагу». Автор удовлетворен не только тем, что приключение
«Невы» закончилось благополучно, но и тем, что русские моряки «открытием весьма
опасного местоположения» спасли, может быть, от гибели многих будущих море-
плавателей.
Нельзя не видеть драматизма в рассказе о последнем переходе от южной
оконечности Африки до Англии. Этот путь был преодолен за 142 дня без заходов в
порты. Это потребовало огромных физических и нравственных сил. Убедительно
мотивирует автор, почему он решился на такой длительный переход без остановок в
портах. Он был уверен, что «столь отважное предприятие доставит нам большую честь,
ибо еще ни один мореплаватель, подобный нам, не отважился на столь дальний путь, не
заходя куда-либо для отдохновения. К столь смелому подвигу много побуждало меня и
самое желание моих подчиненных, которые, быв в совершенном здоровье, о том токмо и
помышляли, чтобы отличить себя чем-нибудь чрезвычайным». И чрезвычайным отличить
себя удалось — корабль «Нева» первым завершил кругосветное путешествие.
Как видим, не только факты, эпизоды, но и живое размышление автора — вот что
сводит воедино и цементирует все повествование. Ю. Ф. Лисянский не боится «громких»
слов о подвиге, но как сдержанно, с какой внутренней силой это говорится и как редко, а
потому в структуре книги эти публицистические отступления — не риторика, а суть
натуры повествователя. Суть героического характера. Высокое слово в ладу с высоким
делом.
Заметное место в русской маринистике начала XIX века занимает и книга
«Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное
сим последним», изданная в Петербурге в 1810 году. В свое время Державин, размышляя
о славе тех замечательных людей, чья жизнь скреплена «добрыми делами», писал:
«Хвостов! Давыдов! Будьте / Ввек славными и вы. / Меж нами ваша память, / Как гуд, не
пройдет вмиг. / Хоть роком своенравным / Вы сесть и не могли / На колесницу счастья. /
Но ваших похождений звук. / Дух Куков и Нельсонов / И ум Невтона звездна... / Не
позабудут Россы».
Что это, неудачное пророчество поэта? Незаслуженное восхваление? Нет, ни то ни
другое. Имена Николая Александровича Хвостова и Гавриила Ивановича Давыдова
действительно не забыты, хотя и не удалось им сесть на «колесницу счастья»: жизнь их
оборвалась рано. О них писали К. Т. Хлебников, И. Ф. Крузенштерн, В. М. Головнин, Г.
Р. Державин. Их имена вошли в историю русских мореплаваний, а имя Давыдова — в
«Источники словаря русских писателей» С.
А. Венгерова. А между тем книга
«Двукратное путешествие» выпала из круга чтения: она стала уникальной, ее (в первом и
единственном издании) можно найти только в научных библиотеках. Один экземпляр
находится в библиотеке Географического общества во Владивостоке. Большой отрывок
недавно дан в книге «Хрестоматия по истории Дальнего Востока».
Что ж, может быть, не выдержала испытания временем. Но читается она поныне с
огромным интересом, и хочется, чтобы многое дошло до ума современного юноши.
Сколько яркого найдет в ней читатель! Вот, скажем, ее почти начальные строки:
«19 апреля 1802 г. В 11 часов ночи выехали из Петербурга в провожании всех своих
приятелей. За рогаткою простились с ними, сели на перекладную телегу, ударили по
лошадям и поскакали... в Америку».
Так начинается книга... Удивительное начало, не правда ли? Ведь в нем, в этом
энергичном, прямом и конкретном зачине запечатлелись штрихи характера рассказчика.
Книга написана увлекательно, с несомненным литературным даром. Об этом уже
говорили современники Хвостова и Давыдова. В наши дни исследователь маринистики В.
Вильчинский пишет: «Из многочисленной мемуарной литературы первой половины XIX
века, так или иначе связанной с жанром морских путешествий, особого внимания
заслуживает, на наш взгляд, «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров
Хвостова и Давыдова...». История жизни героев этих путешествий весьма примечательна
и наполнена приключениями, которые могли бы послужить канвой увлекательного
романа». Исследователь отмечает, что «Двукратное путешествие» свидетельствует о
несомненном литературном даровании автора, «о прекрасном слоге».
Еще в прошлом XIX веке исследователь морской литературы Ал. Соколов,
заканчивая статью о Хвостове и Давыдове, писал: «Вообще желательно бы было собрать
поболее верных подробностей как об этих, так и о многих других замечательных морских
личностях.
Доселе наши историки ограничивались только подвигами, оставляя в стороне
личности или упоминая о них очень поверхностно. Наступает другая пора, другие
требования.
Домашние архивы наших моряков, предания и личные свидетельства стариков
много бы помогли делу. Помогите, братцы, старину рассказать».
Тем более привлекательны для нас эти личности, что в них ярко воплотилось
героическое начало, подвижничество, свойственное передовым русским офицерамземлепроходцам.
Итак, сначала о жизни и приключениях самих авторов, морских офицеров Хвостова
и Давыдова.
Николай Александрович Хвостов и Гавриил Иванович Давыдов учились в Морском
корпусе в Петербурге и выпущены офицерами, первый — в 1792 году, шестнадцати лет
от роду, второй — в 1798 году, четырнадцати лет.
Хвостов, будучи еще гардемарином, участвовал в морских сражениях, был
награжден, четыре года находился в плавании у берегов Англии и Голландии, получил
лейтенантский чин. В 1799 году в Англии был и Давыдов. В 1800 году они возвратились
из походов, а года через два подружились. Было в эту пору Хвостову двадцать шесть лет,
а Давыдову восемнадцать. Хвостов, по свидетельству биографа, «был уже человек
развившийся, возмужалый, страстный и притом довольно искусный моряк». Давыдов
«был еще юноша, высокий, стройно сложенный, отлично образованный, немножко поэт».
«Чудно свела судьба, — продолжает биограф, — на вечную дружбу этих двух молодых
людей, так мало сходных между собой, благословив их на удивительные приключения и
отважные подвиги».
В этот период русским офицерам разрешили поступать на службу в РусскоАмериканскую компанию, во главе которой стоял Николай Петрович Резанов. Хвостов и
Давыдов были первыми морскими офицерами, поступившими в морскую компанию. Они
совершили два путешествия в американские владения компании.
В первое путешествие (1802—1804 гг.) доставили в Охотск из Русской Америки
ценные грузы на 2 млн. рублей. Во второе путешествие (1804 — 1807 гг.) они, по заданию
Резанова, совершили плавание на бриге «Юнона» и тендере «Авось» к южному Сахалину
и в залив Анива, где подняли русский флаг и объявили айнам, проживавшим на Сахалине,
о том, что русские берут их под защиту. В течение всего времени вели исследование
берегов, изучали быт и нравы местного населения, составили словарь айнов. Вторая книга
«Путешествия» посвящена описанию острова Кадьяка и его жителей. Они думали, что их
ожидает «хвала и благодарность за понесенные ими труды и подвиги». Но их ждала иная
участь. В Охотске суда были арестованы известным своим самодурством капитаном
второго ранга Бухариным, полагавшим поживиться богатствами, особенно золотом,
которого-то на судах как раз и не оказалось.
У мореходов нашлись друзья. С их помощью после двухмесячного заключения
Хвостов и Давыдов бежали из Охотска. Добрались до Якутска, а затем до Иркутска. В
начале 1808 года прибыли в Петербург. Резанова к тому времени уже не было в живых: он
умер в Сибири, по пути в Петербург. Министерство коммерции оправдывает Хвостова и
Давыдова. Согласно этому император распорядился: дела этого им в вину не ставить.
Жалобы на жесткости Бухарина были переданы на рассмотрение АдмиралтействКоллегии. Рассматривая это дело под председательством адмирала Фон-Дезина, коллегия
оправдала все распоряжения Бухарина, жестокое обращение с мореходами и вынесла
представление морскому министру «предать лейтенанта Хвостова и мичмана Давыдова
военному суду». Но в это время их запросили на театр боевых действий. И уже через
несколько дней они были в сражениях на Балтийском море. Командуя отрядами моряков,
Хвостов и Давыдов проявили необыкновенное мужество. Об их смелых действиях
сообщалось в реляции, опубликованной в «Санкт-Петербургских ведомостях». Лейтенант
Хвостов, говорилось в реляции, «оказал пример невероятной неустрашимости», где он
только появлялся, «храбрость оживотворялась». Лейтенант Давыдов, раненный в бою,
также назван среди тех, кто заслужил «имя неустрашимых». Главнокомандующий
представил их к награде: Хвостова — к Св. Георгию 4 степени, Давыдова — к Св.
Владимиру 4 степени. Император на сделанное ему представление, с одной стороны,— о
предании их суду, а с другой,— к награде, написал: «Неполучение награждения в
Финляндии послужит сим офицерам в наказание».
Это было в декабре 1808 года. А через год, в октябре 1809, оба они трагически
погибли на Неве. Они возвращались поздно от американского шкипера Вольфа и ученогоестествоиспытателя Лангсдорфа с Васильевского острова. Исаакиевский мост уже был
разведен. Как пишут, они прыгнули на борт проходившей мимо барки, оступились, упали
в воду и были унесены течением. Вокруг этой загадочной смерти долгое время ходили
разные, порой очень нелепые и гнусные, слухи (якобы бежали в Америку — к этому
слуху приложил руку Булгарин в своих воспоминаниях).
В журнале «Русский вестник» в 1809 году были опубликованы стихи Анны
Волковой и А. Шишкова на смерть Хвостова и Давыдова. В письме издателю говорилось:
«Жизнь их была цепь несчастий, немогших, однако же, никогда поколебать твердости их
духа». В стихотворении Анны Волковой, воссоздавшей драматизм случайной смерти
Хвостова и Давыдова, как бы в ответ на всяческие слухи и наветы, говорилось о глубоком
патриотизме «России верных сынов»: «Сбирался гром над головами / России верных двух
сынов. / Идут поспешными стопами / К реке Давыдов и Хвостов. / Тут рок мгновенно
разделяет / Мост Невский — надвое для них: / Отважный дух препятств не знает. /
Могло ли устрашить то их?»
Нарисовав реальную картину гибели Хвостова и Давыдова, поэтесса размышляет о
человеческой памяти: «А вы, судьбы завистной жертвы, / Герои храбрые в боях! / Хотя
бесчувственны и мертвы, / Но живы в мыслях и сердцах! / Утехи, радости делили Вы
меж собою всякий час. / В сей жизни неразлучны были, / И смерть не разлучила вас».
Позже Державин напишет стихотворение «В память Давыдова и Хвостова», о
котором мы уже говорили.
Итак, «Двукратное путешествие». Два тома, первый из них — описание самого
путешествия, путевой дневник, второй — описание быта, нравов жителей острова Кадьяк.
Нас в данном случае интересует не эта, вторая часть, носящая научно-этнографический
характер, а первая, говоря словами Лисянского, «путешественные записки». Это не отчет,
не вахтенный журнал, а именно путевой очерк, живой и эмоциональный.
Автор обстоятельно описывает путь из Петербурга через Сибирь в Охотск, а затем
морское хождение в Русскую Америку. Повествование ведется от первого лица: здесь и
протокольные наблюдения, и живописные зарисовки, и философские размышления, и
лирические отступления. Словом, «Двукратное путешествие» небезлико почти в каждой
своей строке. Оно исповедально, согрето душевным светом, который идет от автора.
Характерно, что и историческое прошлое дается не как известие или исторический очерк,
а как то, что живо в памяти. История пропускается через душу автора. Конечно, прежде
всего, это история мореплавателя. «Имея довольно свободного времени,— пишет
Давыдов, — мы читали о бедственном состоянии английского корабля «Центавр» под
командою капитана Энгельфильда, который спасся с 13 или 15 только человеками из
всего бывшего с ними военного и купеческого флота. Хотя подобное нещастие легко
могло с нами случиться, однако ж описание сие нас не потревожило. Может быть, оттого,
что мы неохотно вдаемся в размышления о бедствиях другого, когда сами к тому близки».
Это уже не просто отчет об увиденном: автор не ограничивается перечислением,
описанием фактов, он показывает, как то или иное событие, явление входит в жизнь,
воспринимается, стремится найти объяснение многим из них. «Неохотно вдаемся в
размышления о бедствиях другого, когда сами к тому близки» — это попутное замечание
освещает психологическое состояние героев повествования в часы опасности.
Давыдов упоминает о «мореплавании русских промышленников по Восточному
океану». Но это не парадное упоминание. Это своеобразное размышление «сына отечества» о причинах «худого состояния» мореплавания, о том, как их изживать, чтобы
«восходить... на степень желаемого изрядства». Такими причинами автор считает и
отдаленность земель, и трудность привлечь «искусных в морском знании людей», и
дороговизну припасов и снаряжения, и «корыстолюбие частных правителей», и закоренелые привычки, вредное правило «вместо поправления скрывать худое и другие
подобные тому причины». Давыдов раздосадован, что все эти причины замедляют
развитие мореплавания на Восточном океане, мешают «восходить оному на степень
желаемого изрядства».
Зная, что не все примут эту критику, он с гражданственной смелостью упреждает
удар: «Таить сии обстоятельства есть то же, что хотеть, дабы оныя не приходили никогда
в лучшее состояние».
И столь же правдиво и смело описывает «мореплавание в настоящем его виде»,
ставя проблему подлинной заботы о развитии мореходства, подготовки искусных в
морском деле людей. Стремясь быть не голословным, доказательным, автор приводит
примеры несчастий, происходивших от невежества. Автор доказателен. Вот один из
примеров. Одно судно от Камчатки зашло далеко к югу. Алеутских островов все не было.
Не зная, что делать и куда идти, мучаясь жаждой, «решились они положиться на волю
божию. Вынесли на палубу образ богоматери, помолились ему и сказали, что откуда бы
ветр ни задул, то и пойдут с оным.
Через час после полил дождь, принесший им величайшую отраду, и задул южный
крепкий ветр, продолжавшийся сряду восемнадцать суток». Так они попали на свой
остров. Этот живой пример характерен для мышления моряка Давыдова: там, где иной бы
увидел провидение божие, он увидел простую случайность: не зная, что делать и куда
идти, люди пошли на авось, им повезло. А другие от невежества гибли. За невежество
крепко достается иным мореходам от Давыдова. Критикует он и действия промышленных
людей, не любящих науку мореплавания, не имеющих «никакого уважения к мореходам
своим, коих они часто бивали или заколачивали в каюту». И вместе с тем он высоко
отзывается о мужестве русских мореходов, этих «новых Аргонавтов», плававших в
Америку. Они «достойны гораздо более удивления, нежели бывшие под
предводительством Язона, ибо при равном невежестве и недостатках в способах должны
преплывать несравненно обширнейшие и немало им известные моря».
Можно назвать эти размышления своеобразными авторскими отступлениями.
Иногда они имеют лирический характер. Автор пишет не отчет, не дневник для себя, а
книгу и, естественно, ведет в ней живой разговор с читателем. Он то и дело поясняет свое
душевное состояние, размышляет о виденном, подводит итог, дает оценку с позиций
сегодняшнего дня. «Читателю, может быть, покажется странным таковое вступление к
путешествию, но я надеюсь получить извинение, когда скажу, что мне было 18 лет, что я
начинал только жить в свете и что круг знакомства моего был весьма тесный. Любовь к
родным, привязанность к друзьям составляли единственное блаженство души моей. И так
разлучась с ними, казалось мне, что я разлучаюсь с целым светом, ибо что для нас
миллионы незнакомых? Сильное душевное возмущение не скоро успокаивается. Время
укрощает его постепенно».
Или: «Пошел густой мокрый снег. Итак, надежда наша быть скоро на Кадьяке
рушилась. Да не подивится читатель, что я говорю о Кадьяке, как будто о прекраснейшем
месте, в котором ожидают нас тысячи удовольствий. Неприятность в холодное осеннее
время быть на море и беспрестанно бороться с ветрами и волнами так напоследок
наскучит, что самый пустой и дикий остров казаться будет райским жилищем».
Мы говорили, что русской документальной маринистике чужд тон бахвальства,
надуманной лихости, развязности, самолюбования. Ее характеризует содержательность,
своеобразная будничная героичность. Героическое начало просвечивает через
сдержанность авторского повествования и у Давыдова. Он пишет о невзгодах пути, о преодолении рек, болот, о происшествиях на море, трезво судит о рисковых поступках,
которые по прошествии времени «заслуживают больше имя предосудительной дерзости,
нежели похвальной смелости» (рассказ о том, как на байдарке высаживался в непогоду на
берег). Его восхищение вызывают люди отважные, смелые, проникнутые идеей служения
Отечеству (Баранов, Резанов, Шелихов, Хвостов и другие). Рассказывая о себе, о том, в
какие переделки приходилось попадать, он как бы иронично улыбается, особенно тогда,
когда поступал рисково, надеясь на одну только удачу, на русский «авось».
Большую научную ценность представляет вторая часть «Путешествия», где дано
описание жителей острова Кадьяк. Хвостовым был составлен словарь наречия местных
жителей.
Несомненно, что молодые русские офицеры, прославившие себя и в путешествии, и
в бою, и в литературном труде, подавали блестящие надежды, от них ожидали новых
подвигов в будущем. Эту мысль выразил Державин в своих стихах: «Всяк ждал: нас
вновь прославят». И если в ранее написанном стихотворении адмирала А. Шишкова
звучала мысль о воле случая («Чего не отняли ни степи, ни пучины, ни гор крутых верхи,
ни страшные стремнины, ни звери лютые, ни сам свирепый враг, то отнял все один...
неосторожный шаг!»), то в стихотворении Г. Державина тема возводится к философскому размышлению о мимолетном («небрежный шаг») и вечном («добрые дела»).
Державин воссоздает картину подвига «юных двух отважных сподвижников» и на море
(«сквозь стихиев грозных и океанских бездн свирепых и бездонных, Колумбу подражая,
два раз Титана вслед прошли к противуножным», то есть в Америку), и на суше, и в
злоключениях («Уж их погибших чтут. Без пищи, без одежды в темницах уморенных; но
вдруг воскресших зрят, везде как бы бессмертных»), и в боях («и финн, и галл был
зритель бесстрашья их в боях...»). Мотив ожидания новой славы сменяется мотивом
предостережения перед обычной опасностью: «Но мудрых рассужденье коль
справедливо то, что блеск столиц и прелесть достоинствам прямым опасней, чем пучины
и камни под водой». Завершается стихотворение словами о смысле человеческой жизни,
о бессмертии деяний: «Жизнь наша жизни вечной / Есть искра иль струя; / Но тем она
ввек длится, / Коль благовонье льет / За добрыми делами».
Добрые дела — вот что продолжает жизнь человека: «в пыли и на престоле
прославленный герой глав злых венчанных выше». Чтобы оценить, насколько подлинными вышли у Державина Хвостов и Давыдов, можно сравнить это стихотворение со
стихотворением, которым он почтил кончину Суворова. В русских мореходах Державин
высветил деятельное беспокойство, бесстрашие, мужество, стойкость в преодолении
препятствий ради добрых дел.
Само название «Двукратное путешествие» говорит о том, что Давыдов предполагал
описать и второе путешествие в Америку. Об этом писал в «Предуведомлении» к
изданию книги адмирал А. Шишков, в доме которого по возвращении из Финляндии жил
Давыдов. По его совету молодой офицер стал писать «Двукратное путешествие». Первое
путешествие окончил, но второго еще не начал. Второе путешествие осталось в черновых
записях и письмах Хвостова и Давыдова, они хранились у Шишкова. Уже начала
печататься вторая глава, как их жизнь оборвалась... Это, конечно, большая потеря и для
нашей литературы. Жизнь мореходов привлекает ученых. Так, недавно известный
исследователь А. И. Алексеев в книге «Освоение русскими людьми Дальнего Востока и
Русской Америки» опубликовал портрет Г. И. Давыдова. На нас глядит одухотворенное,
юношески привлекательное и мужественное лицо. И вспоминаются строки его
современника: «Он был довольно высокого роста, строен телом, хорош лицом... Предприимчив, решителен и смел». Хвостову тогда едва пошел тридцать четвертый год... А
Давыдов был пятью годами моложе, ему было двадцать девять...
Заметным шагом в развитии русской документальной маринистики стали книги
Василия Михайловича Головнина. Его «Записки о приключениях в плену у японцев» и
«Путешествие вокруг света на шлюпе «Камчатка» широко известны. Они послужили
также основой для создания ряда художественных произведений об этих плаваниях.
На долю русского мореплавателя В. М. Головнина выпало столько опасных и
увлекательных приключений, что это может показаться неправдоподобным. Головнин
участвовал в морских сражениях, дважды был в кругосветных плаваниях, почти три года
провел в плену у японцев и всегда, при всех обстоятельствах сохранял присутствие духа,
мужество и верность Родине. С юных лет вел он «записную книжку», в которой
фиксировал все сколь-нибудь значительные события своей жизни, а будучи на корабле, в
любых обстоятельствах вел журнал. Своей привычке он не изменил и в японском плену,
где, казалось, положение было безвыходным. Ему не дали ни бумаги, ни карандаша.
Оставалось «завязать узелок на память». И Головнин так и сделал. «За неимением бумаги, чернил или другого, чем бы мог я записывать случавшиеся с нами примечательные
происшествия, вздумал я вести свой журнал узелками на нитках. Для каждого дня с
прибывания нашего в Хакодате завязывал я по узелку. Если в какой день случилось
какое-либо приятное для нас приключение, то ввязывал я белую нитку из манжет, для
горестного же происшествия черную шелковинку из шейного платка; а если случалось
что-нибудь достойное примечания, но такое, которое не опечалить нас не могло, то
ввязывал я зеленую шелковинку из подкладки моего мундира. Таким образом, по
временам перебирая узелки и приводя себе на память означенные ими происшествия, я не
мог позабыть, когда что случилось с нами».
Благодаря этому своему «журналу» Головнин после возвращения на родину написал
свои записки, впервые опубликованные «Сыном отечества». В 1816 году записки вышли
отдельным изданием. Они были переведены почти на все европейские языки. Много раз
издавались в дореволюционное время. В наши дни были изданы сочинения В. М.
Головнина (1949), осуществлен ряд изданий, в том числе в серии «Дальневосточная
историческая библиотека».
Литературная одаренность Головнина была замечена уже современниками. В
журнале «Сын отечества», где появились эти записки, было написано: «Капитанлейтенант Головнин известный продолжительными страданиями в японском плену,
сделал путешествие вокруг света и путевыми своими записками украсил «Сына отечества». В 1820 году в февральской книге «Невского зрителя» Кюхельбекер писал, что
между прозаическими статьями первых пяти книжек «Сына отечества» первое место
занимает «Путешествие вокруг света» Головнина. «Когда мы услышали, что в «Сыне
отечества» будут появляться время от времени описания пера г-на Головнина, мы
обрадовались и приготовились читать статьи занимательные, написанные без всех пустых
украшений, восторгов и восклицаний, — мы не ошиблись». Будучи в ссылке,
Кюхельбекер еще раз добрым словом вспомнит «Записки» Головнина в своем дневнике.
Приветствуя выход «Путешествия» отдельным изданием,
А.
Бестужев-Марлинский в своей статье «Взгляд на русскую словесность в
течение 1823 года» спешит обрадовать читателей сообщением о книге Головнина и поэме
Пушкина «Бахчисарайский фонтан». О путешествии Головнина, в частности, говорится:
«Первая часть оного посвящена рассказу и описаниям истинно романтическим; слог оных
проникнут занимательностью, дышит искренностью, цветет простотою. Это находка для
моряков и для людей светских». Л. Толстой прочитает записки в 1853 году «с
удовольствием» и введет их в круг детского чтения.
Литературную одаренность Головнина выявила уже первая его книга о первом
путешествии (до этого он издал сугубо специальную работу о военных морских
сигналах). «Записки» — так обозначен жанр этой книги. Не дневники, не путевой журнал
(они не велись в подлинном смысле), а именно записки, воспоминания о пережитом. Сам
Головнин не без основания называл эти записки «повествованием». С изумительной
полнотой, со множеством точных деталей, неторопливо и обстоятельно воссоздает
Головнин картину вероломного захвата русских моряков в плен, их бесправного
положения, постоянных допросов, надежд на вызволение из плена. Где, казалось, как не в
этих записках, может проявиться авантюрное начало, стремление захватить читателя
самыми неожиданными «истинно романтическими» (Бестужев) поворотами, тем более
что жизнь давала материал для такого подхода к изложению событий: тут были и угроза
смерти, и побег, и отступничество слабых, и готовность оставшихся на корабле
предпринять все усилия, вплоть до штурма, чтобы спасти пленников. «Мы часто говорили
между собой, — вспоминал в «Записках» Головнин,— что и писатель романов едва ли
мог бы прибрать и соединить столько несчастных для своих лиц приключений, сколько в
самом деле над нами совершается». Он иронизирует: для того чтобы «приключения были
бы совершенно уже романические», недостает только, чтобы один из пленников
вскружил голову «какой-нибудь знатной японке, чтобы посредством ее помощи уйти нам
из Японии и ее склонить бежать с собой». Но раз этого не было в жизни — нет такого
домысла и в «Записках».
В книге дана яркая картина жизни моряков. Из чего состоит эта картина? Какие
составные части ее организуют? Почему мы можем говорить об очерковой организации
материала, о художественно-публицистическом воссоздании событий?
Характерно одно замечание, которое содержится в «Предуведомлении». Говоря о
краткости своих описаний Японии, Головнин пишет: «Если б, по примеру некоторых
издателей путешествий, я имел желание увеличить сию книгу для моих выгод, то,
конечно, мог бы под названием предисловия, введения, вступления и проч. и проч.
наполнить добрый том выписками из других книг, в коих писано о Японии и которые
известны всем просвещенным читателям, но я хочу описывать только то, что со мною
случилось, что я сам испытал и видел собственными глазами».
Описывать только виденное, испытанное — это не только декларируется автором, но
подтверждается каждой страницей. Живость, доподлинность сразу была замечена
критикой. «Головнин описал свое пребывание в плену японском так искренно, так
естественно, — замечал А. А. Бестужев,— что ему нельзя не верить. Прямой, неровный
слог его — отличительная черта мореходцев — имеет большое достоинство и в своем
кругу занимает первое место после слога Пл. Гамалеи, который самые сухие науки
оживляет своим красноречием». Здесь говорится о важной особенности стиля и слога
Головнина: об умении сочетать документальное научное содержание с живостью
изложения, с тем, что Горький называл «изобразительной силой». Черта, которая разовьется в русском документальном очерке.
С первых страниц и до последних читатель как бы «погружен» в это путешествие:
видит зримо, что делают, как ведут себя, о чем думают и что переживают герои
документального повествования. Да, мы вправе говорить о героях повествования, ибо
здесь они предстают как живые люди, со своими чертами характеров. Прежде всего, это
сам рассказчик (вполне правомерно говорить об образе рассказчика). Это волевой
человек, закаленный моряк, искушенный во многих жизненных превратностях,
способный сохранить силу духа, хладнокровие в суровых испытаниях. Жестокие
измывательства не отвращают его от японцев, он видит, что среди них есть добрые люди,
особенно среди солдат, которые стремятся облегчить участь русских моряков. От автора
не ускользнуло то, что чаще «столько доброты сердца» проявляют простые люди, «по
наружности долженствовавшие быть из последнего класса в обществе».
«Самый величайший пример человеколюбия и добродетели» нашли русские моряки
в одном солдате, который своими поступками трогал их до слез. Скупыми штрихами
автор рисует портрет этого солдата, сообщив, что имя «сего достойного человека Кана».
Выше всего для русского моряка — честь и верность Родине. Не только в действиях,
но и в размышлениях об отечестве выражается пафос личности центрального героя, как,
впрочем, и пафос всего повествования. Повесть полна драматизма, и этот драматизм не
надуманный: вероломный захват в плен, тюрьма, побег, десятидневное скитание по горам
и лесам, новое заточение в тюрьму... «Мысль о вечном заключении и о том, что мы уже
никогда не увидим своего отечества, приводила нас в отчаяние, и я в тысячу крат
предпочитал смерть тогдашнему нашему состоянию». Именно в плену узнают моряки о
том, что русские оставили Москву, именно в плену к ним доходит весть о наступлении
Кутузова. Идея чести связана и с рассказом о героическом поступке матроса Макарова,
который не оставил капитана Головнина в беде, тащил его на себе, а в минуту опасности,
преодолевая утес, спас его от гибели. Идея чести связана и с рассказом об отступничестве
мичмана Мура. В плену, не выдержав морального давления, он отказался от побега,
пошел против своих товарищей. Исследуя это падение, автор поясняет, что такое внимание к подобным поступкам объясняется нравственной задачей его повествования.
«Прошу читателя быть уверенным, что повествую об них здесь отнюдь не с тем, дабы
выставить перед ним состояние, в котором я и несчастные мои товарищи несколько
времени находились, в полном ужасе, но чтобы примером сим споспешествовать, хотя
несколько, к отвлечению молодых людей от подобных заблуждений, буде судьбе угодно
будет кого из них ввергнуть в такое же несчастье, какое мы испытали, и показать им
страшным опытом, что из всех возможных пороков ни один так тяжело не лежит на
сердце, как отречение от своего отечества или даже самое покушение на оное, коль скоро
человек обратится опять на правую стезю и будет размышлять беспристрастно о своих
поступках. А особливо, если то был человек, имевший совесть и добрые чувства...».
Среди других лиц, которые раскрыты в действиях, — это и офицер Рикорд, и
матросы Шкаев, Симонов, Макаров, и японские чиновники. Через все повествование
проходит фигура курильского переводчика, представителя племени айнов, которого
зовут Алексеем Максимовичем. В его облике автор выделяет откровенность, доброту,
отзывчивость, честность. Это одно из первых изображений в русской документальной
литературе представителей малых племен Дальнего Востока — представителя племени
айнов. Надо отметить, что вся фигура Алексея согрета в книге авторской симпатией,
чувством уважения, гуманизмом.
«Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе «Камчатка», в отличие
от «Записок»,— путевой дневник, и его уже не назовешь повествованием. Так Головнин
пролагал пути в поисках жанровых особенностей морской документальной литературы и
впервые подступил к жанру документальной повести, или повествования. И не случайно
уже современники видели в его «повествовании» черты «романического» произведения.
Свой нравственный долг перед читателем выполнил и капитан П. И. Рикорд,
который после захвата Головнина японцами принял на себя командование шлюпом,
энергично содействовал его освобождению. «Записки флота капитана Рикорда о плавании
его к японским берегам в 1812 и 1813 годах и сношениях с японцами» были изданы в том
же 1816 году, что и книга Головнина. Сам автор рассматривал свои записки как «дополнение к записям капитана Головнина». И не случайно в серии «Дальневосточной
исторической библиотеки» «Записки» Рикорда публикуются как приложение к книге В.
М. Головнина. Записки строятся по типу повествования, где в центре история
происшествия с Головниным, рассказ о действиях и переживаниях моряков, оставшихся
на шлюпе. Два повествования, две своеобразные повести, Головнина и Рикорда,
проникнуты мыслью о необходимости добрососедских отношений России и Японии,
надеждой, что «с рассеянием закоренелых со стороны Японского государства
предубеждений» две державы «начнут время от времени более сближаться», стремясь «к
дружественным связям, на взаимных пользах и выгодах...». Перспективно мыслили
русские мореплаватели!
В 20-е годы литература путешествий продолжает развиваться. Именно эта
литература поспешала за самой действительностью, создавалась она самими землепроходцами и мореходами. Широкое распространение в России в 20-х годах XIX века
жанра записок критика объясняет прежде всего усилением интереса к «экзотическим»,
мало известным тогда морским государствам, к освободительному движению в этих
странах и т. д. «В то же время распространение жанра путешествий в далекие страны
было связано с развитием русского романтизма». Дело, конечно, не только в интересе к
экзотическим странам, дело и в особой значимости самих путешествий, которые
требовали мужества и отваги. Движение от романтизма к реализму тоже не умаляло
интереса к этому жанру, именно в реалистических произведениях Гончарова и
Станюковича жанр этот достигает литературного расцвета. Но и путевые записки самих
мореходов вносили новое в развитие этого жанра.
В последнее время привлек к себе внимание «как литературное произведение»
«Журнал кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» под командованием капитана
Головнина». Автором этого журнала был Ф. Ф. Матюшкин. Да, тот самый, который был
лицейским другом Пушкина, о котором поэт писал в знаменитом стихотворении «19
октября». Именно ему перед отплытием Пушкин «изъяснял... настоящую манеру записок,
предостерегая от излишнего разбора впечатлений и советуя только не забывать всех
подробностей жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерных
особенностей природы». Путевой дневник использует форму письма (матери, друзьям),
очерковых описаний, несомненно, сказалось и знание записок русских мореплавателей,
традиции которых Матюшкин продолжал. Так, в последние годы пребывания в лицее он
мог прочитать в журнале «Сын отечества» «Извлечение из журнала путешествующего
кругом света российского лейтенанта Лазарева» (1815), «Перечень писем путешествующего на корабле «Рюрик» лейтенанта Коцебу от Тенерифа до Бразилии»
(1816).
Сам Матюшкин проделал путь от Кронштадта до Камчатки, побывав в Англии,
Южной Америке, в Русской Америке, на островах Тихого океана.
Журнал Ф. Ф. Матюшкина в наши дни частично опубликован и рассмотрен в
работах Ю. В. Давыдова и Л. А. Шура (хранится он в Ленинграде, в Пушкинском доме).
В критике говорилось, что для записок русских мореплавателей характерна одна
черта: русские моряки обычно отмечали контраст между природой Америки и других
экзотических стран и нищетой и униженностью местных жителей, особенно негров.
Такие страницы найдем мы в книге В. М. Головнина «Путешествие на шлюпе
«Камчатка»...», где, наряду с острым обличением колонизаторов, находим и страницы,
сочувственно описывающие национально-освободительное движение. Но все-таки особо
остро писал об этом Матюшкин. Видимо, навсегда в его душе остались убеждения,
воспитанные в среде будущих декабристов, в общении с вольнолюбивым Пушкиным, на
лекциях лицейского учителя Куницына, при чтении Радищева. В своем «Журнале» он
пишет: «Необходимо бы надобно было исчислить, токмо не новейшим политикам,
которые думают о золоте и силе, но другу человечества, весь вред и малую пользу,
который принесла торговля неграми как для Африки, так и для Европы». Матюшкин
осуждает американских колонизаторов, у которых отсутствуют, по его словам, «малейшие чувства милосердия и человечества, потому что там, где есть рабы, там должны быть
тираны». И он, следуя свободолюбивой радищевской традиции, последователен в своем
выводе: «Мало изгнать из своей земли рабство, чтоб доставить подданным счастье,
безопасность, богатство, но надобно изгнать его из колоний — для блага всего
человечества...».
Нет сомнения, что когда писались такие строки, Ф. Матюшкин думал и о судьбе
русского крепостного крестьянина, о самовластии русского царизма. И такое прямое
обличение тирании и рабства было одновременно выражением неприятия, отрицания
царизма, тиранства на русской земле. «Где есть рабы, там должны быть тираны». И
потому «изгнать из своей земли рабство», «изгнать его из колоний» — вот высокая
человеческая мысль, владевшая сердцем прогрессивно настроенного мореплавателя Ф.
Матюшкина.
Своеобразное повествование в письмах создает в 50-х годах XIX столетия Воин
Андреевич Римский-Корсаков. Читателям хорошо известна очерковая книга И. А. Гончарова «Фрегат «Паллада». Как известно, свое плавание на Дальний Восток «Паллада»
осуществила вместе со шхуной «Восток». Командиром эт1зй шхуны был молодой
русский морской офицер Воин Римский-Корсаков, старший брат великого русского
композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова.
По пути следования Воин Андреевич писал своим родителям, друзьям письма,
выстраивая их в своего рода повествование о плавании. Как известно, форма писем была
использована и Гончаровым, с которым Воин Андреевич познакомился незадолго до
похода. Некоторые из этих писем были в свое время опубликованы в «Морском
сборнике». Это касается писем П. Н. Головину. Другие же письма оставались в семейном
архиве. Несомненно, будь они опубликованы тогда в сборнике или отдельной книгой,
документальная маринистика обогатилась бы интересным и своеобразным
произведением. К сожалению, такого не произошло. Не все ладно сложилось и с
дневниками В. А. Римского-Корсакова. «У дневников В. А. Римского-Корсакова странная
судьба, — пишет известный историк Б. П. Полевой. — Хотя Федор Воинович, сын
мореплавателя, опубликовал основную их часть (от берегов Японии до плавания на
Камчатку осенью 1854 года), они почему-то оказались забытыми».
В 1980 году Хабаровское книжное издательство в серии «Дальневосточная
историческая библиотека» выпустило книгу В. А. Римского-Корсакова «Балтика —
Амур». Повествование в письмах о плаваниях, приключениях и размышлениях командира
шхуны «Восток». В книгу вошли письма, очерки и фрагменты из дневников РимскогоКорсакова. Дан очерк о жизни замечательного мореплавателя (автор — кандидат
исторических наук Л. М. Демин), книга содержит обстоятельный научный аппарат
(подготовка текста писем к изданию, предисловие, послесловие и примечания кандидата
исторических наук Б. П. Полевого). Прекрасное это издание явилось подлинным
открытием Воина Римского-Корсакова как замечательного документалиста и
талантливого литератора- мариниста. Еще в 1922 году племянник Воина Андреевича, сын
младшего брата — композитора, обратив внимание на письма своего дяди, писал: «Когданибудь письма его дождутся опубликования, я в этом не сомневаюсь, — так ценны они
как памятник умственной и духовной жизни своего времени».
Письма открывают читателю многие грани облика русского мореплавателя, и не
только грани общественно значимые, но и интимные, глубоко личные. Общественно
значимые грани — это прежде всего страницы о плавании, о героях дальневосточной
эпопеи, об их заботах, волнениях, человеческих качествах. Читатель найдет в письмах
немало интересных, ярких сведений о Муравьеве, Путятине, Невельском, Завойко,
Гончарове и др. В письмах немало советов Нику, будущему композитору, и советы эти
приобретают большой педагогический вес, когда рассматриваешь их в системе. Это
страницы своеобразной семейной педагогики, значение которой нельзя недооценивать.
«Брату Нике пришлю особое письмо», — пишет Воин Римский-Корсаков уже в начале
плавания. В письмах родителям — и забота о младшем брате (деньги для учения и т. д.), и
советы, как лучше сформировать его характер. Старший брат видел Нику в будущем
морским офицером. «Всего же более интересует меня сообщение о Нике. Ему уже 11 лет.
В этом возрасте я уже перешел в Морской корпус...». И вновь: «Ему же 12-й год, и,
надеюсь, характер его достаточно сформировался для того, чтобы выдержать без вреда
искус новичка в корпусе». Не избаловать, научить не только грамоте, но и чести,
трудолюбию, умению служить делу, а не лицам, дать твердое нравственное основание —
вот о чем пишет Воин Андреевич, нигде не становясь назидательным. А сколько значили
для впечатлительного Ники описания морей! Как известно, Ника закончил Морской
корпус, затем участвовал в плавании на клипере «Алмаз», побывал в Европе, Северной и
Южной Америке. Так рождался великий русский композитор, в творчестве которого
самобытно зазвучали мотивы моря, «водяного царства», народной мечты. (Например,
вступление «Океан-море синее» к опере «Садко»).
Читатель увидит, как небезразличен автору мир художественной литературы, как он
много читает, как внимателен к тем достопримечательностям, которые встречает на
чужих берегах. Подобно Матюшкину, Гончарову, Станюковичу, многим другим русским
маринистам, автор резко критикует колонизаторов, особенно английских, отмечая в них
«ненасытную жажду приобретения». Глубоко возмущает автора обращение
колонизаторов с китайцами в их же собственном доме. «Кто обожает справедливость, тот,
конечно, не обвинит китайцев, потому что надо видеть, как с ними обращаются эти западные либералы, которые так кричат о свободе и правах человечества, чтобы понять, как
должна в них кипеть злоба, и только разве торговый интерес может их удерживать от
того, чтоб совсем не прекратить сношений с европейцами». Приведя примеры такого
жестокого античеловечного обращения с китайцами западных любителей слов о «правах
человечества», В. Римский-Корсаков добавляет: «Видно, что у них и тени нет помысла,
что китаец тоже человек». Желая, чтобы «китайцы отплатили хорошенько англичанам»,
автор пишет: «Эти разбойники в настоящее время оставили Кантон и держат только реку
в блокаде, но не прежде сделали это, как выжгли все предместье». Антиколониальный
пафос этих строк ясен.
И снова, и снова Воин Андреевич возвращается на родную почву, в родную Русь.
Здесь и дума о доме, и озабоченность делами на Амуре («Непонятно даже,— восклицает
он, — как мы так долго оставляли без внимания такой золотой край»), И гордость тем,
что ему довелось первым побывать во многих местах. И снова, и снова дума: «Чем-то
наша Русь ознаменует себя в летописи человечества?!»
Приоткрывает автор и такие душевные грани, «романтические страницы», которые
раскрываются лишь в повествовании исповедального характера: он пишет о своей первой
любви, об идеальном чувстве к жене Невельского, о преодолении этого чувства. И в этом
своем чувстве автор остается натурой искренней и глубоко благородной. «Я понял через
нее, что человеку ненатурально прожить весь век, не ощущая потребности в сердечной
привязанности... и что собственное счастье человека заключается в семье, а не в
обществе», — пишет Воин Римский-Корсаков. Конечно, эти исповедальные страницы
могли появиться лишь в повествовании, автор которого стремился передать не только
внешние события, но и события душевной жизни.
Римский-Корсаков, несомненно, видел свои письма единым повествованием, о чем
он не раз оговаривался: «Десятый лист дописываю: книга, а не письмо!» И теперь эти
письма под одной обложкой стали книгой, которая обогатила русскую документальную
маринистику.
Есть свои особенности в обрисовке героизма в очерковой, документальной и
мемуарной литературе. Героическое начало пронизывает путевые записки Л. Загоскина,
Н. Бошняка, мемуары Г. И. Невельского и др. Для них, как и для Лисянского, Головнина,
Давыдова, характерно стремление видеть героическое в будничном и подавать его без
внешнего эффекта, как самое обычное дело. Подчас возможно и не заметить его. Никакой
высокопарности, никакого самолюбования. Но при этом сознание своей силы,
недюжинности труда, вырастающего до подвига. Таким чеканился русский национальный
характер. Без ложной скромности, верно и точно Невельской назовет книгу воспоминаний
«Подвиги русских морских офицеров...». Огромное внутреннее горение души скрыто,
казалось бы, за самым будничным зачином многих повествований. Совершенно обычно
начинается «Двукратное путешествие в Америку» Давыдова. Лишен внешнего эффекта и
зачин повествования Л. Загоскина в путевых «Заметках жителя того света» (1840).
Заметим, накануне Нового года, 30 декабря 1838 года в два часа пополудни, он выехал из
Петербурга на Камчатку. «Метель приветствовала мой въезд в Новгород. В Крестцах у
станционного смотрителя соловей поздравил с Новым годом; римлянин счел бы это
хорошим предзнаменованием, но меня соловей остановил, усыпил, и только на рассвете
самовар своим змеиным шипением разбудил к дальней дороге...» Годы многотрудного
путешествия по Аляске и его итог — замечательная «Пешеходная опись русских
владений в Америке».
Путешественник должен быть готов ко всякой неожиданности. Он, по мысли
Загоскина, должен быть человеком волевым, смелым, предприимчивым и вместе с тем
предусмотрительным, знающим. Еще Ломоносов наставлял, что должен знать и уметь
мореход. На это обращает внимание и Загоскин. «Воля, страсть к путешествиям,
твердость характера при обзоре стран неизвестных, — подчеркивает Загоскин, — еще не
все значит для успеха. Потребна опытность. Какая польза для нации, если б нам довелось
пролежать где-нибудь несколько суток под снегом, съесть своих собак, подошвы и прочее
без успеха в главном деле, то есть обзора или описи определенного пункта. Такие случаи,
как бы они ни выражали героизм путешественника, право, довольно обыкновенны
между туземными охотниками всех стран и всего чаще проистекают если не по
оплошности, то, наверное, от неосмотрительности». Героизм Загоскин связывает с
обязательным выполнением своих исследовательских задач: это голос не просто
путешественника, это голос исследователя, голос ученого.
Нередко путевые очерки пронизывает пафос трагизма. Случалось, люди были не в
силах бороться с обстоятельствами, обстоятельства оказывались сильнее их. И зачастую
виной тому не стихия, не природные трудности, а равнодушие царских властей — и на
местах, и в чиновничьем Петербурге. Таким трагизмом пронизаны записки лейтенанта Н.
Бошняка. Он поведал историю зимовки в только что открытой Императорской гавани.
Здесь, на пустынном берегу, вместо предполагавшихся 10 собралось 90 человек.
Припасов было заготовлено мало. Показались признаки цинги. «Тогда я, — пишет
Бошняк, — еще не имел понятия об этой убийственной болезни». Цинга начала косить
людей. За неимением дичи стреляли ворон. «К весне из девяноста человек недосчитались
двадцати», — пишет Бошняк. И стремится доискаться до причин трагедии. Да, виноват
майор Буссе, не позаботившийся о людях. Но не менее виноваты и те, кто там, в сановном
Петербурге, равнодушно взирал на героические усилия горстки русских морских
офицеров и матросов. Из самой души, как стон, раздается проклятие равнодушию
сановных чиновников, думающих только о личном преуспеянии. «Кому случалось видеть
честного русского солдата, тот поймет, если я скажу: безбожно и грешно жертвовать их
жизнью для личных видов! Но видеть эти святые кончины и не иметь средств протянуть
руку несчастному, невольному и бедному страдальцу вдвое ужаснее, — я это испытал на
самом себе. С тех пор во мне еще более развилось презрение к людям, если они на
подчиненных смотрят как на машину для получения крестов, чинов и прочих благ мира
сего!»
С особым уважением и восхищением пишут русские мореходы о героизме и
верности русских женщин. Традиция в нашей литературе давняя. Вспомним образ
Ярославны из «Слова о полку Игореве». Или молодую жену князя Евпраксию из
«Повести о приходе Батыя на Рязань», Марковну из «Жития протопопа Аввакума».
Жизнь давала новые факты самоотверженности, силы любви и стойкости русской
женщины. Вслед за своими мужьями уйдут в сибирскую ссылку жены декабристов, и это
отзовется в поэме Некрасова «Русские женщины». Подвижническую судьбу Шелихова,
Невельского, Орлова, Петрова, Завойко и других разделят их жены. И, естественно, мимо
этого не могли пройти авторы записок. Эмоционально убедительны строки Бошняка о
жене Невельского. Она жила в Петровском зимовье. Чтобы добраться сюда, надо
проехать 1200 верст от Якутска до Охотска верхом. По топям, по лесам, по сопкам.
Невельская, «подкрепляемая... убеждением, что женщина должна разделять труды своего
мужа, когда того требует долг», в двадцать дней проделала этот путь. А потом плавание
на барке «Шелихов». Бошняк приводит факт изумительной выдержки жены Невельского.
Когда барк стал тонуть, никто не мог уговорить Невельскую первой съехать на берег.
«Командиры и офицеры съезжают последними, — говорила она, — и я съеду с барка
тогда, когда ни одной женщины и ребенка не останется на судне». Так она и поступила.
«О геройском самоотвержении» и «необыкновенном присутствии духа и стойком
хладнокровии» своей жены с чувством внутренней гордости писал и Невельской.
Подчеркивая, что «тогдашняя жизнь на Амуре не была жизнью дюжинной,
обыкновенною», «была исполнена не только для мужчин, но и для женщин тяжелых
трудов и лишений, была службою для достижения высоких общественных целей»,
Бошняк пишет о чудесной отзывчивости Невельской, о ее терпеливости: «Мы никогда не
слыхали от нее ни одной жалобы или упрека». Пишет о спокойном и гордом сознании
того горького, но высокого долга, который выпал на ее долю. В семействе Невельских его
сподвижники находили «приют, внимание, ласку и образованную беседу». Эта чуткость
распространялась и на нанайцев, которые тянулись к Екатерине Ивановне душой.
Называя среди первых русских женщин и Орлову, Бошняк пишет «о чести подвига,
украшающего немногих женщин». И справедливо заключает: они должны занять место в
истории Амурской экспедиции. Этот рассказ впоследствии вспомнит Чехов в очерке
«Остров Сахалин».
Воин Римский-Корсаков в своих письмах-записках, опубликованных в книге
«Балтика — Амур», высветил душевные качества Катерины Ивановны Невельской, рассказал о домашних спектаклях по «Ревизору» и «Женитьбе» Гоголя, о своем чувстве
платонической любви к этой «грациозной» женщине. Катерина Ивановна, по словам
Воина Римского-Корсакова, сыграла в его жизни «хотя и воображаемую, но поэтическую
и даже благотворную» роль. По его словам, надобно иметь сильную любовь к мужу,
чтобы с хорошим воспитанием, привыкнув к обществу и развлечениям, не скучать и не
унывать в такой унылой, безжизненной местности. И неудивительно то внимание,
которое будет отдано женским образам в ряде исторических романов, в частности образу
Катерины Ивановны в романе Н. Задорнова «Капитан Невельской».
Мужественный, стойкий характер русского человека проявился при защите
Петропавловска-на-Камчатке в 1854 году. В разгар Крымской войны (1853 — 1856) англо-французские захватчики решили овладеть далеким русским городом на Камчатке.
Они начали штурм города, высадили десант. Но агрессоры натолкнулись на
непреодолимую крепость обороны и вынуждены были убраться с позором. Известный
советский историк, академик Е. В. Тарле называл Петропавловскую победу 1854 года
«лучом света», который вдруг прорвался «сквозь мрачные тучи». Эта славная страница
отечественной истории запечатлена во многих воспоминаниях и документах. Ценным
явился сборник «Героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 г.», изданный
к 125-летию этих событий. Здесь дан официальный рапорт руководителя обороны
адмирала В. С. Завойко. Публикуются письма защитников города — прославленного командира фрегата «Аврора» Ивана Николаевича Изыльметьева, мичмана Николая Фесуна,
лейтенанта Константина Пилкина, гардемарина Гавриила Токарева и др. Колорит эпохи и
дух стойкости защитников города доносят также воспоминания командира батареи
Дмитрия Максутова, капитана первого ранга А. П. Арбузова, жены адмирала Завойко —
Юлии Завойко. Кстати, надо отметить, что небольшая книжка Ю. Завойко «Воспоминания о Камчатке и Амуре» (1854 — 1855), вышедшая в Москве в 1876 году,—
своеобразный документ эпохи.
Мужество защитников Петропавловска вдохновляло всех дальневосточников. И не
случайно в приказе Муравьева-Амурского, вышедшем в дни, когда на западе
продолжалась Крымская война, говорилось: «Войска, на устье Амура сосредоточенные,
нигде от неприятеля не отступают, в плен не сдаются, а побеждают на местах или
умирают, памятуя князя Святослава Великого: тут ляжем костьми, мертвии бо сраму не
имуть, — герои Петропавловского порта покажут нам пример самоотвержения, русской
силы...»
О чертах характера русского человека, так или иначе сказавшихся, обозначенных,
выявленных в воспоминаниях знаменитых мореплавателей и землепроходцев, в эти же
годы с глубокой проникновенностью пишет Л. Толстой в севастопольских очерках. Ведь
те, кто сражался на твердынях Севастополя, были современниками Невельского, Завойко,
многих других славных русских мореходов и землепроходцев, у всех у них жило одно
огромное чувство, вдохновившее на подлинный героизм. Об этом чувстве писал Толстой,
исследуя корни героизма, редкостного самообладания в смертельной битве. «Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности,
тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство,
более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами,
при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в
этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия,
из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая
побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в
русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине)... Надолго оставит в
России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...»
Как много дают эти толстовские слова о «высокой побудительной причине», как
много они открывают в душах героев не только Севастополя, но и Дальнего Востока!
Нельзя не заметить единого чувства у защитников Севастополя, Петропавловска и
пионеров освоения дальневосточных окраин России.
Высокая побудительная причина... Об этом задумывались и многие авторы путевых
записок. «Спросим теперь, после этого очерка, многие ли бы мужчины согласились на
подобную жизнь? Конечно, немногие», — пишет Н. Бошняк, рассказав о тяготах жизни
первооткрывателей. Тут можно привести и другие примеры. Но дело не в них. Главное,
что морская документалистика ставит проблему высокой гражданственности, служения
России.
«Высокая побудительная причина...» — так говорит Л. Толстой. А память невольно
подсказывает схожие по чувству своему слова из книги Невельского: «Тут нужны были
люди... одушевленные и гражданским мужеством, и отвагой, готовые на все жертвы для
блага своего отечества». Эти высокие побудительные причины с блестящей страстью
выражены в мемуарной книге Г. И. Невельского «Подвиги русских морских офицеров на
крайнем Востоке России. 1849 —1855». Книга эта, впервые увидевшая свет в 1878 году,
выдержала пять изданий. Лучшее из них (научно выверенное, прокомментированное) —
издание в серии «Дальневосточной исторической библиотеки» (Хабаровск, 1969).
Книгу о подвигах русских офицеров адмирал Невельской писал на склоне лет,
подводя итоги своей жизни и жизни сподвижников, оценивая сделанное ими на Дальнем
Востоке. Эпопею Амура автор называет подвигом. Называет так потому, что эта книга не
только о нем, но и обо всех русских морских офицерах, действовавших на Дальнем
Востоке. И, как мы видим из текста, не только об офицерах, но и матросах, солдатах,
ученых, местных жителях, представителях народностей Амура.
Структура книги Невельского определяется ее главной задачей: рассказать о
подвигах русских морских офицеров на Дальнем Востоке в дни амурской эпопеи;
поведать о делах предшественников русских мореходов и землепроходцев, первыми
открывших тихоокеанские берега и острова; рассказать о личном участии в деле освоения
дальневосточных земель. Невельского прежде всего волнует судьба отечества, его
будущность. Отсюда и сила его страсти, его упорства в борьбе с теми, кому была вовсе не
дорога честь России.
Более обстоятельно, чем другие авторы, Невельской пишет о прошлом. Подробно
останавливается на исторических судьбах Приамурья, на истории русских открытий на
Тихом океане, на взаимоотношениях с соседними странами, на проблемах освоения
Амура. Научная объективность сочетается здесь с высокой патриотичностью. Высоко
оценивает Невельской действия «отважной вольницы русских искателей добычи» первой
половины XVII века (Пояркова, Хабарова и др.). По его мысли, первые землепроходцы
еще не осознавали во всей силе значения Амура как водной артерии, нужной для
торговли и судоходства. Но они были людьми подвига. Отважной вольнице не было
оказано надлежащей поддержки. «Московские приказы... медлят и ограничиваются
одними пустыми переговорами и отписками». Здесь, этим своим выводом, Невельской
подтверждал точку зрения революционных демократов — Н. Г. Чернышевского, Н. А.
Добролюбова. Как известно, Чернышевский и Добролюбов относились критически к
попыткам прославить государственную мудрость царей и их заботливость о Восточной
Сибири. Чернышевский и Добролюбов, критикуя раболепие либерально-дворянских
публицистов, видели в самой истории и подчеркивали решающую роль народа, народного
героизма. Книга главного героя «амурского дела» Невельского через многие годы как бы
возвращала к старому спору и показывала правоту революционных демократов.
Автор трезво, аналитически рассматривает далекие события. Он воздает должное
героизму пионеров освоения края. Он называет их действия «беспримерными
подвигами». Он взывает к сердцу соотечественников помнить эти подвиги:
«беспристрастное потомство должно помнить и с удивлением взирать на геройские
подвиги самоотвержения первых пионеров Приамурского края».
Большая часть книги посвящена действиям русских морских офицеров в 1849—1855
годах. Автор повествует о походе транспорта «Байкал» на Камчатку, об исследовании в
Амурском лимане и Татарском проливе, о знаменитых открытиях (Сахалин — остров,
устье Амура не теряется в песках), о русском флаге над Приамурьем, о десятках
экспедиций по изучению дальневосточных земель, о сплавах по Амуру, о заселении
Амура русскими людьми, о взаимоотношениях с малыми народностями Амура, об
истоках дружбы народной. Эта цепь событий стала исторической. Автор поверяет нам и
другую сторону событий — внутреннюю, скрытую от взгляда. Оказывается, и в новых
условиях, через два столетия, далеко не все понимали значение выхода на естественные
рубежи. С внутренним презрением пишет Невельской о действиях графа Нессельроде и
ему подобных. Классовая ограниченность сочеталась у Нессельроде с прямым
предательством интересов русского государства, с прислужничеством иностранному
капиталу. Чутьем истинного патриота своего отечества угадывает Невельской во врагах
своего дела и врагов родной земли, кому чужды интересы России, ее народа. Он
выдерживает «сильную атаку со стороны графов Чернышова и Нессельроде». Невельской
вводит читателя в ту острейшую нравственную коллизию, которую ему довелось
пережить. Сначала надо было решиться на самостоятельные действия, на принятие
самостоятельных решений. Пока инструкция где-то в пути, надо действовать погосударственному, вне повелений. И Невельской действует. Это-то и послужило
противникам «амурского дела» поводом для зловещих заклинаний и обвинений в
дерзости. Находятся и сторонники, которые помогают остановить «бюрократическую
бурю», одобряя действия капитана Невельского. И тогда, называя поступок Невельского
«молодецким, благородным и патриотическим», царь скажет: «Где раз поднят русский
флаг, он уже спускаться не должен». Это передают Невельскому Муравьев-Амурский и
Перовский. Достигнута главная цель — Невельскому удается «фактически объяснить
правительству значение для России этого края», утвердить открытие русских
землепроходцев и мореходов. Жизнь дает поистине романический разворот событий, в
которых проверяется прочность характера героя. Но сколько еще раз и впредь судьба
Невельского, его открытий будет вызывать «бюрократические бури», да и финал его
деятельности на Дальнем Востоке будет омрачен неблагодарностью власть имущих.
Невельской по праву гордится гуманизмом русских землепроходцевпервооткрывателей и тех, кто продолжил их традиции, вернувшись на исконные земли,
найдя язык дружбы с местными племенами. «После двух веков начали раздаваться наши
выстрелы на берегах Амура, но эти выстрелы раздавались не для пролития крови и не для
порабощения и грабежей местного населения,— нет, выстрелы 1850 года раздавались для
приветствия русского знамени!» Вековая дружба русского народа и малых народов
Приамурья, стремление нашего народа к добрососедству с другими странами — эта тема
находит отображение в русской маринистике, а в наши дни — в историческом романе
(«Капитан Невельской» Н. Задорнова, «Амурские версты» Н. Наволочкина, «Русские
тропы» А. Максимова и др.).
Вот оно, подтверждение толстовской мысли о чувстве родины как высоком
побудительном начале. Невельскому удалось доказать, что утверждения о
несудоходности Амура ложны, что Сахалин — остров. «Великое заблуждение
положительно рассеяно. Истина обнаружилась!» — восклицает автор. Открытия доказали
важное значение Амура как артерии, связывающей с океаном Восточную Сибирь,
считавшуюся до этого отрезанной тундрами, горами и окромными пространствами. Этото и не устраивало противников Невельского. Что же помогло устоять в борьбе,
выдержать лишения на далеком посту, доказать правоту? Автор отдает должное патриотической преданности и рвению к этому делу Муравьева, поддержавшего его действия. И
вновь говорит о высоких побудительных причинах, вдохновляющих русских
землепроходцев. Признание его поступка благородным и патриотическим, «полное наше
убеждение в важном значении этого края для блага отечества — одушевляли меня и моих
сотрудников», — пишет Невельской.
В книге Невельского рассказано о героических подвигах Чихачева, Бошняка,
Орлова, Рудановского и др. Автор характеризует деятельность Муравьева-Амурского,
Путятина. Естественно, в мемуарах видное место не может не занимать сам автор. Перед
нами личность человека высокой гражданственной цели, верного сына России.
Еще Н. Г. Чернышевский говорил, что историческое значение каждого великого
русского человека измеряется его заслугами перед родиной, его человеческое достоинство — силою его патриотизма. Слова эти, написанные в 50-е годы XIX века, имеют
прямое отношение и к Невельскому. Заслуги Невельского перед нашей родиной поистине
велики. Характерно, что, рассказывая о себе и о своих сподвижниках, Невельской всегда
обращен к высокой двигательной силе — к имени России. Сила его патриотизма — исток
его героических действий. Вот почему книга стала своеобразной исповедью ученого и
патриота.
Наблюдениям мореходов и
землепроходцев свойственна историческая
достоверность, подлинный документализм. За объективность, достоверность путевые
заметки, как правило, высоко ценятся учеными. Они проникнуты духом гуманизма, это
сказывается особенно в сочувственных описаниях жизни и быта разных племен, критике
хищничества и насилия со стороны колонизаторов.
Русская маринистика стала зеркалом зарубежной жизни. Большое внимание авторы
уделяют изображению нравов, обычаев народов, населяющих острова Тихого океана,
Камчатки, Русской Америки. В книгах находим мы легенды, поверья этих народов, что
говорит об интересе русских путешественников к духовной культуре, истории, фольклору
других народов.
Русская документальная маринистика познакомила читателя с морским пейзажем.
Она нарисовала картины борения человека со стихией, показала героизм мореходов.
Конечно, в большинстве случаев пейзажные картины носят еще иллюстративный
характер, не связаны глубоко с раскрытием психологии героя. Русская документальная
маринистика занимает видное место в развитии жанра русского очерка. Неточным
представляется утверждение в одной из интересных работ, посвященных осмыслению
жанровой природы «путешествий», что «путешествия» землепроходцев (называется
только несколько авторов) «остались в основном сугубо научными», не приблизились к
литературе. За пределами литературоведческого разбора остались «путешествия» многих
русских мореходов и землепроходцев, а потому и выводы оказались столь узкими, по
существу неверными.
«К разряду словесности принадлежат записки или воспоминания былого»,— писал
В. Г. Белинский в литературном обозрении «Взгляд на русскую литературу 1847 года». В
«разряд статей смешанного содержания, но по форме принадлежащих более к отделу
словесности», относил он, в частности, «Странствования португальца Фернанда-Мендеза
Пинто, описанные им самим и изданные в 1614 году». Те же работы путешественников, в
которых преобладало научное содержание, он относил в разряд «ученых статей». В
частности, он называл «любопытной статьей» «Путешествия и открытия лейтенанта
Загоскина в Русской Америке», публиковавшиеся в «Библиотеке для чтения», а затем
вышедшие отдельной книгой под другим заглавием («Пешеходная опись части русских
владений в Америке, произведенная лейтенантом Л. Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах». Спб., 1847 — 1848).
Эти мысли и замечания Белинского не утеряли своего значения и поныне. С полным
правом к разряду словесности относим мы записки Шелихова, Давыдова, Лисянского,
Крузенштерна, Головнина, Бошняка, В. Римского-Корсакова, Невельского и др. Хотя
многое здесь можно отнести к разряду «смешанного содержания». У одних и тех же
авторов есть то, что принадлежит «более к отделу словесности» (например, «Записки
жителя того света» Загоскина), и то, что принадлежит к разряду «ученых статей»
(например, «Пешеходная опись...» Загоскина). Собственно, у одного и того же автора находим «смешанное содержание» — и путевой очерк, и исследовательскую статью, и
деловой журнал. Жанр очерка-путешествия во многом синкретичен, и в этом своем качестве он был интересен для читателя.
Забвение или нежелание считаться с фактом, что перед нами не только научные
сочинения, приводили к печальным вещам. Кое-кому казалось, что можно книгу
путешествий, писанную во времена Карамзина, переделать на свой манер, осовременить
до неузнаваемости. Так, в 1947 году Государственное издательство географической
литературы впервые переиздало книгу Ю. Ф. Лисянского «Путешествие вокруг света».
Впервые книга была издана в 1812 году, и вот вышло второе издание. Во вступительной
статье Н. В. Думитрашко о Лисянском было сказано, что многие места книги его были
написаны «изумительно сочно, ярко и живо». «Они, — подчеркивал Думитрашко,— с
несомненностью показывают, что автор «Путешествия вокруг света на корабле «Нева»
обладал крупным литературным талантом». Нисколько не смущаясь этим, автор
вступительной статьи, он же и редактор книги, взял на себя право «литературной
обработки текста». Попытка сделать текст Лисянского «доступным широкому кругу
читателей, сохранив своеобразие книги», обернулась грубым вмешательством в повествование. Колорит времени, индивидуальность автора — многое нивелировалось.
Естественно, такая «литературная обработка» превращалась в нечто неприемлемое:
критика возразила против уродования текста. «Неоправданной» литературной обработкой
текста назвал это доктор исторических наук А. И. Алексеев, под редакцией которого
вышло третье издание книги Ю. Ф. Лисянского. Это издание печатается по первому
изданию 1812 года (только в исключительных случаях сделаны сокращения). И,
несомненно, это издание будет не менее доступным широкому читателю, во всяком
случае, читатель ощутит в нем подлинность исторического документа, дух эпохи, речевой
колорит знаменитого русского путешественника. По-настоящему бережным должно быть
отношение к литературному памятнику эпохи!
Уместно здесь вспомнить, что в свое время В. Г. Белинский в рецензии на книгу
«Всеобщее путешествие вокруг света, содержащее извлечение из путешествий
известнейших... мореплавателей» (1835) одобрил книгу такого рода. Он назвал
«Путешествие» «книгой народной, для всех доступной...». Такого рода книги, где происходит, по мысли Белинского, сближение науки с жизнью, нужны и в наше время.
Думается, что такую задачу пора бы выполнить нашим издательствам: дать книгу самого
яркого из «путешественных записок» русских мореплавателей для юношеского чтения.
Разумеется, текст каждого автора должен быть дополнен толковым словом о самом
авторе, его сочинениях, а также портретами и рисунками. Но, вероятно, это иная задача.
Сейчас же речь идет о бережном отношении к запискам и воспоминаниям мореходов,
которые Белинский относил к разряду словесности.
Русская документальная маринистика, посвященная дальневосточной теме,—
заметная часть всей нашей отечественной маринистики.
В советской литературе созданы яркие исторические романы о Шелихове,
Невельском и др. Не следует забывать, что в основе каждого из них — живой подлинный
документ, записки самих мореходов. Проблема героического характера в русской
литературе не может быть решена без учета этой документальной литературы.
Документальная маринистика отобразила подвиг русских людей в открытии и освоении
земель на Восточном океане, как называли Тихий океан встарь. Она показала мужество
тех, кто осваивал наши дальневосточные земли, строил здесь «веси и грады». Она стала
уроком высокой гражданственности, любви к отечеству, ради которого шли в море,
навстречу штормам и туманам, навстречу превратностям судьбы тысячи русских
мореходов, верных сынов России.
Свое слово в развитии жанра морского путешествия сказали русские писатели,
выдающиеся мастера критического реализма. Речь идет об И. А. Гончарове и К. М.
Станюковиче. В их творчестве своеобразно отразилась и дальневосточная тема — тема
героического освоения Дальнего Востока русским народом. Об этом надо сказать особо,
потому что здесь документальная маринистика переходила в новое качество: она становилась высокохудожественной, не теряя при этом многих характерных черт, которые
свойственны документальной литературе, в частности, жанру путевого очерка или,
учитывая специфику, жанру морского путешествия.
В чем существо этих качественных изменений в документальной маринистике? Как
отразилась дальневосточная тема — героика освоения Дальнего Востока — в творчестве
писателей-реалистов? Что нового они внесли в нее и какое значение эта тема имела в
творчестве великого русского писателя И. А. Гончарова и классика-мариниста К. М.
Станюковича?
Лекция № 3. «Дальневосточная тема в очерках И.А. Гончарова. Книга
«Фрегат «Паллада»». – 2 часа.
Значительный вклад в развитие жанра морского путешествия внесли с середины
XIX века выдающиеся мастера критического реализма. Речь идет о Гончарове, Григоровиче, Станюковиче. Именно с творчеством этих писателей, особенно Станюковича,
связано движение морской прозы к реализму, утверждение реалистического метода
изображения жизни и быта русских моряков. «Их произведения сыграли свою
положительную роль для выработки художественных приемов изображения пейзажа, —
говорится в книге «Русские писатели-маринисты», — однако основополагающего
значения в развитии морской прозы также не получили». Вряд ли стоит здесь оспаривать
мнение, что произведения этих писателей-реалистов сыграли свою роль отнюдь не только
«для выработки художественных приемов изображения морского пейзажа», но и для
качественного обновления русской маринистики, и прежде всего в ее движении к
реалистическому изображению морской жизни.
Русская маринистика развивалась как бы по двум ветвям, по двум линиям. Одна
ветвь — это «чистая» беллетристика, связанная с романтизацией вымышленных героев,
началом своим имевшая повесть «О российском матросе Василии Кариотском...». Другая
ветвь — это чисто документальная маринистика, начиная с записок мореходов вплоть до
очерковой прозы Гончарова и Станюковича. В этом русле — очерковые произведения
историографа российского флота Н. А. Бестужева («Рассказы и повести старого моряка»,
«Морские сцены», «Крушение российского военного брига «Фальк»), В. Даля
«Матросские досуги». Сюда же относятся «Воспоминания на флоте» Павла Свиньина,
«Записки русского офицера во время путешествия вокруг света» А. Бутакова, «Письма об
Америке» Н. Славинского, «Письма из кругосветного плавания» Н. Никидирова и др.
В противоборстве и взаимообогащении различных стилевых тенденций, прежде
всего романтической и реалистической, в русской маринистике набирала силу ветвь, или
линия, связанная с изображением жизни, быта, психологии моряков. В критике отмечено,
что в зарубежной маринистике, в творчестве Д. Дефо, В. Скотта, В. Гюго, Э. Сю, Ф.
Купера, Ф. Мариетта морская тема давно приобрела форму повествования о жизни и быте
моряков. Русская маринистика не повторяла некоторые характерные особенности
зарубежной маринистики с ее увлеченностью авантюристическим сюжетом,
обязательным образом корсаров, «морских волков» и т. п. персонажей, которые, как
известно, «играли свою роль в утверждении колониальной экспансионистской политики
западных держав. В развитии этой второй линии русской морской прозы проявился
характерный для нашей литературы гуманизм, чистота нравственного идеала.
Вызревание реалистической линии в русской маринистике связано с утверждением
новых методов отображения героического в жизни. Уже в творчестве БестужеваМарлинского были сделаны наметки реалистического изображения моряков. И там, где
он отходил от риторики, появились произведения, отличающиеся правдой жизни. Такова
повесть «Мореход Никитин» (1834) — о мужестве простых русских людей. «В этом
произведении, — писал М. Б. Храпченко,— Марлинскому прекрасно удалось показать
героизм русского человека, побеждающего врагов и бесстрашием своих действий, и
умом, сметкой». Героические мотивы, по его словам, «выразительно выступают и в
повести «Лейтенант Белозор» (1831), изображающей действия русских моряков в период
войны с Наполеоном». В дальнейшем русская проза преодолевает ложную риторику,
движется к правде психологического постижения характеров.
Изображение героического в творчестве Гончарова и Станюковича оказалось тесно
связанным с дальневосточной темой, с героикой освоения Дальнего Востока, Тихого
океана. Во многих работах о творчестве писателей говорится об этом мимоходом. А
между тем знакомство с дальневосточной страницей жизни русского народа, с несколько
необычным специфическим жизненным материалом имело принципиальное значение для
развития творчества Гончарова и Станюковича. В частности, принципиальное значение
имеет проблема героического начала в книге «Фрегат «Паллада» Гончарова. Некоторые
исследователи издавна утверждают, что у Гончарова в его «Фрегате» отсутствует
героический план. Другие робко оспаривают это утверждение, но при этом
дальневосточные страницы «Фрегата» остаются за бортом спора. А проблему эту, на наш
взгляд, нельзя решить в полном объеме без учета дальневосточных страниц, без учета
наблюдений и размышлений автора «Фрегата» о героях освоения Сибири и Дальнего
Востока.
Прежде всего необходимо сказать о тех общественно-политических причинах,
которые в середине 60-х годов XIX века обусловливали глубокий интерес русского общества, точнее наиболее передовых его представителей, к Дальнему Востоку. Это была
эпоха, когда рушились устои крепостничества, складывались буржуазные отношения.
Россия пережила первую революционную ситуацию. В. И. Ленин отмечал, что
«Крестьянские «бунты», возрастая с каждым десятилетием перед освобождением,
заставили первого помещика, Александра II, признать, что лучше освободить сверху, чем
ждать, пока свергнут снизу». Революционные демократы Чернышевский и Добролюбов
указали, что реформа была половинчатой, что выиграли от нее помещики. Они звали
крестьянство на штурм царизма. И крестьяне ответили на обман крепостников бунтами и
волнениями. Гнилость царского самодержавия обнаружилась еще ранее, в Крымской
войне, когда, несмотря на мужество и героизм русских солдат и матросов, соединенные
силы Англии и Франции после длительной осады взяли Севастополь.
В 1858 году между Россией и Китаем был заключен Айгунский договор. В
ознаменование этого события в Иркутске была сооружена арка, на которой было
написано: «26 мая 1858 года», а с другой стороны: «Путь к Восточному океану». Вскоре
был заключен новый договор. «Основой для заключения этих договоров, — пишет А. И.
Алексеев в книге «Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки», —
была взаимная заинтересованность сторон в урегулировании пограничных проблем и
совместном отпоре англо-французской агрессии, географическую же базу для их
заключения заложила Амурская экспедиция 1849 — 1855 гг., действия ее начальника Г.
И. Невельского». Как известно, в период Крымской войны англо-французский флот
пытался овладеть русскими землями Дальнего Востока, взять Петропавловск-наКамчатке, однако нападение было отбито героическими усилиями русских солдат и
матросов. Заключение договоров России с Китаем глубоко знаменатель. «Реванш,
который Россия должна была взять у Франции и Англии за свое военное поражение под
Севастополем, теперь осуществился», — писал Ф. Энгельс в статье «Успехи России на
Дальнем Востоке».
Англия, Франция и США стремились ослабить позиции России на Дальнем Востоке.
Определенные шаги русского правительства были направлены на укрепление дальневосточных границ. В этой связи современный исследователь отмечает некоторые
особенности заселения дальневосточной окраины. «Если переселение крестьян в Сибирь
вызывалось в условиях царизма исключительно невозможностью решения аграрного
вопроса в европейских губерниях России, то переселение на Дальний Восток диктовалось
и соображениями внешнеполитического, стратегического порядка. Кроме того,
переселенец-крестьянин по завершении своего путешествия нередко становился батраком
или пролетарием в городе. И в этом смысле переселение на Дальний Восток выходило за
рамки аграрного движения».
Россия укоренялась, обстраивалась на дальневосточных берегах. И главная роль в
этом принадлежала народу, тысячам и тысячам простых людей, которые шли на новые
земли, строили посты и селения. Свою лепту вносили в это дело передовые общественные
деятели, ученые, мореплаватели. Русская литература необыкновенно близко принимала к
сердцу народные дела, думы и чаяния и не могла пройти мимо этой страницы истории народной, полной страдания и героизма.
Книга И. А. Гончарова «Фрегат «Паллада» была первой ласточкой в ряду книг
русских писателей-реалистов о море, о моряках. «Она стала первым произведением,
которое художественно «открывало» Дальний Восток, определяло одну из новых
перспективных тем русского реализма: тему Востока», — пишет в статье
«Дальневосточная тема в русской литературе конца XIX — начала XX века» В. Г.
Пузырев.
Как известно, Гончаров прошел на фрегате «Паллада» от Балтийского до Охотского
моря, от Кронштадта до Императорской (ныне Советской) гавани. Затем он сухопутным
путем, через Сибирь, возвращается в Петербург. В плавании Гончаров исполнял
обязанности секретаря адмирала Путятина, которому было поручено заключить торговое
соглашение с Японией. К тому времени Япония была отторжена от мировой цивилизации,
говоря словами Гончарова, «бамбуковым занавесом». Россия искала путей сближения и
развития торговли со своим соседом. Гончаров описал весь путь фрегата «Паллада». В
поле зрения автора оказались Англия, Китай, Япония, Филиппины. Заключительная часть
книги — возвращение через Сибирь в Центральную Россию.
Обращаясь в 1855 году к читателям «Отечественных записок», где была начата
публикация книги, Гончаров писал: «Автор не имел ни возможности, ни намерения описывать свое путешествие как записной турист или моряк, еще менее как ученый. Он
просто вел, сколько позволяли ему служебные занятия, дневник и по временам посылал
его в виде писем к приятелям в Россию, а чего не послал, то намеревался прочесть в кругу
их сам, чтобы избежать изустных с их сторон вопросов о том, где он был, что видел,
делал и т. п.».
Итак, Гончаров давал себе отчет в том, что его записки — не записки туриста или
моряка, а тем более не записки ученого. Этим подчеркивалась их определенная жанровая
особенность. Это записки, или «путевые письма» именно писателя, его рассказ о том, где
был, что видел, о чем думал. В этом рассказе слышен прежде всего «голос поэта
эпического», как справедливо было подчеркнуто в предисловии к первому изданию
книги. Там же говорилось, что автор сделал «героем путешествия самого себя» и таким
образом «придал обыкновенным впечатлениям путешественника индивидуальный
характер», что книга приобрела «поэтическое и национальное значение... скромной
одиссеи». Круг наблюдений автора — это то, что «влекло его к себе с особенной силой,
как человека и поэта народного по преимуществу — начиная от природы... и кончая
простым матросом, костромским парнем, перенесенным под тропическое небо». Эти
оценки приводил Добролюбов в своей рецензии на книгу.
К сожалению, эти жанровые особенности не замечала подчас критика. Был период,
когда книга Гончарова рассматривалась как простое описание дальнего плавания,
содержание которого определялось, с одной стороны, культурными интересами автора, а
с другой — объективными данными, так сказать, географического характера. С конца 60х годов XIX века «книга, строго говоря, была забыта. Она перестала ощущаться как
литературное произведение. А между тем она, конечно, представляет собой
замечательное явление именно в области художественной литературы, — писал в 1935
году Б. Энгельгардт,— она занимает свое особое место в истории жанра путешествий, где
очень трудно подыскать к ней аналогию во всей европейской литературе...».
В центре книги — образ повествователя. Фигура эта, как помним, возникла ранее, в
путевых записках Давыдова, Головнина и др. Но там это был просто рассказчик, реальное
лицо, автор, внимание которого преимущественно концентрировалось на наблюдениях и
описаниях достопримечательностей, событий и т. д. У Гончарова рассказчик приобретает
черты литературного героя со своим индивидуальным характером: писатель отнюдь не
эпизодично, а постоянно держит читателя в курсе духовной жизни, внутренних
размышлений, движения мысли, чувств. Открывается личность со своим отношением к
миру. Так жанр путешествия совершил свое восхождение на ступень подлинно
художественного познания действительности — событий и человека.
Характерно, что русская литературная критика к тому времени все чаще
подчеркивала, что жанр путешествий требует не только калейдоскопа фактов, новостей,
открытий, но прежде всего живого человеческого взгляда на все эти подробности, яркой
личности. Так, в «Обзоре русской морской литературы», опубликованном в «Морском
сборнике» в 1854 году, говорилось: «Путешествия всегда и везде составляли любимое
чтение публики... Иные путешественники полагают, что публике нужны только плоды их
наблюдений... а не подробности: где, когда и при каких обстоятельствах что замечено
автором. Но такие отдельные описания, при всей занимательности содержания, лишены
той обаятельной прелести, какую придало бы им присутствие живого лица, и оттого
кажутся сухими, утомительными, безжизненными».
Если бы люди интересовались только плодами, добытыми с древа познания, то они
бы читали только энциклопедии. Литература дает познание человеческой души, и мир
познается через человеческую душу. Через «душу живу», говорил Белинский.
Присутствие живого лица — вот откуда рождается обаятельная прелесть описания.
Кстати, в свое время Белинский, говоря о путевых записках одного из своих
современников, находил достоинство в оригинальности взгляда на вещи. «Главная заслуга автора писем об Испании состоит в том,— писал критик в статье «Взгляд на
русскую литературу 1847 года», — что он на все смотрел собственными глазами, не
увлекаясь готовыми суждениями об Испании, рассеянными в книгах, журналах и газетах;
вы чувствуете из его писем, что он сперва насмотрелся, наслышался, расспросил и
изучил, и потом уже составил свое понятие о стране. Оттого взгляд его на нее нов,
оригинален, и все заверяет читателя в его верности, в том, что он знакомится не с какоюнибудь фантастическою, а с действительно существующею страною. Увлекательное изложение еще более возвышает достоинство писем г. Боткина».
Эти слова, несомненно, читал и Гончаров: ведь в этом обозрении Белинский говорит
и о его романе «Обыкновенная история». Через четыре года Гончаров отправится в свое
путешествие, и кто знает, не эти ли суждения Белинского подскажут ему форму путевых
заметок- писем. Во всяком случае, он вспомнит о них в предисловии к третьему изданию
«Фрегата»: «Утверждают, что присутствие живой личности вносит много жизни в описания путешествий...».
Размышления Белинского как будто прямо относятся к книге Гончарова. Да, главная
заслуга Гончарова в том, что он на все смотрел собственными глазами, и взгляд этот и
оригинален, и объективен. Но это не объективность регистратора, в чем не раз обвиняли
Гончарова и при его жизни, и позже. Надо быть очень внимательным, и тогда откроются
глубинные чувства писателя. Иной раз эти чувства выражены с откровенной публицистичностью, и даже с пафосом, наличие которого у Гончарова не замечают (а то и
отрицают) некоторые исследователи. Большое значение, как видим, Белинский придавал
увлекательности изложения.
Все, о чем бы ни писал Гончаров, дано под знаком одной долго вынашиваемой
мысли писателя. Это раздумье над судьбами России, над путями ее развития, над
судьбами человеческой цивилизации. «Дорогая автору мысль,— замечает исследователь
творчества Гончарова,— выявляется в столкновении двух социальных состояний: покоя
(недеятельности) и движения (деятельности)...» Где бы ни был автор, он то и дело
перебрасывается мыслью на родную почву. Одно из таких видений, которое не дает нигде
покоя, видение русской крепостнической деревни Обломовки, с ее барином, который
живет в себя, в «свое брюхо», с «живой машиной», которая стаскивает с барина сапоги, с
Егоркой, со всем миром «деятельной лени и ленивой деятельности», который будет
впоследствии назван критикой обломовщиной. В письме первом он пишет из Англии:
«Виноват: перед глазами все еще мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица,
обычаи. Увижу новое, чужое и сейчас в уме прикину на свой аршин. Я ведь уже сказал
вам, что искомый результат путешествия — это параллель между чужим и своим».
«Животная, хотя и своеобразная, жизнь» и «развитая жизнь». На их сопоставлении и
противопоставлении вырастают размышления Гончарова, — справедливо подмечает
исследователь. Гончаров видит не только крайности, жизнь «грубую, ленивую и буйную»,
жизнь бездуховную, но и жизнь развитую, «царство жизни духовной». Он видит и то
переходное состояние, когда жизнь дошла «до того рубежа, где начинается царство духа,
и не пошла далее». Эту жизнь развитую он связывает с просвещением, с «просветленным
бытием».
В таком переходном состоянии видится ему Сибирь. Но движение жизни не
остановилось, прогресс хоть и медленно, но продолжается. «Развитая жизнь», «царство
жизни духовной» где-то впереди. «Я теперь живой, заезжий свидетель того химическиисторического процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места...».
Раскроем дальневосточные и сибирские страницы путешествия несколько
обстоятельнее. Подвижническое начало проявилось уже в самом факте путешествия
Гончарова. Артистическая, созерцательная натура художника, по словам самого
Гончарова, требовала покоя, уединения, независимости от сует дня («это впоследствии
называли во мне обломовщиной», — пояснял писатель в мемуарных записках
«Необыкновенная история»), но та же натура требовала живых впечатлений, движения,
умения преодолевать преграды. Сетуя на то, что у него не было средств, чтобы
заниматься только своим делом, что приходилось дробить себя на части, Гончаров писал:
«Чего и мне не приходилось делать! Весь век на службе из-за куска хлеба! даже и
путешествовал «по казенной надобности» вокруг света... И все-таки, несмотря на годы и
преграды, я успел написать шесть-семь томов!». Путешествие, конечно, много открыло
Гончарову.
Гончаров еще с детства мечтал о таком вояже. И вот в возрасте сорока лет, уже
известным русским писателем, автором романа «Обыкновенная история», «из своей
покойной комнаты» он «перешел на зыбкое лоно морей». Оставил привычную жизнь,
которая «грозила пустотой, сумерками, вечными буднями», и ринулся дорогой вокруг
света. Уже в начале пути Гончаров задумывался, как заменить «жизнь чиновника и
апатию русского литератора энергиею морехода». Как вместить в душу «развивающуюся
картину мира», где взять силы, чтобы воспринять «массу великих впечатлений». И эта
«дерзость почти титаническая» оказалась ему по плечу. «На море, кроме обязанностей
секретаря при адмирале Путятине, еще учителя словесности и истории четверым
гардемаринам, я работал только над путевыми записками, вышедшими потом под
названием «Фрегат «Паллада», — писал Гончаров в своей исповедальной «Необыкновенной истории». Разработка замысла романа «Обломов», а также «Обрыва» уступила
место очеркам путешествия. «Обе программы романов были со мной, — рассказывал там
же Гончаров. — И я кое-что вносил в них, но писать было некогда. Я весь был поглощен
этим новым миром, новым бытом и сильными впечатлениями».
А впечатлительной душе художника открывалось многое. Он побывал в Англии,
перешел Атлантический океан, посетил остров Мадеру, обошел мыс Доброй Надежды,
был в Сингапуре, Гонконге, Шанхае, на Ликейских островах, на Маниле, в Японии,
дошел до русских берегов, обратный путь совершил через Сибирь.
Он первый из русских писателей своими глазами взглянул на дальневосточные
русские земли и воды и написал о них в путевых очерках (до этого читатели знали лишь
записки и путевые очерки самих землепроходцев и мореплавателей).
В главе «От Манилы до берегов Сибири» Гончаров описывает посещение острова
Гамильтона, японского порта Нагасаки, плавание мимо корейского берега, а затем
Приморья к Императорской (ныне Советской) гавани. Гончаров пишет о ходе
переговоров с японскими властями, которые всячески тормозили заключение торгового
договора с Россией; интересны многие бытовые и пейзажные зарисовки (например,
картина весеннего Нагасаки). Русские моряки по пути ведут большую научную работу:
идет опись берегов, промеры глубин, уточняются карты. 18 апреля прошли остров
Цусиму, Гончаров углубляется в историю Кореи, размышляет о нравах народа, о развитии
торговли. С большой симпатией Гончаров отзывается о простых корейцах: «рослый,
здоровый народ», «атлеты, с грубыми, смугло-красными лицами и руками», «домовитые
люди».
5 мая фрегат входит в Японское море. А 9 мая за кормой остаются корейские берега.
Гончаров пристально всматривается в новые земли, земли нынешнего нашего
Приморского края, где еще через шесть лет будет основан порт Владивосток. «По
временам мы видим берег, вдоль которого идем к северу, потом опять туман скроет его».
И далее: «Холодно, скучно, как осенью, когда у нас, на севере, все сжимается, когда и
человек уходит в себя, надолго отказываясь от восприимчивости внешних впечатлений, и
делается грустен поневоле. Но это перед зимой, а тут и весной то же самое. Нет ничего,
что бы предвещало в природе возобновление жизни, со всею ее прелестью». Несколько
позже, очутившись в северных широтах, Гончаров еще раз посетует: «Что за плавание в
этих печальных местах! что за климат! Лета почти нет... Туман скрывает от глаз чуть не
собственный нос». Как видим, преувеличение, но не романтическое. Гончарову явно не
по душе затяжная дальневосточная весна, густые, постоянные туманы, холод и сырость. И
берег достаточно далек, чтобы увидеть, что сотни примет предвещают в природе
возобновление жизни.
20 мая (по ст. ст.) 1854 года фрегат подошел к входу в Императорскую гавань, С
обычной будничностью сообщает об этом писатель. Только за год до прихода «Паллады»
эта бухта была открыта Николаем Бошняком, сподвижником Невельского. «Утро
чудесное, море синее, как в тропиках, прозрачное; тепло, хотя не так, как в тропиках, но,
однако ж, так, что в байковом пальто сносно ходить по палубе. Мы шли все в виду берега.
В полдень оставалось миль десять до места...» Но войти в тот день в бухту не удалось.
Густой туман, а потом налетевший ветер задержали корабль в море. Какой простор для
романтической картины морской бури у родных берегов! Но Гончаров всюду верен духу
анализа, реалистическим традициям. Его картина бури чем-то напоминает картину бурана
в степи в «Капитанской дочке» Пушкина. «Вот за этим мысом должен быть вход,—
говорит дед, — надо только обогнуть его. Право! куда лево кладешь?» — прибавил он,
обращаясь к рулевому. Минут через десять кто-то пришел снизу. «Где вход?»— спросил
вновь пришедший. «Да вот мыс...» — хотел показать дед — глядь, а мыса нет. «Что за
чудо! Где ж он? сию минуту был», — говорил он. «Марсо-фалы отдать!» — закричал
вахтенный. Порыв ветра нагнал холод, дождь, туман, фрегат сильно накренило — и
берегов как не бывало...».
Только 22 мая, к вечеру, фрегат вошел в гавань. Гончаров дает живую и точную
зарисовку этих мест: «...мы входили в широкие ворота гладкого бассейна, обставленного
крутыми, точно обрубленными берегами, поросшими непроницаемым для взгляда мелким
лесом — сосен, берез, пихты, лиственницы. Нас охватил крепкий смоляной запах. Мы
прошли большой залив и увидели две другие бухты, направо и налево, длинными
языками вдающиеся в берега, а большой залив шел сам по себе еще мили на две дальше.
Вода не шелохнется, воздух покоен, а в море, за мысами, свирепствует ветер».
Так в русскую литературу входил дальневосточный пейзаж, запечатленный кистью
большого художника.
Необжитый, суровый край рождает в душе писателя вопросы удивления и
изумления:
«Что это за край: где мы? сам не знаю, да и никто не знает: кто тут бывал и кто
пойдет в эту дичь и глушь?» В другом месте Гончаров более точен, он скажет, что
русские люди шли в эту глушь, осваивали восточные окраины, приносили славу
отечеству. Здесь же он отмечает, что русские матросы быстро сходятся с местными
народностями. Не ускользает от взора Гончарова умение русских матросов «объясняться
по-своему со всеми народами мира». С большой симпатией делает он зарисовки быта
нивхов, нанайцев, рисует облик тунгуса Афоньки с товарищем своим, Иваном, как их
называли моряки. Их портреты даны с долей индивидуализации. Афонька ходит на зверей
с кремневым ружьем, которое сделал чуть ли не сам или выменял в старину. Гончаров
проводит мысль о дружбе русского народа с коренными народами Дальнего Востока и
Сибири: нанайцами, нивхами, якутами. Это в традиции русской литературы.
Гуманистическая традиция эта идет от очерков Крашенинникова, от произведений
Радищева, Пушкина (вспомним его замечания на полях книги Крашенинникова). Большая
русская литература всегда отличалась демократической отзывчивостью, гуманностью,
уважением других народов, стремлением к правдивому отражению жизни, проповедью
добрых чувств. Советская литература унаследовала лучшие гуманистические и
демократические традиции отечественной литературы. Вот один из эпизодов,
подмеченных Гончаровым на Дальнем Востоке — в нем есть символическое обозначение
рождающейся дружбы народов. Дружбы, которая закреплялась в общем труде.
«Я пробрался как-то сквозь чащу и увидел двух человек, сидевших верхом на обоих
концах толстого бревна, которое понадобилось для какой-то починки на наших судах.
Один, высокого роста, красивый, с покойным, бесстрастным лицом: это из наших.
Другой, невысокий, смуглый, с волосами, похожими и цветом и густотой на медвежью
шерсть, почти с плоским лицом и с выражением на нем стоического равнодушия: это —
из туземцев. Наш пригласил его, вероятно, вместе заняться делом. Русский делал вырубку
на бревне, а туземец сидел на другом конце, чтоб оно не шевелилось, и курил трубку.
Щепки и осколки, как дождь, летели ему в лицо и в голову: он мигал мерно и ровно, не
торопясь, всякий раз, когда горсть щепок попадала в глаза, и не думал отворотить головы,
также не заботился вынимать осколков, которые попадали в медвежью шерсть и там
оставались. Русский рубил сильно и глубоко вонзал топор в дерево. При всяком ударе у
него отзывалось что-то в груди. Он кончил и передал топор туземцу, а тот передал ему
трубку. Русский закурил и сел верхом на конец, а туземец стал рубить. Щепки и осколки
полетели в глаза казаку; он, в свою очередь, стал мигать».
Так в общем деле росли связи людей труда различных национальностей, рождалось
чувство трудовой общности, и это зорко увидено писателем. Увидено умным и добрым,
душевнопроницательным взором. Такие наблюдения писатель пополнит по пути в
столицу, в Якутии, в Сибири, где жизнь не раз сведет его и с местными жителями.
Гончаров видит, что движение русских на восток благотворно сказывается на развитии
местных жителей. Он вступает в полемику с автором книги о якутах «Отрывки о Сибири»
Геденштромом (Спб., 1830).
Тот высокомерно утверждал, что «якутская область — одна из тех немногих стран,
где просвещение или расширение понятий человеческих более вредно, чем полезно».
«Другими словами, — иронизирует Гончаров, — просвещенные люди! не ходите к
якутам: вы их развратите! Какой чудак этот автор!» Гончаров, высмеивая столь нелепые
«парадоксы», размышляет о необходимости просвещения якутов и других народов, о
прогрессивной роли передовых русских людей в этом полезном и благородном деле.
Гончаров кратко описывает свое пребывание в лимане Амура, куда он пришел в
августе 1854 года. Шхуна «Восток» покачивалась, стоя на якоре, между крутыми,
зелеными берегами Амура, а Гончаров и его спутники гуляли по прибрежному песку,
праздно ждали, когда скажут трогаться в путь, сделать последний шаг огромного
пройденного пути: оставалось каких-нибудь пятьсот верст до Аяна.
Фрегат «Паллада», как известно, был оставлен в Императорской гавани. Чтобы не
допустить захвата его англо-французской эскадрой, бродившей по океанским просторам,
администрация дала распоряжение затопить «Палладу». И 31 января 1856 года «Паллада»
была затоплена в Константиновской бухте Императорской гавани. О судьбе «Паллады»
Гончаров коротко расскажет в главе «Через двадцать лет», написанной в 1874 году. В
1891 году вышли очерки «По Восточной Сибири. В Якутии и Иркутске». Эти главы
вошли в состав книги.
Гончаров побывал в Петровском зимовье. Он упоминает об открытии транспортом
«Байкал» в 1849 году Амурского лимана, а также пролива между материком и
Сахалином. Естественно в этом месте было ожидать описания встречи с Невельским и его
сподвижниками, упоминания их имен. Но этого не произошло. «По ряду причин, и
главным образом, из-за секретности мероприятий, проводившихся в то время в устье
Амура, он не оставил описания этих мест», — пишет один из исследователей.
Объяснение не во всем приемлемое. Тем более, если помнить, что и ранее Гончаров
обходил многие факты освоения Дальнего Востока, не считал нужным называть
мореплавателей, имена и заслуги которых, конечно, знал. Здесь же Гончаров «отделался»
таким описанием: «Мне так хотелось перестать поскорее путешествовать, что я не съехал
с нашими, в качестве путешественника, на берег в Петровском зимовье и нетерпеливо
ждал, когда они воротятся, чтоб перебежать Охотское море, ступить, наконец, на берег
твердой ногой и быть дома». А между тем его спутники пробыли на берегу целые сутки.
Какую возможность упустил Гончаров как летописец, как художник!
По пути в Аян «Восток» подстерегала опасность встречи с французскими и
английскими судами. Но и здесь тон описания лишен романтического ореола. Автор
рассказывает, как по пути, якобы для развлечения, приняли участие в войне, задержали
судно, оказавшееся китоловным. И только в примечаниях Гончаров считает нужным отметить, что «в это самое время, именно 16 августа, совершилось между тем, как узнали
мы в свое время, геройское, изумительное отражение неприятеля горстью русских по ту
сторону моря, в Камчатке». Геройское, изумительное отражение неприятеля — такова
оценка Гончаровым Петропавловской эпопеи.
Замечательны по-своему страницы, посвященные прибытию в Аян, завершению
путешествия. С одной стороны, это реалистически точные, зримые описания тамошних
мест, а с другой — авторские размышления, несколько приподнятого, даже
романтического характера. Зримо предстает перед читателем этот «маленький уголок
России», как называет Аян автор: «Ущелье все раздвигалось, и, наконец, нам
представилась довольно узкая ложбина между двух рядов высоких гор, усеянных березняком и соснами. Беспорядочно расставленные, с десяток более нежели скромных
домиков, стоящих друг к другу, как известная изба на курьих ножках, — по очереди
появлялись из-за зелени; скромно за ними возникал зеленый купол церкви с золотым
крестом. На песке у самого берега поставлена батарея, направо от нее верфь, еще
младенец, с остовом нового судна, дальше целый лагерь палаток, две-три юрты, и между
ними кочки болот. Вот и весь Аян».
А в душе путешественника — возвышенные примеры возвращения к родным
берегам знаменитых путешественников, когда кровля родного дома кажется сердцу «целой поэмой». Античное, своеобразно-романтическое сталкивается с обыденным,
реальным — и кажется, подчас Гончаров нарочито снимает ореол романтики. «Кто не бывал Улиссом на своем веку и, возвращаясь издалека, не отыскал глазами Итаки?» «Это
пакгауз», — прозаически заметил кто-то, указывая на дразнившую нас кровлю, как будто
подслушав заветные мечты странников». Однако же за этим явным снижением идет и
возвышение романтического и героического в жизни — и этого нельзя не заметить.
Путешественники ступают на родной берег: «Но десять тысяч верст остается до той
красной кровли, где будешь иметь право сказать: я дома!.. Какая огромная Итака и каково
нашим Улиссам добираться до своих Пенелоп!» — восклицает Гончаров, рисуя
реалистически достоверную картину предстоящего пути. Романтический мотив
врывается в рассказ о прощании с морем. «Я быстро оглянулся, с благодарностью, с
любовью, почти со слезами. Оно было сине, ярко сверкало на солнце серебристой
чешуей. Еще минута — и скала загородила его. «Прощай, свободная стихия! в последний
раз...» В реалистической картине Гончарова мелькнул романтический пушкинский образ,
приоткрывая душевное волнение героя. Развивая мотив романтики и героики, Гончаров
потом в главе «Через двадцать лет», вспоминая «страшные и опасные минуты» плавания
и рассказывая историю гибели «Дианы», сравнит подвиги русских моряков с подвигами
героев Одиссеи и Энеиды и скажет: «Ни Эней, с отцом на плечах, ни Одиссей не
претерпели и десятой доли тех злоключений, какие претерпели наши аргонавты...»
И здесь мы подходим к тому, как же выражено героическое начало в книге
Гончарова. В тридцатые годы Б. М. Энгельгардт высказал мнение, что героический план
начисто отсутствует у Гончарова и что в силу особого характера его творческого
сознания «патетическое» давалось ему чрезвычайно трудно». По мнению Энгельгардта,
Гончаров изгнал из своей книги патетический и романтический элементы. Это мнение
оспорил Г. Ф. Лозовик в статье «Морская тема в книге И. А. Гончарова «Фрегат
«Паллада». «Но разве реализм исключает изображение героического, в частности,
повседневной «будничной» героической борьбы людей с грозной и капризной морской
стихией?» — спрашивал он. Отвергая утверждение Энгельгардта, что Гончарову «не
давалась беспокойная героическая тематика, требующая повышенно эмоционального
напряжения стиля», Лозовик приводит примеры описания урагана в Тихом океане, ряд
морских пейзажей, свидетельствующих, по мнению автора статьи, о романтической
приподнятости «Фрегата «Паллады» Отмечая это, В. П. Вильчинский в книге «Русские
писатели-маринисты» подчеркивал, что подобные страницы «составляют исключение в
ровном и нарочито приземленном стиле Гончарова, для которого в целом характерно
«спокойное, слегка ироническое, шутливо-добродушное описание». Этому вторят и другие.
А между тем характеризовать стиль повествования как только «спокойное, слегка
ироническое, шутливодобродушное описание» или «добродушно-ворчливое», «нарочито
приземленное» было бы неточно. Гончаров не отрешается и от своеобразной патетики, и
от самого высокого пафоса. И несмотря на справедливость многих упреков в том, что он
не показал в полную силу героику морского труда, героическое начало в книге обойти
нельзя. К сожалению, дальневосточные и сибирские страницы, оказавшиеся за пределами
морского путешествия, оказались за бортом некоторых литературоведческих работ. А
между тем без этих размышлений не мыслится образ одного из главных героев этой
«скромной Одиссеи» — образ самого автора.
Может показаться, что после того как Гончаров ступил на русский берег, он уже не
путешественник, а проезжий по казенной надобности. Но против этого резонно возражал
сам Гончаров. «Свет мал, а Россия велика»,— говорит один из моих спутников,
пришедший также кругом света в Сибирь. Правда. Между тем приезжайте из России в
Берлин, вас сейчас произведут в путешественники; а здесь изъездите пространство втрое
больше Европы, и вы все-таки будете только проезжий.. .» Продолжалось путешествие,
но не похожее уже «на роскошное плавание на «Фрегате», продолжается жанр
путешествия. Как известно, Гончаров в дороге от Аяна до Петербурга пробыл пол года.
Сухопутным путем, на коне, на телеге, на лодке, а где и пешком возвращался он в
столицу. Одна дорога через тайгу и болота, через каменистые отроги и перевалы, через
студеные реки не раз повергает в изумление и заставляет подумать о тех, кто здесь не
просто гость. «Не раз содрогнешься, глядя на дикие громады гор без растительности, с
ледяными вершинами...» — признается писатель. И при этом, рассказывая, что всюду
путешественников встречает кров и очаг, не удержится воскликнуть, вопрошая: «увы! где
романтизм?»
Он показывает тех, кто одолевает эту природу, кто на этих землях обжился,
занимается хлебопашеством, в поте лица своего добывает хлеб насущный. Как будто и не
в манере Гончарова, скажем, рисовать характер русской женщины так, как о нем писал
Некрасов, но вчитайтесь в отрывок, где он описывает встречу с крестьянкой в сибирской
избе, и вы почувствуете — не мог и он не восхититься красотой и силой крестьянской
натуры. И звучит в этом рассказе восхищение характером простой крестьянки: «Мы
вошли: печь не была еще готова; она клалась из необожженных кирпичей. Потолок очень
высок; три большие окна по фасаду и два на двор, словом, большая и светлая комната.
«Начальство велит делать высокие избы и большие окна», — сказала она. «Кто ж у вас
делает кирпичи?» — «Кто? я делаю, еще отец». — «А ты умеешь делать мужские
работы?» — «Как же, и бревна рублю, и пашу». — «Ты хвастаешься!» Мы спросили
брата ее, правда ли? «Правда», — сказал он. «А мне не поверили, думаете, что вру: врать
не хорошо! — заметила она, — Я шью и себе и семье платье и даже обутки (обувь)
делаю». — «Неправда. Покажи башмак». Она показала препорядочно сделанный башмак.
«Здесь места привольные, — сказала она, — только работай, не ленись...»
И встреча с молодой крестьянкой и другие встречи — с якутами, русскими —
побуждают писателя думать о будущем богатого и пустынного, сурового и приветливого
края. Писатель убежден: придет время, пустыня превратится в жилые места, и спросят
тогда — кто ж, спросят, «этот титан, который ворочает и сушей и водой? кто меняет
почву и климат?» И уже совсем патетически заговорил здесь Гончаров, и патетика его
тревожит сердце читателя: «И когда совсем готовый, населенный и просвещенный край,
некогда темный, неизвестный, предстанет перед изумленным человечеством, требуя себе
имени и прав, пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание, и также
не допытается, как не допыталась, кто поставил пирамиды в пустыне. Сама же история
добавит только, что это те же люди, которые в одном углу мира подали голос к
уничтожению торговли черными, а в другом учили алеутов и курильцев жить... — и вот
они же создали, выдумали Сибирь, населили и просветили ее и теперь хотят возвратить
творцу плод от брошенного им зерна. А создать Сибирь не так легко, как создать чтонибудь под благословенным небом...» Вот она, идея величия труда созидателей пирамид
и труда людей, обживающих Сибирь.
Конечно, и сам Гончаров не знал, что выполнить эту задачу в полной мере придется
людям не только иных поколений, но и иного общественного строя — созидателям
Братской ГЭС, БАМа. Но нам нельзя не вспомнить, что именно сибирские картины поособому возбудили мысли Гончарова о неестественности крепостного состояния народа,
о том, что уродовало человека в самодержавно-крепостнической стране. Вот проезжает
он селения, деревеньки. Летают воробьи и грачи. Поют петухи. Мальчишки свищут,
машут на проезжую тройку. И дым столбом идет из множества труб — дым отечества!
«Всем знакомые картины Руси! Недостает только помещичьего дома, лакея,
открывающего ставни, да сонного барина в окне... Этого никогда не было в Сибири, и
это, то есть отсутствие следов крепостного права, составляет самую заметную черту ее
физиономии», — заключает свои наблюдения Гончаров.
Да, и здесь, в Сибири, зрела мысль писателя сказать свое решительное «нет!»
крепостному праву в России — ведь эти строки-думы рождались в уме писателя в 1854
году, за семь лет до отмены крепостного права.
Интересны размышления автора о героическом в жизни, в истории освоения Сибири
и Дальнего Востока. Это такой внутренне значительный план очерков, что обойти его
нельзя. Гончаров размышляет о героизме русского народа, о героях истории. Кого же он
причисляет к когорте славных героев, которые достойны нашей памяти? Он называет
имена атамана Атласова, генерала Муравьева-Амурского, адмирала Завойко, «писателя и
путешественника» Врангеля, многих других, а наряду с ними — слово о простом
человеке, отставном матросе Сорокине. Он затеял в Сибири хлебопашество. «Это тоже
герой в своем роде, маленький титан. А сколько их явится вслед за ним! и имя этим
героям — легион...» Великие начинания этих «маленьких титанов» уходят вместе со
своим временем, никто не помнит всего, но «останутся имена этого дела в народной
памяти», — с грустью размышляет Гончаров. В этих размышлениях о «маленьких
титанах», имя которым — легион, по сути, мысли о народном подвижничестве, о
народном героизме.
Конечно, Гончаров сглаживает противоречия, идеализирует заботу властей о
развитии Сибири, почти не обмолвливается о тех вопиющих фактах безнаказанности и
произвола которые царили на каждом шагу. Но дорого то, что он заговорил о героизме
народа в освоении Сибири и Дальнего Востока, о народной памяти. «В сумме здешней
деятельности таится масса подвигов, о которых громко кричали и печатали бы в других
местах, а у нас, из скромности, молчат», — с укоризной отечественным летописцам
замечает Гончаров. Он указывает, что в якутском областном архиве хранятся материалы,
драгоценные для будущей истории. И замечает здесь же, что описаний достойно не
только то, что касается прошедшего, но и «подвиги нынешних деятелей», которые «так
же скромно, без треска и шума, внесутся в реестры официального хранилища». Пока-то
до них дойдет очередь в истории.
Кого же писатель считает главными героями современных ему дней? Кто, по его
мнению, входит в легион героев?
Прежде всего, он говорит о тех, кто ведет просвещенческую деятельность и отдает
свои силы составлению грамматик, словарей, развитию письменной грамоты, собиранию
материалов для будущей истории. Гончаров отдает дань религиозно-сословным
предубеждениям, говоря о состоянии церкви на новых местах.
С большим внутренним подъемом, с пафосом напоминает о землепроходцах, о тех,
кто был первым в открытиях. «Вы знаете, что были и есть люди, которые подходили
близко к полюсам, обошли берега Ледовитого моря и Северной Америки, проникали в
безлюдные места, питаясь иногда бульоном из голенища своих сапог, дрались с зверями,
с стихиями — все это герои, которых имена мы знаем наизусть и будет знать потомство,
печатаем книги о них, рисуем с них портреты и делаем бюсты. Один определил
склонение магнитной стрелки, тот ходил отыскивать ближайший путь в другое
полушарие, а иные, не найдя ничего, просто замерзли. Но все они ходили за славой».
Были и есть такие люди — утверждает Гончаров. Правда, его вывод, что все они
«ходили за славой», и только, — очень однозначен. Можно также посетовать, как это
делают некоторые исследователи, что он лишний раз не упомянул о Ермаке, Хабарове,
Атласове и т. д., не дал колоритных портретов героев дня.
Вспомнив походы на край земли тех, кто ходил ради славы, Гончаров оттеняет
героическое начало в деятельности официальных лиц, которые каждый год ездят в непроходимые пустыни, к берегам Ледовитого моря, спят при сорока градусах мороза на
снегу — и все это «по казенной надобности».
Конечно, не отыщем мы у Гончарова острого анализа деятельности представителей
и дворянской и купеческой среды, пекущейся прежде всего о своих классовых интересах.
Но, еще раз вглядываясь в путевые его очерки, в десятки встреч с разными людьми, от
крестьянки до ссыльных декабристов, в размышления писателя о подвигах и героях, мы
видим, что главная мысль его глубока: да, героев, осваивающих Сибирь и Дальний
Восток, — легион. Другими словами, это народ. Героическое начало находит прямое
недвусмысленное выражение в очерках Гончарова, его знакомство с Дальним Востоком и
Сибирью, где не было крепостного права, как бы приоткрыло Гончарову русский народ в
его самых богатых возможностях, показало его силу и красоту, вселило уверенность в
будущее.
Путешествовать, по мысли Гончарова, — значит «хоть немного слить свою жизнь с
жизнью народа, который хочешь узнать». Несомненно, путешествие помогало Гончарову
понять героическую душу родного народа — и эта внешне скрытая, внутренняя сила
героического в народе не прошла мимо автора «Фрегата «Паллады». И разве это не
сказывалось в стиле, в тональности книги, в частности в отступлениях лирикофилософского плана? Или они не характерны для путевых очерков? Нет, характерны,
более того — в них самая сердцевина произведения. Так что не скажешь, что искомый
результат во всем достигается «слегка ироническим, шутливо-добродушным» или
ворчливым описанием. Есть и добродушный юмор, и ирония, и приземленность. Но
вместе с тем и тон глубокого размышления, задушевной думы свойствен путевым
письмам Гончарова. Есть в книге и своеобразная романтичность... И все это образует то,
что было уже в первом предисловии названо «классически простым, ясным и веселым...
изложением путевых впечатлений». Это и дума, горестная, печальная, когда Гончаров
пишет о жизни народа: «Мне видится длинный ряд бедных изб, до половины занесенных
снегом. По тропинке с трудом пробирается мужичок в заплатах. У него холстинная сума
через плечо, в руках длинный посох, какой носили древние». Что же тут шутливодобродушного или ворчливого? А ведь эта дума о родном проходит через всю книгу.
Вот она, та Русь, убогая и обильная, с ее характерными типами, с барином, который
живет «в свое брюхо», и нищим мужиком... И уже не перед глазами автора, а перед
глазами читателя «мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица, обычаи». И голос
автора — это голос мысли и думы о самом главном. «Я ведь уже сказал вам, — звучит
голос рассказчика,— что искомый результат путешествия — это параллель между чужим
и своим. Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни
заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее!»
Да, именно дума о родном народе, о его жизни пронизывает эту книгу, в которой
героическое начало связано с народным героизмом, с верой в великое будущее этого
героического народа. И естественно, это не могло не сказаться на стиле, на общей
тональности очерков.
И хотя океаны действительно не смыли почву родной земли, Гончаров стал
подлинным певцом (не книжного, а реального) моря. «Как прекрасна жизнь, между
прочим, и потому, что человек может путешествовать!» — восклицает Гончаров в своих
очерках, и он сумел многое пережитое в путешествии запечатлеть в своей замечательной
книге. Поэт А. Майков посвятил Гончарову поэтические строки: «Море и земли чужие,
/ Облик народов земных — / Все предо мной, как живые, / В чудных рассказах
твоих».
Жанр морского путешествия в русской литературе был продолжен рядом
произведений. В 1859—1863 годах публиковались путевые очерки В. Д. Григоровича
«Корабль «Ретвизан», в которых описано путешествие писателя вокруг Европы.
Дальневосточные страницы находим мы в книге А. В. Вышеславцева «Очерки пером и
карандашом из кругосветного плавания в 1857 — 1860 гг.» (1862). Отдельными
изданиями появились и очерки К. М. Станюковича «Из кругосветного плавания» (1867), и
очерки морского офицера А. Я. Максимова «Вокруг света. Плавание корвета «Аскольд»
(1876), который надолго и прочно свяжет свою жизнь и творчество с Дальним Востоком.
В 1887 году выходят «Путевые записки и воспоминания по Дальнему Востоку» М.
Гребенщикова. В 1880 году Всеволод Крестовский, автор «Петербургских трущоб»,
совершает кругосветное плавание с эскадрой адмирала Лесовского и пишет очерки «В
дальних водах и странах». В начале 90-х годов публикуются морские очерки С. Н.
Южанова «Доброволец «Петербург», путевые записки А. Елисеева «По белу свету» и др.
Все эти и иные книги и журнальные очерки, как не раз подчеркивалось в критике, в
большей или меньшей степени следовали литературной традиции гончаровского
«Фрегата». Думается, что большинство авторов хорошо было знакомо и с документальной маринистикой русских мореплавателей, с теми традициями, которые в ней
сложились. Морская литература, разумеется, не была отделена и от развития всей
русской реалистической литературы. Все это, вместе взятое, и помогло становлению
такого писателя-мариниста, как Станюкович, ставшего классиком русской морской
литературы.
Лекция № 4. «Дальневосточная тема в творчестве К.М. Станюковича». – 2 часа.
Старый адмирал Станюкович был потрясен. Его младший сын, семнадцатилетний
Костя, заявил, что он решил уйти из Морского кадетского корпуса в Петербурге. Подумать
только! Флотская семейная традиция прерывается окончательно. Перед этим волей случая
погиб старший сын, достигший звания капитан-лейтенанта. А тут младший сын решил
уйти с морей... Большего несчастья и позора на свою голову адмирал не мог и ожидать. И
дабы не была “посрамлена честь моряка-деда” и его отцовская честь, “грозный адмирал”
(так назовет отца в своей повести будущий писатель) принимает свое адмиральское решение. Он ходатайствует перед директором Морского кадетского корпуса контр-адмиралом
С.С. Нахимовым назначить Костю в дальнее плавание на одном из клиперов. Вот там-то, в
море, и образуется. Там и будет ему университет... И вот уже ходатайство направлено на
имя императора с обоснованием поддержать просьбу отца: “Учится довольно хорошо. И
поведения довольно хорошего, но строптив и увлекателен, и требует бдительного надзора.
Поэтому весьма полезно было бы послать его в продолжительное плавание”. Скажем
сразу: свое решение уйти с флота Станюкович-младший все-таки осуществил, но произойдет это только через три года, после возвращения его из плавания. И отец будет
непреклонен до конца, бросив ему слова: “Можешь уходить, но после этого ты мне не
сын”. Такие характеры! Но не будь этого сурового решения отца, мы бы не имели
морского писателя... Словом, так за полгода до выпуска из Морского кадетского корпуса
“адмиральский сынок” Костя Станюкович (ему 18 марта 1860 года исполнилось
семнадцать!) попал на парусно-винтовой корвет “Калевала”.
18 октября (по старому стилю) 1860 года корвет вышел в кругосветное плавание.
Моря, океаны, длительные переходы от порта к порту, штормы, города, земли —
обыкновенное и экзотическое... И до этого Костя выходил в моря, на практику, но ведь
кругосветное плавание несравнимо с кратковременным. Вот только один этюд: “К утру
качка стала столь ужасна, что принужден был встать; трудно было держаться на ногах; чай
пить не было возможности; вызвали всех наверх ставить паруса, и мне следовало идти на
марс; т.е. на верх мачты за старшего с матросами; волны были до того высоки и ветер до
того силен, что корвет наш ложился на бок и черпал то одним бортом, то другим; многих
начало понемногу укачивать; меня еще не начинало; я полез на марс; сердце замирало, как
я увидел сверху корвет: казалось, волны так и проглотят его; наверх размахи были еще
сильнее: мне сделалось очень дурно, меня начинало укачивать, но самолюбие и нежелание
показаться трусом перед матросами удерживало меня там: меня вытравило, говоря
морским выражением, т.е. вырвало; но я продолжал делать свое дело; поставили паруса,
спустились на палубу; море было ужасно...” А сколько таких испытаний еще впереди! И
экзотика южных широт не всегда милосердна. У берегов Явы Станюкович заболел
лихорадкой. По прибытии в только что (год тому назад) основанный пост Владивосток
Костю направили в морской лазарет. В нашем городе он пробыл по одним данным три с
половиной месяца, по другим, более мотивированным, — больше десяти месяцев.
Летописец второго года существования Владивостока, начальник поста Евгений
Степанович Бурачёк (он сменил прапорщика Николая Васильевича Комарова) оставил
интересные “Воспоминания за-Амурского моряка. Жизнь во Владивостоке. 1861 год”. В
них он дал яркую картину жизни и быта русских моряков и солдат “на краю восточной
Руси”. Упоминает автор и о гардемарине Станюковиче, волей судьбы заброшенного сюда и
оказавшегося в лазарете. Лейтенант Бурачёк пригласил Станюковича в свою командирскую комнату. Один лейтенант, другой гардемарин, оба были молоды, любили книгу,
пробовали себя в литературном творчестве. У Станюковича к тому времени в Петербурге в
журнале “Северный цветок” были опубликованы первые литературные опыты —
лирические стихи о юношеской любви. К тому же оба после длительного плавания
остались на берегу. Но Бурачёк здесь был с лета 1861 года: его назначили командиром
поста.
В письмах из Владивостока своей сестре, “голубушке”, “бесценному другу” Лизе,
Костя Станюкович также упоминает о Бурачке, о своем пребывании в лазарете. Письма
эти очень подробные, заполнены выписками из дневника, который не сохранился. А
письма, двенадцать сестре Лизе и одно отцу, сохранились и впервые полностью
опубликованы в шестой книге “Литературного архива” (1961).
“Чтобы тебе дать понятие об этой сторонке, куда меня занесла судьба и где, между
прочим, предполагается главный южный порт Восточного океана, — обращается Костя
Станюкович к своей сестре, — я выпишу тебе несколько строк из моего дневника”. И
начинается владивостокская экзотика: следуют выписки за 6, 7 и 8 января 1862 года.
Сюжеты разные. Один из них о приходе тигра. Ночью на скотный двор, где были лошади,
тигр пробрался через соломенную крышу и удавил троих лошадей, сложив их в кучу.
Солдаты идут в засаду на хищника. Прапорщик Меньчук приглашает с собой и Костю
Станюковича. Охота опасна. Но Станюкович успокаивает сестру: “Меньчук предлагает вечером идти в засаду, но я не пойду; к чему мне рисковать жизнью даром. Мне 19 лет, а ему
50 — разница ведь большая”. “Только что я дописал эти строки моего дневника, моя
дорогая Лиза, как вбежал Мартын и сказал, что тигр у бани (это сто шагов от казармы).
Раздалось три выстрела; тигр ушел. Вот мой друг, куда занесло меня”. Но Станюкович не
очень-то сетует на опасности своей морской жизни. Опасности не обойдешь, хотя и на
рожон лезть нельзя. И чувство иронии не оставляет Костю Станюковича: занесло на край
света, ну и что ж... “И к пользе, потому что навык к опасностям не лишен для людей.
Теперь я понимаю, как можно жить спокойно, как живут в Индии, и там, где соседи не
хорошенькие Гурьевы...” “Навык к опасностям” не раз пригодится Станюковичу в жизни.
Не раз он восхитится этим навыком у простых матросов; это отразится в морских
рассказах. А историю с тигром впоследствии Станюкович опишет в рассказе “Во
Владивостоке” (печатался и под названием “Тигр идет”), где выведен обаятельный образ
матроса Артюшки. Жизнь не обделяет опасностями и трудностями ни дома, ни в дороге.
Навык к опасностям, еще в большей степени, чем на суше, приобретается в море. Об этом
впоследствии писатель скажет, что он “был и есть, выражаясь метафорически, одним из
матросов, не боящихся бурь и штормов и не покидавших корабль в опасности”.
После ухода из Владивостока, с 22 мая 1862 года до августа 1863 года, Станюкович
плавает на различных кораблях Тихоокеанской эскадры. Молодого гардемарина
приближает к себе адмирал А.А.Попов. “Тогда находились редкие адмиралы и капитаны,
которые умели делать службу осмысленною, а не каторгою или тоской”, — говорится в
рассказе “Море”.
Одним из таких редких адмиралов был Попов. Его имя связывают с именами
Корнилова и Нахимова, к которым он был близок, его называют в числе учителей
адмирала Макарова. Попов был хорошо знаком с семьей Станюковича. Он знал, что
молодой гардемарин проявил свои литературные способности. Заинтересованное
отношение Попова позволило Станюковичу увидеть гораздо больше, чем если бы он был
на своем корабле. Адмирал Попов поддерживал литературные начинания молодого
моряка, будущего писателя. Но такое положение не во всем устраивало юношу,
стремившегося к полной самостоятельности. Его взгляды были чужды карьеризму. В письмах сестре он сетует, что близость к адмиралу тяготит его: “Крайне невесело бывает
иногда... Я обедаю и пью чай у него... Помогаю ему в письменных его работах...”, “...Он
человек деятельный и добросовестный, любит меня очень, да мне-то это не по нутру —
состоять при нем... Обидно предпочтение перед другими... Что все скажут... Правда, еще
ничего дурного не говорят, потому что я держу себя с ними свободно и хорошо...”, “Где я
буду дальше, не знаю, но желал бы не с адмиралом. Как ты ни пиши, что выгодно или
невыгодно, я, по счастию, нахожусь в летах, когда благородство и независимость — стоят
по одним уже влечениям — выше всяких выгод по службе... Что мне с выгоды...”
(Литературный архив. С. 423). В своих взглядах семнадцатилетний Костя Станюкович
тяготел к Белинскому, Герцену. Об этом говорят факты: во Владивосток он будет просить
прислать журнал “Искра” и сочинения Белинского. По пути на восток, когда судно 5
ноября 1860 года бросило якорь на Темзе в Лондоне, он тешит себя надеждой: “Может
быть, проскользну к Герцену. Очень хотелось бы этого...” Знаменательно, что Герцен в
“Былом и думах” давал положительную оценку настроенности некоторых военных
моряков. Он писал: “Между моряками были тоже отличные, прекрасные люди”, “вообще
между молодыми штурманами и гардемаринами веяло новой, свежей силой” (Герцен А.И.
Собр.соч.: в 8 т., М., 1975. Т.7. С. 288). Они, по словам Герцена, “по великому закону
нравственных противодействий, под гнетом деспотизма корпусов, воспитали в себе
сильную любовь к независимости”. К числу этих “отличных, прекрасных” людей,
несомненно, принадлежал и Станюкович.
В литературе не раз отмечалось, что прототипом Корнева в повести “Вокруг света на
“Коршуне” и в рассказе “Беспокойный адмирал” был адмирал Попов (именем его назван
остров). В творчестве писателя “беспокойный адмирал” Корнев противостоит “грозному
адмиралу”, как противостоят образы капитана “Коршуна” Давыдова и ему подобных
образам тех господ, которые, в насмешку называя Давыдова “филантропом”, утверждали,
что такое обращение еще несвоевременно, что матросу без линька и жизнь не в жизнь
(очерк “От Бреста до Мадеры”). В Корневе живет подлинная морская душа. Он, как
истинный моряк, много сам плавал, понимает и ценит отвагу, решительность и мужество и
знает, что эти качества необходимы моряку. Он не боится ответственности, умеет
поддержать моряков, одобрить их хорошие дела. “Морской дух, — пишет автор, —
беспокойный адмирал считал главным достоинством моряка”. Образ морской души,
который возвышен по-своему в морских произведениях советского писателя Леонида
Соболева, пришел в литературу еще с произведениями Станюковича: традиция не была
утрачена.
Основная мысль в произведениях Станюковича — мысль о духовной силе и красоте
народа. Она связана прежде всего с простыми людьми, с простыми моряками. Станюкович
говорит об особенности русского матроса, “дельного, сметливого, но нисколько не
страстного к морю”. И в то же время, как бы споря с этим своим положением, он
показывает, как этот матрос борется со свирепой непогодой, с честью выходит из самых
жестоких испытаний (“В шторм”).
Заметно стремление показать не столько внешние приметы морского быта, сколько
душевные особенности матросов: желание скрасить тяжелую жизнь, представления о
любви, о семье, тоска по дому. У Станюковича появилось то, чего не было у его
предшественников: он все чаще смотрит на вещи глазами простых матросов. И
одновременно вглядывается в их души, стремится понять эти души изнутри. Подобно
Гончарову, Станюкович всюду, куда бы ни заносила его судьба, обращен к мысли о трудной доле русского мужика. Рассказывая о тяжелой работе негров, о заунывной песне,
которой скрашивает один из встреченных им негров свою участь, писатель подталкивал
читателя подумать и о судьбе русского мужика: “Мне показалось, что характер этой песни
мне несколько знаком... Те же жалобы заунывные, те же мольбы однообразные”. Так он
писал в очерке. А в повести “Вокруг света на “Коршуне” эта же мысль будет выражена с
еще большим публицистическим напором. “Невольно напрашивалось сравнение с нашими
деревенскими избами... Чем-то знакомым, родным повеяло от этой песни на русских
моряков. Им невольно припомнились русские заунывные песни”. И у Гончарова мы
встретимся с мыслью о родной почве, о постоянном сравнении своего с чужим, об освобождении мужика от крепостной зависимости. Но у Станюковича мысль эта становится
социально острее. Так, рисуя жизнь в море, в чужедальних странах, писатель стремится
поставить социальные проблемы, характерные для русской жизни 60-х годов XIX
столетия.
Неприятие Станюковича вызывали люди, пронизанные буржуазной торгашеской
моралью, “господа, отечество которых, по выражению одного из них, — доллар”. На образ
этот дельца и торгаша указывал и Гончаров. Колониализм в его лице находил острого
критика. Бывая в китайских портах и наблюдая картины феодальной жестокости,
Станюкович замечает: “Нигде, как в феодальном Китае, жизнь, это высшее благо, не
ценится так легко”. Примечателен и очерк “В Кохинхине”. Станюкович посетил Южный
Вьетнам в пору франко-вьетнамской войны (1858-1862). Французские колонизаторы
оккупировали шесть южных провинций Вьетнама и превратили их во французскую
колонию Кохинхин. Как известно, вторая франко-вьетнамская война (1883-1884) на долгие
годы превратила Вьетнам в колонию Франции. Станюкович побывал в деревне, поселке,
наблюдал жизнь в Сайгоне. Раздумывая о судьбе колонии, осуждая колониальный
деспотизм, он трезво усматривал, что здесь “много еще прольется крови”. Эти страницы
написаны с большим сочувствием к вьетнамскому народу, который встал на героическую
борьбу за независимость и свободу. Критика колониалистской политики европейских
цивилизаторов приобретает еще больше остроты в повести “Вокруг света на “Коршуне”,
где Станюкович напишет о своем отвращении к войне и к тому “холодному бессердечию”,
с каким колонизаторы относятся к местным народам. Чужие пришлые люди, они, выдавая
себя за спасителей, “жгли деревни, уничтожали города и убивали людей”. “И все это, — с
едким сарказмом замечает Станюкович, — называлось цивилизацией, внесением света к
дикарям” (глава “Юный литератор”).
Сердце писателя полнилось болью за Россию, за ее народ, который был опутан
цепями крепостничества. О том, как рождается чувство родства с народом, Станюкович
рассказал в удивительно светлой, прекрасной повести для юношества “Вокруг света на
“Коршуне” (1895-1896). Девятнадцатилетний герой книги Володя Ашанин посещает
дальние страны, проходит через штормы и опасности, не раз бывает на грани жизни и
смерти. На морских дорогах к нему приходит чувство гуманности, уважения к людям.
Благодаря близкому общению с матросами, например, Михаилом Бастрюковым, “Ашанин
оценил их, полюбил, и эту любовь к народу сохранил на всю жизнь, сделав ее
руководящим началом всей своей деятельности (Станюкович К.М. Вокруг света на
“Коршуне”. Владивосток, 1982. С. 129). Никогда еще в русской маринистике эта близость
к народу, к простому моряку не была поставлена так высоко. Так мог сказать о любви к
народу только писатель, который становился, подобно некрасовскому Грише
Добросклонову, на позиции народного заступника. Любовь к русскому народу —
“руководящее начало” всей деятельности таких писателей, как Станюкович.
Как и сам писатель, его герой Володя Ашанин побывал на Дальнем Востоке, и у
“пустых, тогда еще совсем не заселенных гаваней и рейдов”, и у берегов Сахалина
испытывал силу и неистовость океана, который совершенно несправедливо “окрестили...
кличкой “Тихого”. И у него проснулась морская душа, он почувствовал подлинную
поэзию моря и красоту земли, красоту Родины. Это не отвлеченная страна, полная
экзотики, а страна, где нет “ослепительного жгучего южного солнца, ни высокого
бирюзового неба, но где все — и хмурая природа, и люди, и даже чернота покосившихся
изб с их убожеством — кровное, близкое, неразрывно связывающее с раннего детства с
родиной, языком, привычками, воспитанием, и где, кроме того, живут особенно милые и
любимые люди”. “Самое это душевное дело на земле — трудиться”, — скажет Михаил
Бастрюков, один из героев повести. Несомненно, в этих размышлениях, в судьбе Володи
Ашанина — черты автобиографии самого писателя. Его путевые размышления
преобразовались в книгу. Но это уже не просто очерки-путешествия, это художественная
повесть с центральным героем. Повесть, выросшая на очерковой основе, — писатель не
случайно назвал книгу “очерками морского быта”, “сценами из морской жизни”. Жанр
повести открывал новые возможности для раскрытия духовного мира героя.
Характерно, что в структуре повести сохраняется та документальная основа, которая
идет от очерков. Так, в книгу “Из кругосветного плавания” входили очерки “От Бреста до
Мадеры”, “Жизнь в тропиках”, “В китайских портах”, “В Кохинхине” и др. В книге
“Вокруг света на “Коршуне” мы находим главы “Мадера и острова Зеленого Мыса”, “В
тропиках”, “В Индийском океане”, “В Кохинхине” и др. Станюкович щедро пользуется
своими очерками, но, однако, не забывает, что он пишет не путевые очерки, а повесть о
становлении молодого моряка. Автор опирается не просто на документы, на свои
дневники, записки прошлых лет. Он создал, по существу, первую реалистическую повесть
о становлении русского моряка. Итак, жанр повести... Заметим, что в русской литературе к
этому времени были не только романтические повести А.Бестужева-Марлинского, но и
приключенческий роман Н.Некрасова и А.Панаевой “Три страны света” (1848-1849).
Документальные источники заняли заметное место в структуре глав, посвященных путешествиям Каютина. Как известно, эти главы писал Некрасов. “Ему, — вспоминала
Панаева, — пришлось прочитать массу разных путешествий и книг” (Панаева А.
Воспоминания. М.; Л., 1933. С. 282). В описании этих путешествий Некрасов широко
использовал книги Крашенинникова “Описание земли Камчатки”, Давыдова “Двукратное
путешествие в Америку” и др. Иными словами, даже в приключенческой книге Некрасов
опирался на свидетельства землепроходцев. Документальное начало входило и в повесть
сибирского писателя И.Калашникова “Изгнанники” (1834), где был нарисован образ
морехода Шалаурова, одного из героев освоения Севера. Документальное начало в
повести Станюковича приобретало иной характер: упор в ней во многом переносился на
внутреннее состояние героя.
Есть и еще одна точка пересечения произведений Станюковича и Некрасова. Это
наличие мысли народной в обоих произведениях. После долгих скитаний герой романа
Каютин приходит к нравственному выводу: соприкосновение с народом, сближение с ним
спасительно для души, оно обогащает человека, укрепляет духовные силы. В дневнике
Каютина есть такая запись: “В моих странствиях, несчастиях и трудах одна была у меня
отрада, без которой, может быть, я не вынес бы своей тяжелой роли. Не знал я русского
крестьянина... Но необходимость свела меня с ним, скука и общая доля сблизила;
познакомился и породнился я с русским крестьянином... среди моря, где равно каждому не
раз грозила смерть, в снежных степях, где отогревали мы друг друга рукопашной борьбой,
а подчас и дыханием, в сырой и тесной избе, где, голодные и холодные, жались мы друг к
другу, шестьдесят дней не видя солнца божьего... (Некрасов Н.А. Полн.собр.соч. Л.; М.,
Т.9. С. 219.)
Герой Станюковича породнился с русским крестьянином “среди моря”, где “равно
каждому не раз грозила смерть”. В повести “Вокруг света на “Коршуне” выведен
замечательный образ простого моряка, вчерашнего крестьянина Бастрюкова. Сближаясь с
ним, герой повести Володя Ашанин впервые испытал силу породненности с судьбой
народной: “И с таким народом, с таким добрым, всепрощающим народом да еще быть жестоким!” И он тут же поклялся всегда беречь и любить матроса... Эта мысль о любви к
народу, как “руководящем начале” всей деятельности Ашанина, несомненно, и
некрасовская мысль. И не то чтобы Станюкович “перепевал” Некрасова, просто он следо-
вал духу великой русской литературы от Радищева до Пушкина, и от Гоголя до Тургенева
и Толстого...
Психологически убедительный показ переживаний юного героя Володи Ашанина,
раскрытие “интересных типов моряков” обусловили задачу повести. В русской литературе
повесть эта о восемнадцатилетнем мореходе занимает особое, на наш взгляд, явно
недооцененное место.
Писатель широко использовал очерки как фактическую основу не только в повести
“Вокруг света на “Коршуне”, но и во многих морских рассказах. Отголоски шума Тихого
океана есть во многих повестях. То же самое и в отношении писем юного Станюковича из
кругосветного плавания. Ничто не прошло бесследно для него как художника. Сотни
деталей, эпизодов, штрихов характера были увидены в плавании, в жизни на дальневосточном берегу, за границей. И сначала было отображено в очерках, затем своеобразно
вошло в рассказы, повести. И самое главное, что за всеми достопримечательностями он, в
отличие от многих писателей-путешественников, в том числе в отличие от Гончарова,
необыкновенно зорко всмотрелся в облик главного героя этих путешествий — русского
моряка, и открыл нам его душу. И не просто всмотрелся в лицо этого героя, но на окружающий его мир сумел посмотреть глазами этого народного героя. Сумел оценить и
полюбить его, дать ему в своих произведениях “право голоса” — многие рассказы у
Станюковича имеют монологический характер, причем монологи эти глубоко
реалистичны. Несомненно качественное обновление морской прозы у Станюковича,
углубление героического и вместе с тем драматического начала, связанного с показом
народной жизни. Но заметим, что это отличие отнюдь не означает, что “героические черты
характера русских моряков” остались в силу позиции, занятой Гончаровым, “за пределами
его повествования”. Так утверждается в интересной книге В.П. Вильчинского. Тут
исследователь явно не прав, хотя нельзя с ним не согласиться, что автор “Фрегата” недостаточно внимания уделил русским морякам (Вильчинский В.П. К.М. Станюкович. С. 246,
248). Станюкович шел дальше.
Станюкович, по его признанию, подчас “списывал с натуры”, переносил виденное на
бумагу пером очеркиста. Но и в разных произведениях, преобразованных фантазией
художника, эта реальность не теряла своего лица, своей конкретности, своей живости,
своей силы.
“Морская тематика дала возможность писателю запечатлеть героические черты
русского национального характера и тем самым участвовать в решении одной из
важнейших задач искусства”, — пишет Вильчинский (там же. С.145). И это так. Если Гончаров во “Фрегате “Паллада” указал на то, что подлинный героизм как бы растворен в
толщах народных масс (“Имя этим героям — легион”), то Станюкович в своих морских
рассказах высветил лицо этого героя, нарисовал его индивидуальный портрет, раскрыл
человеческую сущность, личностные качества.
Плавание русских моряков на Дальний Восток, освоение дальневосточных окраин
было прогрессивным, гражданственным. И не случайно пафос одобрения героического в
действиях русских моряков осветил многие страницы замечательных “дальневосточных”
произведений писателей-реалистов — Гончарова и Станюковича.
Лекция № 5. «Героика открытий и освоения Дальнего Востока в творчестве
ученых, путешественников, писателей Н.М. Пржевальского и М.И. Венюкова». – 2
часа.
Пржевальский Николай Михайлович (12 апреля 1839, с. Кимборы Смоленской
губернии - 1 ноября 1888, Каракол) Пржевальский родился в селе Кимборы Смоленской
губернии 12 апреля 1839 года. Отец, поручик в отставке, умер рано. Мальчик рос под
наблюдением матери в имении Отрадное. В 1855 году Пржевальский окончил смоленскую
гимназию и определился в Москве унтер-офицером в Рязанский пехотный полк; а получив
офицерский чин, перешел в полоцкий полк. После пяти лет службы Пржевальский
поступает в Академию Генерального штаба. Помимо основных предметов, он изучает
географию. В 1864 году его избирают в действительные члены географического общества.
Занимая должность преподавателя истории и географии в Варшавском юнкерском
училище, Пржевальский усердно изучал эпопею африканских путешествий и открытий,
знакомился с зоологией и ботаникой, составил учебник географии. Вскоре он добился
перевода в Восточную Сибирь. В 1867 году Пржевальский получил двухлетнюю
служебную командировку в Уссурийский край, а Сибирский отдел географического
общества предписал ему изучить флору и фауну края.
По Уссури он дошёл до станицы Буссе, потом до озера Ханка, которое является
станцией для перелетных птиц. Здесь он проводил орнитологические наблюдения. Зимой
он исследовал Южно-Уссурийский край. В 1868 году Пржевальский усмирил в
Маньчжурии китайских разбойников, за что был назначен старшим адъютантом штаба
войск Приамурской области. Результатами его первой поездки были сочинения «Об
инородческом населении в южной части Приамурской области» и «Путешествие в
Уссурийском крае».
В 1870 году Русское географическое общество организовало экспедицию в
Центральную Азию. Начальником ее был назначен Пржевальский. Пржевальский
путешествовал по пустыням и горам Китая и Монголии, наносил их на карты, делал
географические исследования, собрал коллекции растений, насекомых, пресмыкающихся,
рыб, млекопитающих. При этом были открыты новые виды, получившие его имя: ящурка
Пржевальского, расщепохвост Пржевальского, рододендрон Пржевальского. Двухтомный
труд "Монголия и страна тангутов" принес автору мировую известность, был переведен на
ряд европейских языков.
Русское географическое общество присудило Пржевальскому Большую золотую
медаль и "высочайшие" награды - чин подполковника, пожизненную пенсию в 600 рублей
ежегодно. Он получил Золотую медаль Парижского географического общества. Его имя
ставили рядом с Семеновым Тян-Шанским, Крузенштерном и Беллинсгаузеном,
Ливингстоном.
В январе 1876 года Пржевальский представил в Русское географическое общество
план новой экспедиции. Он намеревался заняться исследованием Восточного Тянь-Шаня,
дойти до Лхасы, обследовать загадочное озеро Лобнор. Кроме того, Пржевальский
надеялся найти и описать дикого верблюда, который обитал там, по сведениям Марко
Поло.
12 августа 1876 года экспедиция выступила из Кульджи. Преодолев хребты ТяньШаня и Таримскую впадину Пржевальский достиг в феврале 1877 огромного
тростникового болота-озера Лобнор. Пржевальский был доволен: он изучил Лобнор,
южнее озера открыл хребет Алтынтаг, описал дикого верблюда, добыл даже его шкуры,
собрал коллекции флоры и фауны. В Кульдже, его ждали письма и телеграмма, в которых
ему предписывалось непременно продолжать экспедицию.
Во время путешествия 1876-1877 годов Пржевальскому помешали война в Западном
Китае, обострение отношений между Китаем и Россией и его болезнь: нестерпимый зуд во
всем теле. И все-таки это путешествие ознаменовалось двумя крупнейшими
географическими открытиями - низовьев Тарима с группой озер и хребта Алтынтаг.
Болезнь заставила его вернуться на время в Россию, где он опубликовал свой труд «От
Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор».
Во время третьего путешествия в Центральной Азии Пржевальский описал два
новых вида животных - лошадь Пржевальского и тибетского медведя. Свои наблюдения и
результаты исследований Пржевальский изложил в книге "Из Зайсана через Хами в Тибет
и на верховья Желтой реки". Итогом трех его экспедиций были принципиально новые
карты Центральной Азии.
В 1888 году Пржевальский двинулся через Самарканд к русско-китайской границе,
где во время охоты в долине реки Кара-Балта, выпив речной воды, заразился брюшным
тифом. Ещё по дороге в Каракол, Пржевальский почувствовал себя плохо, а по прибытии в
Каракол он совсем слёг. Через несколько дней 1 ноября 1888 года он скончался. Похоронен
на берегу озера Иссык-Куль.
Самый маленький подвид бурого медведя - открытый Пржевальским медведь
пищухоед или тибетский медведь весит около 100 кг На могиле Пржевальского воздвигнут
памятник по рисунку А. А. Бильдерлинга. На памятнике начертана скромная надпись:
"Путешественник Н. М. Пржевальский". Так он завещал. В 1889 году Каракол был
переименован в Пржевальск. В советское время недалеко от могилы был организован
музей, посвященный жизни Пржевальского.
Венюков Михаил Иванович (23.06.1832, с. Никитское Рязанской губернии –
04.04.1901, г. Париж) — русский географ, путешественник и этнограф, генерал-майор.
Родился в мелкопоместной дворянской семье. В раннем возрасте воспитанием мальчика
занималась бабушка, которая привила ему любовь к чтению и разносторонним знаниям.
Тринадцати лет Венюкова приняли на «казенные хлеба» во второй класс кадетского
корпуса, из которого в 1850 он вышел в чине артиллерийского прапорщика. Служил
прапорщиком артиллерийской батареи в Серпухове. Через два года был назначен
репетитором физики в Петербургский кадетский корпус. Одновременно он
вольнослушателем посещал университет, а через год поступил в Академию Генерального
штаба, закончив ее в 1856. По выпуске получил назначение в штаб генералгубернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева.
В начале мая 1857 поручик Венюков в качестве старшего адъютанта прибыл в штаб
войск Восточной Сибири, в Иркутск. Н.Н. Муравьев сразу заметил исполнительность
молодого офицера и предложил ему ехать вместе с ним на Амур. В своем дневнике
Венюков записал: «Мечта моя быть на Амуре, представлявшем в то время крупный
политический интерес, сбывалась». И ранним утром 7 июня он впервые увидел Амур.
Венюкову была поручена срочная работа по составлению топографических карт и анализу
военной статистики для полной оценки политической ситуации на Дальнем Востоке с
целью его дальнейшего заселения. Данные были необходимы генерал-губернатору для
личного доклада в Петербурге. Следом за Муравьевым курьерская тройка за десять дней
доставила в столицу и его адъютанта. Недолгое пребывание в Петербурге запомнилось
М.И. Венюкову встречей и долгой беседой с героем Амурской экспедиции Г.И.
Невельским. По заданию генерал-губернатора Венюкову предстояла сухопутная
экспедиция по течению Уссури. В связи с этим Невельской сообщил будущему
путешественнику ценные сведения о Нижнеамурском и Уссурийском краях и даже
«начертил ... эскиз страны между Уссури и Японским морем и тут же написал на полях
пояснительный текст».
В феврале 1858 М.И. Венюков уже снова был в Иркутске и вскоре начал подготовку
к своей первой экспедиции: по Уссури, через Сихотэ-Алинь к океану. Волею судьбы в мае
1858 ему довелось присутствовать при подписании Айгунского трактата и участвовать в
закладке поста Хабаровка. А 1 июня 1858 М.И. Венюков со своими спутниками –
сотником Пешковым, переводчиком урядником Масленниковым, унтер-офицером
Кармановым, денщиком и одиннадцатью казаками – начали свой путь от станицы
Казакевичево, что расположилась рядом с только что основанной Хабаровкой.
Путешествие, совершенное двадцатишестилетним офицером, было своего рода
подвигом: более 700 км от устья Уссури до перевала через Сихотэ-Алинь он прошел
пешком, ведя счет шагам, чтобы карта, составленная им «не оставляла в недоразумении
тех, которые бы стали впоследствии руководствоваться ею». Идти приходилось через
заросли густого кустарника, прибрежные травы высотой в человеческий рост, каменные
завалы. Никогда и никем не мерянные расстояния, изгибы реки, каждая протока или
приток должны, были с наибольшей точностью лечь на планшет. Так был проложен
первый пеший маршрут от Хабаровки через Сихотэ-Алинь к Тихому океану. Он первым из
русских перешел через Сихотэ-Алиньский хребет к Японскому морю и составил
подробное научное описание малоизвестного тогда Приуссурийского края, положив
начало дальнейшему изучению этой части России.
Позднее по нему пройдут такие знаменитые путешественники как Н.М.
Пржевальский и В.К. Арсеньев. Сегодня недалеко от пос. Кавалерово на самой вершине
перевала стоит белый обелиск с именами трех географов-первопроходцев. Выйдя к морю,
Венюков собирался продолжить путь к Владимирскому посту, но заболел и вынужден был
возвратиться обратно по прежнему маршруту. В пути он переписал начисто свой
экспедиционный отчет. Работа называлась «Описание реки Уссури и земель к востоку от
нее до моря». В ней дана физическая география вновь открытого края, представлен быт
его крайне редкого населения и возможные перспективы заселения и освоения. Н.Н.
Муравьев-Амурский остался очень доволен выполненной М.И. Венюковым работой, уже
прочил его в руководители новой экспедиции, но личные обстоятельства вынудили
Михаила Ивановича навсегда проститься с Сибирью.
В марте 1859 Венюков выступил в Петербурге в Русском географическом обществе с
докладом о своем путешествии по Уссури. Сведения, представленные им, получили
высокую оценку собравшихся и, в частности, вице-председателя общества П.П. Семенова
(с 1906 – Тян-Шанский). Позднее в своих «Воспоминаниях» М.И. Венюков вернется к
своей амурской эпопее 1857–1858.
В 1860–1870-е М.И. Венюков совершил путешествия по зарубежному Дальнему
Востоку, Японии и Китаю, побывал в Средней Азии – в верховьях реки Чу и на озере
Иссык-Куль, служил на Кавказе и в Польше. Результатом экспедиций стали его труды:
«Очерки современного Китая», «Очерк старых и новых договоров России с Китаем»,
«Очерки Японии», «Обозрение Японского архипелага в современном его состоянии» и др.
Картография, естествознание, физическая география, история, статистика, этнография,
военная политика находили самое широкое отражение в его работах. Именно М.И.
Венюков в те годы сделал очень много в области разработки политической географии
всего западного побережья Тихого океана. В течение двух лет он был секретарем
Императорского Русского географического общества, редактировал «Известия» ИРГО. В
1875 был участником Международного географического конгресса в Париже.
В 1877 М.И. Венюков подал прошение об отставке с воинской службы и был уволен
«генерал-майором с мундиром». В этом же году выехал в Париж, как оказалось навсегда.
За границей он жил во Франции, Швейцарии, Англии, был избран членом географических
обществ этих стран. М.И. Венюков много путешествовал – по Северной Африке,
Мадагаскару, Занзибару, по Южной и Центральной Америке, Норвегии, Италии. Его
научные труды издавала Французская академия наук.
24 года прожил М.И. Венюков вдали от России, продолжая оставаться ее патриотом.
Он писал: «Нет силы, которая бы могла исключить меня из числа преданных сынов
русской земли». Задолго до своей кончины, будучи одиноким человеком, он составил
завещание, вернувшись в памяти к годам своей молодости. Богатую научную библиотеку,
свыше 1200 томов, и все свои рукописи он завещал «селению Хабаровка». Денежную
сумму – Русскому географическому обществу, селу Никитинскому, где родился, и селу
Венюково на Уссури, выразив желание, чтобы эти средства пошли на нужды образования.
Еще раньше, узнав из переписки с Ф.Ф. Буссе, заведующим Переселенческим
управлением в Южно-Уссурийском крае, о создании Общества изучения Амурского края,
М.И. Венюков пожертвовал первому научному обществу далекой российской окраины 416
томов и 78 карт из своей библиотеки.
Свой жизненный путь большой ученый и неутомимый путешественник закончил в
одной из парижских больниц.
В память о нем осталось на реке Уссури село Венюково, а в селе школа, построенная
на средства путешественника, его именем названы перевал через хребет Сихотэ-Алинь,
мыс на Курильских островах. В Дальневосточной государственной научной библиотеке в
Хабаровске и в библиотеке Общества изучения Амурского края во Владивостоке читатели
и сегодня пользуются книгами, подаренными М.И. Венюковым, ученым, заслуги которого
признаны всем миром.
Лекция № 6. «Тема Дальнего Востока в истории русского путевого очерка
второй половины XIX века (С.В. Максимов, Д.И. Стахеев, П.А. Кропоткин, А.В.
Елисеев)». – 4 часа.
Путевые очерки С.В. Максимова, Д.И. Стахеева, П.А. Кропоткина, А.В. Елисеева.
Лекция № 7. «Чехов на Дальнем Востоке, поездка на остров Сахалин: «научные
и литературные цели». Путевые очерки «Из Сибири», «Остров Сахалин»: тема
«маленьких героев». Пребывание писателя во Владивостоке в 1890 году». – 2 часа.
Русская реалистическая литература с большой художественной силой, с подлинной
гражданственной страстностью запечатлела духовный облик народа, его страдания, его
борьбу за честь и независимость своей родины, за социальную справедливость, за свободу.
Одними из самых ярких произведений, где трагедия народа вынесена на гребень
повествования, являются очерки А. П. Чехова «Из Сибири» и особенно — «Остров
Сахалин». В русской литературе это не первое произведение о Сибири и о каторге. До
Чехова были произведения С. Максимова («Сибирь и каторга»), рассказы и повести В.
Короленко, Ф. Достоевского («Записки из мертвого дома»), П. Якубовича-Мельшина («В
мире отверженных») и др.
В нашем литературоведении есть, целый ряд работ об очерках Чехова. В них, в
частности в книге Г. Бердникова «А. П. Чехов. Идейные и творческие искания», хорошо
показано, что сибирско-сахалинская тема, в которой писатель выявлял противоречия всей
русской жизни тех лет, заняла особое место в творчестве Чехова. Сам писатель находил,
что даже в тех произведениях, которые сюжетно не связаны с поездкой на остров каторги,
«все просахалинено». Если и до поездки в творчестве Чехова сильны были мотивы
трагизма и драматизма всей русской жизни, то после поездки эти мотивы зазвучали с
потрясающей силой (сборник «Палата № 6», 1893 г.). «Значение сибирско-сахалинских
впечатлений для Чехова, — говорится в книге «Очерки русской литературы Сибири»,—
прежде всего идейное, внутреннее, а не внешнее, бытовое, экзотическое. Это — общее
представление об арестантском строе жизни, о необходимости борьбы с ним, о
безнравственности примирения и пассивности». И вместе с тем современная критика
подчеркивает, что главным результатом сибирско-сахалинских впечатлений Чехова
явилось гражданское возмужание писателя, усиление в его творчестве 90-х — начала 900х годов критических и оптимистических тенденций, критического и утверждающего
пафоса. Эти тенденции связаны с той верой в народ, которая вдохновляла Чехова на
дальнюю поездку, на создание очерков о Сибири и Дальнем Востоке. Вот почему нам хотелось акцентировать внимание на вопросе: что же внушало Чехову эту веру, эту надежду
в силы народные, что не давало ему отчаяться, помогало надеяться на будущее? Другими
словами, речь пойдет о выявлении «оптимистических тенденций», того положительного,
гуманистического и даже героического начала, которое присутствует в очерках Чехова. В
чем оно и каким образом выявляется великим русским писателем?
Если сказать коротко: во-первых, в мужественной, гуманистической позиции
писателя-гражданина, народного заступника, в силе его гражданского протеста против
социальной несправедливости (прав исследователь, когда подчеркивает, что и «движение
основного конфликта чеховской повествовательной прозы, в развитие которого
включились и впечатления, вынесенные из путешествия на Сахалин, свидетельствует об
идейнотворческой эволюции художника: обновление человека, борьба за новую
нравственность
начинается
столкновением,
разоблачением
существующей
нравственности»); во-вторых, в изображении народной истории освоения края, в
изображении «маленьких героев»; в-третьих, в изображении картин родной земли, ее
просторов, ее затаенных сил во всеобъемлющем чувстве родины.
В апреле 1890 года А. П. Чехов отправился на Дальний Восток «с научною и
литературной целями». Поездке предшествовала большая подготовительная работа. В
письмах этого периода он то и дело говорит о том, что много читает, просит прислать ему
нужные материалы. «Приходится быть и геологом, и метеорологом, и этнографом». Он
внимательно изучает разнообразную литературу о Дальнем Востоке: путевые очерки
мореплавателей (Давыдова, Крузенштерна, Головнина, Невельского, Бошняка), записки
писателей (Гончарова, Максимова и др.), научные описания исследователей (Маака,
Шренка и др.), труды историков. Свою работу о Сахалине Чехов не раз называл
академическим трудом, диссертацией. Жанровое своеобразие путевых очерков
определяется целями писателя. Русский очерк путешествия (Г. Успенский, Н. Телешев и
др.) отличался строгим документализмом, научной достоверностью. Чехов углубляет эту
традицию.
Путевые очерки «Из Сибири» — это писательские очерки, в которых присутствуют
зримые, конкретные наблюдения, обрисованы человеческие характеры, повествование
доведено до глубокого художественного обобщения. В сибирских очерках Чехов дает
зарисовки целой галереи разнообразных человеческих характеров: это и мужикипереселенцы, из которых рельефно нарисован мужик-бобыль, и дед-перевозчик, и хозяйка,
которая «замешивает тесто с солнечным светом», и мужик Федор Павлович,
сопроводивший Чехова через затопленные луга близ Иртыша. Острый и тонкий взгляд писателя, его талант помогают ему увидеть и подчеркнуть в том или ином герое
индивидуальное и характерное. Эти лица создают коллективный образ народа.
Подлинным действующим лицом путевых очерков «Из Сибири» является автор.
Хотя, в отличие, скажем, от очерков Гончарова, автор не прикрыл собою фигуры крестьян,
многих встречных спутников — без его личности, без его размышлений, без его взгляда на
вещи не было бы целостной картины. Калейдоскоп путевых картин объединен образом
рассказчика. Надо сказать, что живое присутствие автора становится традицией русского
путевого очерка. Чехов в письме Суворину 20 мая 1890 года из Томска писал, что он «не
боялся быть в своих заметках слишком субъективным и не боялся, что в них больше
чеховских чувств и мыслей, чем Сибири». Субъективное, личностное начало остается и в
«Острове Сахалине». Но там оно носит иной, более привычный для чеховского письма
характер: автор чаще всего высказывается не прямо, а умелым подбором фактов,
использует тот прием, который Добролюбов называл группировкой фактов. Очерк о
Сахалине отличает ярко выраженное исследовательское, «диссертационное» начало.
Запущенный сибирский тракт, непролазная грязь по дорогам, бедность и убожество
жизни, казалось, могут затмить собою все светлое в народной жизни. Но этого не
произошло. На переселенцев, на сибирских перевозчиков, на всех людей, кому недешево
«достается жизнь», Чехов смотрит глазами сына своего народа. Его упрекали в
безгеройности рассказов, а он увидел подлинных героев в народной массе, в «гуще
народа», как говорил он сам. Вот несколькими штрихами рисует он мужиковпереселенцев, горемычных простых людей. Казалось, щемящая жалость заполнит все
существо повествователя в эти минуты. Но нет, в чеховском повествовании слышится и
нечто другое. «Я гляжу на них и думаю: порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальною, пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только
необыкновенный человек, герой...» С восхищением пишет Чехов о сибирских почтальонах,
воздавая должное их терпению и выносливости. «Сибирские почтальоны — мученики, —
говорит он. — Крест у них тяжелый. Это герои, которых упорно не хочет признать
отечество...». Разглядеть в обыденном героичное — значило увидеть душу народа. Увидит
Чехов в пути и другой сорт — испитых, истасканных, битых людей, которые, пока шли
этапом по тракту, «одеревенели до мозга костей». В них убито все человеческое. И это
было обвинение строю, который калечил тысячи и тысячи судеб.
Через все беды, испытания, страдания проходит народ, сохраняя человеческое.
«Какие хорошие люди!» — не раз восклицает Чехов. «Народ добрый, ласковый». И
совершенно иная должна быть у этого народа жизнь. К этой мысли подводит нас Чехов,
передавая размышления одного из своих героев: «Золото, а не человек, но, гляди,
пропадает ни за грош, без всякой пользы, как муха, или, скажем, комар. Спросите его: для
чего он живет?» Так от бытовых, казалось бы, непримечательных встреч, эпизодов Чехов
ведет читателя к социальным вопросам времени, к вопросу о том, что мешает жить народу
«полной, умной и смелой жизнью».
И, как видим, уже в сибирских заметках он говорит о тех «необыкновенных»
обыкновенных людях, о тех маленьких героях, без которых жизнь была бы беспробудно
мрачна. Проблема человеческой активности, героизма волновала писателя еще ранее.
Характерна его статья о Н. М. Пржевальском, напечатанная в 1888 году. «Таких людей, как
Пржевальский, я люблю бесконечно», — признавался писатель. В статье хорошо видно, за
что же любил Чехов таких людей. Идейность, целеустремленность, богатство знаний,
трудолюбие, подвижничество — вот что привлекало его в знаменитом путешественнике.
Такие люди, как Пржевальский, олицетворяют высшую нравственную силу. «Подвижники,
— утверждает Чехов, — нужны как солнце. Составляя самый поэтический и
жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают».
Называя таких людей людьми «подвига, веры и ясно сознанной цели», Чехов подчеркивает
их нравственное значение в жизни и литературе. «Если положительные типы, создаваемые
литературою, — пишет он, — составляют ценный воспитательный материал, то те же
самые типы, даваемые самою жизнью, стоят вне всякой цены».
Когда Суворин пренебрежительно отнесся к его замыслу, утверждая, что Сахалин
никому не нужен и неинтересен, Чехов ответил ему страстной отповедью. Он говорил о
Сахалине как о месте невыносимых страданий, месте ссылки тысяч людей. Он говорил о
Сахалине как о месте подвигов русских мореплавателей, которые открыли эти земли. «Не
дальше, как 25 — 30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали
изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно, мы
не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что бог дурно
создал человека». А после возвращения он еще раз скажет Суворину: «Как Вы были
неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин!».
Нашла ли тема «изумительных подвигов, за которые можно боготворить человека»,
отражение в очерках Чехова?
Этот вопрос — резонный, тем более что в некоторых исследованиях об этом
говорится мимоходом, в других ничего не говорится, а все концентрируется на теме
каторги. Тема «изумительных подвигов» прошла через все очерки Чехова. Изредка, как
обнаженный пласт, она выходит на первый план повествования, чаще же всего составляет
второй план повествования, который постоянно чувствуется, как чувствуется солнечное
небо, закрытое тучами. Это, как мы уже сказали, одна из идейно-тематических граней,
которые помогают Чехову показать огромные потенциальные возможности народа. В
«Острове Сахалине» А. П. Чехов не обошел героической темы, но ее воплощение в очерке,
посвященном острову ссылки, потребовало своеобразия. Путевые записки о Сахалине
отличаются от сибирских заметок. «Остров Сахалин» — это своеобразное произведение, в
котором сплавлено научное и художественное изображение действительности. Есть главы
(например, первая, вторая), в которых преобладает художественное изображение, в других
же главах превалирует научное описание — статистическое, географическое, юридическое
и т. д. Правда, и статистика, и география, и другие сведения даны все-таки пером писателя.
Очерк не разломился по частям, он един, научное и художественное в нем сплавлено
воедино. Очерк этот может быть назван живым писательским исследованием. Иные
исследователи не видят этого своеобразия и не зачисляют его в ранг художественной литературы. «Все-таки это не художественное произведение», — считает Э. А. Полоцкая,
отказывая документальному очерку в художественности.
Как замечено критикой, особую роль в очерке играют подстрочные примечания.
Сюда перенесено во многом «историческое освещение фактов», которое Чехов считал
необходимым в такого рода книге. Здесь много сведений героического характера.
Высказывается мнение, что ввести в основной текст их было трудно: «они могли
нарушить основную тональность повествования об острове страданий, но целиком
пожертвовать ими Чехов не мог и не хотел». Это отчасти верно. Действительно, в
примечания перенесены многие героические страницы. Как правило, это — история, то,
что Чехов не видел собственными глазами, но о чем прочитал. Это — рассказы о жене
Невельского, Екатерине Ивановне, взятые из записок лейтенанта Бошняка, а также из
мемуаров Г. И. Невельского, на что указывал сам Чехов. Автор приводит слова Бошняка и
Невельского, характеризующие Екатерину Ивановну как человека высокого нравственного
долга, стойко переносящую лишения, отзывчивую и душевную. В примечание перенесен
рассказ об агрономе М. С. Мицуле, «человеке редкого нравственного закала, труженике,
оптимисте и идеалисте», написавшем «оду в честь сахалинского плодородия». Здесь же
короткие рассказы о докторе А. В. Щербаке и об офицере-исследователе Н. В.
Рудановском. Говоря о Н. В. Буссе, Чехов называет его «нервным и неуживчивым»,
требовавшим от других чинопочитания. Не ускользнет от внимания писателя, что Буссе
редко отзывался о ком-нибудь милостиво, — и это тоже психологический штрих.
Но далеко не все историческое отнесено к примечаниям. Очень и очень многое
звучит в основном тексте. И это нисколько, не нарушает тональности повествования.
Здесь, в основном тексте, Чехов говорит об истории географических открытий на Дальнем
Востоке, называет имена Крузенштерна, Пояркова, Хвостова, Давыдова, Крашенинникова,
Невельского, Бошняка, Римского-Корсакова, Полякова. Уже на первой странице, описывая
город Николаевск, «один из самых восточных пунктов нашего отечества», Чехов
напоминает, что город был основан «не так давно», в 1850 году, известным Геннадием
Невельским, называет его «светлым местом в истории города». Имена подвижников,
людей, много сделавших для пользы родной страны, по мысли Чехова, не должны быть
забыты. Он горько сетует на то, что на Сахалине дают подчас случайные названия
селениям, но совершенно забывают об исследователях, «память которых, полагаю, —
Подчеркивает Чехов, — заслуживает большего уважения и внимания, чем какого-нибудь
смотрителя... убитого за жестокость». В основной текст вошел краткий рассказ об открытиях «нашего знаменитого Крузенштерна», который впал на этот раз в ошибку и посчитал
Сахалин за полуостров. Ошибка была исправлена в 1849 году Невельским. Чехов
характеризует Невельского «как личность исключительную». В кратком рассказе схвачен
весь героизм и драматизм жизни исследователя, его семьи, дана блистательная
характеристика ему и его жене, верной спутнице, переносившей все лишения геройски.
«Это
был
энергический,
горячего
темперамента
человек,
образованный,
самоотверженный, гуманный, до мозга костей проникнутый идеей и преданный ей
фанатически, чистый нравственно».
Ни один из исследователей жизни мореходов и землепроходцев, ни один из
романистов, пишущих о Невельском, не прошел мимо этой чеховской характеристики. Не
раз Чехов обращался в своей книге к запискам Бошняка. И опять же не в сносках, а в
основном тексте он говорил о его труде и о нем самом. В исследованиях Бошняка самое
интересное, конечно, личность самого исследователя, его молодость — ему шел тогда
двадцать первый год — и его «беззаветная, геройская преданность делу». Полемически
остры размышления Чехова о названиях селений. С большим уважением отзывается Чехов
об этнографе Л. И. Шренке, зоологе Полякове. И хотя описания путешествия Поляковым
были утомительными (благодаря добросовестности, с какою он пересчитывает все пороги
и перекаты), Чехов обращается к нему не раз и не два, воссоздавая картины прошлого.
Чехов продолжил в «Острове Сахалине» показ «маленьких героев»,
самоотверженных тружеников. С душевной теплотой говорит он о добрых и хороших
людях, которых он встречает в этом аду. Это доктор П. И. Супруненко, собравший
замечательную зоологическую коллекцию, которая могла послужить основанием для превосходного музея. Это фельдшерица М. А. Кржижевская, «служившая много лет на
Сахалине ради идеи — посвятить свою жизнь людям, которые страдают», и другие.
«Хорошие люди и хорошие дела уже не составляют редкости», — замечает Чехов. В
черновой рукописи он говорил о смысле труда этих героев. «Отброшенные от родины так
далеко и навсегда, эти труженики обречены на пожизненную борьбу с норд-остами,
туманами и опасностями, которыми им постоянно угрожают неприступные, плохо
исследованные берега; труд, о котором мы, живя в Петербурге или Москве, не можем
иметь даже представления. Но им можно позавидовать! Какой бы скромной и обыденной
ни казалась их деятельность в настоящее время, — пишет Чехов, — они займут в истории
Восточного побережья не последнее место».
С «маленькими героями», с их трудом, достойным войти в историю, Чехов связывает
свою веру в силы народа, свои надежды в приход иной жизни на берега Сахалина. В
черновой рукописи это высказывается прямо: «Быть может, в будущем здесь, на этом
берегу, будут жить... люди... счастливее, чем мы, в самом деле наслаждаться свободой и
покоем».
Картины родной природы, чеховские пейзажи помогают обнажить глубокие
противоречия между угнетенным состоянием народа и его стремлением к раскрепощению,
к полному выявлению внутренних сил, к торжеству духовного начала. «Степень
разбуженности человеческого сознания как бы проверяется способностью воспринимать
поэзию природы, нести в себе мечту о счастье, свободе, оценивать истинное положение
дел», — подчеркивает исследователь. Однако, вопреки мнению, что Чехов сознательно
ограничивал себя как пейзажиста, подчеркиваем, что в сибирских и сахалинских очерках
очень широко представлены картины природы. И это нисколько не противоречит тому, что
сам Чехов писал о Сахалине как о месте величественном и красивом, но таком, где
воспоминания о прошлом этого края, рассказы спутников о лютой зиме и не менее лютых
местных нравах, близость каторги совершенно снимали охоту любоваться пейзажем. Как
известно, Чехов в путешествие выехал в апреле. И не раз он посетует, что не может
воспеть красоту земли, так адски холодно, береза еще не распустилась, и «вся эстетика
пошла к черту», что он «почувствовал к природе отвращение».
Конечно, он будет любоваться природой — вспомним картины Енисея. Однако
описания природы для Чехова не станут самоцелью. Уже в письмах он остро выражает
этот контраст реального и желаемого, действительности и идеала. «Боже мой, как богата
Россия хорошими людьми! — восклицает Чехов в письме М. П. Чеховой, говоря о
социальных контрастах жизни. — Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если
бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и
счастливейшей землей». Чехов изумляется красотой Енисея, Байкала, Ангары, Амура.
«Берега живописные, — пишет он 13 июня 1890 года с Ангары, — погода чудная, тихая,
солнечная, теплая... Мне было так хорошо, что и описать нельзя».
А вот строки с Амура. «Амур очень хорошая река; я получил от него больше, чем
мог ожидать, и давно уже хотел поделиться с Вами своими восторгами, но канальский
пароход дрожал все семь дней и мешал писать. К тому же еще описывать такие красоты,
как амурские берега, я совсем не умею... Проплыл я по Амуру больше тысячи верст и
видел миллионы пейзажей, а ведь до Амура были Байкал, Забайкалье... Право, столько
видел богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно».
Красота природы вновь и вновь возвращает мысль писателя к тяжелой жизни народа.
Хорошая погода его встретила и на Сахалине. «Все в природе обстоит благополучно», но
оттого еще острее воспринимаются социальные беды этого острова страданий, называемого «целым адом». «Все хорошо под сиянием лунным»,— писал в свое время
Некрасов, и этот внутренний контраст благополучного «и мнимо благополучного
продолжен Чеховым. Кстати, Чехов в книге дважды упоминает имя Некрасова. Один из
его попутчиков, как бы иллюстрируя виденное, читал ему некрасовскую «Железную
дорогу». Говоря о сахалинских рудниках, Чехов вспоминает героя поэмы Некрасова
«Русские женщины».
Щедро рисует писатель и сахалинские картины природы (разумеется, в главах, где
они уместны). Десятки пейзажей — то мимолетных, то развернутых — пройдут перед
читателем. И они помогают донести то чеховское «субъективное» настроение, которое
определило высокий гуманизм книги, ее острое социальное звучание. Пейзажи не могли
быть отвлеченными от всего замысла писателя. И более того — в самих очерках о Сибири
и Сахалине — разные краски, разная тональность. «Вчера я целый день возился с
сахалинским климатом, — пишет он в одном из писем. — Трудно писать о таких штуках,
но все-таки в конце концов поймал черта за хвост. Я дал такую картину климата, что при
чтении становится холодно».
Вот чего стремился достичь и достигал в своих записках Чехов: донести то живое
«субъективное» ощущение, которое возникает у человека и в Сибири, и на Сахалине.
Красота сибирской природы пробуждает у Чехова желание заглянуть в завтрашний день,
вдохновиться мыслью о том, что со временем эта «оригинальная, величавая и прекрасная
природа» будет служить «неисчерпаемым золотым прииском для сибирских поэтов». Он
сравнивает Енисей с Волгой, с рекой, которую не мог не любить каждый человек нашей
Родины. И именно здесь высокая дума уносит Чехова в будущее. Могучий, неистовый
богатырь Енисей олицетворяет не только силы природы. Не может на этих просторах не
развернуться во всю исполинскую силу народ, не может не проявиться его могучий
характер. Это описание природы Енисея звучит как своеобразный монолог-дума, в чем-то
перекликающийся со знаменитыми лирическими отступлениями о Руси в поэме «Мертвые
души» Гоголя, поэзией Некрасова: «Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям
Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная,
скромная, грустная красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который не
знает, куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью... на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью,
какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого
Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая с страшной быстротой и силой мчится в
суровый Ледовитый океан... Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит
со временем эти берега!»
Этот контраст действительности и мечты, этот прорыв в будущее потребовал и не
совсем обычной стилевой окраски — Чехов находит не пасторально-идиллическую, а
патетико-лирическую струю, дающую всей картине лирическую окраску. Собственно,
такое лирическое размышление отнюдь не какое-то исключение для Чехова, если
вспомнить его знаменитую «Степь». В этом и подобных лирических отступлениях всего
явственней прозвучала чеховская вера в будущее, которая, как известно, с особой силой
пронизывает и другие его произведения этих лет. Хотя мучило его и то чувство, которое в
свое время прекрасно выразил Некрасов: «...жаль, только жить в эту пору прекрасную уж
не придется ни мне, ни тебе...» Вот уже на Сахалине он мечтает о тех временах, когда
берега свяжет железная дорога. «Но это в далеком будущем», — грустно замечает
писатель.
Пейзажами заполнена большая часть «Острова Сахалина». Это не пейзаж
самодовлеющего характера, не пейзаж-любование, это пейзаж, созвучный настроению
Чехова, его мыслям об униженных и оскорбленных. Вот описание горящего леса.
«Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и
огненных искр, казалась фантастическою», — пишет Чехов.. Какие же встают в памяти
ассоциации? Коротко, жестко Чехов набрасывает последний штрих: «И все в дыму, как в
аду». Чехов нарисует и картины сахалинского вечера в Корсакове, деревушке, «до обмана
похожей на хорошую русскую деревушку», и картину туманного берега, когда стена
тумана, надвигающегося с моря, походит на то, «как будто с неба на землю опустился
белый занавес», и картину моря в часы отлива, и городские картины, и картины арковской
долины, «помимо красоты положения, чрезвычайно богатой красками, так что трудно
обойтись без устаревшего сравнения с пестрым ковром». В чеховских пейзажах слились
воедино «мерный звон кандалов» и «шум морского прибоя». И почти каждый раз сквозь
зримые штрихи живой природы прорывается внутреннее одушевление, внутренняя дума
писателя. Это не пейзаж-иллюстрация, не фотографический набросок местности, моря и т.
п., это живая природа, как она запечатлена в душе писателя. Вот «чахлые, больные деревья», что в одиночку ведут «жесткую борьбу с морозами и холодными ветрами, и
каждому приходится осенью и зимой, в длинные страшные ночи, качаться неугомонно из
стороны в сторону, гнуться до земли, жалобно скрипеть, — и никто не слышит этих
жалоб». Природа как бы очеловечена, и читатель во власти мыслей и дум о людях, об их
судьбах, о жалобах, которых никто не слышит. А разве не слышим мы что-то тревожное,
глубоко драматичное в описании моря: «Было темно и тихо, море глухо шумело, и
звездное небо хмурилось, как будто видело, что в природе' готовится что-то недоброе». И
этот мотив драматического нарастает тревожно и объемно от страницы к странице, чтобы
к тринадцатой главе прорваться словами, полными горечи и боли, словами трагического
звучания. Эти слова о море, об океане, о жизни, которую увидел своими глазами на
Сахалине Чехов: «Море на вид холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о
песок, как бы желая сказать в отчаянии: «Боже, зачем ты нас создал?» Это уже Великий,
или Тихий, океан. На этом берегу Найбучи слышно, как на постройке стучат топорами
каторжные, а на том берегу, далеком, воображаемом, Америка. Налево видны в тумане
сахалинские мысы, направо тоже мысы... а кругом ни одной живой души, ни птицы, ни
мухи, и кажется непонятным, для кого здесь ревут волны, кто их слушает здесь по ночам,
что им нужно и, наконец, для кого они будут реветь, когда я уйду. Тут, на берегу,
овладевают не мысли, а именно думы; жутко, и в то же время хочется без конца стоять,
смотреть на однообразное движение волн и слушать их грозный рев».
«Не мысли, а именно думы...» Думы о судьбе народной, о будущем, о той новой,
поистине человеческой жизни, о которой явственно мечтал Чехов, стоя на берегу Енисея.
Чехов думает о тех богатствах, дарах моря и тайги, которые вручила природа людям. И
где-то подспудно, но постоянно слышится в его повествовании: и сюда, на остров, придет
настоящая, умная и светлая жизнь.
Поездка Чехова — это подвиг. Будучи больным, писатель решается на такую поездку,
преодолевает тысячи километров по сибирским гиблым дорогам, претерпевает невзгоды
путевой жизни и в Сибири, и на Сахалине, и в морях, на пути из Владивостока в Одессу.
Трудно физически, но не легче нравственно: «путешествие, особенно через Сибирь,
похоже на тяжелую, затяжную болезнь», — писал Чехов. И в другом письме: «Боже мой,
даже вспомнить жутко! ... Но тем не менее все-таки я доволен и благодарю бога, что он
дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие... Многое я видел и многое
пережил». Здесь Чехов — подлинный заступник народный, борец за его счастье. Книга его
— акт высокого гражданского мужества. Задавая вопрос о причине поездки Чехова на
Сахалин, подчас ищут ответ в том, что он хотел послужить интересам науки, написать
диссертацию и т. д. Думается, надо сразу понять, что все эти слова в письмах о
диссертации — это вещь условная: диссертацию в обычном смысле вряд ли он задумывал
написать, речь идет о замысле, в котором сочеталось бы художественное изображение и
научное, диссертационное исследование действительности. Что же касается причины его
поездки на Дальний Восток, то ответ надо искать не в частностях, а в общей позиции
писателя в те годы, в его страстном стремлении идти туда, где трудно дышится, где горе
слышится, служить своим словом народу. Устами одного из героев пьесы «Чайка» Чехов
скажет: «Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я
чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его
будущем...». Незадолго до поездки Чехов прочитал в журнале «Русская мысль» заметку, в
которой его называли «жрецом беспринципного писания». Чехов сначала не считал
необходимым ответить критику. «Я, пожалуй, не ответил бы и на клевету, — пишет он, —
но на днях я надолго уезжаю из России, быть может, никогда уж не вернусь, и у меня нет
сил удержаться от ответа. Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом, я
никогда не был». В этом письме Чехов не только отказал в праве даже на шапочное
знакомство клеветнику, но высказал кредо, свое высокое понимание высокой обязанности
писателя. Уже после возвращения в Москву Чехов размышлял об обязанностях писателя, о
любви к родине: «Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но в чем
выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо
труда — лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести
мундира»... Работать надо, а все остальное к черту. Главное — надо быть справедливым, а
остальное все приложится».
Да, Чехов — борец против пошлости, против бездеятельности, против бескрылого
существования. И его поездка на Сахалин — это его работа во имя родины, во имя
Справедливости, которую мы называем социальной, во имя счастья народа. «Остров
Сахалин» — одно из тех гражданственных по своему звучанию произведений великой
русской литературы, в которых слышался призыв к действию во имя народного счастья.
На Сахалине Чехов пробыл три месяца и три дня. Это был период напряженнейшей,
на пределе всех физических и духовных сил работы. «Не знаю, что у меня выйдет, но
сделано мною немало. Хватило бы на три диссертации. Я вставал в 5 часов утра,
ложился поздно и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною многое
еще не сделано», — писал Чехов Суворину 11 сентября 1890 года.
13 октября 1890 года (по старому стилю) А. П. Чехов покинул Сахалин на
пароходе «Петербург». Вначале было задумано осенью посетить Японию (об этом
Чехов пишет в «Острове Сахалине», а также в письмах). Возникал план возвращения
через Америку. Но Чехов пошел маршрутом, которым ходили суда Добровольного флота,
доставлявшие на Дальний Восток переселенцев. Чехов посетил Владивосток, затем через
Японское море, Индийский океан, Суэцкий канал, Черное море прибыл в Одессу. И
после почти восьмимесячного отсутствия 8 декабря 1890 года возвратился в Москву.
Кратковременное пребывание во Владивостоке выпадает на 15—19 октября 1890 года. В
то время во Владивостоке проживало четырнадцать тысяч жителей. Побывавший здесь
несколько ранее, в 1889 году, русский путешественник и писатель А. В. Елисеев в книге
«По белу свету», описывая достопримечательности Владивостока той поры, пишет:
«Владивосток с моря довольно красив и живописно расположен на откосах зеленеющих
гор». Среди зданий автор называет дом главного командира, морской клуб,
госпиталь, здание торгового дома, представляющее «энциклопедический магазин,
подобия которому нет в Европейской России», дом реального училища и др.
Будучи во Владивостоке, Чехов осмотрел город (порт, залив, бухту, магазин),
посетил общество изучения Амурского края (теперь Приморский филиал
Географического общества), еще ранее он ознакомился в библиотеке с газетой
«Владивосток» за ряд лет (потом он широко будет цитировать ее в «Острове Сахалине»).
Вероятно, мог побывать в морском клубе (попутчиком его был морской офицер). Что
привлекло внимание писателя в газете «Владивосток»? Он выписывает заметки (еще
работая в библиотеке перед поездкой) о бедственном положении морских офицеров на
Сахалине (Владивосток, 1886. № 22), о жизни айнов на Сахалине (1885, № 28), о
промысле морской капусты (1885, № 47, 48), о ссылках (1888, № 1 4 ) , о
судебных.волокитах и злоупотреблениях (1885, № 43), о заболевании цингой среди
ссыльных (1885, № 30), о кораблекрушениях (1885, № 33, 88), об истории
Крильонского маяка (1883, № 28), о морских плаваниях и происшеств и я х (1886, № 31)
и т. д.
Чехов интересовался вопросом заселения края, в частности жизнью крестьян,
которые прибыли в Приморье с Сахалина.
«По слухам, — писал он в своем очерке,— сахалинцы живут на материке хорошо.
Письма их я читал, но видеть, как живут на новых местах, мне не приходилось. Впрочем,
я видел одного, но не в деревне, а в городе». И Чехов кратко сообщает об одной мимолетной встрече во Владивостоке. В другом случае Чехов, говоря о сахалинской погоде,
вспоминает свой разговор с владивостокским городским головой, который сказал ему, что
«у них во Владивостоке и вообще по всему восточному побережью «нет никакого
климата». Промелькнуло в «Острове Сахалине» лицо искренней, жизнерадостней и
смешливой жены моряка-офицера из Владивостока, которая была спутницей по плаванию
на «Байкале» с севера в южный Сахалин. Среди тех экзотических фотографий, которые
Чехов привез из плавания, говоря его словами, «есть Цейлон, есть Порт-Саид, есть
Суэцкий канал, есть Владивосток...». Возвращался Чехов на пароходе «Петербург» и не
мог не интересоваться историей переселения на Дальний Восток морским путем. Именно
на пароходах «Россия» и «Петербург» (1 и 10 марта 1883 года по ст. ст.) были доставлены
во Владивосток первые партии переселенцев.
В последние дни жизни у Чехова назревала мысль вновь побывать на Дальнем
Востоке. В письме от 13 апреля 1904 года писателю-моряку Б. А. Лазаревскому он писал:
«В июле или августе, если здоровье позволит, я поеду врачом на Дальний Восток. Быть
может, побываю и во Владивостоке». Но этому не было суждено сбыться. И газета
«Владивосток» 15 августа 1904 года в некрологе Б. Лазаревского писала: «Чехов... хотел
осветить темный и страшный Сахалин, поехал туда и начал сгорать в чахотке».
Чехов не оставил своих обстоятельных впечатлений о Владивостоке, о морском
плавании. Остались лишь заметки в письмах. Читатель тех лет с историей переселения на
Дальний Восток знакомился по книге А. В. Елисеева «По белу свету». Ее автор
сопровождал в 1889 году в качестве врача партию переселенцев в тысячу с лишним
человек, отправляющихся морем из Одессы во Владивосток: «Русский человек остался
верен самому себе, своим привычкам и переносил все лишения в общем так хорошо, что
приходилось только удивляться».
Какие это лишения? Тропическая жара. Температура воды для питья не бывала ниже
+35°. Солнечные удары на палубе, преимущественно у детей. «Морские похороны».
Эпидемия кори. Тайфуны.
Вот описание парохода в шторм. «Кантон» превратился опять в огромную могилу,
из отверстий которой вырывался удушливый запах атмосферы, наполнявшей трюмы.
Обходя эти последние, я просто впадал в отчаяние при виде ужасающих условий, в каких
находились переселенцы. В нижних трюмах стояла по щиколотку вода, гниющая с
отбросами и издававшая страшное зловоние; повсюду темнота, сырость, грязь, среди которых копошатся в собственных извержениях целые сотни людей. Немудрено, что в этот
день нам пришлось выбросить за борт еще четверых детей...»
Безрадостные
картины,
данные
пером
писателя-документалиста,
достопримечательности пути, нравы, обычаи — все это и до сих пор впечатляет. И всетаки подлинный драматизм и трагизм этой далекой безрадостной дороги выразил глубже
других именно Чехов в своем рассказе «Гусев», написанном по пути из Владивостока в
Одессу. Рассказ вошел потом в сборник «Палата № 6».
Исследователями замечено, что сибирско-сахалинская тема отозвалась прямо не в
очень-то многих рассказах А. П. Чехова. Здесь обычно называют рассказы «Гусев»
(1890), «Бабы» (1891), «В ссылке» (1892), «Убийство» (1895), «Рассказ неизвестного
человека» (1893), рассказы «Страх», «Дуэль» (1895). Не менее важно и другое
обстоятельство, отмеченное ранее в исследованиях. Поездка Чехова на Сахалин оказала
влияние на весь строй души писателя, обострила чувство протеста против мира
социальной несправедливости и бесправия.
Но подчас и поныне еще представляют Чехова писателем, который изобразил жизнь
с такой беспристрастностью, что невозможно понять, какую же правду он отстаивает.
«Чехов не стремится утвердить ни «правду» Матвея, ни «правду» Якова. Каждого из них
можно понять и чисто по-человечески оправдать. В этом одна из главных особенностей
чеховского понимания мира», — пишет Н. Соболевская о рассказе «Убийство». Каждого
из них можно понять и оправдать — но ведь Чехов не холодный созерцатель. И разве
Чехов так уж и не отстаивает, не стремится утвердить какую-то высшую правду? Идея
человеческой активности, противостояния социальному угнетению личности, неприятия
пассивности остро заявлена во всех рассказах, где отражены сахалинские впечатления
писателя. «Старания писателя, — замечает Г. Бердников, — были направлены на то,
чтобы и в этой физически и нравственно истерзанной среде найти признаки
человечности».
И здесь нельзя не обратить внимание на контрастную расстановку фигур в
рассказах, на выявление двух жизненных философий в нравственном конфликте того или
иного рассказа. Нет, здесь не скажешь, что Чехов не стремится утвердить правду того или
иного героя и его голос исчезает в многоголосии героев. Помните, как зазвучал его голос
в «Острове Сахалине»? «Глядишь на тот берег, и кажется, что будь я каторжным, то
бежал бы отсюда непременно, несмотря ни на что».
Вот рассказ «В ссылке». В нем противостоят два характера, две жизненные
философии: старик лет шестидесяти, Семен, прозванный Толковым, с его скептическим
неверием в любое действие, его отрешенностью — «Ежели, говорю, желаете для себя
счастья, то первее всего ничего не желайте» — и молодой татарин, тоскующий о родной
деревне, о жене. Толковый подсмеивается над ссыльным Василием Сергеевичем, который
вызвал на Сахалин жену. А теперь тратит душевные силы на заботу о дочери. Неудача
Василия Сергеевича вызывает у Толкового какое-то внутреннее удовлетворение. И
потому молодой его собеседник, «глядя на него с ненавистью и с отвращением», бросает
Толковому обвинение: «Ты худо! Барин хорошая душа, отличный, а ты зверь, ты худо!
Барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и
тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина!» И
можно не сомневаться, что здесь та правда, которая по сердцу и Чехову: правда живого
человека, для счастья которого нужен весь мир.
В рассказе «Гусев» снова две «правды», два человеческих состояния, две
философии, если, конечно, можно назвать философией пассивное неразвитое отношение
к жизни. Гусев, бессрочно отпускной рядовой, после пятилетней службы на Дальнем
Востоке теперь возвращается домой. Он тяжело болен. Его отправили в далекий путь
морем, заведомо зная, что он не перенесет морской дороги. В судовом лазарете
оказывается рядом и интеллигент Павел Иванович. То, что Гусевым еще не осознается,
ясно для Павла Ивановича. Он возмущен тем, что жизнь человека ни во что не ценится
(«Жизнь не повторяется, щадить ее надо»), и тем, что такие, как Гусев, несознательны,
темны, забиты и мысль их не поднимается выше тоски по дому, жалости по хозяйству.
Кстати, в этом рассказе с поразительной силой Чехов отразил тему тоски по дому, по
родине, которая проходит через его сахалинские очерки, звучит в статье о Пржевальском.
Вспомним те «наплывы» у Гусева, которые вновь и вновь переносят его в родные места,
где прошло его детство («А дома в земле лучше лежать»), «Неспокойный человек»,
протестант Павел Иванович открыто говорит о своем неприятии зла: «Я живу
сознательно, я все вижу, как видит орел или ястреб, когда летает над землей, и все
понимаю. Я воплощенный протест. Вижу произвол — протестую, вижу ханжу и лицемера
— протестую, вижу торжествующую свинью — протестую. И я непобедим, никакая
испанская инквизиция не может заставить меня замолчать...». В этом протесте слышится
голос самого Чехова. И это тем явственнее, чем пристальнее мы вслушиваемся в то, что
говорит Павел Иванович, и в то, о чем пишет в своих письмах Чехов. «Прослужил на
Дальнем Востоке три года, а оставил после себя память на сто лет: со всеми разругался.
Приятели пишут из России: «Не приезжай». А я вот возьму да назло и приеду... Да... Вот
это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью». Это протест, в котором слышатся
ноты отчаяния.
И Павел Иванович, и Гусев умирают по пути на родину. Надо сказать, чувство тоски
по родине, о котором не раз говорится в очерке «Остров Сахалин», в этом рассказе
передано с огромной психологической силой. Сознание Гусева — это сознание человека,
в душе которого чувство родины не умирает до последнего дыхания.
Жажде обыкновенной обывательской жизни в «Рассказе неизвестного человека»
противопоставлена жажда жизни осмысленной, согретой высокой идеей. Героиня
рассказа Зинаида Федоровна, обвиняя Владимира Ивановича в отступничестве от
высоких целей, говорит: «Смысл жизни только в одном — в борьбе». Герой рассказа
хочет освободить себя от долга перед другими людьми, от обязанностей перед другими
поколениями. Никому и ничем не обязан. Эта философия отчуждения, отрыва от людей
заявлена неизвестным ясно и недвусмысленно: «Жизнь дается один раз, и хочется
прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную,
благородную роль, хочется делать историю, чтобы те же поколения не имели права
сказать про каждого из нас: то было ничтожество, или еще хуже того... Я верю и в
целесообразность и в необходимость того, что происходит вокруг, но какое мне дело до
этой необходимости, зачем пропадать моему «я». «Рассказ неизвестного человека»
построен также на сахалинском мотиве. На Сахалине Чехову было запрещено встречаться
с политическими, но тем не менее писатель сумел встретиться с ними. Именно факты
такого рода позволили Чехову дать изнутри психологию героя в «Рассказе неизвестного
человека».
Нарастание мотива сопротивления, неприятие обыденщины и мира угнетения и
насилия, обличение дохлой «философии» непротивления злу в полную силу зазвучали в
рассказе «Палата № 6» с ее метафорическим образом самодержавной России как палаты,
как жизни — тюрьмы. Потрясенный доктор Рагин впервые задается вопросом, как могло
случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не видел насилия и
издевательства над человеком. Здесь ли не ясно, на сторону какой правды становится
Чехов? Не случайно В. И. Ленин так остро воспринял этот рассказ как воплощение всей
безнравственности и жестокости царской России, как призыв к активности и борьбе.
Чехов не знал путей преобразования действительности, но несомненна его
обострившаяся тяга после поездки на Дальний Восток к социально острому, даже
героическому в искусстве. Об этом он пишет Горькому, поддерживая героическую роль
Нила в пьесе «Мещане». Активные, протестантские натуры приходят и на страницы его
произведений. И главное, во всем, что написано Чеховым после поездки на Дальний
Восток, усиливается мотив протеста против эксплуататорского строя, непротивления злу
и еще более явственно звучит вера в могучие силы народа, в счастливую будущность
человека труда в России, в том числе на дальневосточных берегах отечества.
Это «оптимистическое» начало в чеховских очерках о Сибири и Сахалине острее
видно, если сравнить их общую тональность с тональностью рассказа И. Бунина «На край
света» (1894). Надо сказать, что к теме переселения на Дальний Восток Бунин только
прикоснулся. Однажды он побывал на переселенческом пункте, откуда чуть ли не все
село отправилось в Уссурийский край. Впечатления от поездки отразились в этом
лирически-проникновенном, изумительно картинном рассказе. В один день украинское
село Великий Перевоз осиротело оттого, что много народу «навсегда покинуло родину
для далеких уссурийских земель и ушло «на край света». Писатель, не останавливаясь
подробно на социальных причинах, заставлявших покидать насиженные места, замечает,
что людей «навсегда выгоняет на край света не прихоть казацкая, а нищета». Из этой
серой толпы собравшихся в день отъезда взор писателя как бы выхватывает и выдвигает
на передний план одну-две фигуры. Вот высокая, худенькая дивчина Зинька, которая
горько плачет, прижимая к глазам рукава сорочки: с переселенцами уходит на новые
земли и ее любимый, Юхым, не быть им теперь никогда вместе... А вот на горе, около
мельниц, стоит в толпе стариков старый Василь Шкуть. От всей фигуры его еще веет
степной мощью, но какое у него скорбное лицо! «Ему вот-вот собираться в могилу, а он
уже никогда больше не услышит родного слова и помрет в чужой хате, и некому будет
ему глаза закрыть. Перед смертью оторвали его от семьи, от детей и внучат. Он бы дошел,
он еще крепок, но где же взять эти семьдесят рублей, которых не хватило для разрешения
идти на новые земли?»
В тональности рассказа — глубокий драматизм. Если у Чехова наряду с глубоко
драматическим проясняется и оптимистическое — по его словам, оставить родное гнездо
и уйти осваивать новые земли может только «необыкновенный человек, герой», — то у
Бунина как бы исключен мотив сколько-нибудь героический, он видит и проявляет
только драматическое. И в финале прорывается мотив безысходного человеческого горя.
Немые свидетели этого горя — вековые курганы да звезды на небе. «Но что им, этим
вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут
мгновение и уступят место другим таким же — снова волноваться и радоваться и так же
бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи обозов и станов, много
людей, много горя и радости видели эти курганы.
Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!»
Так заканчивается рассказ Ивана Бунина. «Давно уже не появлялось у нас ничего
столь поэтичного, художественного, столь хватающего вас за самое сердце... Это уж не
жанр, не бытописание, не этнография... а сама поэзия!» — говорил в одной из первых
рецензий на рассказ критик А. Скабический. «Почти стихотворение в прозе! — восклицал
другой. И сегодня, разделяя эти высокие оценки, мы все же должны заметить, что в
дальневосточной теме у Бунина отсутствует мотив подвижничества, далекий
Уссурийский край остался в рассказе обозначенным как «сказочная страна на конце
света». Для Чехова, побывавшего в этой «сказочной стране», она открылась во всей своей
реальности — он увидел горе народное, подвижничество народное, прозрел будущность
этого края как элемент будущности России. «Край еще молодой, пустынный, но история...
уже богатая. Труда и подвижничества в прошлом было много, но это еще только начало, и
в будущем предстоит немало хорошей и интересной работы». А ведь это те самые люди,
которые у Бунина «проживут мгновение» и уступят место другим, чтобы так же «бесследно исчезнуть с лица земли». Чеховские строки об истории края, истории
«единственной в своем роде», замечательной тем, что ее делали люди маленькие, «не полководцы и не знаменитые дипломаты, а мичманы и шкиперы дальнего плавания,
работавшие не пушками и не ружьями, а компасом и лотом», — эти строки,
подчеркивающие созидательное начало в деятельности нашего народа, обращены к нам,
наследникам подлинных подвижников, среди которых мы с гордостью называем самого
Чехова.
Да, подвижники нужны как солнце!
Лекция № 8. «Зарождение и развитие дальневосточной литературы в конце
XIX - начале XX веков. Творчество Н.П. Матвеева и П.И. Гомзякова». – 2 часа.
Павел Гомзяков не так знаменит, как Антон Чехов, но, как и великий драматург, был
врачом, причём не из последних: «Совсем еще не так давно / В великий океан окно /
Собой открыл Владивосток / На спящий крепким сном Восток..» Эти строки написаны в
1910 году и принадлежат Павлу Ионовичу Гомзякову - первому поэту Владивостока.
Он родился в семье священника Ионы Гомзякова, долгое время прожившего на
Аляске. После продажи русской колонии Соединенным Штатам в 1867 году семья отца
Ионы переехала в Благовещенск, а затем в казачью станицу Екатерино-Никольскую на
берегу Амура, названную так по именам губернатора Николая Муравьева-Амурского и
его жены Екатерины. В конце 1870-х годов семья Гомзяковых переехала во Владивосток,
где Павел поступил в мужскую гимназию. Учился вместе с детьми Шевелевых,
Янковских, Семеновых и других основателей и первых жителей Владивостока. Здесь он
впервые начал писать стихи, а в 1885 году была напечатана и первая книжка молодого
поэта Павла Гомзякова. Ему было 18 лет. К сожалению, книжка не дошла до наших дней.
После окончания гимназии Павел выбрал медицинскую карьеру и отправился в
Петербург, где поступил в военно-медицинскую академию. Закончив учебу, по личной
просьбе получил назначение во Владивосток.
Сначала Павел Гомзяков служил в сухопутных войсках и на острове Русском, но в
1899 году (после проверки, как врач переносит морскую качку) его перевели в
распоряжение морского ведомства. Он стал судовым врачом, плавал на различных судах
Тихоокеанской эскадры: канонерской лодке "Манджур", транспорте "Енисей", ледоколе
"Надежный", крейсерах "Забияка" и "Жемчуг" и других. В это время, перед самой русскояпонской войной (1904), вышла вторая книга стихов Гомзякова, которая, увы, тоже не
сохранилась.
После войны Гомзяков много плавал по миру, в 1908 году участвовал в спасении
жителей итальянского города Мессины, подвергшегося страшному землетрясению. Об
этом он написал в своих стихах.
Ему вообще удавались стихи-хроники, о чем говорит единственная дальневосточная
книга стихов, дошедшая (в количестве двух экземпляров) до наших дней.
Сборник был выпущен в свет в 1911 году и назывался Ad astra ("К звездам"). Этот
самый полный сборник поэта был напечатан в типографии газеты "Далекая окраина". В
него он поместил и свою знаменитую поэму о Владивостоке, скромно озаглавленную
"Юбилейные наброски". Посвящена она была 50-летию со дня основания города. До сих
пор она остается единственной исторической поэмой о Владивостоке и даже может
служить источником для будущих историков, так как в ней есть детали, упущенные или
обойденные вниманием современников Гомзякова.
В рецензии газеты "Далекая окраина" на сборник Ad astra говорилось: "Характерная
черта поэтического творчества Гомзякова - искренность, безыскусственность
переживаний... Его лирика отражает реальную жизнь в ее многообразии и
многочисленности психических переживаний. Стихам Гомзякова чужды филигранность
современных поэтов и изысканный стиль модернистов. Зато они проникнуты юношеской
свежестью и неподдельной искренностью настроений. С особой полнотой в них
отразилась суровая приморская природа с однотонным морем, холодным небом и
угрюмой темнотой сопок. В отделе переводов встречаемся с немецкими поэтами
Баумбахом, Фолькором, Густавом Фальке. Имеются переводы с китайского, корейского и
японского языков".
Из этого мы можем заключить, что Павел Гомзяков не терял времени во время
долгих плаваний и не только писал стихи, но и изучал языки, к чему, говорят, у него были
явные способности. Само собой разумеется, что он в совершенстве знал французский и
английский.
В 1911 году Гомзякова назначили главным врачом Сибирского флотского экипажа,
он работал в Морском госпитале Владивостока. В 1913 году в звании надворного
советника (и по табелю о рангах в звании подполковника) его как ценного специалиста
перевели на Балтику. Он служил в Либаве, Гельсинфорсе, Колыване. Там у него вышли
еще три книги: "Две свечи" (сказание о 1812 годе) и сборники "За веру предков" и "Певцу
синей птицы".
Революцию Павел Гомзяков не принял, но и в белое движение не пошел. Он умер
тихо, как Блок, и в том же, 1921, году. Просто угас. Революция губительна для поэтов.
Младший
врач
Сибирского флотского экипажа надворный
советник
(подполковник) Павел Иванович Гомзяков всю войну находился во Владивостоке. В
городе, где окончил прогимназию; где в 1885 г. была напечатана в типографии
командира портов Восточного океана его первая книжка стихов; куда 29-летним
молодым человеком вернулся в 1896 г. после окончания императорского Юрьевского
университета со степенью лекаря и был определен на службу в крепостной
пехотный полк. Во Владивостоке жизнь его, казалось, текла размеренно и тихо:
служебный рост, очередные награды за выслугу лет, занятие любимым делом. Павел
Иванович был членом комитета общественного здравия при областном правлении,
членом
Общества изучения
Амурского
края,
постоянным
участником
литературных вечеров. Во Владивостоке у них с первой женой Лилией Карловной
родилась 13 апреля 1898 г. дочь Наталия.
Война как будто подстегнула бег времени... В 1904 г. умирает старшая сестра Вера
(в супружестве Жаворонкова), а вслед за ней Пелагея. С полей Маньчжурии
приходит сообщение о гибели старшего брата, а затем о пропавшей без вести его
супруге. В войне участвует и дядя по материнской линии - И. Арцышевский. Все
эти события нашли отражение в творчестве Павла Ивановича, ускорили выход
второй книги его стихотворений, лучшие из которых были объединены под
заглавием “Песни печали”. Отрывок
из
стихотворения “Тернистые пути”
наилучшим образом передает внутреннее состояние поэта и гражданина: «В часы,
когда
лишен
я
ласк
волшебной
грезы
/
И кладбищем весь мир мне кажется живым, - / Пусть льются из очей невидимые слезы. /
Там вижу я Сократа, Зороастра / И всех, кто шли per aspera ad astra / К порогу
вечности. Будь слава им!»
Весь гонорар за книгу Павел Иванович перечислил Обществу Красного Креста.
К 1911 г. в издательстве “Далекая окраина” выйдет его третий поэтический сборник, а
в период с 1913 по 1916 г. - три поэмы, вышедшие в свет отдельными изданиями.
Павел Гомзяков был сыном священника (выходца из русской Америки) - старожила
города. Его отец Иван Гомзяков, священник, перебрался на Амур с Аляски - после
продажи её в том же 1867 году американцам. А обосновались тамбовцы Гомзяковы в
Русской Америке ещё в 1815 году. Во Владивостоке у Павла прошли его детство и
юность. После окончания медицинского факультета Юрьевского университета в Дерпте
(Тарту) был назначен на службу врачом во Владивосток, в Сибирский флотский экипаж.
Участвовал в спасении жителей Мессины во время трагического землетрясения в 1908
году. Пять лет спустя Гомзякова перевели на Балтийский флот, затем в Архангельск, где
он умер. Точная дата смерти поэта неизвестна. Стихи писал с одиннадцати лет; в 1885
году в типографии командира портов Восточного океана вышла небольшая книжечка
стихов восемнадцатилетнего поэта – «На память друзьям». «Картина жизни прошлых
дней / Патриархальна и проста: / В тайге - казарма для поста, / Два офицера, взвод
солдат... / Был незатейлив жизни склад: / Ловили неводом кету, / Фазанов били на лету /
И почту ждали чуть не год... / Терпели множество невзгод, / Болели родины тоской...»
По свидетельству известного владивостокского литератора и журналиста Н.П.
Матвеева, это была вообще «первая поэтическая книжка, напечатанная во Владивостоке
коренным обитателем Приморья». Младший врач Сибирского флотского экипажа
надворный советник (подполковник) Павел Иванович Гомзяков всю русско-японскую
войну находился во Владивостоке. Непосредственного участия в боевых действиях не
принимал, как об этом ошибочно написано в «Кратком энциклопедическом справочнике
Приморского края» (1997 г., изд-во ДВГУ). Газета «Дальний Восток» 20 июля 1904 г.
опубликовала сообщение: «Врач Сибирского флотского экипажа Павел Иванович
Гомзяков извещает друзей и знакомых, что в среду, 21 июля, в Успенском соборе будет
совершена панихида по брату его, капитану 5-го Восточно-Сибирского стрелкового
полка, убитому в сражении на Кингжоуских высотах в Порт-Артуре и по безвременно
почивших сестрах его». В 1904 году он выпускает во Владивостоке книгу
«Стихотворения». Весь гонорар за книгу Павел Иванович перечислил Обществу Красного
Креста. К 1911 г. в издательстве «Далекая окраина» вышел его третий поэтический
сборник «Аd astra» («К звездам»), а в период с 1913 по 1916 г. – три поэмы отдельными
изданиями. Кроме того, стихи Гомзякова регулярно публиковали владивостокские газеты
«Владивосток», «Дальний Восток», «Далекая окраина».
С медициной и с прошедшей к тому времени войной связаны события конца 1905 г.,
непосредственным участником которых становится Павел Иванович Гомзяков. В это
время в порту разгорался скандал. В октябре командир подводной лодки «Дельфин»
лейтенант Георгий Завойко по просьбе своих подчиненных обратился к командиру
Владивостокского порта контр-адмиралу Н. Греве с жалобой на условия службы. Вслед за
ним нижние чины сами в категоричной форме высказали свои претензии, среди которых
были требования пересмотреть нормы питания, не соответствующие нагрузкам службы,
предоставить собственные казарменные помещения, улучшить качество медицинской
помощи. Командир крейсера «Жемчуг» капитан II ранга Левицкий, которому было
поручено провести дознание, подтвердил справедливость и обоснованность требований
нижних чинов-подводников, на сторону которых встали и офицеры отдельного отряда
миноносцев (подводных лодок) – их непосредственные командиры. Для решения вопроса
обустройства потребовался ряд последовательных действий со стороны командира порта.
Сначала своим приказом он создал роту подводников, которой как отдельному воинскому
подразделению полагалось казарменное жилье. Следующим шагом становится
собственно выделение отдельного помещения в экипаже во флигеле над церковью.
Формирующиеся команды подлодок и мастеровые на их строительстве получили статус
особого отделения роты и тоже обрели постоянное пристанище. В штат подводников
была введена должность медика. Им стал П. И. Гомзяков (фактически первый врач
подводного
флота
России!),
по
совместительству
оставаясь
доктором
воздухоплавательного парка. «Мы здесь среди чужих племён, / И сохраняя дружбу к ним,
/ Должны мы жить трудом своим, / Отринув дрязги, сплетни, лень: / В работе дорог
каждый день. / Нам за примерами, как жить, / Не надо далеко ходить: / Здесь был
Мякотин, был Дьячков, / Работал Буссе... Стариков / Мы многих знаем честный труд... /
Пусть все, как братья, подадут / Друг другу руки, и тогда - / Всё для работы, для труда!
/ И клич: "В честь родины святой!" / Не будет только звук пустой».
Принимал активное участие в деятельности Общества изучения Амурского края и
работе Общества морских врачей. Кроме литературных опытов, профессионально
занимался переводами с английского, немецкого, японского, китайского и корейского. В
1913 г. переведен на Балтийский флот. Во Владивостоке сохранился дом (офицерский
флигель), по Светланской 76, где проживал первый поэт города. «Жил город мирно сорок
лет, / Не зная ни войны, ни бед... / Но вот "Маньчжурку" провели, / И сел наш город на
мели. / Настала эра авантюр, / Поплыли деньги на Артур. / Чужой кусок - всегда не
впрок! / Здесь ставлю точки... Не далёк / От нас ещё проклятый год / Войны несчастной
и невзгод...»
Николай Петрович Матвеев-Амурский – поэт, писатель, издатель, летописец старого
Владивостока.
В старом «доисторическом» Владивостоке имя Николая Матвеева (самый известный
его псевдоним Николай Амурский) было на слуху. Талантливый репортер и публицист,
он был одним из тех, кто стоял у истоков приморской журналистики, оставив потомкам
свидетельства «старины глубокой», без которых история города «нашенского» во многом
была бы неполной. А его «Краткий исторический очерк Владивостока», изданный в 1910
г. к 50-летию города, стал настольной книгой нескольких поколений краеведовисториков. За заслуги перед городом в юбилейном 1910 г. Матвеева-Амурского
удостоили звания личного Почетного гражданина Владивостока.
Николай Матвеев родился в семье лекаря русской православной миссии
архиепископа Николая 8 ноября 1866 г. в японском городе Хокодате (кстати, считается,
что он первый белый ребенок, который появился на свет божий в Стране восходящего
солнца). Вскоре отец, тяжело заболев, умер. Семья покинула Японию и осела в
Николаевске-на-Амуре, в то время главном порте России на Тихом океане и базе
Сибирской военной флотилии. Здесь вдова вторично вышла замуж. Отчим пасынка не
жаловал, и в 12 лет мальчуган сбежал из дома. После скитаний по Приамурскому краю
Николай в 1877 г. оказался во Владивостоке.
Будущий летописец города никакого систематического образования не имел.
Единственный его «университет» - двухгодичная школа при ремонтных мастерских
Владивостокского порта. К слову, закончил Николай Матвеев ее с отличием, получив
специальность модельщика литейного производства. Однако его влекла литературная
деятельность, и он всерьез занялся самообразованием, перечитал русскую и зарубежную
классику, овладел тремя иностранными языками.
Николай Матвеев начинает сотрудничать с газетой «Восточный вестник»
(издавалась с 1 сентября 1898 г. во Владивостоке, но недолго). Затем его
публицистические статьи и стихи регулярно стали появляться в газете «Владивосток»,
сатирических изданиях «Владивостокский бес», «Домовой», в других изданиях Дальнего
Востока.
На исходе ХIХ в. Матвеев покупает небольшую типографию и становится в одном
лице и издателем, и наборщиком, и печатником (когда подрастут сыновья, они станут
помогать отцу). Свое предприятие позволяло Матвееву, широко известному к тому
времени под именем Николай Амурский (бывало, подписывался и как Гейне из Глуховки,
Путник и др.), иметь и источник дохода, и заниматься творчеством.
В 1901 г. Николай Петрович издает во Владивостоке первый сборник своих стихов,
который пользуется успехом у читателей. Это окрылило Матвеева. В 1903 г. у него уже в
столице выходит книга «Стихотворения, пародии и подражания». А в 1904 г. в известном
Петербургском издательстве Сытина - еще одна, «Уссурийские рассказы», которую по
достоинству оценила читающая публика. Так Николай Матвеев-Амурский становится
первым автором из Владивостока, которого издали и отметили в столице.
Занимаясь литературной деятельностью, Николай Петрович не забывает и об
издательской. Выпускает «Справочную книгу Владивостока» (в 1900 и 1902 гг.), сборник
стихов местного поэта Павла Дьячкова, учебник профессора Глуздовского «Наша далекая
окраина», путеводитель по Японии. Одно время он выпускает и редактирует газету
«Далекий край».
Частный дом Н. Матвеева-Амурского на улице Абрековской был одним из
культурно-просветительских центров города того времени, где собиралась передовая
творческая интеллигенция. Частым гостем Николая Петровича стал молодой офицер
Владимир Арсеньев. Считается, что будущий писатель-краевед Арсеньев начал
формироваться как творческая личность именно под влиянием Матвеева-Амурского и его
друзей. Здесь же нашли пристанище и многие ссыльнокаторжные революционерынародовольцы.
В 1906 г. Матвеев-Амурский начинает издавать первый в дальневосточном регионе
еженедельный иллюстрированный журнал «Природа и люди Дальнего Востока»,
редактором которого был сам. В первом номере он позволяет, по мнению властей,
«возмутительную выходку»: публикует портрет революционерки-народоволки Людмилы
Волкенштейн и свое стихотворение в память о ней. (Была убита на привокзальной
площади Владивостока во время расстрела участников митинга, собравшихся отметить
годовщину петербургского «кровавого воскресенья».) Не останавливаясь на этом,
Николай Петрович продолжает обличать пороки самодержавия, осуждает репрессии в
отношении участников революционных выступлений, протестует против закрытия газеты
«Владивосток» и ареста его редактора Ремезова. Публикует произведения Горького.
На исходе лета 1906 г. власти закрывают журнал «Природа и люди Дальнего
Востока», а его редактора и издателя Матвеева военно-полевой суд Владивостокской
крепости приговаривает к 1,5 годам заключения. Как рассказывал сам Николай Петрович,
это случилось после того, как он получил из Японии клише для своего журнала, которые
были упакованы в революционные прокламации.
Отсидев срок, Николай Петрович сотрудничает с газетой «Далекая окраина».
Продолжает писать стихи, рассказы, фельетоны, увлекается краеведением. Его избирают
секретарем Общества изучения Амурского края. Именно он стоял у истоков создания
библиотеки имени Н. Гоголя (ныне Приморская краевая научная библиотека им. М.
Горького), став ее заведующим на общественных началах.
В 1910 г., к 50-летию города, Матвеев выпускает юбилейный фотоальбом по
истории города и незаменимый для последующих поколений историков-краеведов
«Краткий исторический очерк Владивостока», ставший своего рода документальной
летописью города первых пяти десятилетий его существования (переиздан 20-тысячным
тиражом издательством «Уссури» только в 1990 г. и стал библиографической редкостью).
Николай Матвеев-Амурский избирается председателем комиссии по празднованию
полувековой даты Владивостока и успешно справляется с этой хлопотной задачей. А в
дни юбилея за заслуги перед городом и его жителями Николай Петрович удостаивается
звания личного Почетного гражданина Владивостока.
Избирали Матвеева и гласным (депутатом) городской думы, где он старался сделать
все возможное для улучшения жизни и быта владивостокцев. Был активным членом
различных городских комиссий и общественных комитетов.
Все это не мешало ему водить дружбу с революционерами. А после октябрьского
переворота 1917 г. в его доме на Абрековской была создана тайная явка большевиковподпольщиков.
В 1919 г. над Матвеевым-Амурским нависла угроза ареста контрразведкой белого
генерала Хорвата (большевики, к слову, тоже не очень доверяли издателю). Опасаясь
расправы, Николай Петрович вынужден был оставить семью и спешно покинуть
Владивосток - уехать в Японию, где он стал заведовать русской библиотекой. Издавал
журнал «Русский Дальний Восток» на русском и английском языках, сам много писал, в
том числе и детские книжки, подписываясь псевдонимом Дед Ник. Японцы признают, что
Матвеев-Амурский своей активной литературной деятельностью внес серьезный вклад в
распространение российской культуры в Стране восходящего солнца.
Умер Николай Петрович 10 февраля 1941 г. на 75-м году жизни.
У Матвеева было 15 детей (три дочери и 12 сыновей, пятеро из них родились уже в
Японии). Многие из них, как и отец, встали на литературную стезю. Так, к примеру,
Николай писал стихи и прозу (псевдоним Бодрый). Гавриил увлекался поэзией
(псевдоним Фаин). Венедикт стал известным поэтом-футуристом (его псевдонимы
Венедикт Март и Марьин), дружил с Сергеем Есениным. Зотик Матвеев стал известным
литературоведом и библиографом, кроме того, он был прекрасным востоковедомяпонистом и историком-краеведом.
В 30-х гг. в застенках НКВД погибли Зотик, Венедикт и Гавриил Матвеевы, которых
обвинили в шпионаже в пользу Японии. Так или иначе подверглись репрессиям и другие
дети Матвеева-Амурского. Внуки и правнуки Николая Петровича тоже оставили след в
литературе. Так, внучка Новелла Матвеева (дочь Николая Матвеева-Бодрого), которая
проживала в Петербурге, стала известной поэтессой. Иван Елагин (сын Венедикта Марта)
был одним из лучших поэтов русского послевоенного зарубежья. Дочь Ивана Елагина
Елена Матвеева проживает в США и тоже увлекается поэзией. «Во внутрь породы
заспанной и мрачной / Вонзает он исследованья лом / И делает историю прозрачной, /
Чтоб разглядеть грядущее в былом».
История страны, ее духовное наследие складываются из истории семей, в ней
живущих. Литературная семья Матвеевых оказала определённое влияние на развитие
культуры Дальнего Востока. Ее родоначальник Николай Петрович Матвеев-Амурский
(1865 — 1940) был одним из первых дальневосточных поэтов, прозаиков, журналистов,
издателей. Русская поэтесса Новелла Матвеева, дочь Н. Н. Матвеева-Бодрого, писала:
«Дальний Восток — родина моего отца, деда, прадеда. Край, большая история которого
неразрывно связана с малыми историями многих семей и фамилий, и моей фамилии в том
числе».
Судьба Николая Петровича Матвеева-Амурского необычна. Он родился в Японии и
стал первым русским ребенком, появившимся на свет в Стране восходящего солнца. Вот
что он писал в своем дневнике: «Родился я в 1865 году декабря 8 дня в городе Хакодате
Японской империи, где отец мой служил при консульстве фельдшером». Отец Николая
Петровича Петр Матвеевич Матвеев был кантонистом. Служил на Балтийском флоте,
закончил фельдшерские курсы, был переведен на Тихий океан, а потом — в Японию.
Свою жену — индианку — он вывез с Камчатки, когда находился там в командировке. В
Японии у них родился сын Николай, которого крестил священник Николай в
православном храме. Няней ребенка стала японка Иосико.
Всю свою жизнь Николай Матвеев впитывал новые знания и стал образованнейшим
человеком. В юности работал в корабельных мастерских Владивостокского порта. Его
жена Мария Даниловна Попова (1872 — 1954) была из семьи первых переселенцев на
Дальний Восток.
Матвеев-Амурский — автор многих стихотворений и подражаний. В 1902 году в
Петербурге вышел его поэтический сборник «Пародии и подражания». Многие свои
стихи Николай Петрович посвящал писателям, в частности, Чехову, с которым был
знаком и даже переписывался. В 1904 году в издательстве Сытина были опубликованы
его «Уссурийские рассказы». Николай Петрович был первым приморским журналистом,
сотрудничал со многими изданиями, а потом стал редактором и издателем газеты
«Приморский край», а также иллюстрированного еженедельника «Природа и люди
Дальнего Востока».
Матвеев-Амурский известен нам как просветитель, краевед, общественный деятель.
В 1904 году ему присвоено звание Почетного гражданина города Владивостока. Он был
членом городской думы, городской управы, председателем публичной библиотеки им. Н.
В. Гоголя. В 1910 году к юбилею города вышел «Краткий исторический очерк г.
Владивостока», написанный Николаем Петровичем и опубликованный в его типографии.
Дом Матвеевых на ул. Абрекской со временем стал центром культурной жизни
Владивостока. Сюда приходили Я. Волкенштейн, Б. Пилсудский, Я. Штернберг, И.
Ювачев — бывшие сахалинские каторжане. С сыном Ювачева, в дальнейшем известным
поэтом Даниилом Хармсом, дружили сыновья Н. П. Матвеева. Частым гостем был здесь и
Арсеньев, которого интересовали этнографические коллекции Матвеева, подшивки
дальневосточных газет и журналов, богатейшая библиотека.
Большое место в жизни Н. П. Матвеева занимала Япония. Шесть раз посетил он
Страну восходящего солнца, писал о ней, переводил японских авторов. В 1909, 1912 и
1914 годах Матвеев организовал и возглавил первые экскурсии учащихся Владивостока в
Японию. После революции в 1919 году Матвеев-Амурский эмигрировал в Японию, так
как не смог принять большевистского режима, а также опасался преследования
интервентов. По мнению Николая Петровича, большевизм, несмотря на то что его теория
абсурдна, распространяется в России потому, что люди легко верят в обещания
счастливого будущего. В этом же году он пишет стихотворение «На чужбине»: «Один в
таинственном саду / Тропой извилистой иду. / Из освещенных стен-окон / Здесь хохот
слышится и звон... / А я один, для всех чужой, / Бреду извилистой тропой. / И как
железная доска / Неутолимая тоска / Волнует грудь, терзает ум, / И под напором
мрачных дум / Я вижу край, где вновь и вновь / Несется стон и льется кровь... / И не
несут душе утех / И эта песнь, и этот смех»
В Японии Матвеев-Амурский выпускает детские книги в организованном им
издательстве «Мир», торгует книгами русских авторов, работает в русской библиотеке.
Издательство «Мир» просуществовало до 1925 года. Здесь были напечатаны хрестоматия
для чтения, японо-русский и русско-китайский словари, сборник стихов А. С. Пушкина и
другие книги. Умер Николай Петрович Матвеев-Амурский в 1940 году в городе Кобе.
В семье Матвеевых было пятнадцать детей, правда, взрослыми стали лишь
одиннадцать. Много души вложил в них Николай Петрович, а те с большим уважением
относились к отцу, во многом ему подражали, следовали его советам. Самым
образованным среди Матвеевых-младших был Зотик Николаевич (1889 — 1938). Он
закончил Дальневосточный государственный университет и политехнический институт,
стал первым библиографом Дальнего Востока, являлся редактором «Записок
Приамурского отделения Русского географического общества». В 1925 году во
Владивостоке вышел библиографический сборник «Что читать о Дальневосточной
области». По его инициативе и непосредственном участии готовились серьезные издания:
«Дальневосточная энциклопедия» и «Библиография Дальнего Востока», «Библиография
Японии». К сожалению, труды так и остались незавершенными. В 1937 году Зотика
Николаевича арестовали, и он погиб в заключении.
Николай Николаевич Матвеев (1891 — 1979) учился на юридическом факультете
Петербургского университета, потом перевелся в Московский университет, который не
закончил. Он был кооператором, лектором, культпросветработником, членом
Географического общества СССР, членом Литфонда СП СССР. Но главным делом жизни
Николая Николаевича стал семейный архив. Делал он это по совету отца. В итоге им
собран уникальный фонд, в котором двести тетрадей-дневников, множество ценных
материалов, связанных с семьей Матвеевых, а также культурой и историей Дальнего
Востока. В собранном им архиве большая коллекция книг, часть которых содержит
автографы. Сегодня, благодаря этому бесценному материалу, мы можем судить о многих
фактах культурной жизни Дальнего Востока.
Венедикт Николаевич Матвеев, творческий псевдоним Венедикт Март (1896 —
1938), — поэт, футурист, член литературного художественного объединения во
Владивостоке. С 1914 по 1922 годы у него вышло шестнадцать поэтических сборников. В
1919-м, спустя год после рождения сына Зангвильда, Венедикт Николаевич уезжает
вместе с ним в Харбин на пять лет. Здесь также выходят сборники его стихов.
Вернувшись в Россию, В. Март издает в Ленинграде «Китайские рассказы», однако в
1929-м его, поэта, арестовывают и отсылают на поселение в Саратов. Сын остается
беспризорным. С Симой Лесохиной Март давно разошелся. Венедикта Николаевича
вновь заточают в тюрьму в 1938 году. Он не избежал участи невинно расстрелянных.
Зангвильд Венедиктович Матвеев (1918 — 1987) получил образование в Киеве,
женился, а в 1945 году выехал в Германию. Здесь вышли первые сборники его стихов «По
дороге оттуда» (1947), «Ты, мое столетие» (1948) и другие. Свои стихи Зангвильд послал
Ивану Бунину. Тот ответил ему письмом: «Дорогой поэт, Вы очень талантливы, часто
радовался, читая Ваши книжки, Вашей смелости, находчивости». В 1950 году З. В.
Матвеев переехал в Америку, жил в Питсбурге, преподавал в университете русский язык.
Его литературным именем стало имя Иван Елагин. С конца восьмидесятых годов XX
столетия он стал известен и в нашей стране. Его публикации появились в журналах
«Новый мир», «Нева», «Огонек», «Дальний Восток». Умер Иван Елагин в 1987 году в
Питсбурге. В 1991 году московское издательство «Художественная литература»
выпустило в свет большую книгу избранных произведений И. Елагина «Косой полет».
Уже после смерти вернулся он на Родину, как и мечтал: «Не была моя жизнь неудачей, /
Хоть не шел я по красным коврам, / А шагал, как шарманщик бродячий, / По чужим
незнакомым дворам... / Полетать мне по свету осколком, / Нагуляться мне по миру
всласть / Перед тем, как на русскую полку / Мне когда-нибудь звездно упасть».
Известной русской поэтессой стала внучка Н. П. Матвеева-Амурского, дочь Николая
Николаевича Матвеева-Бодрого, Новелла Матвеева. Она родилась в 1930 году в
Ленинграде, закончила Высшие литературные курсы. Новелла Николаевна занималась
переводами, в свет вышло немало сборников ее стихов: «Ласточкина школа», «Душа
вещей», «Река» и другие. Сборник «Страна Прибоя» она посвятила прадеду, деду, отцу.
Новелла пишет песни — и слова, и музыку, сама исполняет их под гитару. Своему отцу
она посвятила стихотворение «Архивариус», которое можно назвать посвящением всем ее
дальневосточным предкам: «Во внутрь породы заспанной и мрачной / Вонзает он
исследованья лом / И делает историю прозрачной, / Чтоб разглядеть грядущее в былом».
Родоначальник этой удивительной семьи Н. П. Матвеев-Амурский, его дети Зотик
Матвеев, Венедикт Март, Николай Матвеев-Бодрый, его внуки Иван Елагин и Новелла
Матвеева оставили заметный след в развитии дальневосточной журналистики,
библиографии, в истории русской литературы.
Лекция № 9. «Трилогия В.К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского края»». – 2
часа.
Арсеньев Владимир Клавдиевич (10 сентября 1872, Санкт-Петербург — 4 сентября
1930, Владивосток) - выдающийся русский путешественник, географ, археолог,
исследователь Дальнего Востока, писатель. Владимир Клавдиевич родился в СанктПетербурге, в семье Арсеньевых было девять детей и десятая приёмная сиротародственница. Отец Клавдий Федорович - из крепостных крестьян поднялся до
генеральской должности на Николаевской железной дороге и даже получил Звание
потомственного почетного гражданина города Петербурга.
Учился Арсеньев хорошо, в 1891 г. сдал экстерном экзамен за среднее учебное
заведение, а в 1892г. поступил в Петербургское пехотное юнкерское училище. Одним из
преподавателей училища был М. Грум-Гржимайло, который смог заинтересовать
Владимира Арсеньева географическими исследованиями, обратив его внимание на
Дальний Восток.
В январе 1896 года в звании подпоручика Владимир Клавдиевич получил
назначение в польский город Ломжа, в саперный батальон, расположенный около
Варшавы. В мае 1900 года по его просьбе Арсеньев переведен во Владивосток, точнее, на
Русский остров, прикрывающий Владивосток с моря.
Первые свои экспедиции Арсеньев совершил в качестве военного топографа. В его
задачу входило проведение маршрутной съемки, но он попутно собирал и научные
материалы о рельефе, геологии, флоре и фауне Южного Приморья и Сихотэ-Алиня, о
народах, населяющих эти места.
В 1902 году поручику Арсеньеву предстояло с небольшим отрядом произвести
рекогносцировку местности в Приморье: исследовать перевалы в горном узле, откуда
брали начало сразу четыре таежные реки, а затем осмотреть подходы к озеру Ханка.
Несмотря на то, что в эти места, по сути дела, не ступала нога человека, Арсеньев с
возложенной на него задачей справился успешно.
Во время русско-японской войны 1904-1905 годов Владимира Клавдиевича
назначили начальником всех четырех охотничьих (разведывательных) команд крепости
Владивосток, наделив правами командира батальона. Мало кто знает, что в 1906 году
Арсеньеву с большим риском для жизни удалось добыть на реке Сархобе два свитка c
текстом устава тайного китайского общества. В том же 1906 году В.К. Арсеньев
перевалил через Сихотэ-Алинь и вышел к заливу Ольга.
Во время одной из экспедиций в истоках реки Лефу он встретил нанайца Дерсу
Узала. Эта встреча сыграла огромную роль в последующей деятельности Владимира
Клавдиевича. Дерсу Узала был своеобразным следопытом и первым человеком, который
раскрыл перед Арсеньевым тайны Уссурийской тайги, рассказывая про привычки и
повадки птиц и животных, об обычаях, верованиях и быте орочей, гольдов, удэгейцев и
других народностей Дальнего Востока. Дерсу многому научил Арсеньева, а однажды на
озере Ханка во время жестокой пурги спас его.
В своих книгах Арсеньев много пишет о Дерсу Узала, поэтому сложилось мнение,
что они долгие годы были близкими друзьями. Но в действительности, он познакомился с
Дерсу 3 августа 1906 года, а 13 марта 1908 года гольд, как утверждает местный краевед,
был убит близ станции Корфовская неким Козловым, бежавшим из сахалинской ссылки.
Только в трех походах сопровождал Арсеньева удивительный охотник.
В конце июня 1908 очередная экспедиция Арсеньева выступила в путь.
Предполагалось пройти вверх по Анюю, подняться на Сихотэ-Алинь, а затем по одной из
рек на восточном склоне хребта спуститься к морю. Однако на карте, которой пришлось
пользоваться Арсеньеву, горные хребты и реки, как вскоре выяснилось, были показаны
совершенно ошибочно. Пришлось торопиться, кончалось продовольствие, но долбленая
лодка разбилась о камни. С ней погибло все имущество: остатки продуктов, инструменты
и, главное, оружие. Спас их вспомогательный отряд Т. А. Николаева, высланный заранее
в Императорскую Гавань.
Арсеньев, отпустив часть людей, продолжил путешествие. Отряд Арсеньева прошел
с маршрутной съемкой более двух тысяч километров. За девятнадцать месяцев
экспедиции Арсеньев составил словари орочей - удэхе. Круг интересов его к тому
времени расширился, и на первое место выдвинулись этнографические проблемы - жизнь
и обычаи малых народностей Приамурья и Приморья. Его имя стало широко известно
среди географов и этнографов, геологов и археологов. Он выступал с докладами в
Хабаровске, Петербурге и Москве.
Он награжден серебряной медалью Российского географического общества,
становится директором Хабаровского краеведческого музея. Норвежский ученый
Фритьоф Нансен посещает Хабаровск. Арсеньев сопровождает его в поездках по Амуру и
Уссурийскому краю. "Было чему поучиться под руководством такого знающего
проводника, как знаток этих краев и бывалый путешественник капитан Арсеньев", пишет Нансен в книге "В страну будущего". Вместе с Нансеном Арсеньев вынашивал
план "ледового похода" - невиданного путешествия из Хабаровска к Ледовитому океану
на собаках и оленях, а затем морем во Владивосток. Однако мировая война, а потом и
гражданская разрушили все планы Арсеньева.
На войну с кайзеровской Германией подполковника Арсеньева поначалу не
отпускали. Но он про должал бомбить начальство рапортами и добился своего. В 1917 год
Владимир Клавдиевич получил назначение в 13-й запасной стрелковый полк, но тут
случился Октябрьский переворот. А вместе с ним закончилась и армейская служба
подполковника Арсеньева. За время службы Владимир Клавдиевич был награжден пятью
орденами святой Анны 4 и 3 степеней, Святого Станислава 2 и 3 степеней, Святого
Владимира 3 степени и множеством медалей.
В 1917 году бывший царский полковник был уволен из армии, хотя и лояльно
принял советскую власть. Однако за ним тем временем началась настоящая охота.
Многочисленные грабители пытались выкрасть дневники его путешествий,
этнографические коллекции, золотые и серебряные медали. Но главной для грабителей,
по всей видимости, была его женьшеневая плантация. Она сулила огромные деньги.
После революции Арсеньев читал лекции во Владивостокском университете и
педагогическом институте, заведовал кафедрой краеведения и этнографии. Лучшего
знатока края приглашают в Москву, интересуются его мнением о природных
возможностях Дальнего Востока. В середине двадцатых годов началось освоение
природных ресурсов Дальнего Востока, так что вскоре Арсеньев становится
общепризнанным "главным специалистом". Одна за другой публикуются и книги
Арсеньева: "По Уссурийской тайге", "Дерсу Узала", "В дебрях Уссурийского края". В
1930 году Арсеньев выезжает в низовья Амура. Там работают четыре экспедиции,
которыми он руководит. Это последняя поездка. В тайге он заболевает воспалением
легких и в тяжелом состоянии вынужден вернуться во Владивосток. Здесь 4 сентября
1930 года Владимир Клавдиевич Арсеньев скончался. Похоронен на Морском кладбище
Владивостока.
Как писатель Арсеньев создал новое краеведческое направление в отечественной
научно-художественной литературе. Его книги проникнуты любовью к природе Дальнего
Востока и дают поэтическое и в то же время научное изображение жизни тайги,
рассказывают о её мужественных людях. По словам М. Горького, Аресньеву "... удалось
объединить в себе Брема и Фенимора Купера..." (Собр. соч., т. 30, 1956, с. 70).
В сочинениях Арсеньева содержатся ценные сведения по геологии, истории
исследований, фауне и флоре. Ученый до мельчайших подробностей изучил
гидрогеографическую сеть Сихотэ-Алиня, дал блестящую характеристику населения этих
районов. Особое внимание В.К. Арсеньев уделял жизни и быту местных жителей, изучал
их языки.
В 2007 году Издательство "Краски" выпустило в свет первое полное не сокращённое
собрание сочинений В. К. Арсеньева по текстам дореволюционных прижизненных книг
автора. Все выходящие до этого труды Арсеньева были сильно сокращены советскими
цензорами.
Все работы Арсеньева, связанные личностью Дерсу, в Японии были переведены
Хасегавой. Возможно, эта работа способствовала экранизации «Дерсу Узала» режиссёром
А. Куросава. Съёмки проходилив основном в окрестностях города Арсеньева в Приморье.
Совместно с советскими кинематографистами, с советскими актерами Соломиным,
Чокморовым, Мунзуком и другими, Куросаве удалось создать сильное, монументальное
произведение. Фильм завоевал золотой приз на IX Международном кинофестивале в
Москве в 1975 году и американский «Оскар» в 1976 году.Фильм полюбили в Японии и в
других странах. Люди пристально глядели не только на героев фильма, но и на
окружающую дикую дальневосточную природу.
В честь Арсеньева названы река, поселок, город, улица во Владивостоке, переулок в
Хабаровске, оловянный рудник, гора в Сихотэ-Алине, гора на острове Парамушир,
вулкан на Курильских островах, ледник на Камчатке. Есть на картах поселок Дерсу и
скала Дерсу Узала. Дом Владимира Арсеньева во Владивостоке сейчас является музеем,
открытым для публичного посещения. Приморский краеведческий музей также носит имя
Арсеньева.
...Сколько раз он был на краю гибели, сколько раз прорывался сквозь уссурийские
дебри, проходил топи, покорял вершины непреодолимого, казалось бы, Сихотэ-Алиня,
сколько раз страдал от лишений походной жизни - и выходил победителем. Сразу скажем,
что Арсеньев - путешественник никогда не отдалял себя от тех людей, которые шли
рядом, не раз благода рил их за самоотверженный труд. и особенно, конечно, выделял
роль своего проводника Дерсу Узала, пленительный образ которого обессмертил в своей
книге. Благодаря трудам Арсеньева - а он и географ, и этнограф, и историк, уссурийский
край из "терра инкогнито", территории неведомой, превратился в известный, изученный,
родной. И сразу же не забудем, что он не считал себя первым исследователем края, щедро
отдавая дань своим предшественникам. На Дальнем Востоке он провел тридцать лет, и не
только в Приморье, побывал и на Камчатке, и на Курилах, совершил 12 больших
экспедиций (не считая различного рода командировок), исходил его вдоль и поперек,
явился его первооткрывателем...
Это был подвиг научный. Не за роскошным столом в рабочем кабинете создавал
свои записки Арсеньев: писал их в походных условиях, когда донимали и холод, и жара, и
тьма комариная, и голод, и болезни, Замерзали чернила, одолевала усталость, но он писал,
каждый день - о пройденном за этот день. Так начинался его творческий подвиг, подвиг
писателяпутешественника, и его книги до сих пор обладают магической силой
притяжения. Их читают, не побоимся сказать, во всем мире.
Да, В.К.Арсеньев - своеобразный писатель, и не просто писатель, а один из
замечательнейших русских писателей-путешественников. Вначале было дело.
"Путешествие - не легкий и приятный труд, а долгий, непрерывный и тяжелый труд,
предпринятый во имя великой цели", писал Н.М. Пржевальский. Но таким же не легким, а
долгим и непрерывным был тяжелый писательский труд. И все - во имя великой цели.
Даже в БСЭ сказано, что Арсеньев "создал новое краеведческое направление в
отечественной научнохудожественной литературе". Требуется ли сегодня доказывать, что
Арсеньев - писатель? Читают его все. А одна из недавних книг так и называлась
"Арсеньев-писатель", автор ее Игорь Кузьмичев, книга вышла в Ленинграде в 1977 г.
Читают все, но... Кажется, дебри издательские и дебри литературоведческих канонов
Арсеньев в полной мере еще не преодолел. Его ли в этом вина? Или качество книг? Нет.
Тут та же причина, о которой еще в пушкинские времена критик А.А. БестужевМарлинский в первом обзоре русской литературы сказал о причинах замедления
отечественной словесности: "Небрежение русских о всем отечественном немало тому
способствовало". Да и А.С.Пушкин сказал о том же: "Мы ленивы и нелюбопытны". Но и
это, конечно, объяснение неполное. В различные времена на пути развития словесности
вставали гибельные препоны. Вот и здесь. Долгие годы многие материалы Арсеньева
содержались в различных спецхранах и были недоступны для публикаций, для
исследования. В наши смутные времена - не лучше: русский лес все чаще тратится на
бумажную продукцию низкопробного свойства. А в результате - и Арсеньев в полном
виде еще не дошел до читателя..
Статья об Арсеньеве в БСЭ при всей положительной оценке его творчества все же
явно давала заниженное о нем представление до какого-то "Краеведческого направления".
Хотя в статье этой и приведен известный отзыв А.М.Горького о писателе, объединившем
в себе Брэма и Купера. Арсеньев назван "советским исследователем Дальнего Востока",
как будто основные его экспедиции не прошли в дооктябрьский период. Как же назвать
просто "русским исследователем"? Не указано в БСЭ одно из самых значительных
изданий Арсеньева - его книга " В дебрях Уссурийского края" (1926), сокращенный
вариант двух первых книг. А в "Литературной энциклопедии", выпущенной во времена
"перестройки" (1987) и того хуже: не указана даже первая книга "По Уссурийскому краю"
(1921), не говоря уже о более ранних публикациях очерков и рассказов. Постоянная
путаница происходит с датой рождения Арсеньева. Почти во всех популярных работах
(Н. Рогаля, И. Кузьмичева и др.) названа дата 29 августа 1872 г., без указания, что это по
старому стилю. В интересной книге В. Гуминского дата рождения перенесена на месяц 29 сентября 1872 г. - явная описка, но каково читателю! В нынешнем году исполняется 65
лет со дня кончины писателя (4 сентября 1930 г.). Время, кажется, достаточное, чтобы
определить место писателя-путешественника в русской литературе XX века. Литературе
любого народа такое имя составило бы честь - вспомните, кстати, как ценил литературу
путешествий Л.Н.Толстой, включая произведения писателей-землепроходцев и
мореходов в круг детского чтения. Но попытайтесь найти не то что страничку, а хотя бы
строчку об Арсеньеве, как писателе, в вузовских учебниках истории русской литературы
XX века.
Только в послесловии книги под редакцией проф. П.С.Выходцева находим мы одну
строку: До Кимонко "открыли удэге В.Арсеньев и А.Фадеев"(с.585). И ни слова больше ни в одном университетском учебнике. Читаю новейшую программу истории русской
литературы XX века (МГУ, 1994) - разумеется, как и в старых программах имя Арсеньева
даже не упоминается. Вот вам и "объединение Брэма и Фенимора Купера"...
Что же получается? Арсеньева читают как своеобразного писателя, а нашим
школьникам, студентам он даже не предлагается. Это ли не небрежение к своему,
родному! Или удел его только в так называемой региональной литературе - увы,
творчество В. К. Арсеньева скудно представлено в замечательном труде сибирских
ученых "Очерки русской литературы Сибири" (1982). Здесь же скажем, за многие годы
написаны
интересные
работы
В.Г.Пузырева,
.Азадовского,
Н.Е.Кабанова,
И.С.Кузьмичева, Н.В.Старовойтова, В.М.Гуминского. Есть ряд диссертаций (например,
диссертация В.К.Путоловой "В.К.Арсеньев и его литературная деятельность").
Не появилось книги о писателе в серии ЖЗЛ, хотя о его предшественнике Н. М.
Пржевальском книжка в серии ЖЗЛ появилась еще в конце XIX столетия, в 1891 г. - как
известно, эту библиотеку основал издатель О. Павленков (это потом, в тридцатые годы
серию ЖЗЛ приписали к имени А. М. Горького).
Так чем же славен он, создатель "краеведческого направления" как писатель?
Неужто только этим региональным началом? И что значит "краеведческое направление"?
И разве не он, Арсеньев, нарисовал уникальную фигуру гольда Дерсу Узала, фигуру,
которая видится отнюдь не только на фоне книг краеведческого характера, но и на фоне
мировой художественной литературы путешествий - это хорошо уловил Горький, как бы
и кто к нему сейчас не относился, не просто пролетарский писатель, а большой русский
художник Горький.
Арсеньев начался с дороги. Он стал путешественником и почти сразу - в записях
своих - писателем. Был для этого у него особый дар - художественный. На Дальний
Восток он приехал летом 1900 года - из столичного Петербурга. И прожил здесь тридцать
лет. Прожил жизнью подвижника, патриота. Не раз делая жизненный выбор, говорил он о
больших человеческих идеалах, о цели, которая способна увлечь человеческую душу.
"Неужели в погоне за золотом и за лаврами можно на карту ставить свое достоинство,
честь, интересы общества, интересы науки, интересы России?! Грустно, очень грустно!
Не таким путем добываются лавры! Нужен скромный, но упорный и честный труд!"
(т.6,с.240). Интересы России, интересы науки - без этого нет ни чести, ни достоинства.
Вспомним также, что он был военным человеком, и многое делал для защиты
государственных интересов страны - капитан, а затем полковник Арсеньев... На этой его
принадлежности к старой русской, царской армии не раз сыграют его бесчестные
недруги, в том числе и из литературных кругов... Конечно, разлом национальной жизни
был для него трагедией, и особенно ощутил он это после гибели на Украине, в
Черниговской губернии от рук бандитов своего отца, Клавдия Федоровича, а сестры,
племянников - история, которая требует прояснения.
Но разве думалось о худшем? И в те годы Арсеньев сделал главный свой выбор. В
марте 1917 года его отправили в составе 13-го Сибирского стрелкового полка в
действующую Армию, на германский фронт. Но русскому Географическому обществу
удалось отстоять "единственного в мире знатока Уссурийского края..." Он был назначен
комиссаром по инородческим делам Приамурского края, уволен с военной службы,
определен в "коллежские советники". В создавшейся обстановке, когда никто не
выполнял никаких указов, Арсеньев вскоре отказался от назначения. Отказался он и от
другого предложения - покинуть Россию, эмигрировать за рубеж. "Я - русский, - ответил
он, - Работал и работаю для своего народа. Незачем мне ехать за границу" (цит. по:
Кузьмичев И. Арсеньев-писатель., с.140) Арсеньев остался, на Родине И в двадцатые годы
совершил новые экспедиции, а главное издал книги очерков "Амба" и др (1920), свои
путевые повествования. Дневники он печатал и ранее, в газетах, но здесь дневники
преобразовались в своеобразные книги. Прежде всего в его замысле была трилогия о трех
главных экспедициях начала XX века: 1902-1906, 1907, 1908-1910 годов: именно
благодаря этим экспедициям Уссурийский край был открыт для науки. Арсеньеву удалось
во Владивостоке выпустить две книги о двух первых путешествиях - из трех задуманных.
Вот точные названия этих книг, под которыми они вышли первоначально. Первая книга:
"По Уссурийскому краю (Дерсу Узала). Путешествие в горную область "Сихотэ-Алинь"
(Владивосток, "Эхо", 1921). Книга вторая. "Дерсу Узала Из воспоминаний о путешествиях
по Уссурийскому краю в 1907 г. Владивосток", изд товарищества "Свободная Россия",
1923. При переиздании этих книг обычно подзаголовки мудрые редакторы убирали:
исчезал колорит не только времени, но и жанровых исканий писателя.
А Третья книга задуманной трилогии при жизни писателя так и не вышла. Она была
опубликована уже в 1937 году под названием "В горах Сихотэ-Алиня", с указанием, что
работа "представляет собою дневник В. К Арсеньева, переработанный им незадолго до
его смерти для печати, но еще окончательно автором не отредактированный". Книга была
посвящена самой трудной, так называемой, юбилейной экспедиции (1908-1910),
посвященной 50-летию заключения Амгуньского договора России с Китаем. В эту
экспедицию хребет Сихотэ-Алиня был преодолен семь раз. Люди попадали в
экстремальные условия, были на волоске от гибели... Арсеньев несколько раз писал, что
третья книга уже готова к публикации еще в 1917 году. Потом обещал напечатать ее в
середине двадцатых годов, но по каким-то обстоятельствам книга так и не вышла при
жизни писателя. Скрытая драма! Кстати, уже в 1924 году первая из названных книг
Арсеньева была переведена на немецкий язык и вышла в Берлине.
Как известно, две первые книги были сокращены автором, "приспособлены для
школ и массового читателя" и опубликованы в 1926г. во Владивостоке - под названием "В
дебрях Уссурийского края" (именно эта книга была послана М. Пришвиным А. М.
Горькому в Италию). Сам Арсеньев, как видим, рассматривал эти книги в тесной увязке.
О третьей книге он говорил еще и еще. Так, А. М. Горькому 4 января 1928 г. он писал: "В
настоящее
время
я
пишу
еще
одну
книгу "В горах Сихотэ-Алиня", которая является продолжением "В дебрях Уссурийского
края".
Вот она, арсеньевская мысль о трилогии. Так что, следуя замыслу писателя, давно
бы пора издать эти три книги под одним общим названием "В дебрях Уссурийского края".
Но издатели обычно выпускают только две первые, а литературоведы объявили третью
книгу незаконченной, слабой и т.д. Но это далеко не так. Трилогия "В дебрях
Уссурийского края" - творческий подвиг писателя путешественника, нашедшего
своеобразную форму книг-путешествий. Две из них прямо объединены одним героем Дерсу Узала (не случаен подзаголовок первой и заголовок второй, в третьей книге Дерсу
отсутствует: ко времени третьей экспедиции он погиб, писатель распрощался с ним во
второй книге). Но и здесь, в третьей книге, где Дерсу не действует, присутствует дух
Дерсу Узала, уроки Дерсу, свет его личности. И все эти три книги объединены героем
рассказчиком, путешественником, повествователем. Все освещено нравственным
отношением к миру - и природе, и людям - самого писателя.
К главным книгам примыкает книга путевых дневников автора во время экспедиции
по маршруту от Советской Гавани до Хабаровска, совершенного Арсеньевым в 1927-1928
гг. Это было последнее большое путешествие, Арсеньев прошел по неизведанным доселе
местам. Название книги: "Сквозь тайгу" (1930).
Событием литературной и научной жизни было издание в послевоенные годы во
Владивостоке шеститомника сочинений Арсеньева. Оно было наиболее полным. Там же
было высказано предположение, что вскоре состоится и новое, еще более полное
собрание сочинений.
Но, к сожалению, этого не произошло. Да и само издание сороковых годов несет на
себе многие издержки тех лет: Сокращены предисловия, выброшены многие главы, коечто подредактировано... Скажем, Арсеньев благодарил губернатора Умтербергера за
большую помощь экспедиции, это, разумеется, отсечено. Арсеньев пишет, что многие его
стрелки погибли в боях за Родину на германском фронте 1-ой мировой - слова о Родине
вычеркнуты: какая еще может быть Родина, у пролетариев нет своего отечества. Арсеньев
дает заголовок главе: "Рождественские праздники". Это исправляется на "Зимние
праздники" и т.д. Но к чести издателей "сочинений", здесь сумели преодолеть негативное
отношение к Арсеньеву, которое навязывалось еще при жизни писателя, и особенно в
тридцатые годы. Тогда эта страница - правли писателя, конечно, не могла быть освещена.
Но в наше время появились новые публикации, в которых рассказывается о
драматических и трагических страницах жизни писателя. Оголтелая травля усилилась в
конце 20-х годов. Арсеньев мечется между Владивостоком и Хабаровском. Одно время
даже возникает мысль уехать в Ленинград, работать в музее. Но эта мысль тогда же
отброшена: рано еще на кабинетные условия, манят новые походы. Характер такой.
Травлю вели за, якобы, расистские, профашистские убеждения Арсеньева,
"великодержавное презрение" к инородцам (это создателя-то образа Дерсу Узала), и за то,
что "он счел ниже своего достоинства" рассказать о простых солдатах... "Арсеньев, вещал автор предисловия к книге "По Уссурийскому краю" некий Волынский, - не был по
существу ученым географом, этнографом, геологом и т.д. Он был только смелым,
неутомимым путешественником и жизнерадостным художником слова" (с.8). И вновь
"существенные пороки", "ошибки", выяснение "классового лица самого Арсеньева". Что
же, как сказал поэт, "знаком нам этот почерк критической руки. Подправить брови хочет,
а выколет зрачки". Кстати, тогда же подобные клеветники начали свой истерический
поход против М.Шолохова, против его гениального "Тихого Дона", а в наши дни уже и
продолжатели "неистовых" явились и нигде-нибудь - они печатаются на страницах
"Нового мира": о, Сольери! ты жив, курилка... И в местной печати ученого представили
невежей, патриота - шовинистом. Чего стоит одно название статьи Г. Ефимова "В К
Арсеньев как выразитель идеи великодержавного шовинизма". Не меньше злобы и по
поводу "арсеньевской темы" в творчестве других писателей.
Самому Арсеньеву уже не довелось прочитать все эти клеветнические наветы. Он
бы еще постоял за себя Но не без влияния ли этих русофобских голосов и подголосков
семью Арсеньева развеяли в тридцатые годы в лагерную пыль? Дважды (сначала в 1934, а
затем в 1937 г.) была арестована жена писателя Маргарита Николаевна. Потеряла
здоровье в лагерях дочь писателя Наташа Арсеньева. Был репрессирован и погиб брат
Арсеньева. Жилы стынут, когда читаешь новые документы об этом (их опубликовал
журналист В Куцый и историк-краевед А. Хисамутдинов). Тайное стало явным. Жену
Арсеньева, научную сотрудницу, Маргариту Николаевну обвинили в шпионсковредительской деятельности. А главой организации, оказывается, был ее муж В. К
Арсеньев. Закрытое судебное заседание выездной сессии Военной коллегии Верховного
Суда СССР состоялось 21 августа 1938 г. Продолжалось оно 10 минут. И судьба
женщины была решена. Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила
Арсеньеву Маргариту Николаевну к высшей мере уголовного наказания - расстрелу с
конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества. "Приговор окончательный и
на основании постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934г. подлежит немедленному
исполнению".
Маргариту Николаевну расстреляли. Дочь Наташа, Наталья Владимировна, долгие
годы провела в лагерях. Она, семнадцатилетняя, осталась без родных, без средств к
существованию. Вышла замуж, муж ее был репрессирован. Умер ребенок. Саму ее
дважды арестовывают и прекращают дела. Снова вышла замуж - за моряка
Дальневосточного пароходства. В апреле 1941г. - мужа отзывают на военную
переподготовку, а ее арестовывают. И на быструю руку слеплено заключение:
контрреволюционная агитация. "Арсеньева, будучи враждебно настроена к Советской
власти, распространяла среди граждан антисоветские шовинистические анекдоты (так и
написано, говорится в публикации В. Куцего "Без срока давности". Приморский
журналист, 1989, N 3)". Десять лет лишения свободы. Она вернется из лагерей, но
здоровье будет подорвано. В 1973 г. Наталья умерла, к тому времени она была
реабилитирована. Реабилитирована была и ее мать, Маргарита Николаевна.
Кстати, в 1937 г., в те же годы, когда была расстреляна жена Арсеньева, в
московском издательстве "Молодая гвардия" была издана книга "В горах Сихотэ-Алиня".
Действительность абсурдна! Можно ли утверждать сегодня, что вся рукопись попала в
том виде, в каком она готовилась к печати Арсеньевым? Почему очерк "Зимний поход по
реке Хунгари", являющийся логическим завершением описания похода 1908-1910 годов,
публикуется не в книге, а отдельно?
А куда исчезла рукопись книги "Страна Удэхэ"? О ней Арсеньев говорил: "Эта
монография - цель моей жизни". А рукопись книги "Теория и практика путешественника"
- она тоже бесследно исчезла? А письма его? По мнению Е.Д. Петряева, В К. Арсеньев
ежемесячно писал 35-40 писем.
Опубликованы единицы. Где же остальные? В архивах? И не пора ли и их сделать
достоянием читателя? Все эти вопросы не раз звучали и звучат на арсеньевских
конференциях. "Научная значимость работ В К Арсеньева еще недостаточно оценена", говорил на первых арсеньевских чтениях в Хабаровске Ю.В. Маретин. Арсеньев как
историк - что мы знаем об этом? А литературная значимость? Разве можно оценить ее, не
имея достаточно полных, выверенных текстов писателя!
Особый вопрос - переписка В К Арсеньева с А. М. Горьким. Было принято подавать
эту переписку в радужном свете, получалось, что Горький чуть ли не благославил
Арсеньева на его литературный труд. Сейчас кое-кто пишет иронично, мол, место в
предисловиях неоправданно занял отзыв "авторитетного" Горького. Но не будем
торопливы и несправедливы. Арсеньеву, особенно в той обстановке рапповских наскоков,
заушательских обвинений, нужна была горьковская поддержка, и его окрылила высокая
оценка книги "В дебрях Уссурийского края"... Горький заметил образ Дерсу Узала. Но на
наш взгляд, в последующих письмах Горького много было досадного для Арсеньева,
свидетельствующего, что он оказался глуховат к творчеству писателя-дальневосточника.
Арсеньеву навязывается задача написать или организовать статьи о наших
"достижениях", создать сборник о достижениях Дальнего Востока. Горький в одном из
писем оправдывается, что не забыл Арсеньева, хотя не отвечал ему без напоминания
почти год. Досадно было Арсеньеву, и он свою досаду выразил в письме: "Вы, наверное,
уже забыли меня." Тут есть над чем поразмыслить серьезно.
Сегодня глобальной стала проблема "человек и природа". Можно ли обойтись здесь
без Арсеньева? Телевидение и издательства обрушило на зрителя лавину
американизированной литературы. Герой ее - супермен. Он - над людьми. Моделируется
тип человеческих отношении по закону джунглей. Вот роман для женщин: выходит он у
нас в серии "лучших американских дамских романов". В центре - герой супермен шериф
Баррет. Героиня с первого взгляда обворожена им. "... у Саманты буквально отвисла
челюсть.
Не
может
быть,
чтобы
это
был
он.
Шериф Баррет работал с ее отцом, это было больше десяти лет назад. Он истреблял диких
животных и изменников - индейцев" (Сьюзен Элизабет "Пробуждение страсти"). Какие
же это призвано пробуждать страсти? Можно ли представить подобный тон в
повествованиях Арсеньева?! Арсеньев, рисуя отношения русского капитанапутешественника к Дерсу Узала, к другим людям лесного племени, решает проблему, о
которой
в
свое
время
писал
Лев
Толстой
знаменитому путешественнику Миклухо-Маклаю: "Как жить людям друг с другом". Как
сделать, чтобы цивилизация не уничтожила в человеке все природное, естественное, не
сделала его врагом природы? Арсеньев обладал, и этому он во многом научился у Дерсу
Узала, чувством природы. Эти арсеньевские уроки нравственности так своевременны
сегодня.
Так что же, Арсеньев - основатель регионального направления, писатель-краевед и
все? Когда книги Арсеньева были изданы в 20-х годах за рубежом, его немецкий издатель
писал: "Я счастлив, что, приняв на себя издание бессмертного труда В. К. Арсеньева за
границей, мог приложить хоть долю своего труда к тому, чтобы показать всему свету
великого русского исследователя, чьи труды уже теперь приобрели для русского народа
много новых заграничных друзей и безусловно имеют великую будущность". Вот так
работал Арсеньев для своего народа.
Кто из наших современников может повторить эти слова сегодня, не боясь впасть в
преувеличения? Многие не решатся, так как не решились ввести даже во второстепенные
писатели авторы всех вузовских учебников по русской литературе XX века.
Лекция № 10. «Пути развития русской поэзии на Дальнем Востоке в
период революции и гражданской войны (1917-1922 гг.): реалистические и
модернистские направления». – 2 часа.
Период 1917-1922 гг. на Дальнем Востоке как компонент изучения региональной
литературы и культуры.
Изучение
региональной
литературы
–
важный
аспект
современного
литературоведения. Надо сказать, что литературоведы продолжают спорить, в чем
содержание и смысл понятия «региональная литература», каково ее место в системе
литературоведческих терминов. Нет сомнений, что у русской литературы единые
основополагающие принципы и закономерности. Литературный, или эстетический регион
– составная и неотъемлемая часть всей русской литературы. Но вместе с тем в литературе
каждого региона есть нечто специфическое (литература Севера, Урала, Сибири, Дальнего
Востока и т.д.). Ни одно из определений «региональной литературы», которое на
сегодняшний день существует, не устраивает, не отвечает необходимым требованиям и не
отражает термин во всей полноте. Надо определить более четкие базовые критерии для
понятия «региональная литература». Пока главный критерий – это место жительства.
Процесс регионального изучения литературы начался еще в конце ХIХ - начале ХХ
вв. и до сих пор идет. В начале ХХ века т.н. «областной принцип культурных гнезд»,
термин «областная литература» разрабатывал исследователь Н. Пиксанов. Изучение
региональной литературы началось в 1960-70-е гг. исследователями А. Пыпиным, В.
Щербиной, Р. Бикмухаметовым, Л. Якимовой, Ю. Постновым, Л. Элиасовым, Б.
Комановским, Ю. Шпрыговым, М. Пархоменко, Э. Шиком и др. В эти же годы началось и
изучение литературы Дальнего Востока, которой занимались исследователи В. Пузырев,
И. Кузьмичев, П. Глинкин, Д. Рачков, А. Татуйко, С. Пайчадзе. К разработке проблем
дальневосточной литературы причастны сибирский исследователь В. Трушкин и
забайкальский исследователь Н. Дворниченко. В докторской диссертации «Проблемы
истории русской советской литературы на Дальнем Востоке (1917-1941 гг.): идейнотематические и стилевые особенности» В. Пузырев - крупный исследователь литературы
Дальнего Востока - разработал концепцию развития дальневосточной региональной
литературы. Серьезный вклад в дело изучения литературы Дальнего Востока внес
профессор С. Крившенко, оставивший наиболее значительные исследования по
проблемам прозы и поэзии дальневосточного региона. Он является автором ряда
монографий и больших статей, посвященных литературному процессу Дальнего Востока.
Впервые проблемы регионального изучения литературы были обозначены
литературоведом П. Куприяновским в статье «Проблемы регионального изучения
литературы». Подчеркнув, что региональный принцип изучения литературы основывается
на общих методологических принципах советского литературоведения, исследователь
выделяет пять главных проблем: 1. Изучение жизни и творчества местного писателя. 2.
Изучение писателя-классика (крупного писателя) в плане регионально-краеведческого
начала. 3. Исследование литературной жизни в области, крае, регионе. 4. Наша область
(край, регион) в художественной литературе. 5. История развития литературы в крае.
Обращение к этим пяти вышеперечисленным проблемам для нас закономерно, однако
особую, главную, задачу нашего исследования мы видим в работе над пунктами:
«Исследование литературной жизни в области, крае, регионе» и «История развития
литературы в крае». С. Крившенко отмечает - и мы с ним согласны – «возможны и другие
аспекты
регионального
изучения
литературы,
в
частности,
рассмотрение
общетеоретической темы, проблемы с включением местного, регионального материала».
Обращение к заявленной в работе проблеме закономерно, поскольку на сегодня
несомненна необходимость воссоздать объективную картину литературного процесса в
России в ХХ в. Литература Дальнего Востока 1917-1922 гг. является неотъемлемой
составляющей русской литературы ХХ века, история которой без вклада т.н.
региональных литератур будет неполной. В масштабах нашей страны литературное
движение на Дальнем Востоке в годы революции и гражданской войны – лишь небольшая
часть русской литературы ХХ века, но она неотделима от нее.
В истории и литературе Дальнего Востока 1917-1922 гг. - уникальный период.
Исторические обстоятельства в России, наряду с напряженной военной и сложной
общественно-политической обстановкой в дальневосточном регионе, на протяжении пяти
лет обусловили динамику культурного развития и литературного процесса на Дальнем
Востоке: противоречивость творчества многих писателей-дальневосточников, их поиски
определенной идейно-художественной позиции и новых форм выражения себя и времени
в искусстве, непримиримость к инакомыслию своих коллег. Картина литературного
процесса нашла свое отражение и в острых литературно-критических дискуссиях
дальневосточников, которые, в свою очередь, перекликались с общероссийскими
дискуссиями по вопросам искусства нового мира. Дальневосточные поэты обращались к
коренным вопросам искусства: народность и партийность, свобода творчества и
идеологическая заданность, реализм и формализм.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что 1917-1922 гг. в истории русской
дальневосточной литературы обрели черты особого историко-литературного периода,
потому что литературная жизнь Дальнего Востока тех лет отличалась большой
интенсивностью (здесь, как и во всей стране, доминировала поэзия), а общественноисторические факторы наложили отпечаток на сложность социокультурного и
литературного процесса дальневосточного региона. Среди них: 1) миграция населения в
России и беженская волна на восток, обусловленные событиями мировой, гражданской
войн, социальными катаклизмами в революционной стране, голодом; 2) особый размах
гражданской войны на Дальнем Востоке и в Сибири, связанный с интервенцией целого
ряда капиталистических государств (Япония, США и др.); 3) отдаленность от центра
страны и образование в 1920-22 гг. ДВР (Дальневосточной «буферной» Республики); 4)
политическая нестабильность, проявившаяся в наличии на Дальнем Востоке, особенно в
Приморье, представителей всех классов и социальных слоев и борьбе различных
политических партий; 5) большое сосредоточие творческой интеллигенции.
Поэтическую жизнь Дальнего Востока 1917-1922 гг. формировали новые веяния,
модернистские течения, характерные для начала ХХ в. (символизм, футуризм,
имажинизм, акмеизм), «белоэмигрантское» направление, группы т.н. народной массовой
поэзии (пролетарской, или «городской рабочей», и партизанской, или «поэзии лесов и
сопок»). Этим обусловлено многообразие литературного наследия, характеризующегося
различием авторских убеждений, идейно-эстетических пристрастий и мерой таланта.
Особый интерес, в т.ч. не только литературоведческий, но и культурологический,
сегодня представляет изучение футуризма на Дальнем Востоке в 1917-1922 гг., в т.ч.
футуристической поэзии. Интерес этот научно оправдан. Во-первых, в наши дни
значительно возрос интерес к культуре рубежа ХIХ-ХХ вв., эстетике и философии
Серебряного века, поэтическим течениям того времени. На материале дальневосточной
поэзии можно внести существенный вклад в исследование проблем эстетики и
философии русского футуризма. Во-вторых, предпринятый анализ уточняет важные
черты литературного процесса начала ХХ в. в России, непосредственно значим в
изучении истории русской литературы, потому что расширяет современные границы
эстетико-этических поисков в области «футуристических игр», сфере их влияния, локусе
распространения. Футуризм на Дальнем Востоке возник в начале 1920-х, т.е. значительно
позже, чем в центральной России. Практика дальневосточной футуристической поэзии
определялась двуедино: творчеством авторов, приехавших во Владивосток из
центральной России, и местных поэтов, активно участвовавших в довольно бурной,
разноликой литературно-художественной жизни города.
В-третьих, изучение дальневосточной поэзии данного периода, истории и культуры
позволяет внести вклад в проблему изучения феномена восточной ветви русской
эмиграции, проследить истоки литературы русского зарубежья в странах АзиатскоТихоокеанского региона. Исследовательской проблемой является восстановление
картины жизни и творческого пути поэтов-футуристов, живших или побывавших в 19171922 гг. на Дальнем Востоке и во Владивостоке. Имена большинства из них
литературоведению сегодня практически неизвестны. Некоторые из поэтов ушли в
эмиграцию, вследствие чего их творчество в советское время не получило должной
оценки (А. Несмелов, Д. Бурлюк, Л. Ещин, М. Щербаков, Е. Яшнов, Н. Светлов и др.),
многие в 1930-е гг. были репрессированы, и их произведения до определенного времени
не изучались вовсе (С. Третьяков, В. Март, Евг. Бражнев, Н. Костарев, П. Парфенов, А.
Ярославский, А. Богданов и др.). Владивосток в исследуемый период для некоторых
поэтов стал первым этапом на пути в большую эмиграцию (Китай, Япония). С
Владивостоком связаны судьбы поэтов А. Журина, В. Рябинина, С. Алымова, Б.
Буткевича, Ф. Камышнюка, А. Вера, Ю. Галича, Вс. Ник. Иванова, А. Ачаира, Н. Шилова,
Г. Фаина, Арс. Ольгина, Л. Тяжелова, В. Силлова, М. Скачкова, Д. Борисова, поэтесс Е.
Грот, В. Статьевой-Перевощиковой, О. Худяковой, О. Петровской и многих других,
побывавших или живших в Китае. Харбину, как известно, суждено было стать
культурным центром русской восточной эмиграции.
Таким образом, полученные в ходе научного исследования результаты можно
использовать при разработке вузовских курсов, спецкурсов, спецсеминаров региональной
тематики; при изучении поэзии восточной ветви русского зарубежья; в школьной
программе на уроках по «Истории русской литературы Дальнего Востока, «Истории
русской поэзии Дальнего Востока», «Истории русской культуры Дальнего Востока»; при
подготовке учебных и методических пособий по историко-литературному краеведению
для школьников и всех интересующихся; при разработке экскурсий по литературнопоэтическим местам Владивостока. Исследование имеет научно-практическую
значимость и ценность, поскольку дает целостное и объективное представление об
историко-литературном и культурном процессе ХХ века в России.
Для Дальнего Востока в целом и Владивостока, в частности, была характерна
активность печати, издательской деятельности, особенность которой проявилась в
существовании периодики разной политической ориентации: общедемократическая
пресса, революционная, контрреволюционная, либеральная, «беспартийная» и
интервентская печать (т.н. прояпонская или проамериканская). Идейная разноречивость
прессы сопровождалась пестротой эстетических взглядов: от проповеди «искусство для
искусства» до попыток создать эстетику новой социалистической литературы.
Владивостокская периодика 1920-х свидетельствует об активной, богатой литературнопоэтической жизни региона. На Дальнем Востоке (Владивостоке, Хабаровске, Харбине,
Чите, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Иркутске, Верхне-Удинске) было
издано в этот период свыше ста различных по идейно-художественной направленности
сборников стихов (почти все сегодня являются библиографической редкостью). Наличие
значительных литературно-поэтических сил и обилие известных и новых
(малоизвестных) поэтических имен, обусловленных феноменальным ростом
народонаселения на Дальнем Востоке, объясняет повышение культурной интенсивности.
По нашим подсчетам, в городе в те годы работало около 150 поэтов, писателей,
журналистов.
Владивосток в 1920-е гг. – мощный центр русской культуры на Дальнем Востоке.
Пестрый и многоликий в литературном отношении город, несмотря на тяжелейшую
политическую ситуацию региона и факторы, казалось бы, мало совместимые с
культурной жизнью, испытывает в это время небывалую потребность в художественной
литературе. Регулярно проводятся «Дни книги», устраиваются литературные чтения.
Городские публичные библиотеки-читальни работают в интенсивном режиме, о чем
свидетельствуют газетные хроники. Литературные рубрики газет и журналов того
времени говорят о подъеме интереса населения к культуре. Из материалов газет
становится известным, что охотно читаются Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Куприн, И.
Бунин, В. Короленко. Наряду с М. Горьким, Д. Бедным, Л. Андреевым во
владивостокской периодике публикуются рассказы эмигрантов А. Аверченко и Тэффи, А.
Ремизова и А. Черного. Владивостокские газеты активно освещают местные новости:
сведения об известных литераторах и поэтах, о проходящих поэтических конкурсах и
литературных вечерах, о книжных и журнальных новинках региона. Так, например, в
«Вечерней газете» опубликованы воспоминания писателя-эмигранта Александра
Яблоновского «Тихий свет», посвященные памяти Короленко. А 4 августа 1922 г.
состоялся второй вечер литератора-эмигранта, бывшего члена горьковской «Среды»,
Степана Григорьевича Скитальца (наст.фам. - Петров), который во время гражданской
войны, как и многие, оказался во Владивостоке, а в 1922 г. поселился в Харбине. На
вечере он прочел свои воспоминания о Л. Андрееве. «Скиталец мастерки владеет словом,
а потому аудитория с большим удовольствием слушала его чтение». Литературные
хроники, библиографические рубрики газет тех лет содержат объявления о публичных
лекциях и докладах по русской литературе («Русская литература ХХ века», «От
Лермонтова и Гоголя к Достоевскому»). В воскресенье 12 марта в 7 часов вечера в
актовом зале ГДУ (Пушкинская ул.) состоялась публичная лекция доцента А.П.
Георгиевского «Совесть России – В.Г. Короленко».
Свидетельством творческой активности и энергичной деятельности жителей города
явилось создание в 1919-1922 гг. различных обществ, объединяющих молодежь,
увлекающуюся литературной деятельностью. Так, на базе ГДУ активно работало
Литературно-филологическое общество имени Достоевского. В январе 1921 г. Обществом
Студентов Владивостока в помещении Студенческой столовой (Светланская, 38),
состоялось открытие «Стук’а» (Студенческого клуба). На открытие были приглашены
артисты, литераторы, поэты и художники. Здесь отмечалось празднование Татьяниного
дня. Владивостокское студенчество, предполагая восстановить московскую традицию
празднования дня св. Татьяны, устроило два вечера 25 января. Как писала газета «Голос
Родины», ««левые» собрались праздновать в студенческом клубе (Стуке), «правые» под
именем «Русское национальное студенческое общество» - в Пушкинском театре. В
Пушкинском драматический актер Б.Г. Артаков прочел довольно выразительно
стихотворение А. Журина «Воспоминание о Москве», г-жа Добошинская грациозно
протанцевала дриаду под мелодекламацию стихотворения С. Алымова «В лесной чаще».
В «Стуке» один студент прочитал два стихотворения В. Рябинина». Немного ранее, 29
декабря 1920 г., на Восточном факультете ГДУ, студенческий литературнохудожественный кружок организует «Вечер Маяковского» с последующим диспутом.
Вход был свободный. Отражением активной литературной жизни города были довольно
необычные мероприятия. К числу таких неординарных «устроений» можно отнести
«литературные суды», проводимые культурно-общественным отделом Общества
Студентов г. Владивостока и студентами историко-филологического факультета
Государственного дальневосточного университета. Огромная роль в городе и крае
отводилась культурному просвещению населения, поэтому поддерживались любые
начинания. Так, в 1920 г. Пролеткультом создается «Кружок любителей философии»,
члены которого собирались в помещении «Пролеткульта» по адресу: Светланская,
Морской флигель № 2.
Литературный Владивосток 1920-х не мыслит себя вне России. Творчество А.
Белого, Н. Гумилева, А. Блока, В. Маяковского, И. Северянина, В. Хлебникова, К.
Бальмонта, Вяч. Иванова, В. Брюсова, С. Есенина магически притягивают окраинную
столицу. Поэтическая молодежь хочет знать как можно больше о «центральной»
литературе, о современных направлениях в поэзии, об акмеизме, символизме,
имажинизме. Так, в воскресенье 19 марта 1922 г. по инициативе группы поэтов и
художников в Народном Доме был устроен «День памяти поэта А. Блока». С речами о
творчестве поэта выступили: А.П. Георгиевский, Л.Д. Тяжелов, Б.П. Лопатин, Вс. Н.
Иванов, А. Журин (о лирических драмах), Борис Бета (встреча с А. Блоком), М.Н.
Скачков (этюд о творчестве А. Блока). Художественное чтение произведений А. Блока
проиллюстрировал Л. Ещин и М. Скачков. Кроме этого, в качестве иллюстраций
произведений поэта А. Блока на сцене Народного Дома была поставлена лирическая
драма «Балаганчик». Режиссировали А.Л. Эльстон и Т.М. Петипа. Роль Пьеро исполнил г.
Курбский, роль Коломбины – г-жа Лысякова. Декорации художников Степанова,
Шабуневича, Августинопольского. Начало ровно в 11 часов утра. Билеты продавались с
пятницы 17 марта в магазине т.д. Щербаков и К° (Светланская, 41). В «Вечерней газете»
был напечатан очерк поэта и беллетриста Б. Беты «Встреча с Блоком», написанный, как
указывал сам автор, на станции Океанская и датированный 12 марта 1922 г.
Владивостокский поэт Григорий Травин опубликовал стихотворение «Нежному Блоку»:
«В кабачках, в переулках, в извивах, / В электрическом свете наяву» / Он искал
«бесконечно красивых / И бессмертно влюбленных в молву». / Как платок снежно-белый
скомкал, / Скомкал душу в пламенный звук, / Чтоб прошла по ней Незнакомка, /
Отчеканив модный каблук. / В голубую закутанный тогу, / Ожидал на старинном мосту,
/ Чтоб Звезда пересекла дорогу, / Навсегда уносясь в пустоту. / Неизменной Прекрасной
Дамы / Самый верный и нежный слуга / Обретал он в молчании храма / Вдохновения
сладкий угар… / Но пришли роковые Двенадцать, / Сапога оставляя след, / Как картуз
свой, заставили смяться / Терпких грез электрический свет. / И отдав свое сердце ранам,
/ Разделивши кошмары страны, / Он ушел из земного обмана / В Бесконечности синие
сны. / Но прольется в грядущие дали / Нежный ритм изумительных строк: / Неужели вы
не слыхали, / Что Поэзии имя – Блок?!»
В начале 1920-х во Владивостоке проводились вечера, посвященные Н. Гумилеву.
На одном из таких вечеров Вс. Иванов прочитал этюд памяти поэта, из которого
следовало, что Н. Гумилев был «певцом полдня и вечной жизни»: «Меньше одним
пленительным человеком… Вечной жизни он был певцом, жизни прекрасной, как вечно
воскресающие мраморы. Он различал ее божественные контуры сквозь те волнующие
одежды бытия, о которых говорит Гете… И он искал жизни не современной, той,
корсарской, пиратской, охотничьей, абиссинской, военной, наконец, которая допьяна бы
напоила его своими силами… Победа, слава, подвиг – бледные / Слова, незнаемые ныне, /
В душе звучат, как трубы медные, / Как голос Господа в пустыне… Всю роскошь мира
впитывает в себя поэт в этих видениях, но не отчужденных, а лишь усугубленных
экзотикой. Как день перегибается из опаловых сине-зеленых в алых пятнах утренних
сумерек и через золотой полдень в отдохновительную прохладу подымающихся туманов
вечера, так и жизнь, сплошная и неразрывная, имеет в себе углубленность полдня,
греческого акме. Полдень, сладкий и нежащий, концентрирует и вбирает в себя всю
жизнь, подобно тому, как в хрустальном стакане, в ключевой воде уральский цветной
камень делается бесцветным, лишь в одной грани собирая всю силу, всю интенсивность
своей окраски… Русский Андре Шенье, он верно, улыбкой встретил свою смерть от
красной волны революции... Потому что он был певцом полдня и вечной жизни». Памяти
Н. Гумилева поэт Ю. Галич посвятил поэму «Корсар».
Пятикратный к 1922 г. прирост населения во Владивостоке способствовал
повышению культурного потенциала, творческой энергии. 1920 г. оказался самым
насыщенным и ярким по разнообразию культурных событий в жизни города. Активно
проводились художественные выставки, открывавшие новые имена и течения
современного искусства. Значительную роль в культурной жизни Владивостока играли
театры. К 1922 г. во Владивостоке действовали более 10 театров: «Золотой Рог»
(Светланская, 13), «Общедоступный», «Пушкинский», «Художественный» (Светланская,
50), Зимний и Летний в Городском саду, иллюзион Общества народного просвещения
(Народный Дом), Площадка 19-й версты Уссурийской железной дороги Союза трудовой
интеллигенции, театр «Модерн», «Акрополис» (в районе Луговой ул.), Театр клуба
дивизии народной охраны (на Шефнеровской ул., ныне Дальзаводская), Театр Миниатюр.
В городе насчитывалось около 15 кинотеатров: театр-иллюзион «Золотой Рог», «Грандиллюзион» (Светланская, 42), иллюзион «Донателло», иллюзион «Глобус» (Светланская,
53), иллюзион «Идиллия» (Светланская, 43), Общедоступный театр-иллюзион,
Художественный театр-иллюзион, театр-иллюзион товарищества «Михайлов и
Ерошенков», Общедоступный театр-иллюзион братьев Малеванных, «Прогресс»
(преобразован в Кино-Арс), Кинематограф Сибирского флотского экипажа, кинотеатр
«Пикадилли», «Новый театр», Кинотеатр сада 19-й версты. Во Владивостоке имелось
около 10 больших и малых театров-кабаре: «Аквариум», театр миниатюр кабаре
«Мозаика», «Би-ба-бо», в этом же помещении 15 декабря 1921 г. открылась «Таверна»
(«Ночной кабачок») А.С. Россова, театр-ресторан «Тихий уголок на 6-й версте.
Загородный сад», кабаре «Жар-птица». В 1923 г. в подвальном помещении гостиницы
«Версаль» (Светланская, 10), в советское время она называлась «Челюскин», был открыт
семейный ресторан-кабаре под названием «Не рыдай», а в задании ТЮЗа (Светланская,
15) ресторан-кабаре «Медвежья берлога», в здании, принадлежавшему первому
городскому голове города Михаилу Федорову (Светланская, 51), театр-ресторан «Три
маски». В соседнем с последним размещалась кофейня, кондитерская и булочная Кокина.
Ресторанов было огромное количество: «Шуин», «Олимпия», «Медведь», «Эдем»,
«Декаданс». Однако самым известным и популярным был ресторан «Версаль», которому
даже периодически посвящались стихи в газетах - своеобразная поэтическая реклама того
времени. Некто под псевдонимом Виконт де Моску так писал про предстоящее открытие:
«Скоро будет очарован / Городок Владивосток? / Обыватель так взволнован, / Что в
смятеньи сбился с ног. / Целый день владивосточки / Снаряжают туалет: / Туфли,
бантики, чулочки, / Шелк, духи, колье, лорнет… / Кавалеры, страх внушая, / Принимают
строгий вид, / Редкий ужин предвкушая, / Дразнят мыслью аппетит. / Вечер. Сопки
проглотили / Солнца алые лучи. / Понеслись автомобили, / Лихо скачут лихачи. / На
Светланской шум, движенье… / Встрепенулся вдруг народ: / Не случилось ли сверженья /
И настал переворот? / НА СВЕТЛАНСКОЙ В ДОМЕ ДЕСЯТЬ, / Где гостиница
«Версаль», / Просят вдуматься и взвесить, / ЗАЛ ОТКРЫЛСЯ колоссаль. / Зал
трехцветный, как изваян, / Зал – затея из затей, / В нем с улыбкою хозяин / Всех
приветствует гостей. / Нежных дам букет прелестен, / Шумно, весело, пестро! /
Метрдотель ЯНСОН известен, / Обольстителен ПЬЕРО! / Блюд изысканность
прельщает / Над тарелкой легкий пар… / Бесподобно угощает / ШАЛАГОНОВ – кулинар!
/ В такт пирующим играет / Симфонический оркестр, / Сердце звуками ласкает / Как в
Париже гран Сильвестр! / Удовольствиям нет меры! / Чтоб создать живой уют, /
Примадонны и премьеры / Здесь божественно споют. / И увидев, как основан / Новый
радостный чертог, / Очарован, заколдован / Городок Владивосток». Или еще пример
такой «Песни о Версале», величавшемся «первоклассным рестораном»: «На Великом
Океане / Лучший зал найти едва ль, / Чем в роскошном ресторане / При гостинице
«Версаль». / Огонек приветно светит – / Посетителей манит. / Сам хозяин гостя
встретит – / И усадит, и почтит. / Зал торжественно сияет. / Симфонический оркестр
/ Вдохновенно исполняет / Номеров своих реестр. / Прежде к водочке холодной / На
подносах подадут / Для закуски бесподобной / Полтораста разных блюд. / Тут:
селедочка, креветки, / Поросенок, сыр, балык, / Осетрина, тарталетки, / Шейки раков,
дичь, язык… / Мало ль можно блюд измыслить? / Но хочу сказать одно: / Никому не
перечислить / То, что здесь принесено. / Выпив водочки с закуской, / Принимайтесь за
бульон / И, спросив лафит французский, / Нужно съесть филе-миньон. / После – рябчик,
куропатка, / Гусь, индюшка и салат: / И бокал с шампанским сладко / Тешит вкус и
нежит взгляд. / Фрукты, кофе и ликеры, / Звуки, женщины, хрусталь… / И повсюду
разговоры: / Как прекрасен зал «ВЕРСАЛЬ»!». Как нетрудно заметить, основные
развлекательные заведения были сосредоточены по протяженности главной улицы
Владивостока. Так, некто Виктор Павлович и К° посвятил целую подборку стихов
открывшемуся в 1922 г. во Владивостоке по столичному образцу ресторану «Москва»
(Светланская, 23, бывший международный клуб): «Коль время нужно провести приятно,
/ Здоровый вкусный получить обед, / Вам в ресторан «Москву», понятно, / Пойти я дам
благой совет. / Коль явится желание красиво / Вам время провести лишь / Идите Вы в
обставленный на диво тет-а-тет, / В Московском ресторане кабинет». Или: «В Москву,
в Москву, кто наслажденье / Душе и телу хочет дать, / Свое дурное настроенье /
Желает если кто прогнать. / Туда, где взор ваш все ласкает, / Где все Москву
напоминает, / Где тонких блюд и вин букет / Вам даст прекраснейший буфет. / Туда, где
шум царит веселья, / Туда, где слышен беззаботный смех, / Где после бурного похмелья /
Опохмелиться без помех». Или: «Ресторан Москва открылся, / Кто там был, тот
удивился / И не знает, что сказать, / Чудо как сие назвать. / Будто бы и в самом деле /
Вы в Москву перенеслись. / Лишь пришли, за столик сели, / Звуки вальса понеслись. /
Перед Вами вырастает / И с улыбкой предлагает / Карточку нарядный франт / Из
«Москвы» официант. / Вы обедать попросили, / Вас так чудно угостили, / Что отныне
лишь туда / Стали Вы ходить всегда». А вот еще пример: «Подошли к нам святки / В
эти дни, ребятки, / Веселы – счастливы / Буйно – шаловливы. / Юноши – девицам /
Шлют всем извещенья, / Что на вечеринцах / Плясь до одуренья. / Дамы, джентльмены,
/ Сосчитавши иены, / Вслух соображают / Ныне, где гуляют. / Должен я признаться, /
Что все собираться / Лишь в «Москве» решили, / Раньше там кутили, / Дань отдать
веселью / Бурному похмелью. / Все в Москву понятно, / Где бывать приятно».
На страницах дальневосточных газет 1920-х гг. можно обнаружить поэтическую
рекламу самых разных владивостокских учреждений: от магазинов, банков до пунктов
сферы обслуживания населения. В целом она отражала реалии владивостокской жизни
того времени. Приведем пример рекламы «Товарищества Оборот» (Светланская, 13) –
крупного торгового центра: «Выхожу я на Светланку, / Слышу говор, голоса, / Слышу
смех и перебранку, / Слышу грохот колеса. / Вижу мальчиков бегущих, / Вижу толпится
народ. / Вижу дам, мужчин идущих / К магазину «ОБОРОТ». / Слышу: «Мама, слышу уж
в народе / Что-то часто говорят, / Что товары в «ОБОРОТЕ» / Только надо
покупать»… / Несомненно! – Дешевее, / Мой милейший Вольдемар, / И изящней и прочнее
/ В «ОБОРОТЕ» весь товар». Или: «Господа! Переворот! / Магазины погорели. / Лишь
остался «ОБОРОТ» / Все товары уцелели. / Приходите же скорей – / В магазине
«ОБОРОТЕ» / Все товары дешевей / И прочнее Вы найдете! / К весне новые ботинки / Из
Америки пришли. / Всевозможные сарпинки, / Сукна, бархаты, драпы, / Пальто модны,
маркизеты, / Шевиоты высший сорт / Коленкоры и вельветы / В магазине «ОБОРОТ!».
Во Владивостоке проводились концерты экс-солистов императорских театров,
оперные постановки, спектакли-оперетты, сольные выступления музыкантов,
симфонические концерты, особую роль играли газетные полемики по вопросам
искусства. Немалую часть народонаселения Владивостока составляли артисты,
литераторы, музыканты, профессора, журналисты, художники. Во Владивостоке к
середине 1919 г. одних только актеров и музыкантов насчитывалось свыше шестисот. В
1920-1921 гг. Профессиональный союз музыкантов и деятелей сцены объединял около
650 человек. Действовало первое дальневосточное товарищество сценических деятелей.
Городская газета «Новый путь» констатировала в декабре 1919 г. следующее:
«Владивосток становится точно столичным центром художественной жизни Сибири. Тут
уже целая армия деятелей всех видов искусств и течений, которые со всех концов волею
судьбы причалили к берегам Великого Океана». В меньшей степени то же происходило в
других городах дальневосточного региона. Такая стремительная концентрация людей
искусства возбудила творческую активность в масштабах, небывалых доселе для
Владивостока. Результатом повышения культурной энергии стала организация во
Владивостоке Литературно-художественного общества Дальнего Востока, с театральной
студией «Балаганчик», и театра-кабаре «Би-ба-бо», которые сыграли важную
организационную роль в становлении культурной жизни города и поэтического искусства
на Дальнем Востоке в 1920-е гг.
ЛХО ДВ было создано поэтами-футуристами 25 января 1919 г., в Татьянин день, а
при нем театральная студия «Балаганчик». С этого момента начинается официальный
характер поэтической жизни Дальнего Востока. Вот что писали по этому поводу газеты:
«Создалось Общество усилиями очень немногих лиц. Молодые, вступившие в жизнь
поэты и некоторые журналисты, привыкшие к общественной жизни, не могли
примириться с мыслью, что Владивосток, путем беженства обогатившийся культурными
силами, не сделает попытки организовать писательские, газетные и артистические силы.
Вышло так, что ранее организовалась студийная группа «Балаганчик», а затем было
положено начало ЛХО ДВ, в которое «Балаганчик» вошел составной частью». Первыми
учредителями Общества, как это было указано в Уставе ЛХО, стали: Н. Асеев, Б.
Лопатин, Н. Пантелеев, М. Ремизов, Г. Чертков. В первый президиум Общества были
избраны Б. Лопатин, Н. Пантелеев и В. Чиликин. Они принимали наибольшее участие в
организационной работе.
Одной из своих задач ЛХО объявило «обслуживание профессиональных интересов
деятелей искусства». Одними из пунктов обязательной программы-минимум президиум
наметил устройство не менее двух раз в месяц рефератов, лекций или конкурсов,
устройство крупного Дальневосточного конкурса литературного или художественного,
создание анкеты о литературных, художественных и артистических силах Дальнего
Востока и организацию библиотеки. Очевидно, что устроители хотели придать Обществу
дальневосточный, а не только владивостокский характер. В первый год жизни Общество
насчитывало 106 действительных членов и 30 человек членов-соревнователей. В 1921 г.
уже до 400 действительных членов. Состав Общества был очень пестрым. В нем
присутствовали: поэт-большевик А. Богданов (член Президиума), лирики-модернисты В.
Рябинин, В. Статьева, Б. Буткевич, журналист А. Журин, поэты В. Март, Г. Фаин, С.
Цыганок-Темрюкский, В. Силлов, О. Петровская, О. Худякова, В. Март, М. Скачков, С.
Алымов, Ф. Камышнюк и др. Состав президиума тоже неоднократно переизбирался и
обновлялся, и во многом именно его составом определилась идейно-художественная
направленность ЛХО. Когда в состав Общества вошли поэт С. Третьяков, поэт и
художник Д. Бурлюк, художник В. Пальмов и другие приверженцы футуризма,
деятельность ЛХО приобрела ярко выраженную футуристическую направленность.
«Балаганчик», находившийся в подвале театра «Золотой Рог» на углу улиц
Семеновской и Алеутской, стал местом творческих встреч членов ЛХО. Он был создан в
конце 1918 г. В настоящее время в здании «Золотого Рога», на ул. Светланской, 13, в этом
же месте цокольное помещение Приморской филармонии и расположен ресторан-театр
«Порто-франко», воссоздавший атмосферу этого кафешантана. Название было выбрано
не случайно. Как образно пишет Тамара Калиберова, «Порто-франко тоже с хорошим
вкусом выдержан в старинном стиле – он передает образ жизни. Аромат прошлого
окутывает сразу, как только переступаешь порог ресторана, - мебель из прошлого века:
зеркало во весь рост, изящной работы буфет и стулья, фонарь, старые афишки: «Букет
красавиц… Колоссальный фурор». Из зала доносится приглушенный толстыми стенами
голос печального Пьеро. В «Порто-франко» можно увидеть и стилизованный уголок
старого Владивостока с погнутой водосточной трубой, настоящим патефоном в окне,
забавными объявлениями на стене и дворником, прикорнувшим в уголку. Но, бесспорно,
настоящей сенсацией «Порто-Франко» следует читать украшающие его портреты
завсегдатаев «Балаганчика»: Давида Бурлюка, Сергея Третьякова, Медведева,
неизвестной актрисы и самой художницы Лилии Афанасьевой, сделавшей эти наброски
боле 80 лет назад». В наши дни своеобразное ретроспективное путешествие в
«Балаганчик» начала 20-х прошлого века совершает известный валадивостокский поэт
Борис Лапузин в стихотворении «Порто-франко»: «Я пил коньяк французский в «ПортоФранко» / Закусывал кальмаром и трепангом, / Стратегию обдумывая - строк. / А за
соседним столиком без меры / Хлестали ром Ямайский флибустьеры - / Всех отражал
зеркальный потолок. / И вдруг сюда вошел поэт Несмелов, / За ним Яшнов. Еще один
поэт... / Какое им до нас, простите, дело / Из тех давным-давно сгоревших лет? /
Кружилась голова, качалось тело, / Дрожал расфокусированный свет... / И время
перевернуто летело, / Как будто опрокинутый сонет».
Вот что сообщала 14 ноября 1918 г. газета «Далекая окраина» о намерении группы
журналистов и художников организовать во Владивостоке «новое театральное начинание
– открытие литературно-художественного уголка по типу столичных студий искусств».
Театру присвоено название «Балаганчик» – по имени первой лирической драмы А. Блока:
«Названием этим организаторы хотят с первых же шагов указать публике и критике… на
необходимую родственность лирики с простейшими душевными эмоциями, искаженными
и усложненными до неузнаваемости, громоздкостью современных театральных зрелищ. В
постановках будущего театра предполагалось соединить все виды искусства от
литературы до балета включительно». Организационное ядро студии «Балаганчик»
составляла руководящая пятерка, куда входили Д. Бурлюк, В. Март, К. Синяков. Но
особенно много сил и творческой энергии отдавали ему Н. Асеев и С. Третьяков,
стремившиеся сплотить интеллигенцию, подчас политически весьма разношерстую, на
общем увлечении искусством, объединить часто несоединимое – друзей и врагов. Еще в
самом начале деятельности Общества Асеев, главным образом по инициативе которого и
создан был «Балаганчик», опубликовал в новогоднем номере популярной
владивостокской газеты «Далекая окраина» своего рода призывный манифест,
представляющий собой зарифмованную прозу: «Скорей в «Балаганчик» идите, / Кто
жизнь свою с песней связал, / Протянуты нежные нити / От звезд – в этот маленький
зал. / Что тяжкая сила мороза / Пред силой сияющих глаз? / Пусть сказка, и злоба, и
проза, / Шипя уползают от нас. / Чтоб легким румянцем на лицах / Огонь вдохновенья
мерцал – / Цветы непременно в петлицы, / Цветы непременно в сердца! / Здесь светлое
слово привета / Ответом на шелест шагов, / Здесь вечная воля поэта / Встречает друзей
и врагов!». А вот как определял свои цели сам «Балаганчик»: 1) ставить пьесы, которые
по художественности замысла и интимности выполнения возможны только на маленькой
сцене; 2) производить в постановках все современные течения сценической жизни и
пытаться находить новые возможности сценических достижений; 3) образовать круг
исполнителей – грамотных, восприимчивых и гибких в сценических достижениях,
способных к новым попыткам и достижениям; 4) идти навстречу местным драматургам в
постановке и выполнении их пьес; 5) привлекать к совместной работе худ-ков,
музыкантов и друзей искусства.
Отсутствие идейной совместимости участников не помешали Обществу сыграть
положительную роль в объединении поэтических сил Дальнего Востока (проведение
литературных, поэтических конкурсов, вечеров, докладов, чтений, дней собеседования по
вопросам искусства; издание футуристических газет, хрестоматий). Конкурсы выявили
поэтические силы Владивостока и стали основной формой знакомства масс с поэзией на
страницах газет. Конкурсантами, а также членами жюри на этих мероприятиях выступали
Д. Бурлюк, С. Третьяков, Н. Асеев, П. Далецкий, В. Рябинин, В. Статьева, поэтыхарбинцы С. Алымов и Ф. Камышнюк и др. Драматические, декламационные,
художественные, музыкальные, архитектурные, декоративные конкурсы, театральные
постановки, литературные утра стали иллюстрацией разнообразия творческих интересов
участников, взаимодействия поэзии с другими видами искусств и свидетельствовали о
важной объединяющей функции ЛХО. Существенно и образовательное направление:
открытие при ЛХО студии поэтов, Музыкальной и Художественной студии. На базе
последней 23 мая 1920 г. образовалась уже Художественная студия Пролеткульта,
просуществовавшая значительно дольше. При последней была открыта секция по
изящным рукоделиям, велись занятия по живописи и выжиганию по тканям, всем видам
вышивания пряжей, металлами, камнями и бархатом, по рисункам мод, домашнему
декоративному убранству, изготовлению картин из тканей и бумаги, выработки ковров и
т.д. С 15 августа 1920 г. художественной студией Пролеткульта уже принимались работы
в области изобразительных искусств, как то: портреты, декорации, внутренняя роспись,
плакаты и картины социального строительства и жизни пролетариата, декоративное
убранство, вывески и прочее. Работы исполнялись на холсте, тканях, стекле, фаянсе,
дереве, металлах, камнях (мозаика) и пр.
Практически основной формой работы ЛХО стали тематические вечера по пятницам
для членов Общества и гостей (т.н. «литературные пятницы - дни собеседований по
вопросам искусства»), это были: литературные доклады и чтения, музыкальные концерты,
театральные постановки и инсценировки, литературно-художественные диспуты, вечера
памяти поэтов, вечера-презентации новых книг, концерты классической музыки. В
декабре 1919 г. ЛХО объявило новое начинание. Среди его членов возник кружок для
устройства особых вечеров, посвященных одному автору. На них читались биографии,
отдельные произведения, ставились инсценировки, выставлялись шаржи. По
возможности, к участию в таких вечерах привлекались и сами авторы.
В начале 1920-х гг. в «Балаганчике» проводились собрания журналистов,
устраивались разные вечера: поэзии (вечер китайской поэзии В. Марта; вечер памяти,
посвященный амурскому поэту Ф.И. Чудакову), романса (г. Босич, г. Каринская), танцагротеск, импровизации музыки в пластике (г. Пальмина), комических рассказов (г.
Диагарин) и анекдотов (г. Лухманов). Были и особые вечера, посвященные целиком
одному автору, чаще поэту или литератору (С. Третьякову, Н. Асееву, Д. Бурлюку, Н.
Гумилеву, Теффи, М. Кузьмину, В. Короленко и др.). 18 декабря 1920 г. в ЛХО
состоялось чтение драмы А.В. Луначарского «Иван в раю». Читал ее актер К.А. Зубов.
Театральные увлечения Общества проявились в вечерах, посвященных памяти В.Ф.
Комиссаржевской и чествований владивостокского актера Е.М. Долина, в праздновании
«Московской вербы». Под руководством режиссера, театрального и литературного
деятеля Констана де Польнера - первого руководителя поэтического театра-студии
«Балаганчик» – силами участников студии была поставлена пьеса «Похищение
сабинянок». Студия выступала с благотворительными целями. Так, на вечере,
устраиваемом Союзом учителей, была сыграна пьеса Н. Гумилева «Дон Жуан в Египте».
4 апреля 1919 г. в студии «Балаганчик» в третий раз были поставлены «Два Пьеро» Э.
Ростана, пьеса Л. Андреева «Дни нашей жизни». В 1919-1920-х гг. при участии К.
Польнера в «Балаганчике» были поставлены пьесы А. Блока, мелодрама Н. Евреинова
«Кулисы души», драматические миниатюры С. Алымова. Яркой звездой вечеров ЛХО
являлась балерина З.В. Пальмова, неоднократно устраивавшая свои бенефисы. В газете
«Дальневосточное обозрение» под псевдонимом «Точка», за которым, как нам известно,
скрывался поэт-футурист С. Третьяков, ей посвящен маленький фельетон «Танцовщице»
с подзаголовком «Экспромт на Пальмову»: «Прорезала тень французским каблучком, / В
портьеры сердца закинула руку… / Оставьте танцы… Совнарком… / Рассеет мировую
скуку. / Ракетно с Адамом сигнальный вальс… / Отдаться хотите на кончиках рапир?.. /
Усыпите буржуя «антанты» трансом / Под аплодисменты мужских Сапир… / «Танец
живота» голодного, трюки… / Аккомпаниатор гений – вариации пуль / Умеете
танцевать по новой азбуке? / Совдеп! Подарить ей пару ходуль!».
Одной из уникальных черт искусства начала ХХ в. было требование триединства
«Слово – Музыка – Изображение». Связь зрительного и звучащего ряда, единства слова,
музыки, пластики было воспринято в качестве одного из присущих тому времени
способов передачи поэтического слова. Футуристы ставили задачу через искусство
переродить жизнь. Задачи, выдвинутые художественным авангардом (М. Ларионов, Н.
Гончарова), сблизили поэзию, живопись, музыку, способствовали взаимопроникновению,
синтезу искусств. Удивительно, но приемы вроде «поэзия есть говорящая живопись»,
«музыка – поэзия без слов», «поэзия – словесная музыка» и т.п. уже были ранее в
художественно-словесной культуре некоторых эпох (барокко, грань ХVIII-ХIХ вв. в
русской культурной истории и т.п.). Данное триединство в творчестве дальневосточных
футуристов приобрело реальные очертания. Как будто никогда и не было разрыва между
тремя разными видами искусства: сочинялись стихи, тут же были положены на музыку и
исполнялись, а в это время рисовался портрет. В газетах были часты совместные
объявления: конкурс стиха, мелодии, рисунка (чаще шаржа; надо сказать, что шаржи и
карикатуры были в это время очень распространенным явлением, поэты и художники,
знавшие друг друга лично, не брезговали перекинуться бойким четверостишием,
эпиграммой или какой-нибудь «острой» карикатуркой). В вечерах «Балаганчика» Н.
Асеев декламировал стихи, С. Третьяков музицировал, а Д. Бурлюк рисовал. Обычным
явлением перед проводимыми ЛХО музыкальными конкурсами были объявления с
предложением написать музыку на стихи и исполнить.
Сохранились свидетельства разных людей, что в «Балаганчик» заглядывали
партийцы, профсоюзники всех мастей, приходила владивостокская «недобитая
буржуазия», колчаковские офицеры и контрразведчики. Здесь нередко бывал поэт Арс.
Несмелов. Позже в своих харбинских воспоминаниях о Владивостоке он помянет
«веселый кабачок, где читались стихи, доклады и прочее» и где душою был С. Третьяков.
Членом «Балаганчика» был актер и режиссер К.А. Зубов, впоследствии народный артист
России. В 1922 г. он вернулся в Москву, во МХАТ. Частыми посетителями были будущий
концертмейстер того же МХАТа Глушакова-Любимова, певица Ася Романова,
блиставшая потом в итальянской «Ла-Скала», будущий красный партизан Иван Мамаев
(он был расстрелян как «враг народа» вскоре после Отечественной войны). Выступали
здесь и бывшие знаменитости: солисты и актеры, которым аплодировал сам император.
Бывали в «Балаганчике» Константин Суханов и Александр Булыга (будущий писатель
Фадеев). Практически жили и творили здесь завсегдатаи литературного кафе местные
поэты В. Рябинин, В. Март. «Балаганчик» стал приютом всех тех, кто жили словом,
эмоцией, талантом. Газета «Далекая окраина» оценивала его как «единственный по
значительности вкуса в нашем крае». На одном из вечеров 7 февраля 1920 г. друзьям
балаганчика посвятил одноименное стихотворение поэт А. Журин: «Мечты призывами
посеяв, - / Где океана дремлет вал, - / Пришел поэт – москвич Асеев / И «Балаганчик»
основал. / В подвале «Золотого Рога» / В приют свой ситцевый манит / Наш
«Балаганчик» тех немногих, / В чьих душах что-нибудь горит. / И «Балаганчик» стал
занятен / Для молодых и стариков. / Весь год главою в нем – Лопатин, / Его душою –
Третьяков. / Здесь обостряется стремленье, / Взметаясь, мечется мечта / И было
вечностью мгновенье, / Когда душа с душой слита. / Актер, актриса, литератор, / Поэт,
художник, музыкант, / Певец, танцовщица, оратор / И притаившийся талант. – /
Пришедшие Бог весть откуда / К пустынным дальним берегам, / Когда гроза разгрузит
груду, / Вновь разбредутся по домам. / Но дружно в балагане пестром / Они свои огни
зажгут, / Прожектором прорезав острым / Сибири темную тайгу. / Веселый наш
костер развеет / Те искры, что зажжете вы, / От лукоморья Хай-шин-вея (китайское
название Владивостока – Е.К.) / До всеобъемлющей Москвы. / Пусть в «Балаганчик» наш
подвальный / Другие после нас придут / И новый пламень, пламень дальний / От нашего
костра зажгут. / Резец и краска, звук и слово / Из той же почвы новь творят. / Все
звезды вечные былого / В морях грядущего горят». Кстати, 1 января 1924 г. на месте
«Балаганчика» был открыт театр «Шари-вари», конферансье в котором работали К. Зубов
и актер Е. Долин, режиссером – Варшавский.
Поэт и художник Д. Бурлюк - один из активнейших участников владивостокского
ЛХО. Дальневосточная «команда» Бурлюка – это жена Мария Никифоровна Еленевская,
ее сестра Лидия Еленевская, художники Виктор Пальмов и чех Вацлав Фиала с женой
Марианной Бурлюк. (Бурлюки – большая семья, у Давида Давидовича Бурлюка было
несколько сестер и братьев (среди них поэты и художники Николай и Владимир,
погибшие в 1917 г., художница Людмила Бурлюк-Кузнецова (1885-1973)). Художник
Вацлав Фиала (псевдоним Арсов) (1896-1980) – друг и родственник Давида Бурлюка.
Сестра Бурлюка Марианна Бурлюк-Фиала (1897-1982) была замужем за художником, а с
1922 г. жила с мужем в Чехословакии, где позже он стал заметным деятелем искусства.
Художник Виктор Пальмов (1888-1929) – друг и единомышленник, свояк Бурлюка, так
как приходился мужем сестры жены Бурлюка Марии Никифоровны Бурлюк Лидии
Николаевны Еленевской. Пальмов – автор картины «Суйфунский рынок» (так называется
сейчас улица Уборевича), хранящейся в Приморской картинной галерее).
В июле 1919 г. Бурлюк прибывает во Владивосток, но почти сразу возвращается за
семьей на Урал (в Челябинск), так как решает продолжать турне в Японию, а затем в
Америку. Во Владивостоке, Никольске-Уссурийском и Харбине в общей сложности он
провел год. На основе архивных изысканий в периодике тех лет нам удалось восстановить
хронологию дальневосточного периода жизни поэта: во Владивостоке с 25 июня 1919 по
29 сентября 1920 г.; с 1 октября 1920 по 17 августа 1922 г. - в Японии, с 17 августа 1922 г.
- в Америке, со 2 сентября – в Нью-Йорке. Ситуация Владивостока тех лет позволила
Бурлюку развернуть свою «бурлящую» деятельность. Он живет за счет платных
выступлений, выставок и т.н. «поэзо-лекций». Владивостокский период деятельности
Бурлюка (1919-20) многопланов: организация художественных выставок, «Недели
футуризма», участие в коллективном сборнике «Парнас между сопок» (1922),
охарактеризованном советским литературоведением как «реакционный и антисоветский».
Жанровая палитра дальневосточного творчества Бурлюка обширна. Эстетика
жизнетворчества, отстаиваемая поэтом во времена кубофутуризма, продолжает свое
существование в дальневосточных статьях и манифестах по существу и теории
футуризма, критико-биографических, мемуарных и автобиографических очерках. Как и в
столичный период, Бурлюк продолжает подчеркивать губительность традиционных
культурных ценностей («Музеи и библиотеки – кладбища искусства») и проповедовать
футуризм как народное, или «уличное искусство», искусство для всех («Футуризм –
мотор прогресса, футуризм – единственное искусство «всему народу»). В
дальневосточных стихах Бурлюка наблюдается культивирование речетворчества, зауми,
депоэтизация как творческое кредо, «мозаика несогласованностей», рассчитанная на
«шоковый эффект», поэтика морфологического и синтаксического сдвига, в т.ч. пропуск
предлогов, игнорирование пунктуации.
Футуристические выставки, устраиваемые Бурлюком во Владивостоке, имели
неоднозначные отклики и резонанс в прессе начала 1920-х: от восхищения талантом до
обвинения в шарлатанстве. Надо сказать, что еще до приезда Бурлюка с 1918 г. во
Владивостоке активно работала художественная студия «Чаруйный лик», которая
собиралась вечерами в помещении Зеленой женской гимназии, что на Суйфунской ул. (в
настоящее время это здание средней школы № 1, Уборевича, 8). В студии работали Г.Я.
Комаров, Афанасьев, Л. Афанасьева и некоторые новые художники. Открывшаяся во
Владивостоке 4 апреля 1920 г. в городском училище, рядом с городской управой на улице
Полтавской (ныне ул. Лазо) Международная выставка художников «Весенний салон»,
несмотря на то, что устроителями ее были три человека - Д. Бурлюк, В. Пальмов и венгр
Тибор Галлэ, - сразу получила прозвище «Бурлюкская выставка» – так прозвали ее
местные газеты. На ней были представлены все направления живописи: от классицизма
до футуризма. В газете «Голос Родины» выставке предшествовало такое объявление
Дилетанта (псевдоним Н.Ф. Насимовича-Чужака), начинавшееся обращением: «Ко всем
рабочим. Товарищи! Если у вас найдется минута свободного времени, зайдите на
бесплатную выставку картин, которая открыта до конца пасхальной недели. Это еще
первый опыт художников вынести искусство на широкую улицу, соприкоснуться с
народными массами. Там вы найдете многое, заслуживающее вашего внимания».
На выставке было представлено более 500 номеров. Анализируя увиденное, некий
рецензент, скрывающийся за псевдонимом Москвич, пишет, что «перечислить даже
достойное быть отмеченным не представляется возможным. Не пытаясь дать полный
отчет о выставке, мы указали только на вещи, быть может, случайно и субъективно
выделенные нами, предоставляя зрителям сами разобраться в этом богатстве духовного
наслаждения, которым подарили нас художники, эти первые вестники наступающей
весны». В рецензии «Весенний салон. Искусство и алгебра» некто М.В. отмечет, что «во
время выставки Д.Д. Бурлюком ежедневно с 4 – 5 часов вечера в зале, где выставлены
картины футуристов, устраиваются собеседования с публикой. Собеседования очень
интересны, особенно когда в них принимает участие сам Бурлюк, отличающийся
недюжинным ораторским талантом, владеющий громадной памятью и увлекающей
зрителя способностью талантливо импровизировать. Надо признать, что эти своеобразные
диспуты новатора с толпой и непризнанными критиками теории «всеобщего
потускнения» заканчиваются обычно, судя по настроениям зрителей, далеко не в пользу
критиков, стоящих на почве полезности или тенденциозности искусства. На многих
картинах Д.Д. Бурлюка, профессора Адлера, Комарова, Пальмова и других значится
надпись «продана»».
Под выставки картин были также задействованы помещения Коричневой гимназии,
что на ул. Пушкинской, 39 (в наши дни это здание средней школы № 9). Здесь 10 августа
1920 г. открылась т.н. «новая выставка», или выставка «антифутуристов» - художника
М.Н. Аветова, воспитанника петроградской академии художеств, окончившего школу
поощрения художеств, и художников С. Лукашева, Любарского и Алькнеста.
Администратором выставки являлся Венедикт Март. Вот что писали газеты: «Картины
художника Аветова последнее время были выставлены сначала в Чите, а затем в Харбине,
где пользовались успехом. Художник Аветов уроженец Персии; долгое время жил в
Туркестане. Образование получал в России в Петрограде. В творчестве его чрезвычайно
разнообразно переплелись восточная острота красок и яркость их с изумительно
глубокими мотивами западно-европейского творчества. М. Аветов считался одним из
выдающихся молодых художников Петрограда. С. Лукашев несколько известен
владивостокской публике, так как его картины уже выставлялись в местных выставках; он
является воспитанником Краковской академии. В его творчестве преобладают
дальневосточные мотивы. Любарский и Алькнест выделились из хабаровской
художественной группы «Зеленая кошка». Общий характер выставки несомненно
антифутуристический. Художники эти считают футуризм мертворожденной и уже
изжитой школой искусства. По этому вопросу на выставке организовывается ряд лекцийдиспутов. Между прочим, В. Мартом будет прочитана лекция на тему: «Футуризм –
музейная плесень» (отречение от футуризма)»».
По некоторым нашим данным, мастерская Д. Бурлюка находилась в двухэтажном
каменном особняке на ул. Ключевой, 13. А сам он вместе с женой, двумя сыновьями и
родственниками обосновался в брошенной хозяином парикмахерской (по одним данным в
настоящее время это двухэтажное кирпичное здание с офисами на ул. Острякова, 24, по
другим – «за сопками», на окраине Рабочей слободки, его жильем стал «особнячок в два
этажа, увенчанный острыми башенками, стоящий на северо-восточном склоне сопки
Буссе (ул. Шилкинская). Таким он выглядит на линогравюре художника, созданной в
1920 г. Все комнатки, где он жил «берложной жизнью», были заняты нарами, книгами и
холстами для картин».
Д. Бурлюк с его саркастическим остроумием и даром полемиста попадал в центр
внимания на собраниях и во время публичных выступлений футуристов. Он нередко
возбуждал вокруг себя атмосферу обывательского ажиотажа как экзотическая личность
отечественного модернизма. Основным фактором таких выступлений во Владивостоке,
как и во времена столичного расцвета футуризма, становится эпатаж. Бурлюк
организовывал перфомансы, на которых расхаживал в разноцветных штанах, с
разрисованными щеками. Многие горожане удивлялись, встречая его на Светланской
одетым в просторную блузу, из нагрудного кармана которой выглядывала колоритная
морковка. Дочь С. Третьякова вспоминает, как ее мать, собираясь на вечер, надела платье
из японского шелка на бретельках, унизанных синими ракушками. Бурлюк рисует ей на
плече золотую рыбку.
Как и выставки, шумный резонанс в газетной печати имели проводимые
футуристами и самим Бурлюком футурконцерты, нередко в зале Коммерческого
училища, сегодня это здание административного корпуса Дальневосточного
государственного университета (Суханова, 8). То, что многое в таких выступлениях
выглядело, мягко говоря, необычно или просто непонятно, нисколько не смущало самих
приверженцев «нового искусства». Так, в зале Коммерческого училища редакцией
журнала «Бирюч» 24 апреля 1920 г. была устроена лекция-диспут «Весенний
футурконцерт железной когорты футуристов», на котором выступили С. Алымов
(«Грубияны нежности») и Н. Асеев («Души слова») и др.
Во Владивостоке Д. Бурлюк процветал - он выступал с чтением стихов в кабаре «Биба-бо» (Bi-ba-bo (фр.) - комическая кукла, надеваемая на руку и приводимая в движение
пальцами руки, или просто кукольная головка, надеваемая на палец). Находилось оно по
адресу Светланская, 50, в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец», где ныне
расположен президиум ДВО РАН. В конце 1915 г. в здании был открыт театр
«Художественный», а в подвальном этаже открылось кабаре «Летучая мышь». В 1920 г. в
помещении кабаре размещалась международная полиция. Бурлюк входил в состав
руководителей (фактически директор) театра-кабаре-шантана «Би-ба-бо», созданного на
манер столичных литературных кафе 1920-х гг., когда заведение организовывалось как
литературно-артистический кабачок. Такие кафе были в Петербурге («Бродячая собака»,
«Привал комедиантов»), в Москве (футуристическое «Кафе поэтов», литературное кафе
имажинистов «Стойло Пегаса», «Красный петух», «Литературный особняк», «Домино» и
др.), в других городах. Мастер эпатажа Бурлюк работает вечерами конферансье в «Би-бабо», принося небывалый успех и материальные доходы себе и заведению. Конец 1919 начало 1920-х – время работы Бурлюка в «Би-ба-бо» – самое интересное и активное в
жизни этого кафе-эстрады. Бурлюк выступает в качестве художника-оформителя шоувечеров, участвует во многих номерах программы. Вместе с соратниками-футуристами
поэтами С. Третьяковым и Н. Асеевым, актерами Б.М. Борисовым, В.А. Терениным, П.В.
Рутковским, В.Г. Лавровым, конферансье А.И. Кречетовым, А. Рокотовым, О.В.
Лабунской, художником В.А. Ва-За (Засыпкиным), известным режиссером А.Я.
Варшавским, он входит в состав репертуарной комиссии театра. О востребованности
Бурлюка в кабаре можно судить по сохранившимся воспоминаниям молодой тогда
учительницы рисования Елены (Ляли) Афанасьевой, ученицы Бурлюка, занесенной
ветром смуты во Владивосток: «Кафе «Би-ба-бо» сделало на Бурлюке неплохой барыш,
ибо ни один вечер, когда выступал он, не начинался при хотя бы одном свободном месте.
Впрочем, он тоже в накладе не остался». Через много лет Елена Александровна скажет о
нем: «Он был художник и делец».
А вот какие итоги деятельности театра-кабаре подводит поэт и журналист
Александр Журин: «Второй год во Владивостоке существует «Би-ба-бо», сначала
называвшийся «литературно-художественным кабаре», потом с декабря 1919 г. просто
театром. Первое название в свое время вызывало много протестов в местной прессе, часть
которых была справедлива в том отношении, что ни литераторов, ни художников, ни
литературы, ни художества этот «кабачок» в себе не объединял, а постановки и
исполнения были таковы, что оправдывали эпиграмму: «Там сладко спать под звуки
сцены. / Я за названье не виню: / Ведь там «художественны» цены / К «литературному»
меню!» Были приглашены люди, знающие, любящие свое театральное дело и настолько
талантливые, что при их участии театр «Би-ба-бо» уже приобретает тип театра-кабаре,
приближаясь к московскому театру «Летучая мышь» Н.Ф. Балиева и к Троицкому в
Петрограде. То обстоятельство, что «Би-ба-бо» совмещает в себе театр с кабачком, при
целесообразной постановке дела, нисколько не помешает ему создавать законченные
сценические образы и достигать впечатлений значительных и художественных. Мы
знаем, что, например, французская литература многим обязана существовавшим в
Париже «кабаре», где выступали родоначальники новой школы Шарль Бодлер и Поль
Верлен. В «Cabaret Alexandre Bruillant» П. Верлен, «бедный Лелиан», был провозглашен
«королем поэтов». До настоящего времени на Монмартре и на знаменитом «Буль-Миш»
сохранились эти «артистические кабачки», устроенные корпорациями поэтов,
художников, музыкантов и актеров, где за обязательное «consomation» публика видит и
слышит любимых авторов, служит моделью художникам и часто задает темы поэтам и
рифмы для «буриме».
«Летучая мышь» в Москве в начале в значительной степени приближалась к типу
«Cabarets artistiques». Объединив в себе таких композиторов, как Архангельский, поэтов и
художников, «Летучая мышь» имеет строго подобранный ансамбль и оригинальный
репертуар, состоящий из небольших опер (вроде «Графа Нулина», «Носа» Гоголя и др.),
маленьких драм и сценок. Для того чтобы достигнуть типа театра-кабаре, нашему «Би-бабо» много еще нужно сделать. Прежде всего, самое главное и самое трудное, найти такого
«conferancier», который сумел бы заставить публику в нужный момент соблюдать
тишину, у которого с публикой установились известные отношения и который легко
может внушить необходимость уважения и внимания к исполняемому на сцене. Многие
постановки и сценки в «Би-ба-бо» довольно удачны. Прелестна инсценировка
стихотворения И.П. Мятлева «Коммеражи», идущая здесь под названием «Трещеточкичечеточки». Путем введения в текст куплетов на современность вещица эта много
выигрывает в свежести и неожиданности. При музыкальном режиссерстве М.
Бакалейникова, при декораторе В. Засыпкине и при таком значительном актере, как К.К.
Истомин, театру недостает соответствующего женского персонала и балета. Вероятно,
отсутствие последнего затрудняет театр разнообразить свой репертуар исполнением
пантомимы и сцен с танцами. Если театр желает устранить «кафешантанные» приемы, он
должен освободиться от пресловутых «неаполитанцев» с гитарами, заполняющих
антракты «отпеванием» столиков и сразу придающих характер уездного шантана.
Антракты с большим успехом могут быть заполнены артистами перед закрытием занавеса
или оркестром. Не мешало бы также изменить на что-нибудь посвежее название «Би-бабо», опошленное и затрепанное по шантанам и пивным всей сибирской магистрали».
Литературно-поэтическую, художественную, музыкальную и в целом всю
культурную жизнь Владивостока 1917-1922 гг. можно охарактеризовать как бурную и
неоднозначную - постижение художественных ценностей шло различными путями,
однако несомненно одно: здесь не только знали и ценили искусство, но и творили его
сами.
Лекция № 11. «Литература русского дальневосточного зарубежья». – 2
часа.
Проблема разделения единого литературного процесса. Вынужденная и
добровольная эмиграция. Проблема “возращения” литературы и осознание контекста.
Особенности и перспективы изучения литературы русского зарубежья.
Великая русская эмиграция 1918-1920-х гг. Историко-культурная ситуация 19201940-х гг. Страны рассеяния и центры русской эмиграции: Константинополь, Прага,
Берлин, Париж, Харбин, Шанхай.
Два поколения первой волны: сходства и различия мироощущения и творческих
поисков. Проблематика и художественные течения литературы русского зарубежья 19201940 гг.
Дальневосточное литературное зарубежье: феномен поэзии русского Китая (имена,
тенденции, жанры). Арсений Несмелов, Валерий Перелешин, Виктория Янковская, Иван
Елагин и др.
Лекция № 12. «Александр Фадеев и Дальний Восток». – 2 часа.
Революция и гражданская война на Дальнем Востоке в литературе. Романы и
повести А. Фадеева. Героическое и трагическое, классовое и общечеловеческое.
Народный характер в ситуациях социального и нравственного выбора.
«Разгром» А. Фадеева как философский роман. Диалог: А. Фадеев – Д. Лондон.
Лекция № 13. «Развитие литературы Дальнего Востока в советский
период (1924-1990). Современный литературный процесс на Дальнем
Востоке». – 2 часа.
Поэзия 1970-90-х годов. Поэтические имена: Г. Лысенко, Б. Лапузин, В. Тыцких.
Своеобразие поэзии.
Литературный альманах «Владивосток».
Лекция № 14. «Литература малых народов Дальнего Востока». – 2 часа
Литература малых народов Дальнего Востока: Джанси Кимонко «Там, где бежит
Сукпай», трилогия Георгия Ходжера «Амур широкий», романы Юрия Рытхэу, Владимира
Санги, поэзия Антонины Кымытваль, Виктора Кеулькута, Андрея Пассара, проза Николая
Дункая.
Жизнь коренных народов в творчестве русских писателей. Повесть из жизни нивхов
«Сын орла» (1939) дальневосточного прозаика Т. Борисова; «Белый шаман» (1978),
«Древний знак» (1984) Н. Шундика и др.
МОДУЛЬ 2
Лекция № 1. «Культура коренных народностей Дальнего Востока России:
история изучения народностей в ХVII – ХХ вв. Историко-этнографические области
коренных народов. Традиционная материальная культура». - 2 часа.
Периодизация развития русской культуры на Дальнем Востоке в ХVII-ХХ вв.
История изучения народностей Дальнего Востока (ХVIII-ХХ вв.). Общие сведения о
народностях Дальнего Востока: эскимосы, алеуты, чукчи, коряки, ительмены, эвены,
эвенки, ороки, нанайцы, ульчи, удэгейцы, орочи, негидальцы, нивхи. Малочисленность
населения. Три основные историко-этнографические области проживания аборигенов
Дальнего Востока (Чукотско-Камчатская, Охотское побережье и север Приамурья,
Амуро-Сахалинская). Тип жилища, хозяйства, одежды, пища (продукты наземного и
морского промыслов), утварь, образ жизни, особенности морской охоты как основа
жизни.
Лекция № 2. «Духовная культура народностей Дальнего Востока: устное
народное творчество». – 2 часа.
Народные знания и верования коренных жителей Дальнего Востока, экологическое
сознание, медицина, географические знания, способы выживания в суровых условиях
севера, тундры, тайги. Фольклор аборигенов Дальнего Востока, система религиозных
воззрений – шаманизм, камлание. Культ предков, родовой и семейный культы,
промысловые культы. Устно-поэтическое творчество: система прозаических жанров
(мифы, сказки, предания). Загадки. Народные герои, традиционные фольклорные образы.
Музыкальный фольклор и танцевальное искусство. Ассортимент музыкальных
инструментов. Подражательные, обрядовые и игровые танцы, «медвежий праздник».
Праздники и обряды морских охотников. Семейные обряды и обычаи. Свадебный обряд
(разновидности традиционных браков: левират, сорорат, обменные браки), похоронный
обряд. Традиционное декоративное искусство, три группы: северо-восточная, или
палеоазиатская, северо-тунгусская, южная тунгусо-маньчжурская. Вышивка подшейным
волосом оленя, меховые мозаики, аппликации, резьба по моржовой, китовой кости,
горельефы, барельефы, украшение шаманских атрибутов, седел, трубок, культовая
скульптура, изделия из бересты, рельефы на коже, одежда из рыбьей кожи и головные
уборы из дерева как произведение искусства.
Лекция № 3. «Зарождение русской культуры на Дальнем Востоке и в Русской
Америке в ХVII – первой половине ХIХ века. Отечественная общественная мысль о
Дальнем Востоке». – 2 часа.
Официальные (правительственные взгляды) в работах и демократическое
направление в историографии великих географических открытий в Сибири (ХVIII-ХХ
вв.). Зарубежная историография о Дальнем Востоке России: мирная политика или
политика истребления, покорения и колонизации.
Лекция № 4. «Открытие и присоединение к России Дальнего Востока в ХVII
веке: великие географические открытия, состав населения и хозяйственная
деятельность». – 2 часа.
Причины освоения и открытия Дальнего Востока в ХVII в., общественнополитическая ситуация в России. Свободолюбие – национальная черта русского народа.
Русские казаки, «служилые» люди, государева служба. Два начала: вольное, народное и
государственное. Поход Ермака, крупные поселения на Колыме и Чукотке, Охотском
побережье, Приамурье, русские землепроходцы, руководители и участники отрядов.
Первые контакты с коренными народами, ясак, или «покровительство царя».
Формирование двух крупных районов постоянного проживания русских людей: южная
часть – Забайкалье, Приамурье и северная часть – Якутско-Охотско-АнадырьскоКамчатский край. Типы поселений: зимовья, остроги. Первые города (Якутск, Нерчинск,
Албазин) – центры и административного управления, хозяйственной деятельности и
развития культуры. Сословия региона: посадское и торговое, социальный слой –
работные люди. Основные виды хозяйственной деятельности русских людей на Дальнем
Востоке: промысел пушнины, сбор ясака с коренных народов, лов рыбы, земледелие,
скотоводство, заготовка и обработка леса, постройка судов, развитие многочисленных
ремесел, зарождение горнорудной промышленности. Нерчинский договор 1689 г. Потеря
Приамурского края. Город-герой Албазин.
Лекция № 5. «Великие географические открытия русских людей на Дальнем
Востоке, в Северной части Тихого океана и на Аляске в ХVIII веке. Социальноэкономическое развитие». – 2 часа.
Могущество России в ХVIII в., петровские реформы и их последствия Своеобразие
продвижения русских людей на восток состояло в том, что в этом процессе стали играть
большую, чем прежде, роль государственные начала. Правительство страны, Академия
наук, Святейший Синод направляли на Дальний Восток научные экспедиции для
дальнейшего изучения и нанесения на карту уже приобретенных территорий, для
открытия новых земель и обращения коренных народов в христианство. Первая
Камчатская экспедиция В.И. Беринга 1725-1730 гг., Вторая Камчатская экспедиция 17331743 гг., экспедиция М.Д.Левашова и П.К. Креницына 1766-1769 гг., Северо-Восточная
экспедиция И. Билингса – Г Сарычева 1785-1793 г. Успехи в области географии,
картографии, этнографии, истории, метеорологии, ботаники, зоологии и геологии.
Научное, культурное и политическое значение экспедиций. Закрепление за Россией
новых территорий, установление дружеских отношений с местными племенами. Русские
открытия Курильской гряды, Сахалина и Амура в ХIХ в. Морские кругосветные
экспедиции И. Крузенштерна и Ф. Лисянского в 1803-1806 гг., В. Головнина в 1807-1811
и 1817-1819 гг., О. Коцебу в 1815-1818 г. Морская экспедиция Н.А. Хвостова и Г.И.
Давыдова в 1806 г и закрепление за Россией Сахалина и Курильских островов.
Обеспокоенное усилившимся присутствием в дальневосточных водах кораблей
американских, английских и других государств, создание русским правительством в 1849
г. Особого комитета по проблеме Амура, который принял решение о посылке на Амур
новой научной экспедиции для определения судоходен ли Амур в своем устье и
подготовки материалов по решению территориального вопроса (разграничение с Китаем
дальневосточных земель). Роль Г.И. Невельского в амурской эпопее 1849-1855, его
открытия, присоединение Приамурья и Приморья к России на основе заключения мирных
договоров между Россией и Китаем по пограничному вопросу (Айгунский 1858 г. и
Пекинский 1860 г.), согласно которым Приморье и Приамурье были закреплены за
Россией. Амурская экспедиция Невельского фактически способствовала закреплению за
Россией о-ва Сахалин. Добровольная продажа США в 1867 г. Русской Америки (Аляски).
Лекция № 6. «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Русской
Америки в ХVШ – середине ХIХ вв. Отличие административного управления
России на Дальнем Востоке от управления в Русской Америке. Основные города
Дальнего Востока и Русской Америки ХVII – первой половины ХIХ вв.
Промышленность». – 2 часа.
Административное управление регионом: до ХVIII в. Всеми делами в Сибири ведал
Сибирский приказ – министерство по делам Сибири, основная
единица
административного деления – уезд. В Сибири в связи с удаленностью региона и
обширностью его территорий уезды объединялись в разряды: северная часть Дальнего
Востока (Якутский уезд) входила в Ленский разряд, южная (Даурия, или Приамурье, и
Забайкалье) – в Томский разряд, а с образованием Енисейского разряда к его ведению
отнесли Нерчинский и Албазинский уезды. К концу ХVII в. Уездное деление Дальнего
Востока несколько изменили, он стал входить в состав трех уездов: Якутского,
Иркутского и Нерчинского. Сибирский приказ ведал всеми судебно-административными,
финансовыми, таможенными, военными и даже дипломатическими вопросами. Он
назначал в разрядные и уездные центры воевод и таможенных голов (руководителей),
выдавал им особые 2наказы» на управление, определял штаты и оклады служилым
людям, ведал обороной, собирал налоги. В начале ХVIII в. В связи с необходимостью
укрепления централизованного Российского государства, а также незавершенностью
формирования государственных границ страны на востоке правительство предприняло
несколько административных реформ (1708-1715, 1719 и 1727 гг.), в результате которых
Россия была разделена на 14 губерний, а губернии – на 47 провинций и боле чем 250
уездов. Дальний восток вошел в состав Иркутской провинции, в которой наряду с
восточносибирскими были и дальневосточные уезды: Якутский, Илимский, Удинкий,
Селенгинский и Нерчинский. После Крестьянской войны Е. Пугачева (1773-1775) была
проведена новая административная реформа, увеличившая число губерний до 507 и
ликвидировавшая провинции. В Сибири и на Дальнем Востоке с учетом их
территориальной специфики были введены новые, наиболее крупные административнотерриториальные единицы – наместничества: Тобольское, Колывановское, Иркутское. В
конце ХVIII в. Наместничества были ликвидированы и восстановлены губернии. Дальний
Восток опять вошел в Иркутскую губернию. В январе 1822 г. Сибирь была поделена на
два генерал-губернаторства: Западно и Восточно-Сибирское. Присоединение к России
Южно-Уссурийского края в 1858-1860 г. привело к тому, что отныне русский Дальний
восток включал всю территорию к востоку от оз. Байкал. На вновь присоединенных
землях были созданы Амурская область с центром в г. Благовещенске и Приморская – с
центром в г. Владивостоке. Управление Русской Америкой в корне отличалось от
управления континентальными территориями России. Будучи заморской колонией
Русская Америка и мела особый статус. В 1799 г. указом императора Павла I была
создана Российско-Американская компания с предоставлением ей широких монопольных
прав на управление, приобретения, промыслы, торговлю, заведение и открытие новых
стран. Ее территория была определена от Камчатки на север к Америке, северо-восточное
побережье Америки, на юг к Японии, включая все острова, в том числе Алеутские,
Курильские и прочие. Северную часть региона до 1731 г. объединял в административном
отношении Якутский уезд (г. Якутск). В 1731 г. по решению правительства из него был
выделен Охотско-Камчатский край с центром в г. Охотске. В ХVIII – первой половине
ХIХ вв. наиболее населенной оставалась южная часть региона – Забайкалье. В течение
ХVII – первой половины ХIХ вв. на дальнем Востоке сформировалось несколько типов
населенных пунктов: города, сельские (села, деревни, заимки) и заводские поселки при
Нерчинских, Петровском и Тамгинском металлургических заводах Забайкалья.
Промышленность южная материковая: земледелие, скотоводство, ремесла, соляной
промысел,
мыловарение,
производство
кирпича,
горнометаллургическая,
серебросвинцовая (Нерчинский горный округ), северная, включая острова: промысел
бобра, судостроение. Первые правители Русской Америки: А.А. Баранов, Н.П. Резанов,
мореплаватель, предприниматель и государственный деятель Г.И. Шелихов. К концу
ХVIII в. в Русской Америке были построены ее столица Новоархангельск на о-ве Ситка,
два поселения на Кадьяке, одно на Атке, Георгиевская крепость, Александровский и
Николаевский редуты, крепость Константина и Елены, а также форт Росс в Калифорнии.
Несмотря на огромную оторванность от центра страны, Дальний Восток и Русская
Америка в ХVIII – первой половине ХIХ в. Усилиями русских первопроходцев
развивались довольно успешно
Лекция № 7. «Зарождение русской культуры на Дальнем Востоке и в Русской
Америке. Роль русской православной церкви в распространении отечественной
культуры на Дальнем Востоке в ХVIII - ХIХ вв.». – 2 часа.
Начало создания инфраструктуры русской культуры в регионе. На Дальнем Востоке
России ХVII – первой половины ХIХ в. первыми ячейками культурной инфраструктуры
были органы государственной власти на местах, профессиональными работниками –
чиновники: от руководителей острогов до уездных начальников и губернаторов. Второй
не менее важной ячейкой в культурной инфраструктуре региона была Церковь, а группой
профессиональных работников в ней были ее служители. С формированием городов и
других населенных пунктов (казачьих станиц, заводских поселков) к названным двум
ячейкам инфраструктуры русской культуры на Дальнем Востоке прибавилась третья –
школа. Рель русской православной церкви была огромной: профессиональная культура
здесь делала первые шаги, русскую культуру представляли главным образом
первопроходцы и церковные служители; религия оставалась главной нравственной
опорой русского человека; гуманизм, всечеловеческое начало составляли основу
православной религии; ее заповедями, ее требованиями руководствовались русские
первопроходцы, вступавшие в контакты с коренными жителями; другим важнейшим
началом, способствовавшим проявлению большой роли Церкви в распространении на
Дальнем Востоке русской культуры, были ее служители. Имена основных церковных
деятелей, много сделавших для развития просвещения русского населения и коренных
народов Дальнего Востока и Русской Америки в ХVII – первой половине ХIХ в.
Основные духовные миссии, работавшие на Камчатке и в Русской Америке. Роль
святителя Иннокентия Вениаминова в истории русской Церкви на Дальнем Востоке и
Русской Америке, его активная деятельность, обращение в христианство, контакты с
индейским населением северных островов, поездки по региону, на Амур, книги,
переводческая практика, программа церковного строительства на Дальнем Востоке и в
Русской Америке, создание Камчатской епархии, основание главного города Приамурья –
Благовещенска, открытие здесь в 1863 г. духовной консистории. Народная школа на
Дальнем Востоке и в Русской Америке: Карл фон Бем – начальник Камчатки. Как ни
парадоксально, но в середине ХVIII в. В отношении сети школ Камчатка выглядела
самым культурным, самым образованным уголком Российской империи.
Лекция № 8. «Культурное развитие Дальнего Востока во второй половине ХIХ
– начале ХХ вв. Отечественная научная мысль о культуре Дальнего Востока». – 2
часа.
Изменение географии культурного строительства. Если в предшествующий период
ХVII – первой половине ХIХ в. Культурное развитие Дальнего Востока России
характеризовалось процессами, которые протекали главным образом в его северной части
(Камчатка, Чукотка, восточное побережье Охотского моря, Русская Америка), и в
меньшей степени процессами, которые происходили на юге – в Забайкалье, то со второй
половины ХIХ в. и до 1917 г. центром культурно-исторических изменений становится юг
региона: амурская, Приморская и Забайкальская области. Это смещение с севера на юг
обусловливалось рядом важнейших факторов: присоединением к России на основе
заключенных с Китаем мирных договоров (Айгунского 1858 г. и Пекинского – 1860 г.)
земель южной части региона (Амурской и Приморской областей), продажей Аляски США
в 1867 г. и необходимостью заселения новых российских земель, обеспечения их
социально-экономического и культурного развития. Появление новых городов:
Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Владивосток, Никольск-Уссурийский. С 1883 г. наряду
с сухопутным стал развиваться морской путь: из Одессы во Владивосток, что значительно
ускорило переселение. В 1901-1904 гг. была построена Великая Сибирская железная
дорога: от Урала до г. Сретенска (Забайкалье) и от Владивостока до Хабаровска. В 18971902 гг. была создана Китайско-Восточная железная дорога. Дальний Восток получил
железнодорожную связь с европейской частью страны, что имело огромное, ключевое
значение для всего хозяйственного и культурного развития региона. Важную культурную
роль в жизни региона начала играть интеллигенция. После революции 1905-1907 гг.
правительство принимает новые меры по дальнейшему хозяйственному освоению
Дальнего Востока: с 1908 г. оно начинает строительство Амурской железной дороги,
которое было завершено в 1916 г. Отныне железнодорожная магистраль пролегла через
всю Сибирь и Дальний Восток. Усилился поток переселенцев. Таким образом, в короткий
срок усилиями переселенцев в регионе были созданы промышленность и сельское
хозяйство. В промышленности наибольшее развитие получили добывающие отрасли:
добыча руды, угля, заготовка леса, лов рыбы. Активно развивались внешнеэкономические
связи с соседними странами: Китаем, Кореей, Японией. Значительно прогрессировала
отечественная культура, в первом десятилетии ХХ в. Приморская, Амурская и
Забайкальская области по уровню хозяйственного и культурного развития мало чем
отличались от наиболее развитых центральных областей страны. Новый этап в истории
социально-экономического и культурного развития Дальнего Востока во второй половине
ХIХ в. – 1917 г.) совпал с проведением в России глубочайших реформ государственного
устройства страны.
Лекция № 9. «Развитие народного просвещения и специального образования
на Дальнем Востоке в середине ХIХ - начале ХХ вв.» – 2 часа.
Первые учебные заведения Приморской области, учебные заведения разнообразного
типа: городские народные училища, гимназии, прогимназии, реальные училища,
церковноприходские школы, миссионерские школы. Женское образование на Дальнем
Востоке. Среднее специальное образование. Зарождение высшего специального
образования в крае – создание в 1899 г. во Владивостоке первого во всей Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке вуза – Восточного института. Известные учителя,
подвижники и патриоты.
Лекция № 10. «Развитие периодической печати и книгоиздания на Дальнем
Востоке в середине ХIХ - начале ХХ вв.». – 2 часа.
Первые попытки издания на Дальнем Востоке собственной газеты в конце 1850-х гг.
Увеличение населенных пунктов, численности население, как следствие благоприятные
условия для развития прессы. Периодические издания во Владивостоке, Николаевске-наАмуре, Хабаровске, Никольске-Усурийском, Благовещенске, Чите. Наличие всех типов
периодических изданий. Формирование на Дальнем Востоке крупного отряда
профессиональных работников – журналистов. Известные владивостокские издатели,
журналисты, редакторы. К началу ХХ в. в регионе сформировалась местная система
печати. Географически она охватывала все основные по заселенности и интенсивности
хозяйственно-экономической и культурной жизни области, типологически и политически
отражала интересы всех слоев населения – рабочего класса, крестьянства и
интеллигенции. Создание первых типографий на Дальнем Востоке: частных и
государственных, крупных издательских центров. Создание разветвленной сети
периодической печати было крупнейшим достижением отечественной культуры на
востоке страны. Оно свидетельствовало о том, что в крае появился многочисленный
читатель, творческая интеллигенция – журналисты и литераторы, была создана прочная
полиграфическая база. По количеству и качеству газет, журналов, а также брошюр и книг
Дальний Восток с конца ХIХ в. и до 1917 г. занимал ведущее место в Сибири и входил в
число наиболее развитых в этом отношении губерний России.
Тема 11. «Зарождение науки на Дальнем Востоке в конце ХIХ - начале ХХ вв.
Создание Общества изучения Амурского края и открытие Восточного института». 2 часа.
Зарождение науки на Дальнем Востоке началось сразу после его присоединения к
России. Это обусловливалось практическими задачами: чтобы переселять сюда людей для
постоянного проживания, необходимо было знать этот край географически, геологически,
исторически и т.д. Первые гидрометеорологические и гидрографические исследования в
морях Дальнего Востока проводились уже в ХVIII в. – начале ХIХ вв. (экспедиции А.И.
Чирикова, В.И. Беринга, Ф.П. Литке, И.Ф. Крузенштерна, В.М. Головнина, О.Е. Коцебу) и
носили временный характер: экспедиции уезжали и исследования прекращались.
Присоединение Южно-Уссурийского края открыло возможность круглогодичного
мореплавания и требовало для его обеспечения создания здесь стационарных служб
гидрометеорологического наблюдения и гидрографических исследований. В этих целях в
1850 г. в Николаевске-на-Амуре была создана обсерватория, позднее –
гидрометеостанция во Владивостоке, а затем в различных местах по побережью Дальнего
Востока – гидрометеорологические станции. Для гидрологических исследований и
глубоководных измерений привлекались корабли русского военно-морского флота.
Имена известных ученых-гидрографов, топографов, путешественников, зоологов,
биологов-почвенников, этнографов, работавших на Дальнем Востоке. Историческое
направление исследований на Дальнем Востоке: в 1884 г. во Владивостоке по инициативе
общественности создается Общество изучения Амурского края во главе с Ф.Ф. Буссе,
археологические раскопки, издание собственных трудов в форме «Записок». В 1894 г. в
Хабаровске был создан Приамурский отдел Русского географического общества во главе
с помощником губернатора Н.И. Гродековым. В сентябре 1890 г. во Владивостоке
состоялось открытие первого на Дальнем Востоке краеведческого музея. В 1894 г. такие
же музеи были созданы в Чите, Троицкосавске, Нерчинске, пос. Александровском на
Сахалине, в 1896 г. – в Хабаровске. Положительное влияние на развитие дальневосточной
науки оказал открытый в 1899 г. во Владивостоке Восточный институт. Имена известных
профессоров-востоковедов, работавших в ДГУ и заложивших основы русского
востоковедения на Дальнем Востоке. Институт имел свою типографию и издавал научные
труды, не утратившие актуальность и ценность в наши дни. Формирование библиотеки. О
зарождении науки на Дальнем Востоке свидетельствовала также местная периодика.
Лекция 12. «Русская православная церковь и развитие культуры на Дальнем
Востоке». – 1 час.
Присоединение к России южной части Дальнего Востока, образование Амурской и
Приморской областей, их заселение обусловили острую необходимость в крупном
церковном строительстве в регионе. Потребность эту ощущали как Святейший Синод,
местные власти, так и сами переселенцы. Строительство первых храмов в Благовещенске
и Владивостоке. Сознавая необходимость укрепления своего влияния на юге Дальнего
Востока, Святейший Синод по просьбе епископа Камчатской епархии Иннокентия
Вениаминова постановил перенести резиденцию и кафедру епархии из Русской Америки
вначале в Якутск, в декабре 1858 г. – в Благовещенск. Началось строительство
кафедрального собора. В 1863 г. была открыта духовная консистория, через год закончено
строительство и освящен кафедральный собор во имя Благовещенья пресвятой
Богородицы. Затем с ростом города возвели Покрово-Никольскую церковь и уже начале
ХХ в. – Свято-Троицкую (Щадринский собор). Подобное строительство церквей велось
во Владивостоке, Хабаровске, Никольске-Уссурийском. В конце ХIХ – начале ХХ в.
храмы стали возводиться в сельской местности – в наиболее крупных селах, а рядом
сними, как правило, появлялись церковно-приходские школы для сельской детворы.
Священники как первые организаторы народных школ. Огромность территории
Камчатской епархии (от оз. Байкал до Тихого океана) и рост численности населения
усложняли управление ею и требовали разделения. Разделение Камчатской епархии на
Владивостокскую и Благовещенскую. Во главе Владивостокской епархии был поставлен
преосвященный Евсевий Никольский, а Благовещенскую епархию возглавил
преосвященный Иннокентий Солодчин. Рост церковного строительства. Благовещенская
епархия имела просветительские учреждения – Благовещенское Православное братство
Пресвятой Богородицы и Духовную миссию для распространения христианства, а также
благотворительные приходские попечительства, епархиальное попечительство о бедных
духовного звания, Иоанно-Богословское братство для помощи бедным учащимся
семинарии и духовного училища. Ко времени создания Владивостокской епархии на ее
территории было уже большое количество церквей и три монастыря – Приамурский
Свято-Троицкий, Николаевский (мужские монастыри) и Южно-Уссурийский РождествоБогородичный женский монастырь. Уже в первый год создания Владивостокской епархии
при ней был учрежден Владивостокский училищный совет – специально для организации
церковноприходских школ и школ грамоты в городах и селах края. Священники во
многих случаях были инициаторами создания школ и их первыми учителями, для
сельских жителей – авторитетными людьми. Церковь поддерживала нравственные устои
дальневосточников и, как следствие, стала основой культурного развития региона.
Лекция 13. «Зарождение и развитие художественной культуры на Дальнем
Востоке во второй половине ХIХ - начале ХХ вв.» – 4 часа.
Зарождение и развитие профессиональной художественной культуры на Дальнем
Востоке началось с музыкального искусства – с флотских военных оркестров. В 1872 г.
главным военно-морским портом России на востоке становится Владивосток. В 1882 г. во
Владивостоке появляется первый музыкальный кружок, в 1900 г. учреждается Общество
поощрения изящных искусств, а при нем открывается своя музыкальная школа. В 1896 г.
в Хабаровске открывается Общество любителей сценического и музыкального искусства,
в 1910 г. Музыкальное общество открывается в Чите. Их выпускники сыграли
значительную роль в распространении профессиональной музыкальной культуры на
Дальнем Востоке. Значительным событием в развитии музыкальной культуры на Дальнем
Востоке стало открытие в 1909 г. Владивостокского отделения Императорского русского
музыкального общества. Одновременно с развитием профессионального классического
музыкального искусства во Владивостоке в начале ХХ в. появилось множество оркестров
«Легкой музыки», выступавших в ресторанах, кафе, на верандах развлекательных
заведений. Известные музыкальные педагоги, дирижеры, капельмейстеры, композиторы,
исполнители. Формирование профессиональных музыкальных коллективов, музыкальных
учебных заведений и постоянных слушателей. Зарождение театра на Дальнем Востоке
началось в последние десятилетия ХIХ в. с постановок любительских спектаклей. При
этом надо отметить широкое увлечение театральным искусством в городах края,
особенно во Владивостоке. Появление т. наз «артистов из народа» - выражая острую
общественную потребность в театре, они своим любительским искусством положили
начало зарождению профессионального театра на Дальнем Востоке. В 1885 г. известный
купец и деятель культуры И.И. Галецкий при гостинице «Золотой Рог» во Владивостоке
открыл «театральный зал» - первую профессиональную сцену. В 1888 г. в Москве
антрепренер М.К. Шумилин сформировал для работы в Благовещенске драматическую
труппу, но скорое она начала выступать в Хабаровске и во Владивостоке. До начала 90-х
гг. ХIХ в. профессиональная театральная жизнь носила кратковременный эпизодический
характер. Заезды театральных трупп были редки. С начала 1890-х гг. положение
значительно меняется. На Дальнем Востоке образуются свои профессиональные труппы,
например, с 1894 по 1896 гг. в крупных городах региона работала труппа «Товарищества
драматических и оперных артистов», в 1896 г. М.В. Васильев создает одну из первых во
Владивостоке местную театральную труппу. Во Владивостоке, Хабаровске,
Благовещенске стали устраиваться, как это было в европейской части страны,
театральные сезоны – длительные, по нескольку месяцев выступления труппы в одном
городе. В Хабаровске, Чите и Благовещенске театральные сезоны по времени совпадали с
общероссийскими, во Владивостоке театральные сезоны приурочивались к периоду
наибольшего скопления кораблей в гавани. Присутствие здесь кораблей придавало
культурной жизни города мощный импульс. В июне 1899 г. во Владивостоке купец А,А,
Иванов завершил строительство первого каменного здания театра на 775 мест «Тихий
океан». В театре играли известные в то время в России актеры. В 1903 г. владивостокское
«Товарищество драматических артистов» М.Н. Нининой-Петипа сняло здание цирка
Боровикса и переоборудовало его в театр для созданного Нининой-Петипа Первого
Общедоступного театра. По своим художественным принципам Первый Общедоступный
был последователем Московского художественного театр Станиславского. В октябре
1903 г. во Владивостоке состоялось открытие нового театра И.И. Галецкого «Золотой
Рог» на 100 зрителей. Сюда перешла труппа Общедоступного театра, которую возглавил
режиссер М.Н. Строителев. В начале ХХ в. во Владивостоке уже имелось три
театральных здания: два частных – «Тихий океан» и «Золотой Рог», один Общества
приказчиков – Пушкинский театр и качестве театральной сцены при необходимости
использовались залы цирка Боровикса и Народного дома. Во время русско-японской
войны город был объявлен на военном положении, артисты, оставшиеся в городе,
объединяются в концертные группы, выступают перед ранеными, дают концерты и
благотворительные спектакли в пользу раненых, членов семей погибших. Наибольшего
развития театральная культура на Дальнем Востоке получила в 1910-1913 гг. В крупных
городах региона выступали не только местные драматические и опереточные труппы, но
и гастролирующие труппы известнейших московских и петербургских артистов: В.Ф.
Комиссаржевской, П.Н. Орленева, К.А. Ворламова, М.М. Петипа, Е.М. Долматова, В.Н.
Давыдова и др. Во Владивостоке в 1912 г. начала выходить газета «Театр и музыка»,
строиться специальное здание для музыкального театра. Изобразительное искусство на
Дальнем Востоке, как и другие (музыка, театр), зародилось в силу большой общественной
в нем потребности усилиями художников-любителей. Так, в 1886 г. во Владивостоке
состоялась первая в дальневосточном регионе экспозиция изобразительного искусства,
организованная Обществом изучения Амурского края. Она состояла почти из тысячи
разнообразных произведений античных времен (горельефов), образцов прикладного
искусства и произведений станковой живописи. Столь огромное количество
произведений из частных коллекций свидетельствовало о том, что формирующаяся
местная интеллигенция любила этот вид искусства, почитала его и стремилась и здесь,
вдали от культурных центов страны, удовлетворять свои эстетические запросы. Первые
выставке местных художников и групповые выставки во Владивостоке (1893, 1896). Для
развития изобразительного искусства на Дальнем Востоке много сделали устраиваемые
местными общественными
организациями художественные выставки Тематика
дальневосточной живописи: природа, пейзажи. Дальневосточные художники,
характеристика их творчества. Роль Общества изучения Амурского края в организации и
проведении выставок во Владивостоке (1889 г.), члены ОИАК, много сделавшие для
развития живописи. Создание в 1900 г. Владивостокского общества поощрения изящных
искусств.
Тема 14. Традиционная культура русского населения Дальнего Востока ХVII –
начала ХХ вв. История изучения русской народной культуры. Культура русского
казачества на Дальнем Востоке. – 3 часа.
Традиционная культура русского народа складывалась в течение многих веков на
основе крестьянского образа жизни. Русское население Дальнего Востока формировалось
не на родоплеменной основе, как это было в Европейской России, а в условиях полного
осознания переселенцами своей принадлежности к государству, границы которого
постоянно расширялись. С официальной точки зрения это было заселение окраин
русскими людьми. Причем под этим подразумевались как собственно русские
(«великороссы»), так и украинцы («малороссы»), и белорусы, составлявшие единую ветвь
восточнославянских народов. Общее культурное пространство, столь необходимое на
новом месте, формировалось, с одной стороны, направленностью государственной
политики, а с другой – складывалось как результат стихийных процессов в области
народно-бытовой
культуры.
На
официальном
уровне
проблема
создания
общегосударственной культуры решалась путем введения унифицированной
образовательной программы на основе русского языка. В дореволюционной России
важным консолидирующим фактором служила также официальная религия, хотя на
Дальнем Востоке она не имела столь мощных рычагов влияния, как в европейской части
страны и даже в Сибири. Священнослужителям нелегко было контролировать
религиозную жизнь в регионе. Не удивительно, что здесь создавались благоприятные
условия для представителей других концессий, в том числе т. Наз. «раскольников»
(старообрядцев) и сектантов (молокан, духоборов, баптистов и т.д.). Деление региона на
северную и южную части получило не только географическое, но и историко-культурное
обоснование. Северные районы включали Чукотку, Камчатку, Охотское побережье,
южные – Сахалин, Приамурье и Приморье (Южно-Уссурийский край). Каждая из групп
переселенцев, особенно на первых порах, стремилась «законсервировать» свое
культурное достояние, сохраняя таким образом связь с прежней родиной. Первыми
засельщиками Дальнего Востока были казаки промышленники. Они начали хозяйственнокультурное освоение региона, но успех этого процесса связан с формированием здесь
крестьянского населения. Первоначально это были переселенцы из Сибири. С открытием
в 1883 г. морского сообщения Одесса – Владивосток началась массовая крестьянская
колонизация южных районов; особенно быстро стал обживаться Южно-Уссурийский
край. В потоке мигрантов этого периода наибольший процент составляли украинцы.
После 1901 г. активизировалось переселение из средней полосы России и из Сибири, чему
способствовало строительство Транссибирской магистрали. К 1917 г. на этнической карте
региона определились ареалы северного и южного типов восточнославянской культуры.
Северно-русские традиции в их сибирской разновидности были более заметны на северовостоке региона, в бассейне Амура, а также в таежной зоне, которая осваивалась в
основном старообрядцами. Южный тип, объединявший традиции южнорусских губерний,
Украины и Белоруссии, господствовал в тех районах Приамурья и Приморья, где
природно-климатические условия способствовали сохранению земледельческого
комплекса. Поскольку с 1880-х гг. там стали преобладать переселенцы с Украины, их
традиции (киевские, полтавские, черниговские) сформировали культурный облик
дальневосточной деревни, особенно приморской. История изучения русской народной
культуры на Дальнем Востоке. Зарождение на Дальнем Востоке народной русской
культуры связано с первопроходцами и казаками. Продвигаясь «встречь солнца» с целью
открытия свободной «землицы», они стали и создателями первых очагов русской
культуры на Дальнем Востоке вначале в его северной части, затем – в южной.
Расселившись по Колыме и Анадырю и оказавшись не только в специфической природноклиматической среде, но и в непривычном этническом окружении, русские
первопроходцы сначала пытались сохранить традиционные виды хозяйственной
деятельности – земледелие и скотоводство. Однако суровый климат препятствовал
аграрному
освоению
северных
районов.
В
результате
основными
жизнеобеспечивающими отраслями стали рыболовство и звероловство, прежде всего –
пушная охота. Таким образом, по характеру хозяйственной деятельности русские
старожилы Колымского округа уже в ХVIII в. перестали отличаться от коренных народов,
издавна населявших эту территорию. То же можно сказать о материальной культуре,
сопутствовавшей подобному образу жизни. Из-за малой численности русских широкое
распространение получили смешанные браки с представителями коренных народов, что
сказалось на внешнем облике населения округа. Однако в отношении языка и народнобытовой культуры, в особенности фольклора, старожилы Северо-Востока оказались
стойкими приверженцами вековых русских традиций. Более того, со временем эти
традиции стали естественной культурной средой для обрусевших юкагиров, эвенов,
чукчей. В бассейне Колымы и Анадыря, а также на восточном побережье материка и
полуострове Камчатка сложились своеобразные очаги традиционной русской культуры,
оказавшей заметное влияние на духовную жизнь местного населения. Несомненно,
длительная изоляция от материнских истоков, новое этническое окружение вели к
разрушению многих элементов культуры, но те же факторы способствовали
«консервации» ряда основополагающих компонентов фольклорного наследия. Разные
фольклорные жанры, мужской фольклор: былины, исторические песни, духовные стихи,
казачьи, разбойничьи песни, лирические песни – протяжные, игровые, плясовые,
хороводные.
Тема 15. Крестьянская культура на Дальнем Востоке. Традиционная народная
обрядность, фольклорный быт. – 2 часа.
Самые благоприятнее условия для сохранения основополагающих элементов
традиционной крестьянской культуры сложились на юге региона – в Приамурье и
Приморье. Именно эта территория была наиболее пригодной для традиционных видов
хозяйственной деятельности – хлебопашества и животноводства. На новых землях
воссоздавалась также прежняя модель семейных отношений и бытовой культуры в целом.
Однако состав дальневосточного крестьянства не был однородным. Переселенцы
различались не только по месту выхода, но и по конфессиональной принадлежности.
Каждая группа первоначально стремилась уберечь от разрушения «материнские»
традиции, не потерять духовное родство с прежней родиной. Все это накладывало
отпечаток на культуру региона. Основную массу переселенцев составили приверженцы
официального православия. Среди них были как русские, так и украинцы и белорусы.
Самыми многочисленными из конфессиональных объединений, не приемлющих
государственные религии, были старообрядцы (староверы) и молокане. И те и другие
сыграли важную роль в хозяйственном и культурном освоении Дальнего Востока, хотя
между ними были существенные различия. В связи с укреплением позиций официальной
церкви старообрядцы отступали все дальше в тайгу, покидая уже обжитые места. Они
вынуждены были сокращать площадь запашки, зато в полной мере использовали все, что
мог дать лес. Это вело к изменению прежней хозяйственной модели. Но в других
областях культуры староверы стремились сохранить русские народные традиции. Вводя
ограничение на «мирские» формы досуга (пение, пляски), они проявляли особую
приверженность к старому стилю в одежде. Ношение сарафанов, тканых поясов, рубахкосовороток стало отличительным признаком данной этноконфессиональной общности.
Молокане, чье учение являлось русской разновидностью протестантизма, упорно
сохраняли земледельческую направленность своей хозяйственной деятельности. Они
постоянно увеличивали размер пашни, продавали излишки произведенной продукции.
Молокане в числе первых стали использовать сельскохозяйственную технику, которую
закупали у единоверцев в Америке. Они были колонистами капиталистического типа. Это
проявилось и в других областях их была, в частности в уменьшении доли традиционных
видов женского домашнего труда, таких, как ткачество, вышивание и пр. Зажиточные
молокане предпочитали приобретать товары фабричного производство. Православное
население тоже не было внутренне однородным ни по образу жизни, ни по культурным
ценностям. По мере увеличения числа жителей на Дальнем Востоке становилось все
очевиднее, что земледелие не могло оставаться для всех основной жизнеобеспечивающей
отраслью. Быстрее порывали с крестьянским укладом мигранты из нечерноземья.
Переселенцам приходилось искать работу на шахтах, приисках, строительстве и
лесоразработках, заниматься охотой и рыболовством, доставкой грузов и разными
промыслами. Естественно, в этой среде наблюдалось быстрое разрушение целостности
традиционно-бытового комплекса. Адаптация к иным географическим условиям
произошла не сразу, недоставало конкретных знаний о новой территории обитания.
Осенние паводки губили урожай, смывали постройки, так как мигранты не имели
представления о разрушительной силе тайфунов с южных морей. Посевы страдали от
переизбытка влаги летом, озимые вымерзали из-за недостатка снега зимой. Накопление
собственного опыта вело к изменению принципов хозяйствования. Упорство и
трудолюбие позволили переселенцам прочно утвердиться на дальневосточных землях.
Отход от прежних хозяйственных традиций заставлял крестьян крепче держаться
испытанных временем форм духовной культуры. Ее стержневые моменты были общими
для русских, украинцев, белорусов. Эта общность яснее всего прослеживается в народной
обрядности. Поселения и постройки. Декоративное искусство. Традиционная народная
обрядность. Календарная обрядность в целом не просто соответствовала природнобиологическим и трудовым ритмам, но была сопряжена с духовным началом в
человеческой жизни: здесь находили место память о предках и забота о продолжении
рода. Традиционный календарь направлял также религиозную жизнь переселенцев, что
позволило им вдали от родины сберечь веру отцов. Необрядовый фольклорный быт:
песенный фольклор, частушки, прозаические жанры фольклора.
Тема 16. Культура старообрядцев Дальнего Востока. – 1 час.
Специфика традиционной крестьянской культуры на Дальнем Востоке: состав
дальневосточного крестьянства (конфессиональные объединения). Православное
население, старообрядцы, молокане. Культурные ценности и хозяйственные традиции.
Тема 17. Известные деятели Дальнего Востока. – 1 час.
Основатели Владивостока: прапорщик Комаров, ген.-лейтенант А.К. Шефнер.
Род Матвеевых и его роль в истории культурной жизни Владивостока и края в ХХ
веке (Н.П. Матвеев-Амурский, З.Н. Матвеев, Н.Н. Матвеев-Бодрый, В.Н. Матвеев (Март),
Г.Н. Матвеев (Фаин)).
Борис Августовский – известный дальневосточный краевед.
Участники революции и гражданской войны на Дальнем Востоке (К.А. Суханов,
С.Г. Лазо, А.Н. Луцкий, В.М. и И.М. Сибирцевы, Д.А. Мельников, П.В. Уткин, В.А.
Авраменко, А.Ф. Агарев, В.Г. Антонов, В.Б. Баневур, Н.Ф. Башидзе, А.А. Гульбинович).
Известные исследователи Дальнего Востока: Ф.Ф. Буссе – основатель Общества
изучения Амурского края; А.П. Георгиевский – ученый, профессор ГДУ; В.Е.
Глуздовский и А.Г. Кедроливанский – педагоги; Н.М. Пржевальский и М.И. Венюков –
географы, путешественники и историки; Б.В. Давыдов и М.Е. Жданко – гидрографыгеодезисты; Н.В. Кирилов – врач, антрополог, этнограф, краевед; А.И. Куренцов –
зоогеограф, энтомолог, путешественник, Иван А. Лопатин – этнограф, писатель, педагог;
Иннок. А. Лопатин – геолог и географ; Е.Р. Шнейдер – этнограф и языковед, Л.Я.
Штернберг – этнограф, Б.М. Штемпель – геолог и палеонтолог и др. – по выбору.
Педагог П.Н. Рябинин.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВФУ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
по дисциплине «История литературы и культуры Дальнего Востока России»
031000.62 - «Филология»
г. Владивосток
2011
-
-
Часть 1
предполагает самостоятельное изучение следующих тем:
Дальневосточная тема в очерках И.А. Гончарова. Книга «Фрегат «Паллада»».
Дальневосточная тема в творчестве К.М. Станюковича.
Дальневосточная тема в творчестве путешественника и писателя А.Я. Максимова.
Чехов на Дальнем Востоке, поездка на остров Сахалин: «научные и литературные
цели». Путевые очерки «Из Сибири», «Остров Сахалин»: тема «маленьких героев».
Зарождение и развитие дальневосточной литературы в конце XIX - начале XX
веков. Творчество Н.П. Матвеева и П.И. Гомзякова.
Трилогия В.К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского края».
Александр Фадеев и Дальний Восток.
Развитие литературы Дальнего Востока в советский период (1924-1990).
Современный литературный процесс на Дальнем Востоке.
Исторические романы Николая Задорнова.
Ознакомление с художественными текстами по следующим изданиям: Хрестоматия по
истории Дальнего Востока. Книга I. Книга II; Сто лет поэзии Приморья. Антология и
другими изданиям.
Часть 2
предполагает самостоятельное изучение следующих тем:
Роль русской православной церкви в распространении отечественной культуры на
Дальнем Востоке в ХVIII - ХIХ вв.
Культурное развитие Дальнего Востока во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.
Отечественная научная мысль о культуре Дальнего Востока. Развитие народного
просвещения и специального образования на Дальнем Востоке, развитие периодической
печати и книгоиздания, зарождение науки, зарождение и развитие художественной
культуры.
Традиционная культура русского населения Дальнего Востока ХVII – начала ХХ вв.
История изучения русской народной культуры. Культура русского казачества на Дальнем
Востоке. Крестьянская культура на Дальнем Востоке. Традиционная народная обрядность,
фольклорный быт.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
<ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВФУ>
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по дисциплине «История литературы и культуры Дальнего Востока России»
031000.62 - «Филология»
г. Владивосток
2011
ЧАСТЬ 1
Подготовка к контрольным заданиям по рейтинговой системе оценок:
Контрольные вопросы (мини-тест) № 1 по истории литературы Дальнего Востока
I вариант
II вариант
1. Кто автор книги «Описания земли
Камчатки»?
1. Кто автор «Сказания о великой реке
Амуре»?
С.П. Крашенинников
Николай Спафарий
2. Перечислите т.н. жанры
зарождавшейся в 17 в. дальневосточной
литературы.
2. Соединение каких двух начал в
произведениях является особенностью
литературы 18 века?
Отписки, летописи, скаски,
«расспросные речи»
Научного и художественного
3. Перечислите имена революционнодемократических писателей 19 века,
которые в своих работах обращались к
проблемам освоения и изучения
Дальнего Востока.
А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, Н. А.
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.И. Герцен,
Н.Г. Чернышевский
3. Назовите имена русских землепроходцев,
оставивших после себя первые произведения
об освоении Сибири и Дальнего Востока.
Семен Дежнев, Михаил Стадухин, Ерофей
Хабаров, Василий Поярков, Онуфрий
Степанов, Владимир Атласов и др.
4. В чем особенность жанра морских
путешествий, или «путешественных
записок»?
4. Перечислите названия летописей о походах
Ермака.
Они близки к путевым дневникам
Кунгурская, Строгановская, Есиповская,
Ремизовская летописи
5. Кому принадлежат знаменитые
слова: «российское могущество
прирастать будет Сибирью и Северным
океаном»
5. Кому принадлежит фраза «Усердие мое к
пользам Отечества ободряло меня»?
Григорий Шелихов
М.В. Ломоносову
6. Кого Пушкин назвал «Камчатским
Ермаком»?
6. Кого М.В. Ломоносов назвал «Колумбом
Российским»?
Владимира Атласова
Мореплавателя Алексея Чирикова
7. Григорий Шелихов – автор какой
книги; из скольких частей состоит это
произведение?
7. Кто автор героической поэмы «Петр
Великий»?
М.В. Ломоносов
«Российского купца Григория Шелихова
странствования из Охотска по
Восточному океану к Американским
берегам». Из 3 частей
8. В чьей книге (И.Ф. Крузенштерна
или Ю.Ф. Лисянского) дан очерк о
мореплавателях и открытиях россиян в
северной части Великого океана,
исторический очерк о
преобразовательной деятельности Петра
Великого?
8. Чья книга – И.Ф. Крузенштерна или Ю.Ф.
Лисянского – вышла позже?
Лисянского
Крузенштерна
9. Подвиг какого «росского Колумба»
воспел Г.Р. Державин?
9. Кого исследователи называют первым
представителем героической морской темы в
русской литературе 18 века?
Григория Шелихова
Российского матроса Василия Кориотского
10. Какое произведение считают самым
ранним из дошедших до нас описаний
Амура?
10. В каком веке начинается Сибирское
летописание?
В 17 веке
«Сказание о Великой реке Амуре»
11. Кто из мореплавателей считал своим
долгом в описаниях дать список всей
11. Кто из мореплавателей считал своим
долгом в описаниях дать список всей
команды, от капитана до матроса?
команды, от капитана до матроса?
Крузенштерн, Лисянский
Крузенштерн, Лисянский
Контрольные вопросы (тест) № 2 по истории литературы Дальнего Востока
I вариант
II вариант
1. Кто вел свой журнал узелками на нитках?
1. Назовите характерные черты
отечественной документальной
маринистики.
В.М. Головнин
Документальная точность,
справедливость, изыскание истины
2. Назовите авторов, написавших стихи на
смерть Хвостова и Давыдова?
А. Волкова, А. Шишков, Г.Р. Державин
2. Кто автор (Хвостов или Давыдов)
словаря наречия местных жителей острова
Кадьяк?
Хвостов
3. Какой литературный жанр был
популярным и украшал журналы 19 века?
3. Кто первым из русских писателей
написал о дальневосточных землях в
путевых очерках?
Жанр морского путешествия
И.А. Гончаров
4. Как сам капитан П.И. Рикорд
рассматривал свое произведение «Записки
флота капитана Рикорда о плавании его к
японским берегам в 1812 и 1813 годах и
сношениях с японцами»?
Как дополнение к записям капитана
Головнина
5. Какие материалы представлены в
сборнике «Героическая оборона
Петропавловска-Камчатского в 1854 году»?
Здесь дан официальный рапорт
руководителя обороны адмирала В.С.
Завойко; публикуются письма защитников
города – прославленного командира
фрегата «Аврора» И.Н. Изыльметьева,
мичмана Н. Фесуна, лейтенанта
4. С чем связано широкое распространение
в России в 20-х гг. ХIХ в. жанра
путешествий, путешественных записок?
С усилением интереса к экзотическим,
мало известным тогда морским
государствам, к освободительному
движению в этих странах; с развитием
русского романтизма.
5. Назовите автора и произведение, где дано
одно из первых изображений в русской
документальной литературе представителя
малых племен Дальнего Востока –
представителя племени айнов.
В.М. Головнин «Записки о приключения в
плену у японцев»
Константина Пилкина, гардемарина
Гавриила Токарева; воспоминания
командира батареи Дмитрия Максутова,
капитана первого ранга А.П. Арбузова,
жены адмирала Завойко – Юлии Завойко.
6. Какой писатель показал в своих
произведениях мужество и отвагу простого
русского матроса?
К.М. Станюкович
6. Кто является автором книги «Подвиги
русских морских офицеров на крайнем
Востоке России. 1849-1855»?
Г.И. Невельской
7. Что говорил Н.А. Добролюбов в рецензии 7. Какой автор создает в 50-х гг. ХIХ в.
на книгу И.А. Гончарова «Фрегат
своеобразное повествование в письмах. Как
Паллада»?
называется эта книга?
Автор сделал «героем самого себя» и
таким образом» придал обыкновенным
впечатлениям путешественника
индивидуальный характер», что книга
приобрела «поэтическое и национальное
значение… скромной одиссеи»?
8. В каком произведении В.М. Головнина
наблюдается поиск жанровых
особенностей морской документальной
литературы, черты «романического
произведения»?
«Путешествие вокруг света, совершенное
на военном шлюпе «Камчатка»»
В. А. Римский-Корсаков «Балтика - Амур»
8. Кто из мореплавателей в своих записях
оставил воспоминания о жене Г.И.
Невельского Екатерине Ивановне?
Николай Бошняк, В.А. Римский-Корсаков,
Н. Задорнов
9. Перечислите открытия Г.И. Невельского.
Сахалин является островом, а устье Амура
судоходно
9. Назовите лицейского друга А. Пушкина,
автора, издававшего «Журнал
кругосветного плавания на шлюпе
«Камчатка» под командованием капитана
Головнина»
Ф.Ф. Матюшкин
10. Назовите два направления русской
документальной маринистики
Одна ветвь – «чистая» беллетристика,
связанная с романтизацией вымышленных
героев, началом своим имевшая повесть «О
российском матросе Василии
Кариотском…».
Другая ветвь – это чисто документальная
маринистика, начиная с записок мореходов
вплоть до очерковой прозы Гончарова и
Станюковича. В этом русле – очерковые
произведения историографа российского
флота Н.А. Бестужева («Рассказы и
повести старого моряка», «Морские
сцены», «Крушение российского военного
брига «Фальк»), В. Даля («Матросские
досуги», повесть «Мичман Поцелуев. Сюда
же относятся «Воспоминания на флоте
Павла Свиньина, «Записки русского
офицера во время путешествия вокруг
света» А. Бутакова, «Письма об Америке»
Н. Славинского, «Письма из кругосветного
плавания» Н. Никидорова и др.
11. Кто написал книгу о подвигах русских
офицеров на Амуре, т.н. амурскую эпопею?
Как она называется?
Г.И. Невельской «Подвиги русских морских
офицеров на крайнем Востоке России.
1849-1855»
12. Как назывался военный транспорт,
вошедший в бухту Золотой Рог 20 июня
1860 года?
«Манджур» под командованием капитаналейтенанта А.К. Шефнера.
13. Назовите год путешествия И.А.
10. Охарактеризуйте лирико-философские
отступления «Фрегата Паллады» И.А.
Гончарова.
Здесь есть и добродушный юмор, и ирония,
и приземленность. Но вместе с тем и тон
глубокого размышления, задушевной думы
свойствен путевым письмам Гончарова.
Есть в книге и своеобразная
романтичность… И все это образует то,
что было уже в первом предисловии
названо «классически простым, ясным и
веселым… изложением путевых
впечатлений». Это и дума, горестная,
печальная, когда Гончаров пишет о жизни
народа. Дума о родном проходит через всю
книгу. Русь, убогая и обильная, с ее
характерными типами, с барином, с нищим
мужиком. И уже не перед глазами автора,
а перед глазами читателя «мелькают
родные и знакомые крыши, окна, лица,
обычаи». Именно дума о родном народе, о
его жизни пронизывает эту книгу, в
которой героическое начало связано с
народным героизмом, с верой в великое
будущее этого героического народа.
11. Какую проблему ставила морская
документалистика?
Проблему высокой гражданственности,
служения России.
12. Кто такой прапорщик Н.В. Комаров?
Первостроитель Владивостока, сошедший
на пустынный берег Золотого Рога, первый
командир поста Владивосток
13. Кто придавал большое значение
увлекательности изложения «Фрегата
Гончарова по Японскому морю и
знакомства с землями Приморского края.
Паллады» И.А. Гончарова?
В.Г. Белинский
5 мая 1854 года.
14. Назовите фразу И.А. Гончарова во
«Фрегате Паллада», выражающую мысли
писателя о народном подвижничестве,
народном героизме?
14. Какая линия в русской маринистике ХIХ
века набирала силу, особо выделялась?
Линия, связанная с изображением жизни,
быта, психологии моряков.
Размышления о «маленьких титанах», имя
которым «легион»
15. Как К.М. Станюкович оказывается во
Владивостоке?
Заболевает лихорадкой и его отправляют в
только что основанный порт Владивосток,
в морской госпиталь.
15. В каких произведениях К.М.
Станюковича содержится критика
колониализма?
Очерк «В Кохинхине», повесть «Вокруг
света на «Коршуне»
16. Как называл своего отца К.М.
Станюкович в одноименном рассказе?
«Грозный адмирал»
16. В какой период времени К.М.
Станюкович находился в плавании?
С 1860-1863 гг.
17. Какова творческая заслуга писателя
К.М. Станюковича?
17. Кого И.А. Гончаров считает главными
героями современных ему дней?
Показать русского матроса и офицера во
все их мужестве и отваге, во всем
душевном обаянии и человечности души, во
всей их любви к родному кораблю и
русскому флоту. Он показал, какие
издевательства претерпевал человек в
старом флоте, нарисовал типы
службистов и самодуров, обнажил
реальные противоречия самодержавнокрепостнической действительности,
показал флот пореформенной поры, период
Прежде всего, он говорит о тех, кто ведет
просвещенческую деятельность и отдает
свои силы составлению грамматик,
словарей, развитию письменной грамоты,
собиранию материалов для будущей
истории. С пафосом напоминает о
землепроходцах, о тех, кто был первым в
открытиях.
перехода от парусных кораблей к паровым.
18. У кого в составе экспедиции не было
топографа и тот прошел большую часть
пространства Уссурийского края пешком,
ведя счет шагам?
18. Назовите книгу Е. Бурачека, где он
упоминает гардемарина Станюковича?
«Воспоминания заамурского моряка»
М.И. Венюков
19. В каком герое Станюковича
наблюдаются черты автобиографизма
писателя? Назовите произведение.
19. Кому принадлежит фраза «На меня
выпала завидная доля и трудная
обязанность – исследовать местности в
большей части которых еще не ступала нога
европейца»?
Володя Ашанин, повесть «Вокруг света на
Н.М. Пржевальскому
«Коршуне»
20. Назовите имена ученых, которые
представляют научно-художественный род
литературы.
С.П. Крашенинников, П.А. Кропоткин, М.И.
Венюков, Л.А. Загоскин, Н.М.
Пржевальский, В.К. Арсеньев
20. Кто такой адмирал А.А. Попов? Как он
был связан со Станюковичем? Как его
называл Станюкович?
Командующий эскадрой А.А. Попов, его имя
связывают с именами Корнилова,
Нахимова, его называют в числе учителей
адмирала Макарова. Служил на Балтике и
Черном море Участвовал в Крымской войне
(названа гора и остров в заливе Петра
Великого, мыс в бухте Провидения). Попов
был хорошо знаком с семьей Станюковича.
Адмирал Попов приближает к себе юного
гардемарина, поддерживает его первые
литературные начинания. Станюкович
называет его «беспокойный адмирал»?
21. Кто автор «Записок о приключения в
плену у японцев»?
21. Кто и в отношении кого произносит
фразу «Где раз поднят флаг, он уже
спускаться не должен?
В.М. Головнин
Царь, одобряя действия Невельского
22. Кто автор рассказа «Тигр идет»
22. В каком произведении какого автора
К.М. Станюкович
выведен образ матроса Сорокина?
И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада»
23. А.П. Чехов – автор какой известной
книги дальневосточной тематики?
«Остров Сахалин»
23. В чем особенности произведений
писателей-путешественников?
Стремились сочетать научность с
художественной выразительностью
25. Какова основная мысль в произведениях
К.М. Станюковича? Новаторство писателя.
Мысль народная. Она связана прежде всего
с простыми людьми, с простыми моряками.
Сумел оценить и полюбить моряка, дать
ему в своих произведениях «право голоса» –
многие рассказы у Станюковича имеют
монологический характер, причем монологи
эти глубоко реалистичны. Несомненно
качественное обновление морской прозы у
Станюковича, углубление героического и
вместе с тем драматического начала,
связанного с показом народной жизни.
26. В чем своеобразие книги Н.М.
Пржевальского «Путешествие в
23. В каком произведении какого автора
выведен образ крестьянина Бастрюкова?
К.М. Станюкович «Вокруг света на
«Коршуне»
24.В чем особенности произведений
писателей-путешественников?
Стремились сочетать научность с
художественной выразительностью
25. Как раскрывает К.М. Станюкович
душевные особенности матросов?
Новаторство писателя.
Стремление скрасить тяжелую жизнь,
представления о любви, о семье, тоска по
дому. У Станюковича появилось то, чего не
было у его предшественников: он все чаще
смотрит на вещи глазами простых
матросов, и одновременно вглядывается в
их души, стремится понять эти души
изнутри. Сумел оценить и полюбить
моряка, дать ему в своих произведениях
«право голоса» – многие рассказы у
Станюковича имеют монологический
характер, причем монологи эти глубоко
реалистичны. Несомненно качественное
обновление морской прозы у Станюковича,
углубление героического и вместе с тем
драматического начала, связанного с
показом народной жизни.
26. Охарактеризуйте особенности
обрисовки героизма в очерковой,
Уссурийском крае. 1867-1869 гг.»?
документальной и мемуарной литературе
(Л. Загоскин, Н. Бошняк, Г.И. Невельской и
др.).
27. Охарактеризуйте проблему
героического в книге И.А. Гончарова
«Фрегат «Паллада»»
27. Почему можно говорить об очерковой
организации материала, о художественнопублицистическом воссоздании событий в
книге В.М. Головнина «Записки о
приключения в плену у японцев»?
Охарактеризуйте образ рассказчика.
28. Охарактеризуйте книгу «Двукратное
путешествие в Америку морских офицеров
Хвостова и Давыдова, писанное сим
последним»
28. Охарактеризуйте работу М.И. Венюкова
«Обозрение реки Уссури и земель к востоку
от нее до моря».
29. Охарактеризуйте русскую
документальную маринистику.
30. Имена каких дальневосточных и
приморских прозаиков ХХ века Вам
известны? Перечислите.
1.
2.
3.
4.
29. Охарактеризуйте русскую
документальную маринистику.
30. Каких дальневосточных и приморских
поэтов ХХ века Вы знаете? Перечислите.
ЧАСТЬ 1 (3 семестр)
Вопросы к экзамену
Дальний Восток в русской очерково-мемуарной литературе. Истоки
дальневосточной темы в русской литературе (русские землепроходцы-казаки,
первые описания и записки М. Стадухина, С. Дежнева, «сказки» В. Атласова,
«расспросные речи» В. Пояркова, отписки Е. Хабарова, О. Степанова).
Тема освоения Сибири и Дальнего Востока. История Ермака, положившего начало
присоединению Сибири к России, и ее отражение в летописях. Противоречивость
летописей.
М.В. Ломоносов о Дальнем Востоке и Сибири (о прирастании могущества России
Сибирью), «дальневосточные мотивы» в его поэзии.
«Описание земли Камчатки» (1756) С.П. Крашенинникова. Научно-познавательное
и художественное. Научное описание и путевой очерк, дневник. Характеристика
исторических лиц. Образ Владимира Атласова.
5. Г.Р. Державин, А.Н. Радищев, русские революционные демократы (В.Г. Белинский,
Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев) о востоке.
6. Героика освоения Дальнего Востока в русской дальневосточной маринистике:
истоки морской темы. Г. Шелихов «Российского купца Григория Шелехова
странствования из Охотска по Восточному океану к Американским берегам»
(1791). «Личное» начало и публицистичность Шелихова.
7. Первое кругосветное путешествие русских и отражение его в литературе:
«Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда»
и «Нева»» (1809-1812) И.Ф. Крузенштерна, «Путешествие вокруг света на корабле
«Нева» в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах» (1812) Ю.Ф. Лисянского. Исторические
предуведомления и нравственный долг. Близость к путевым дневникам. Тема
русской Америки.
8. «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова,
писанное сим последним» (1810, 1812). Жанр путешествия и личностное начало
(авторские отступления) в книге.
9. В.М. Головнин и его путешествия – этап в развитии русской документальной
маринистики. «Записки о приключениях в плену у японцев» (1816), «Путешествие
вокруг света на шлюпе «Камчатка»: увлекательность сюжета, авантюрное начало,
психология в экстремальных условиях. Особенность стиля и слога Головнина. приложение к книге Головнина - «Записки флота капитана П.И. Рикорда о
плавании его к японским берегам в 1912 и 1813 годах и сношениях с японцами».
10. В.А. Римский-Корсаков и его повествование в письмах о походе на шхуне
«Восток» (1852-1857), книга «Балтика-Амур»; Л. Загоскин «Заметки жителя того
света» (1840); записки Н. Бошняка. Своеобразие книг. Героические страницы
истории Дальнего Востока: защита Петропавловска-на-Камчатке.
11. Книга Г.И. Невельского «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке
России. 1849-1855» (1878). Образы морских офицеров. Проблема патриотизма и
гуманизма, будущности России.
12. Особенности русской документальной маринистики: жанровые искания (записки,
путевые очерки, повести в письмах), «смешанное содержание», проблема
героического
характера.
Направления
русской
маринистики.
Высокохудожественность как новое качество документальной маринистики.
13. Русские писатели и Дальний Восток. Дальневосточная тема в путевых очерках И.А.
Гончарова «Фрегат Паллада», своеобразие. Образ автора-повествователя и его
место в сюжетно-композиционной структуре произведения. Героическое и
подвижническое начало, о народном подвижничестве («маленькие титаны», имя
которым – легион). Спор о героическом пафосе.
14. Дальневосточная тема в творчестве К.М. Станюковича.
Владивостокские
страницы жизни и творчества. Повесть «Вокруг света на «Коршуне»» (1896),
автобиографизм образа главного героя Володи Ашанина. Героические черты
русского национального характера: открытие образа простого русского моряка,
мысль о любви к народу как «руководящему началу» в жизни.
15. Героика открытий и освоения Дальнего Востока в творчестве Н.М. Пржевальского.
Книга «Путешествие в Уссурийском крае. 1867-1869»: человек и природа
Приморья, страницы истории заселения края. Сплав научного и художественного.
Образ русского путешественника, друзья и недруги.
16. Героика открытий и освоения Дальнего Востока в творчестве М.И. Венюкова.
«Воспоминания о заселении Амура в 1857-1858» (1879) «Путешествие по
Приамурью, Китаю и Японии» (1970). Научные открытия, ученые статьи.
Проблема подвижничества русских ученых.
17. Тема Дальнего Востока в истории русского путевого очерка ХIХ века. С.В.
Максимов и его книга «На востоке. Поездка на Амур» (1861, 1864). Особенности
очерковой книги путешествий. Картины народной жизни Сибири и Дальнего
Востока и «амурский вопрос». Мотив созидания на новых землях.
18. Страницы истории освоения Дальнего Востока: дальневосточные сюжеты и
типология народных характеров в рассказах Д.И. Стахеева (сб. рассказов «На
память многим» (1867); «Записки революционера» (глава «Сибирь»)
путешественника и географа П.А. Кропоткина: образы крестьян, казаков,
чиновников.
19. Книги очерков «Из Сибири» и «Остров Сахалин» А.П. Чехова: проблематика,
особенности жанра. Научное и художественное изображение действительности.
Сахалинская тема в творчестве писателя, значение книги. Вера Чехова в
будущность России. Писатель во Владивостоке.
20. Эволюция научно-художественной прозы. В.К. Арсеньев - путешественник,
ученый, писатель. Трилогия «В дебрях Уссурийского края» (1926): художественное
своеобразие книг, документализм и личностное начало. Образ Дерсу Узала.
21. А.Я. Максимов – первый писатель Приморья. Жанр путевых очерков «Вокруг
света. Плавание корвета «Аскольд» (1876). Дальневосточная тема в сборнике
рассказов «На далеком Востоке» (1883). Этнографические очерки, экзотические,
опыты в беллетристике. Писатель о значении Владивостока и края как открытой
двери в океан.
22. Первые поэты Приморья: морской офицер Павел Гомзяков, издатель и журналист
Н.П. Матвеев. Основные мотивы поэзии.
23. Литературно-поэтические направления на Дальнем Востоке в начале 1920-х гг.
(группа футуристов, партизанская поэзия, поэзия Пролеткульта и др.). Создание во
Владивостоке Литературно-художественного общества Дальнего Востока (ЛХО
ДВ).
24. Жанровое своеобразие русской дальневосточной поэзии 1917-1922 гг.
25. Типология русского национального характера в советском историческом романе,
посвященном истории Сибири и Дальнего Востока. Романы и повести о Ермаке: А.
Веселого «Гуляй-Волга» (1932), Е. Федорова «Ермак» (1955) , В. Сафонова
«Дорога на простор» (1955). Герои народной истории - герои литературы: Д.
Романенко «Ерофей Хабаров» (1946-69), Вс. Н. Иванов «Черные люди» (1963).
Историзм и проблема народного характера.
26. Образ морехода в исторической прозе Дальнего Востока. «Морские герои» и черты
исторического романа-путешествия: И. Кратт «Великий океан», В. Григорьев
«Григорий Шелихов», С. Марков «Юконский ворон».
27. Исторические романы об освоении русскими Дальнего Востока Н. Задорнова:
«Амур-батюшка» (1940-46), «Капитан Невельской», «Цунами» и др. Типология
народных характеров.
28. Исторические романы о Приморье: И. Басаргин «Дикие пчелы» (1989), С. Балабин
«Пестрые стрелы Сульдэ» (1991) и др.
29. Цикл дальневосточных исторических романов В. Пикуля («Богатство» (1977), «Три
возраста Окини-сан» (1981), «Крейсера» (1985), «Каторга» (1987)).
Художественное своеобразие.
30. Революция и гражданская война на Дальнем Востоке в литературе. Романы и
повести Вс. Иванова, А. Фадеева и др. Героическое и трагическое, классовое и
общечеловеческое. Народный характер в ситуациях социального и нравственного
выбора.
31. Дальневосточная тема в творчестве поэта Павла Васильева.
32. У истоков поэтов фронтового поколения. Творческие судьбы поэтов А. Артемова,
В. Афанасьева, Г. Корешова, П. Комарова и др. Жанровые поиски: лирическое
стихотворение, баллада, поэма. Поэзия мужественного гуманизма.
33. Литература малых народов Дальнего Востока: Джанси Кимонко «Там, где бежит
Сукпай», трилогия Георгия Ходжера «Амур широкий», романы Юрия Рытхэу,
Владимира Санги, поэзия Антонины Кымытваль, Виктора Кеулькута, Андрея
Пассара, проза Николая Дункая.
34. Жизнь коренных народов в творчестве русских писателей. Повесть из жизни
нивхов «Сын орла» (1939) дальневосточного прозаика Т. Борисова; «Белый шаман»
(1978), «Древний знак» (1984) Н. Шундика и др.
35. Поэзия 1970-90-х годов. Поэтические имена: Г. Лысенко, Б. Лапузин, В. Тыцких.
Своеобразие поэзии.
36. Дальневосточное литературное зарубежье: феномен поэзии русского Китая (имена,
тенденции, жанры). Арсений Несмелов, Валерий Перелешин, Виктория Янковская,
Иван Елагин и др.
ЧАСТЬ 2 (4 семестр)
Вопросы к зачету
1. Периодизация развития русской культуры на Дальнем Востоке России в ХVII – ХХ
вв.
2. История изучения народностей Дальнего Востока: имена исследователей культуры
Дальнего Востока и их основные труды.
3. Историко-этнографические области коренных народностей Дальнего Востока,
историко-культурная характеристика этих народностей.
4. Традиционная материальная культура народов Дальнего Востока (традиционное
жилище и традиционная одежда народов Дальнего Востока в разных климатических
областях).
5. Особенности религиозных верований и народных знаний у аборигенного населения
Дальнего Востока (шаманизм).
6. Устное народное творчество и фольклор народов Дальнего Востока. Классификация
жанров.
7. Своеобразие искусства аборигенов.
8. Характерные особенности семейных обрядов и обычаев коренного населения
Дальнего Востока.
9. Отечественная общественная мысль о Дальнем Востоке России в ХVII – первой
половине ХIХ в.: два основных направления (правительственное и демократическое)
в отечественной историографии открытия и первоначального освоения русскими
людьми Дальнего Востока в указанный период.
10. Характеристика зарубежной историографии о русском Дальнем Востоке ХVII – ХIХ
в. Ошибки и заблуждения.
11. Причины и начала, определившие движение русских людей в Сибирь и на Дальний
Восток в ХVII в.
12. Основные центры сосредоточения русских людей на Дальнем Востоке в ХVII в.
13. Состав населения и виды хозяйственной деятельности русских людей на Дальнем
Востоке в ХVII в.
14. Принятие Нерчинского договора 1689 г. между Россией и Китаем и его последствия
для Приамурья.
15. Своеобразие продвижения русских людей на восток в ХVШ в.: великие
географические открытия русских людей на Дальнем Востоке, в Северной части
Тихого океана и на Аляске.
16. Основные русские научные экспедиции по изучению Сахалина, Курильских островов
и Амура в ХIХ в. Роль Г.И. Невельского в присоединении Приамурья и Приморья к
России на основе мирных договоров между Россией и Китаем (Айгунский 1858 г. и
Пекинский 1860 г.).
17. Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Русской Америки в ХVШ –
середине ХIХ вв. Административное управление регионом.
18. Отличие административного управления России на Дальнем Востоке от управления в
Русской Америке. Первые правители Русской Америки.
19. Основные города Дальнего Востока и Русской Америки ХVII – первой половины ХIХ
вв. Промышленность.
20. Зарождение русской культуры на Дальнем Востоке и в Русской Америке в ХVII –
середине ХIХ вв. Ячейки инфраструктуры русской культуры.
21. Роль Русской Православной Церкви в распространении отечественной культуры на
Дальнем Востоке в ХVII – первой половине ХIХ вв. Факторы высокой положительной
роли Русской Православной Церкви.
22. Имена основных церковных деятелей, много сделавших для развития просвещения
русского населения и коренных народов Дальнего Востока и Русской Америки в ХVII
– первой ХIХ вв. Характеристика их деятельности.
23. Основные духовные миссии, работавшие на Камчатке и в Русской Америке в ХVII –
первой половине ХIХ вв. (Камчатская духовная миссия, Американская (Кадьякская)
миссия).
24. Народная школа на Дальнем Востоке и в Русской Америке. Роль И. Хотунцевского и
его духовной миссии для народного образования на Камчатке.
25. Культурное развитие Дальнего Востока во второй половине ХIХ – начале ХХ в. и
отечественная научная мысль о культуре Дальнего Востока указанного периода:
основные события, характеризующие завершение формирования территории России
на востоке.
26. Факторы развития культуры на Дальнем Востоке во второй половине ХIХ – начале
ХХ в. (общероссийское и дальневосточное): реформы общегосударственного
значения, определившие культурный прогресс страны, в том числе и Дальнего
Востока.
27. Развитие народного просвещения и специального образования на Дальнем Востоке в
1860-1917 гг. (учебные заведения разнообразного типа и гибкая сеть учебных
заведений: миссионерские школы, женское образование, среднее специальное и
высшее образование). Имена учителей-подвижников.
28. Роль периодической печати и книгоиздания на Дальнем Востоке во второй половине
ХIХ – начале ХХ вв.: имена, названия.
29. Зарождение науки на Дальнем Востоке во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.:
имена руководителей первых гидрографических и гидрометеорологических
экспедиций, географических, геологических, топографических, биолого-почвенных,
этнографических и др. исследований.
30. Историческое направление исследований на Дальнем Востоке. Создание Общества
изучения Амурского края (ОИАК) и Приамурского отдела Русского географического
общества (ПО РГО) и их роль в развитии культурной жизни дальневосточного
региона.
31. Открытие во Владивостоке Восточного института. Основы русского востоковедения
на Дальнем Востоке: имена профессоров-востоковедов и характеристика научных
направлений (А.В. Гребенщиков, Н.В. Кюнер, А.В. Рудаков, Г.Ц. Цыбиков и др. – по
выбору).
32. Русская православная церковь и развитие культуры на Дальнем Востоке:
необходимость церковного строительства, разделение Камчатской епархии и его
последствия.
33. Зарождение и развитие художественной культуры на Дальнем Востоке в
дооктябрьский период: музыкальное искусство. Роль Владивостока как города-порта:
флот и военно-морская значимость. Формирование отечественной профессиональной
музыкальной культуры: имена, направления.
34. Зарождение и развитие художественной культуры на Дальнем Востоке в
дооктябрьский период: театральное искусство. Истоки, имена, первые постановки.
Театральное строительство во Владивостоке.
35. Зарождение и развитие художественной культуры на Дальнем Востоке в
дооктябрьский период: изобразительное искусство. Выставки, имена, названия. Роль
Общества изучения Амурского края (ОИАК). Жанровая своеобразие дальневосточной
живописи.
36. Зарождение литературы на Дальнем Востоке: истоки дальневосточной темы в русской
литературе. Первые литераторы Дальнего Востока. Роль периодической печати в
зарождении и развитии культуры на Дальнем Востоке.
37. Традиционная культура русского населения Дальнего Востока ХVII-начала ХХ века:
первые засельщики Дальнего Востока, ареалы восточнославянской культуры
(северный и южный типы).
38. История изучения русской народной культуры на Дальнем Востоке: имена
исследователей и их основные труды (досоветский и советский периоды).
39. Культура русского казачества на Дальнем Востоке: группы формирования
дальневосточного казачества. Традиционный компонент и влияние коренных народов.
Очаги традиционной русской культуры (северо-восточная группа: Колыма, Анадырь)
и влияние на духовную жизнь местного населения. Язык и народно-бытовая культура
юга Дальнего Востока (песенный фольклор, свадебные песни, необрядовая лирика и
частушки и др.).
40. Специфика традиционной крестьянской культуры на Дальнем Востоке: состав
дальневосточного крестьянства (конфессиональные объединения). Православное
население, старообрядцы, молокане. Культурные ценности и хозяйственные
традиции.
41. Поселения и постройки Дальнего Востока (основные типы поселений): северные
промысловые и южные земледельческие районы. Сугубо местные особенности в
хозяйственном комплексе русского быта.
42. Традиционная народная обрядность (праздники, составляющие основу традиционного
русского календаря, семейная, свадебная обрядность).
43. Необрядовый фольклорный быт: песенный фольклор (разнообразие песенных
жанров), прозаические жанры фольклора (рассказы о происхождении топонимов).
ЧАСТЬ 2
Подготовка к контрольным заданиям по рейтинговой системе оценок
Контрольные вопросы культуре Дальнего Востока России
I вариант
1. Отечественная общественная мысль о Дальнем Востоке России в ХVII – первой
половине ХIХ в: два основных направления (правительственное и демократическое) в
отечественной историографии открытия и первоначального освоения русскими людьми
Дальнего Востока в указанный период. Характеристика зарубежной историографии
(кратко) о русском Дальнем Востоке ХVII – ХIХ в. Ошибки и заблуждения.
2. Характерные особенности семейных обрядов и обычаев коренного населения Дальнего
Востока.
II вариант
1. Своеобразие продвижения русских людей на восток в ХVШ - ХIХ вв. (Великие
географические открытия русских людей на Дальнем Востоке, в Северной части Тихого
океана и на Аляске в ХVШ в.; основные русские научные экспедиции по изучению
Сахалина, Курильских островов и Амура в ХIХ в.).
2. Периодизация развития русской культуры на Дальнем Востоке России в ХVII – ХХ вв.
Ш вариант
1. Историко-этнографические области коренных народностей Дальнего Востока,
историко-культурная характеристика этих народностей (традиционная материальная
культура: жилище, традиционная одежда народов Дальнего Востока в разных
климатических областях).
2. Принятие Нерчинского договора 1689 г. между Россией и Китаем и его последствия
для Приамурья.
IV вариант
1. Причины и начала, определившие движение русских людей в Сибирь и на Дальний
Восток в ХVII в. Основные центры сосредоточения русских людей на Дальнем Востоке в
ХVII в.
2. История изучения народностей Дальнего Востока: имена исследователей культуры
Дальнего Востока и их основные труды.
V вариант
1. Особенности религиозных верований и народных знаний у аборигенного населения
Дальнего Востока (шаманизм). Устное народное творчество и фольклор народов Дальнего
Востока. Классификация жанров.
2. Состав населения и виды хозяйственной деятельности русских людей на Дальнем
Востоке в ХVII в.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
<ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВФУ>
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
по дисциплине «История литературы и культуры Дальнего Востока России»
031000.62 - «Филология»
г. Владивосток
2011
Часть 1 (3 семестр)
Основная литература
1. Забияко, А. А. В. Меж двух миров: Русские писатели в Маньчжурии: моногр. / А. А
Забияко, Г. В. Эфендиева. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2009. – 352 с.
2. Кириллова, Е.О. Дальневосточная гавань русского футуризма. Книга первая.
Модернистские течения в литературе Дальнего Востока России 1917-1922 гг.
(поэтические имена, идейно-художественные искания): монография / Е.О. Кириллова. –
Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2011. – 636 с.
3. Якимова, С.И. Литература русского зарубежья Дальнего Востока: учебное пособие /
С.И. Якимова - 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009. –
111 с.
Дополнительная литература
(учебники выделены)
1. Азадовский М.К. Сибирские страницы. – Иркутск, 1988.
2. Александров А. Первый поэт Владивостока // Красное Знамя. 1989. 1 октября.
3. Алексеев А.И. Геннадий Иванович Невельской. 1813 – 1876. – Москва: Наука, 1984. –
192 с.
4. Алексеев А.И. Сподвижники Г.И. Невельского. – Южно-Сахалинск, 1967.
5. Алексеев А.И. Хозяйка залива Счастье. – Хабаровск, 1981.
6. Антология поэзии Дальнего Востока / Сост. В. Пузырев, Ю. Иванов. – Хабаровск:
Хабаровск. кн. изд-во, 1967. – 479 с.
7. Васильев В.П. Сквозь магический кристалл. Камчатка в художественной литературе. –
Петропавловск-Камчатский, 1993.
8. Вильчинский В. Русские писатели-маринисты. – М.; Л., 1966.
9. Героическая поэзия гражданской войны в Сибири / Сост. Л.Е. Элиасов. –
Новосибирск: Наука, 1982. – 337 с.
10. Дворниченко Н.Е. Вчера и сегодня забайкальской литературы: Статьи, очерки,
портреты. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1982. – 272 с.
11. Евтушенко В.П. Древо плодоносящее: Биография уникальной литературной династии
Матвеевых / В.П. Евтушенко. – Владивосток: Изд-во «Делин», 2004. – 186 с.
12. Иващенко Л.Я. Исторические аспекты создания и развития многонациональной
художественной литературы на Дальнем Востоке России. 1917 – середина 1980 годов:
Очерки. – Владивосток: Дальнаука, 1995. – 223 с.
13. Иващенко Л.Я. Корни мужества. – Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во,
1980. – 143 с.
14. Иващенко Л.Я. Советское государство – организатор многонационального
литературно-художественного творчества на Дальнем Востоке в эпоху строительства
социализма в СССР (1917-1977): Монография. – Хабаровск: Хабаровское книжное
издательство, 1987. – 216 с.
15. Крившенко С. Берег Отечества: Литературно-критические статьи. – Москва:
Современник, 1988. – 413 с.
16. Крившенко С.Ф. «И слушаю рокот прибоя…» (О П. Гомзякове) // Дальний Восток.
1998. – № 3-4. – С. 238-251.
17. Крившенко С.Ф. Дальневосточная тема в русской литературе конца ХIХ века
(Творчество А.Я. Максимова) // История культуры Дальнего Востока СССР. ХVII –
ХХ вв. Дооктябрьский период. – Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. – С. 105-121.
18. Крившенко С.Ф. Дорогами землепроходцев. – Хабаровск: Хабаровское книжное
издательство, 1984. – 192 с.
19. Крившенко С.Ф. История русской литературы Дальнего Востока России:
Программа и методические указания для студентов-филологов и учителей
русской словесности. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1994. – 52 с.
20. Крившенко С.Ф. Писатели Приморья. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005.
21. Крившенко С.Ф. Плавать по морю необходимо. Русские мореплаватели в жизни
и литературе: Документально-исторические очерки. – Владивосток: «Дюма»,
2001. – 247 с.
22. Кузьмичев И. Писатель Арсеньев. – Ленинград, 1977.
23. Лелаус В.В. Исторические романы Вс.Н. Иванова «Черные люди» и «Александр
Пушкин и его время». Концепция национального характера. Проблема жанровых
модификаций. Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Владивосток, 2001. – 23 с.
24. Литературная Сибирь: Критико-биобиблиографический словарь писателей Восточной
Сибири / Составители В.П. Трушкин, В.Г. Волкова. - Иркутск: Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1986. – 304 с.
25. Лобычев А.М. На краю русской речи: Статьи, рецензии, эссе. – Владивосток:
Альманах Рубеж, 2007. – 336 с.
26. Лосев А. Приамурье в художественной литературе. Аннотированный указатель. –
Благовещенск, 1963.
27. Пайчадзе С.А. Книга Дальнего Востока: Очерк истории. – Хабаровск, 1983.
28. Пайчадзе С.А. Книжное дело на Дальнем Востоке: Дооктябр. период. – Новосибирск,
1991.
29. Писатели Дальнего Востока: Биобиблиографический справочник / Составитель Е.М.
Аленкина. - Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1973. – 304 с.
30. Плотникова Н.И. В.К. Арсеньев: Творческая индивидуальность писателя. Жанровое
своеобразие прозы. Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Владивосток, 2003. – 22 с.
31. Подвиг русской женщины на Амуре (Краткая история жизни, любви и верности
Екатерины Ивановны Невельской по ее письмам родным, письмам и воспоминаниям
современников и другим источникам) / Авт.-сост. Н. Троян. – Владивосток: Русский
Остров, 2008. – 120 с.
32. Пузырев В.Г. Проблемы истории русской советской литературы на Дальнем Востоке
(1917 – 1941 гг.) (Идейно-тематические и стилевые особенности): Дис. … докт. филол.
н. - Москва, 1971. – 340 с.
33. Русская литература Сибири. 1917 – 1970 гг. Библиографический указатель. Часть II. Новосибирск: «Наука», 1977. – 482 с.
34. Русская литература Сибири. Библиографический указатель. Часть I. – Новосибирск,
1976.
35. Старовойтов Н.В. Формирование художественных принципов В.К. Арсеньева и
жанровое своеобразие его творчества // Вопросы журналистики и литературы. –
Владивосток, 1972.
36. Сто лет поэзии Приморья. Антология / Сост. В.М. Тыцких, С.Ф. Крившенко, А.В.
Колесов. - Владивосток: Издательство «Уссури», 1998. – 296 с.
37. Творчество А.А. Фадеева в контексте русской литературы ХХ века: Материалы
юбилейной научной конференции: Владивосток, сент. 2001. – Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та, 2002. – 208 с.
38. Тропами таежными / Сост. С.И. Красноштанов. – Хабаровск: Хабаровское книжное
издательство, 1969.
39. Трусова И.С. «Если ветер в лицо плеснул…». Литературный Владивосток 20-х годов.
Творчество Арсения Несмелова владивостокского периода // Заветный край.
Литературный альманах. – Владивосток, 1998. № 1. – С. 170-179.
40. Трушкин В.П. Из пламени и света… Гражданская война и литература Сибири.
Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1976. – 368 с.
41. Туманное зеркало времени. Футуристы на Дальнем Востоке. – Хабаровск:
Хабаровский краеведческий музей, 2002. – 72 с.
42. Хайруллина О.Н. Очерк второй половины 19 века: жанрово-стилевая характеристика
(На материале очерков о российском Дальнем Востоке). Автореф. дис. … канд. филол.
наук. – Владивосток, 2001. – 22 с.
43. Хисамутдинов А. Мир библиотеки. – Владивосток, 1990
44. Хрестоматия по истории Дальнего Востока. Книга I. – Владивосток:
Дальневосточное книжное изд-во, 1982. – 655 с.
45. Хрестоматия по истории Дальнего Востока. Книга II. – Владивосток:
Дальневосточное книжное изд-во, 1983. – 608 с.
Электронные ресурсы
1. Их дальний путь лежал в изгнанье… : антология-хрестоматия произведений литературы
и журналистики русского зарубежья Дальнего Востока / авт.-сост. С.И. Якимова, Е.С.
Бабкина, Н.А. Выхованец, И.Ю. Ковальчук, Н.П. Котельникова, А.В. Тепляшина, А.Х.
Юсупова; под науч. ред. проф. С.И. Якимовой; вступ. статья С.И. Якимовой. - Хабаровск :
Изд-во
Тихоокеан.
гос.
ун-та,
2011.
275
с.
Режим
доступа
http://window.edu.ru/resource/384/77384
2. Трусова И.С. Методические рекомендации к изучению дисциплины «Литература
Дальнего Востока». – Владивосток: МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, 2008. – 19 с.
http://window.edu.ru/resource/634/61634
3. Якимова, С.И. Литература русского зарубежья Дальнего Востока: учебное пособие /
С.И. Якимова - 2-е изд., перераб. и доп. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009.111 с. Режим доступа http://window.edu.ru/resource/383/77383
Часть 2 (4 семестр)
Основная литература
1. История культуры Дальнего Востока России (ХIХ в. – 1917 г.). / [Л. Е. Фетисова, Г. А.
Андриец, В. А. Королева и др.; отв. ред.: Л. И. Галлямова, Л. Е. Фетисова]; Российская
академия наук, Дальневосточное отделение, Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока. – Владивосток: Дальнаука, 2011. – 300 с.
2. Кириллова, Е.О. Дальневосточная гавань русского футуризма. Книга первая.
Модернистские течения в литературе Дальнего Востока России 1917-1922 гг.
(поэтические имена, идейно-художественные искания): моногр. / Е. О. Кириллова. –
Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2011. – 636 с.
3. Подмаскин, В.В. Народные знания ороков (уйльта) // Россия и АТР: научный журнал:
гуманитарные проблемы стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) 2011. - № 1. - С.
107-113.
4. Подмаскин, В.В. Удэгейские мифы, легенды, сказки / В.В. Подмаскин, И.В. Киреева. –
Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2010. – 216 с.
Дополнительная литература
(учебники выделены)
1. Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина ХVII в.). –
Хабаровск, 1984.
2. Алексеев А.И. Амурская экспедиция 1849-1855 гг. – Москва, 1974.
3. Алексеев А.И. Берегова черта. – Магадан, 1987.
4. Алексеев А.И. Бошняк и открытие Советской гавани. – Хабаровск, 1955.
5. Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки. –
Москва: «Наука», 1982. – 288 с.
6. Алексеев А.И. Охотск – колыбель русского Тихоокеанского флота. – Хабаровск, 1958.
7. Алексеев А.И. По таежным тропам Сахалина. – Южно-Сахалинск, 1959.
8. Алексеев А.И. Русские географические исследования на Дальнем Востоке и в Северной
Америке (ХIХ – начало ХХ в.). – Москва, 1976.
9. Алексеев А.И. Судьба русской америки. – Магадан, 1975.
10. Алексеев А.И. Сыны отважные России. – Магадан, 1970.
11. Амур – река подвигов: Художественно-документальное повествование о Приамурской
земле, ее первопроходцах, защитниках и преобразователях. – Хабаровск, 1970.
12. Апостол нашего времени: Жизнь и апостольские труды митрополита Иннокентия
(Вениаминова). – Москва, 1996.
13. Березницкий С.В. Этнические компоненты верований и ритуалов коренных народов
амуро-сахалинского региона. – Владивосток: Дальнаука, 2003. – 486 с.
14. Богораз В.Г. Чукчи. Ч. 1. – Москва; Ленинград, 1934; Ч. 2. – Москва; Ленинград, 1939.
15. Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку. 1732 – 1799. – Москва, 1991.
16. Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски. 1834 – 1867. –
Москва, 1990.
17. Вахрин С.И. Предыстория Камчатской епархии (1705-1840 гг.) // Русская
Православная Церковь в истории Дальнего Востока и Русской Америки. – Владивосток,
1997.
18. Владивосток. Путеводитель по городу. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1993.
– 254 с.
19. Владивосток. Штрихи к портрету / Отв. редактор В.А. Дудко. – Владивосток:
Дальневосточное книжное изд-во, 1985. – 303 с.
20. Георгиевский А.П. Русские на Дальнем Востоке: Фольклор Приморья. – Владивосток,
1929. Вып. 4
21. Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. историография Сибири дооктябрьского периода:
конец ХVI – начало ХХ вв. – Новосибирск, 1984.
22. Груздев А.И. Хроника освоения Россией Дальнего Востока и Тихого океана. 16391989. – Владивосток, 1989.
23. Есаков В.А., Плахотник А.Ф., Алексеев А.И. Русские океанические исследования в
ХIХ – начале ХХ в. – Москва, 1964.
24. Жорницкая М.Я. Народное хореографическое искусство коренного населения СевероВостока СССР как историко-этнографический источник. – Москва, 1979.
25. Забытые имена: История Дальнего Востока России в лицах. – Владивосток, 1994, Вып.
1.
26. Забытые имена: История Дальнего Востока России в лицах. – Владивосток, 1997, Вып.
2.
27. История Дальнего Востока России. Книга 1. Дальний Восток России в период
революций 1917 года и гражданской войны. – Владивосток: Дальнаука, 2003. – 632 с.
28. История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (ХVII в. –
февраль 1917 г). – Москва: Наука, 1990. – 471 с.
29. История и культура коряков: Историко-этнографические очерки. / Под общ. ред. А.И.
Крушанова. – Санкт-Петербург: «Наука», 1993. – 236 с.
30. История и культура народов Дальнего Востока. – Южно-Сахалинск, 1973. – 311 с.
31. История и культура орочей: Историко-этнографические очерки. – Санкт-Петербург:
«Наука», 2001. – 172 с.
32. История культуры Дальнего Востока России ХVII – начала ХХ века: Сб. науч. тр. –
Владивосток, 1996.
33. История культуры Дальнего Востока СССР ХVII – ХХ вв. Дооктябрьский период. –
Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. – 200 с.
34. История культуры Дальнего Востока СССР ХVII-ХХ веков. Советский период. –
Владивосток: ДВО АН СССР, 1990. – 200 с.
35. История российского Приморья: Учебное пособие для 8-9-х кл. общеобразов. учрежд.
всех типов. – Владивосток: Дальнаука, 1998. – 248 с.
36. Кабузан В.М. Дальневосточный край в ХVII – начале ХХ в. (1640-1917): Историкодемографический очерк. – Москва, 1985.
37. Калиберова Т.Н. Прогулки по Владивостоку. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. –
184 с.
38. Кандыба В.И. История становления и развития художественной жизни Дальнего
Востока (1858 – 1938 гг.). – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1985. – 175 с.
39. Карабанова С.Ф. Танцы малых народов юга Дальнего Востока СССР как историкоэтнографический источник. – Москва, 1979.
40. Кириллова Е.О. Литературно-художественное общество Дальнего Востока (ЛХО ДВ)
во Владивостоке и его роль в истории культурной жизни края начала 1920-х годов //
Культура и культурология на Дальнем Востоке. Материалы регионального научного
семинара, посвященного 15-летию кафедры культурологии. 19 ноября 2004 г. –
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. – 96 с. – С. 42-47.
41. Колумбы земли русской: Сборник документальных описаний об открытии и изучении
Сибири, Дальнего Востока и Севера в ХVII-ХVIII вв. – Хабаровск, 1989. – 462 c.
42. Королева В.А. Музыкальная культура Дальнего Востока России. Книга первая: На
рубеже эпох (1880-е – 1917) – (1917 – 1920-е). – Владивосток: Дальнаука, 2004. – 272 с.
43. Костанов А. Русская Православная Церковь на Сахалине и Курильских островах: Ист.
очерк. – Южно-Сахалинск, 1992.
44. Кочешков Н.В. Декоративное искусство народов Нижнего Амура и Сахалина ХIХ-ХХ
вв.: Проблемы этническтх традиций. – СПб, 1995.
45. Кочешков Н.В. Типология традиционной культуры народов Северо-Восточной Азии
(ХIХ – середина ХХ века). – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. – 168 с.
46. Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки, с приложением рапортов, донесений
и других неопубликованных материалов. – Москва; Ленинград, 1949.
47. Кукель-Краевский Н.В. Три века на службе Родине. Из истории древнего русского
рода. – Омск, 2003.
48. Культура Дальнего Востока и стран АТР: Восток-Запад: Материалы научной
конференции 25-26 апреля 2001 года. Вып. 8. – Владивосток: ДВГАИ, 2002. – 288 с.
49. Культура Дальнего Востока и стран АТР: Восток-Запад: Материалы научных
конференций 24-25 апреля 2002-2003 гг. Вып. 9, 10. – Владивосток: Изд-во Дальневост.
ун-та, 2004. – 400 с.
50. Культура Дальнего Востока. ХIХ-ХХ вв. Сборник научных трудов. – Владивосток:
Дальнаука, 1992. – 191 с.
51. Лопатин И.А. Гольды амурские, уссурийские, сунгарийские. – Владивосток, 1922.
52. Материальная культура народов Сибири и Севера (вторая половина ХIХ – начало ХХ
века). – Ленинград, 1977.
53. Мезенцева С.В. Музыкальная культура аборигенов Дальнего Востока России. –
Хабаровск: Хабаровский гос. ин-т искусств и культуры, 2010. – 112 с.
54. Мизь Н.Г. Покровский некрополь Владивостока. – Владивосток, 2002. – 75 с.
55. Мизь Н.Г., Турмов Г.П. Страницы забытой истории. – Владивосток, 2000.
56. Модернизм Российского Дальнего Востока (1918-1928): Каталог. – Токио: Токио
Шинбун, 2002. – 254 с. (на японском и англ. языках) (Статьи: Турчинская Е.Ю. «Зеленая
кошка». С. 186-193; Козлова Л.Г. «В поисках нового (Изобразительное искусство
Дальнего Востока 1918-1928 гг. в контексте истории русского футуризма)». С. 200-206;
Мизь Н.Г. «Владивосток. Пропаганда авангарда и революции» С. 194-199).
57. Народы Дальнего Востока СССР в ХVII-ХХ в.: Историко-этнографические очерки. –
Москва, 1985.
58. Одежда народов Сибири. – Ленинград, 1970.
59. Ососков А.В. Начальное образование в дореволюционной России (1861-1917). –
Москва, 1982.
60. Памятники истории и культуры Приморского края (аннотированный список) / Под
общ. ред. А.И. Крушанова. – Владивосток: Дальневост. книжное издательство. – 248 с.
61. Памятники культуры народов Сибири и Севера (вторая половина ХIХ – начало ХХ
века). – Ленинград, 1977.
62. По родному краю. – Владивосток: Дальневост. книжное изд-во, 1973. – 318 с. (К.И.
Максимов, М.И. Венюков, Р.К. Маак, А.Ф. Будищев, Н.М. Пржевальский, В.Л. Комаров,
В.К. Арсеньев, А.И. Куренцов, Л.Г. Капланов и др.).
63. Приморский край: Краткий энциклопедический справочник. – Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та, 1997. – 596 с.
64. Прудкогляд Т.В. Печать Дальнего Востока России как фактор культуры (1907 февраль 1917 гг.). – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. – 76 с.
65. Религия и власть на Дальнем Востоке России: Сборник документов Государственного
архива Хабаровского края. – Хабаровск: Частная коллекция, 2001. – 400 с.
66. Русская Православная Церковь в истории Дальнего Востока и Русской Америки: Сб.
науч. тр. – Владивосток, 1997.
67. Русская Православная Церковь в истории Дальнего Востока и Русской Америки. –
Владивосток, 1997.
68. Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в ХVIII – ХIХ вв. – Владивосток, 1992. Т.
1.
69. Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине
ХVIII века. – Москва, 1984.
70. Рыжков А.Н. Подвиги русских людей на Сахалине и Курилах. – Южно-Сахалинск,
1955.
71. Севильгаев Г.Ф. Народное образование в Приморье. – Владивосток, 1989.
72. Севильгаев Г.Ф. Очерки по истории просвещения малых народов Дальнего Востока. –
Ленинград, 1972.
73. Семейная обрядность народов Сибири: Опыт сравнительного изучения. – Москва,
1980.
74. Семенова И.В., Семенов О.В. Карагод широкий: Календарно-обрядовые песни
переселенцев Суражского, Новозыбковского, Стародубского уездов Черниговской
губернии в Приморье. – Владивосток: ПГОМ им. В.К. Арсеньева, 2003. – 125 с.
75. Старцев А.Ф. История социально-экономического и культурного развития удэгейцев
(середина ХIХ – начало ХХ вв.). Монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та,
2000. – 256 с.
76. Стрюченко И.Г. Периодическая печать Дальнего Востока и Забайкалья эпохи
капитализма (1861-1917): Аннот. библиогр. указатель. – Владивосток, 1983.
77. Стрюченко И.Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской
революции (1895-1907). – Владивосток, 1982.
78. Стрюченко И.Г., Кочешков Н.В., Гирийчук В.Я., Фетисова Л.Е., Предатченко
Е.М. История культуры Дальнего Востока России ХVII-ХХ веков. Учеб. пособие. –
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. – 300 с.
79. Традиционная свадьба: Свадебный обряд переселенцев Черниговской губернии в
Приморье. Сост. И.В. Семенова. – Владивосток: Прим. госуд. объединенный музей им.
В.К. Арсеньева, 1998. – 118 с.
80. Турмов Г.П. Владивостокские гастроли Комиссаржевской: истор. очерк. –
Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. – 96 с.
81. Турчинская Е.Ю. Авангард на Дальнем Востоке: «Зеленая кошка», Бурлюк и другие. –
СПб: Алетейя, 2011. – 196 с.
82. Федоров М.М. Правовое положение народов Восточной Сибири (ХVII – начало ХIХ
в.) – Якутск, 1978.
83. Федорова С.Г. Русское население Аляски и Калифорнии. Конец ХVIII века – 1867 г. –
– Москва: «Наука», 1971.
84. Флорич Ф., Винокуров И. Подвиг адмирала Невельского. – Москва, 1951.
85. Хисамутдинов А.А. Белые паруса на Восточном Поморье. – Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та, 2001 – 164 с.
86. Хисамутдинов А.А. Владивосток. Этюды к истории старого города. – Владивосток:
Изд-во Дальневост. ун-та, 1992. – 328 с.
87. Хисамутдинов А.А. «Славные великими делами…» или подвижники края и общества
(1884 – 2009 гг.): справочник. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. – 228 с.
88. Чиж Г.П. Жизнь за Амур. – Иркутск, 1950.
89. Ширина Д.А. Летопись экспедиций Академии наук на Северо-Восток Азии в
дореволюционный период. – Новосибирск, 1983.
90. Шренк Л.И. Об инородцах Амурского края. Т. 1. – СПб, 1883; Т. 2. – СПб, 1899; Т. 3. –
СПб, 1903.
91. Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. – Хабаровск, 1933.
92. Этнические истории народов Севера. – Москва, 1982.
93. Янчева Т.И. Имена Героев Великой Отечественной войны на карте Владивостока:
Краеведческий справочник. – Владивосток: Изд-во ПИППКРО, 2005. – 122 с.
Электронные ресурсы
1. Их дальний путь лежал в изгнанье… : антология-хрестоматия произведений литературы
и журналистики русского зарубежья Дальнего Востока / авт.-сост. С.И. Якимова, Е.С.
Бабкина, Н.А. Выхованец, И.Ю. Ковальчук, Н.П. Котельникова, А.В. Тепляшина, А.Х.
Юсупова; под науч. ред. проф. С.И. Якимовой; вступ. статья С.И. Якимовой. - Хабаровск :
Изд-во
Тихоокеан.
гос.
ун-та,
2011.
275
с.
Режим
доступа
http://window.edu.ru/resource/384/77384