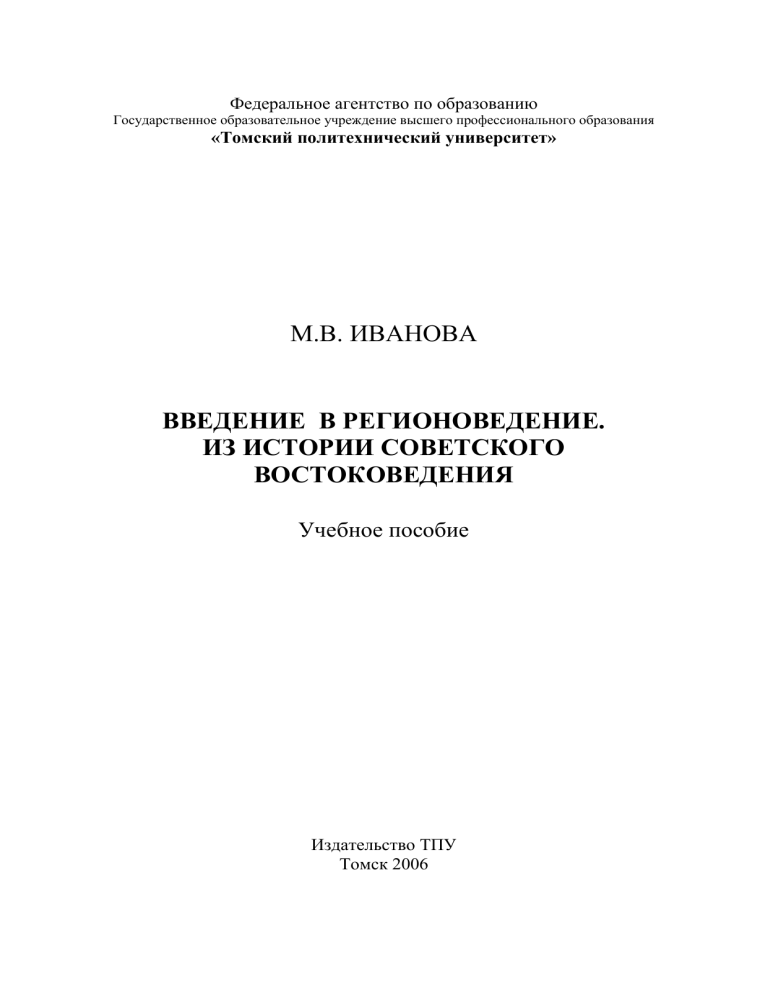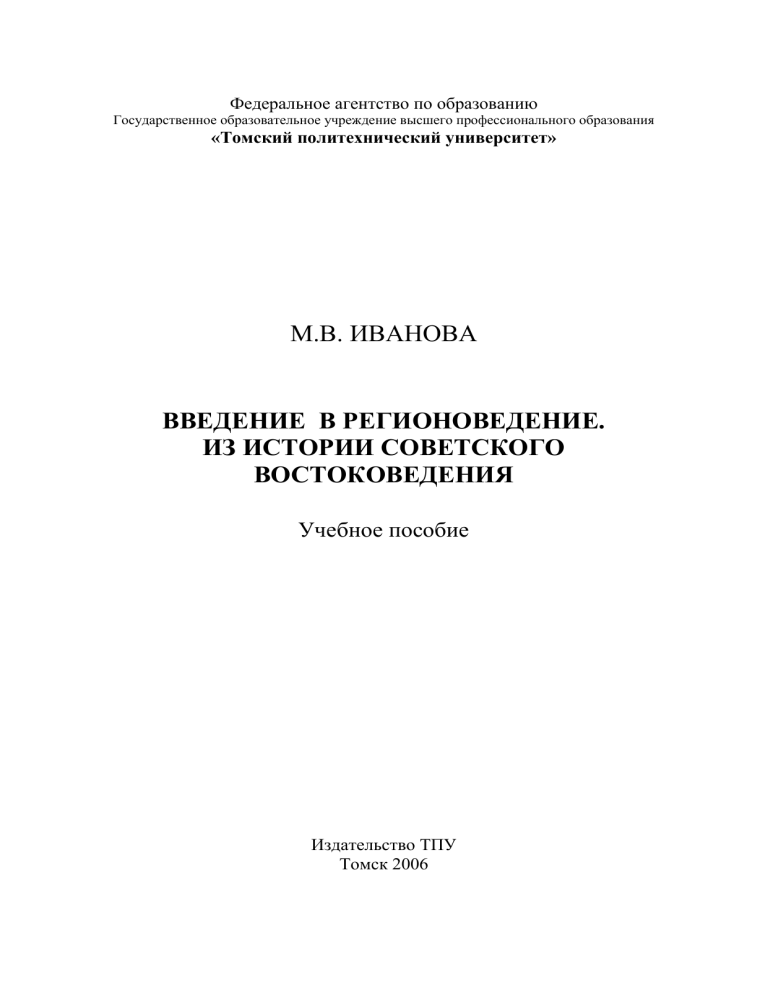
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Томский политехнический университет»
М.В. ИВАНОВА
ВВЕДЕНИЕ В РЕГИОНОВЕДЕНИЕ.
ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Учебное пособие
Издательство ТПУ
Томск 2006
ББК: Т3 (0) Я 7
И 21
И 21
Иванова М.В. Введение в регионоведение. Из истории советского
востоковедения: учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 85 с.
В пособии рассматривается организационная структура
советского востоковедения, раскрывается процесс утверждения
партийного идеологического диктата и насаждения формационного
методологического монизма в этой области обществоведения,
прослеживается тематическая направленность востоковедных
исследований в СССР, обращается внимание на поиск путей
обновления методологических подходов к познанию Востока,
предпринятый учеными в 1960–1980-е гг. В работу включены также
справочно-биографические материалы по ряду известных ученых.
Пособие подготовлено на кафедре истории и регионоведения ТПУ и предназначено для студентов специальности «Регионоведение».
ББК: Т3 (0) Я7
И 21
Рекомендовано к печати Редакционно-издательским советом
Томского политехнического университета
Рецензенты
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории и
документоведения ТГУ
Куперт Ю.В.
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории и
документоведения ТГУ
Харусь О.А.
© Томский политехнический университет, 2006
© Оформление. Издательство ТПУ, 2006
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ………………………………………………………………...
4
Раздел 1. Советское востоковедение: научные и учебные
востоковедные центры, тематическая направленность,
методологические основания (1917 – конец 1980-х гг.) ……................... 5
1.1.
1917– начало 1930-х гг.: «старая» школа и становление
марксистского востоковедения ………………………………... 5
1.2.
Начало 1930-х – конец 1940-х гг.: утверждение марксистских
схем и подходов, идеологический диктат ……………………... 19
1.3.
1950-е – конец 1980-х гг.: идеологический догматизм и поиски
путей обновления концептуальных подходов к
Востоку …………………………………………………………...
35
Раздел 2. Советское востоковедение в лицах …………………………
47
Литература ……………………………………………………………..
83
ВВЕДЕНИЕ
Данное пособие предназначено для студентов специальности
«Регионоведение», изучающих курс «Введение в регионоведение». В
нем раскрываются основные вехи становления и развития советского
востоковедения.
Программа курса «Введение в регионоведение», разработанная в
МГИМО на основе Государственного образовательного стандарта,
обращает внимание на необходимость изучения студентамирегионоведами истории регионоведения. Специализация студентоврегионоведов, обучающихся в Томском политехническом университете,
– Азиатско-Тихоокеанский регион, являющийся частью Востока.
Поэтому обращение именно к истории востоковедения представляется в
этой связи вполне логичным.
Разумеется, востоковедение в нашей стране стало развиваться
задолго до 1917 г. История дореволюционного востоковедения
освещена в целом ряде работ. Среди них – «История отечественного
востоковедения до середины XIX в.» (Шаститко П.М., Вигасин А.А. и
др. – М., 1990); «История отечественного востоковедения с середины
XIX в. до 1917 г.» (Вигасин А.А., Базияну А.П., Дриздо А.Д. – М.,
1997); «Восточный институт во Владивостоке (1899–1920) и его
профессора» (Кочешков Н.В. – Владивосток: Издательство ДВГТУ,
1999). Некоторые страницы дореволюционного востоковедения
раскрыты в пособии «Из истории контактов России со странами
Востока (XVII – начало XX вв.)» (Томск: Изд-во ТПУ, 2003. – С. 86).
Данное пособие является его продолжением.
Пособие состоит из двух разделов. В первом рассматривается
организационная структура советского востоковедения, его основные
научные и учебные центры, раскрывается процесс утверждения
партийного идеологического диктата и насаждения методологического
монизма в этой области обществоведения, прослеживается
тематическая направленность востоковедных исследований в СССР,
обращается внимание на поиск путей обновления формационного
подхода к познанию Востока, предпринятый учеными в 1960–1980-е гг.
Во втором разделе «Советское востоковедение в лицах» проблемы
истории советского востоковедения рассматриваются через призму
судеб ряда советских ученых. Выбор персоналий для этого раздела в
известной степени субъективен, но, тем не менее, он подчиняется
определенным принципам. В разделе представлены организаторы
востоковедной науки, ученые «старой», дореволюционной школы,
продолжавшие
научную
деятельность
в
СССР,
ученые,
сформированные советской школой востоковедения, причем как
работавшие в рамках официально признаваемых концептуальных
подходов, так и пытавшихся творчески переосмыслить их.
Учитывая, что специализация регионоведов в ТПУ – КНР, Корея,
Япония, предпочтение в данном разделе отдано ученым, основной
профиль научных исследований которых связан с этими странами. Все
это обусловливает возможность использования материалов пособия не
только в курсе «Введение в регионоведение».
Пособие представляет собой авторскую обработку фактического и
оценочного исторического материала, имеющегося в опубликованных
литературных источниках. Автор выражает признательность методисту
кафедры истории и регионоведения ТПУ Корняковой А.В. за помощь в
подборе этих источников.
РАЗДЕЛ 1. СОВЕТСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ: НАУЧНЫЕ И
УЧЕБНЫЕ ВОСТОКОВЕДНЫЕ ЦЕНТРЫ, ТЕМАТИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ, КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
(1917 – КОНЕЦ 1980-Х ГГ.)
1.1. 1917 – начало 1930-х гг.: «старая» школа и становление
марксистского востоковедения.
Октябрьская революция внесла, хотя и не сразу, существенные
изменения в положение науки, в том числе и в востоковедение.
Отношение к нему во многом определялось теми установками,
стратегическими задачами, которыми руководствовалась правящая
партия большевиков в своей политике на Востоке – советском и
зарубежном.
Советское государство, как и царская Россия, было
многонациональным. В отношении народов национальных окраин
советская власть ставила задачу ликвидации их экономической и
культурной отсталости. Для ее разрешения, упрочения своего
положения в национальных регионах новая власть нуждалась в помощи
ученых-востоковедов. В первую очередь речь шла о культурном,
государственном строительстве – административно-территориальном
делении, создании алфавитов и т.д.
Важным фактором мирового развития в 20-е гг. XX в. стало
национально-освободительное движение против колониального
угнетения. Воздействие на него Октябрьской революции несомненно.
Советское государство рассматривало национально-освободительное
движение как стратегического союзника мирового пролетариата и
рабочего класса страны Советов в их борьбе против империализма. И
уже первые внешнеполитические заявления и шаги новой власти
показали ее заинтересованность в судьбах колониальных народов,
прежде всего народов Азии. В установлении дружественных, торговых
и дипломатических отношений со странами Востока, налаживании с
ними культурных связей советское правительство также нуждалось в
помощи ученых-востоковедов. Таким образом, и в Советской России
продолжала сохраняться актуальность востоковедения. Но новые
общественные условия не могли не сказаться на положении
востоковедной науки, ее отношениях с властью, государством.
Крупнейшим научным центром востоковедения в Советской
России в первое десятилетие ее существования по-прежнему был
Петроград (Ленинград). Здесь находились восточное
отделение
Академии наук – Азиатский музей, Географическое и Археологическое
общества с восточными отделениями, факультет восточных языков при
университете.
В первые годы после Октября власть не форсировала перестройку
работы Академии наук, в том числе и ее востоковедного отделения.
Главным востоковедным учреждением Академии наук оставался
Азиатский музей. С 1918 г. музей делился на 4 отделения:
1) книги и периодические издания на европейских языках;
2) Азиатский архив;
3) восточные рукописи и книги, изданные на Востоке;
4) нумизматика, эпиграфика, археология.
В Азиатском музее в 1927 г. работали 19 научных сотрудников, 2
практиканта и 4 технических сотрудника (в 1917 г. его штат состоял из
6 научных и 2 технических сотрудников).
Директором Азиатского музея был С.Ф. Ольденбург, его
замещали И.Ю. Крачковский, В.В. Бартольд, Ф.И. Успенский. В отделе
«Мусульманский мир» в 20-е гг. XX в. работали Е.Э. Бертельс,
Н.Я. Марр, в китайском – В.М. Алексеев (с 1929 г. – академик),
К.К. Флуг, среднеазиатском – Б.Я. Владимирцов (в 1929 г. он был
избран действительным членом Академии наук СССР), Н.Н. Попе,
Индией занимался М.И. Тувянский, семитами – С.Е. Винер и т.д.
Большинство сотрудников Азиатского музея одновременно работали в
Ленинградском университете и Ленинградском институте живых
восточных языков, а также в Академии истории материальной
культуры.
По инициативе Азиатского музея в 1921 г. была создана Коллегия
востоковедов, которая по решению общего собрания Академии наук
перешла в ведение музея. Целями Коллегии стали более тесное
сплочение востоковедов (в первые годы после Октября объединяющего
центра востоковедов не было), лучшая организация их деятельности,
повышение качества научной продукции. Коллегия просуществовала до
1930 г.
Коллегия востоковедов имела свой печатный орган – «Записки
Коллегии востоковедов», выходившие под редакцией В.В. Бартольда.
Свет увидели пять томов «Записок» (пятый, посвященный
И.Ю. Крачковскому, появился уже после закрытия Коллегии).
Востоковеды были одними из первых, кто начал восстанавливать
прерванные во время революции и гражданской войны научные связи и
поддерживать международные контакты. Этому, безусловно,
способствовал декрет СНК «О предоставлении высшим учебным
заведениям и научным учреждениям права обмена научными изданиями
с высшими учебными заведениями и научными учреждениями других
стран» (1923 г.). В 1923 г. в Париж на празднование столетия
Азиатского общества и столетия расшифровки египетских иероглифов
выезжали С.Ф. Ольденбург, В.М. Алексеев, в апреле 1923 г. в Брюссель
на V Международный конгресс историков – В.В. Бартольд, Е.В. Тарле, в
Берлин в 1923 г. по приглашению Германского общества
востоковедения – Ф.И. Щербатской, в 1928 г. на XVII Международный
конгресс ориенталистов в Оксфорд – В.М. Алексеев и т.д.
Были в 1920-е гг., хотя и редкие, визиты в СССР зарубежных
востоковедов, осуществлялась переписка с некоторыми из них.
Коллегия востоковедов, объединявшая в своих рядах
профессоров, преподавателей, осуществляла в основном функции,
связанные с оказанием помощи в учебно-педагогической и научной
работе востоковедов. Но стать реальным центром объединения всех
востоковедных сил страны она не смогла. Во-первых, потому, что
состав ее ограничивался профессорско-преподавательскими кадрами и,
таким образом, вне поля зрения Коллегии оставались практические
работники, занимавшиеся изучением Востока. Во-вторых, – и это,
пожалуй, главное – власть нуждалась в такой объединительной
структуре, которая стала бы лабораторией нового революционного
востоковедения. Возникшая в недрах Академии наук Коллегия
востоковедов на эту роль по определению не годилась.
В 1920-е гг. в Академии наук, кроме Азиатского музея и Коллегии
востоковедов, были и другие учреждения, ориентированные на
изучение Востока. Среди них – Институт яфетических языков (основан
в 1921 г.), Институт буддийской культуры, Тюркологический кабинет.
Предполагалось открыть также Иранский и Синологический кабинеты.
Восток изучался также в Тихоокеанском комитете, специальных
комиссиях по исследованию советских восточных республик. При
общем собрании Академии наук имелась Постоянная комиссия по
изучению племенного состава населения России с четырьмя отделами –
европейским, кавказским, сибирским, туркестанским (три последних
отдела имели непосредственное отношение к востоковедению). Эта
Комиссия была организована в 1917 г. и просуществовала до 1929 г.
Комиссия имела свой печатный орган «Известия».
Востоковедная тематика занимала видное место в исследованиях,
осуществляемых в Музее антропологии и этнографии. Перечисленными
научными учреждениями перечень востоковедных академических
центров далеко не исчерпывается. Таким образом, можно говорить о
тенденции к узкой специализации и дифференциации в отечественном
востоковедении 1920-х гг.
Эта тенденция активно поддерживалась В.В. Бартольдом,
Н.Я. Марром.
По мнению В.В. Бартольда, для дальнейшего развития
востоковедения узкая специализация – необходимый шаг к новому его
качеству. Активным оппонентом «дробления» востоковедения был
В.М. Алексеев.
В целом, как видно, академическое востоковедение в 1920-е гг.
находилось в поисках новых форм своей организации.
Одной из форм работы Азиатского музея в 1920-е гг. была
организация выставок: в 1919 г. – Первой буддийской, заупокойного
культа древнего Египта, в 1922 г. – Сасанидских древностей, в 1925 г. –
персидской миниатюры, истории китайской книги, среднеазиатской и
индийской письменности и др.
Востоковедные учреждения АН тесно контактировали с рядом
неакадемических
научно-исследовательских
центров:
Научноисследовательским институтом этнических и национальных культур
народов Востока СССР (образован в 1927 г.), Государственным
институтом истории искусств (в 1921 г. он был преобразован из
высшего учебного заведения в НИИ и уделял большое внимание
изучению искусств народов Востока), Институтом сравнительной
истории, литературы и языка Запада и Востока, Государственным
Эрмитажем, Музеем восточных культур (открыт в 1927 г. на базе
преобразованного Музея искусств Востока в Москве).
В этих научных центрах, как и в других, широко использовался
опыт востоковедов старшего поколения. Многие из них продолжали
работать в советских научных и учебных заведениях, но далеко не все
ученые старой царской школы приняли советскую власть и – тем более
– те методологические принципы, которые привносились этой властью
в науку.
В.А. Гордлевский (1876–1956), известный тюрколог, с 1946 г. –
академик), вспоминал: «Нужно прямо сказать, что часть интеллигенции
пошла навстречу новой власти, часть ее саботировала, а часть
выжидала». Многие ученые старой школы с предубеждением
относились прежде всего к изучению проблем современности, не считая
их научными.
Из видных востоковедов Октябрьскую революцию приняли
академик С.Ф. Ольденбург, Н.Я. Марр, профессора А.Е. Крымский,
И.А. Орбели, генерал А.Е. Снесарев, полковник И.Д. Ягелло,
М.О. Аттая.
Дореволюционное востоковедение носило преимущественно
культурно-филологический характер, было обращено в прошлое.
Переориентация его на исследование проблем современности и тем
более на новые концептуальные основания требовала времени.
Своеобразным рычагом воздействия на «старое» востоковедение стала
Всероссийская научная ассоциация востоковедов (ВНАВ).
Декрет ВЦИК о ВНАВ (1921 г.) исходил из того, что в
сложившейся ситуации требуется эффективный орган для обеспечения
научного изучения Востока в контексте новых задач – объединенное
сообщество востоковедов. По мысли создателей, ВНАВ должна была
явиться организационным и руководящим центром востоковедения в
Советском государстве и – это, пожалуй, главное – сплотить ученых
«старой» школы с молодыми востоковедами-марксистами.
В «Положении о ВНАВ» говорилось, что она имеет целью
всестороннее изучение стран Востока – советского и зарубежного, – а
также распространение научных и прикладных знаний о Востоке.
Ассоциации были представлены большие полномочия.
При разработке организационной структуры ВНАВ ее первый
председатель М.П. Павлович ознакомился с работой западных
востоковедных научных обществ. Но ВНАВ, по его мнению, должна
была отличаться от них – сочетать чисто научные цели с содействием
экономическому и духовному раскрепощению Востока, а по отношению
к советскому Востоку осуществлять эти задачи и практически.
В оргбюро ВНАВ вошли М.П. Павлович (председатель),
С.И. Духовский (зав. политико-экономическим отделом), В.А. ГуркоКряжин, И.Н. Бороздин (зав. историко-этнологическим отделом),
А.Ф. Абуков (ученый секретарь), В.К. Трутовский, К.М. Трояновский,
Т.Н. Бройдо. Научная деятельность Ассоциации сосредотачивалась в
двух отделах: политико-экономическом и историко-этнологическом.
Большой резонанс имели мероприятия, проведенные в 1920-е гг.
по инициативе ВНАВ. Среди них – первый всероссийский съезд
египтологов (1922 г.), Первый всесоюзный тюркологический съезд
(1926 г.) с участием зарубежных специалистов, совещания по вопросам
ведения научных работ в Средней Азии, научного изучения проблем
труда и быта женщин Востока (1929г.). Участниками совещаний были
не только ученые-востоковеды, но и представители государственных
органов (Наркоминдела, Главнауки и т.д.), общественных организаций.
Подобные совещания помогали общественным и государственным
структурам проводить работу среди населения восточных советских
республик.
Ассоциация положила начало организации востоковедных ячеек
на всей территории Советского государства. Она стремилась
организационно объединить теоретическое и практическое направления
в востоковедении – при Ассоциации была создана группа сотрудниковкорреспондентов, работавших в зарубежных странах. Они присылали во
ВНАВ разнообразные информационные материалы, налаживали
востоковедную работу на местах. Ассоциация принимала активное
участие в деятельности востоковедных вузов. Так, в 1923 г. была
созвана конференция ректоров этих вузов. Кроме того, представители
ВНАВ рассматривали программы учебных дисциплин, анализировали
организацию их преподавания.
Научная продукция Ассоциации печаталась в журнале «Новый
Восток» (1921–1930 гг.), который считался одним из лучших советских
изданий, имел известность и за рубежом. В журнале публиковались
статьи, в которых рассматривались проблемы классовой борьбы
пролетариата, экономического развития разных стран Востока, их
борьбы против империализма. В материалах журнала было немало
интересных статистических данных по аграрному вопросу,
железнодорожному строительству, выступлениям рабочих и т.д.
Новая тематика нашла отражение и в других изданиях ВНАВ. Под
ее эгидой были выпущены книги о революционном движении на
Востоке, по экономике стран Азии, их государственном устройстве и
социальной структуре. Достаточно красноречивы названия изданных в
то время трудов: «Китай в борьбе за независимость», «Египет в борьбе
за независимость», «Очерки революционного движения в Средней
Азии» и т.п.
Таким образом, ВНАВ утверждала поворот востоковедения к
проблемам
социально-экономического
развития,
национальноосвободительного движения, политики империалистических стран на
Востоке и рассмотрению их сквозь призму марксисткой методологии,
классового анализа.
Но большинство работ, изданных Ассоциацией востоковедения,
носило публицистический характер, не содержало глубокого анализа
общественных
явлений,
отражало
явную
тенденцию
к
социологизированию. Все это было неизбежным следствием незнания
восточных языков многими авторами, невозможности ознакомиться с
местными материалами, отсутствия достаточной информации о
событиях, происходивших на Востоке, стремления подогнать факты под
те или иные положения марксизма.
Эти черты марксистского востоковедения, скептическое
отношение некоторых его представителей к востоковедам старой
школы, к глубокому изучению прошлого обостряли, помимо всего
прочего, отношения между востоковедами дореволюционной и новой
школ. Обе стороны, по словам С.Ф. Ольденбурга, «считали, что стоят на
почве более правильных подходов к делу». И хотя ВНАВ удалось
привлечь к сотрудничеству в «Новом Востоке» В.В. Бартольда
(академик с 1913 г.) и С.Ф. Ольденбурга, но оно было непродолжительным. Соперничество обоих направлений в некоторые годы
принимало достаточно острые формы. Как среди представителей
старого востоковедения (В.Л. Котвич и др.), так и среди востоковедовмарксистов (С.М. Диманштейн и др.) были противники сближения. Так
что, несмотря на достаточно гибкую политику по объединению
«старых» и «новых» востоковедов, которую проводила Ассоциация и
ее председатель М.П. Павлович, их сближение и сотрудничество
налаживалось с большим трудом.
Это обстоятельство, а также сложная политическая обстановка,
непрекращающаяся борьба на
идеологическом фронте, усиление
партийного диктата по отношению к учреждениям науки и культуры
обусловили ликвидацию ВНАВ в 1930 г. В какой-то степени эту
ликвидацию предопределил и субъективный фактор: в 1927 г. умер
глава Ассоциации М.П. Павлович, энергия и деятельность которого
существенно поддерживала ее.
Михаил Павлович Павлович (Вельтман) прошел большую
школу революционной деятельности. Гимназический кружок в
Одесской гимназии в 90-х гг. XIX в., увлечение марксизмом,
пропагандистская работа в Одессе, Кишиневе, участие в революции
1905–1907 гг. (активная пропаганда среди солдат военного гарнизона
Петербурга в 1905 г. с целью подготовки вооруженного восстания),
аресты, эмиграция – это лишь некоторые штрихи биографии
М.П. Павловича как профессионального революционера, причем
обычные для многих, ему подобных, функционеров РСДРП. В
эмиграции М.П. Павлович сотрудничал с меньшевистским изданием
«Голос социал-демократа», публикуя на его страницах статьи, главным
образом, по вопросам международной жизни и политики. Особо его
интересовала политика на Востоке.
Позднее М.П. Павлович писал: «Находясь в Париже, посещал всех
восточных революционеров, младотурок, персидских конституционалистов, индусских эмигрантов, китайских офицеров и т. д… Я сопровождал персидских революционеров – д-ра Абдулла-Мирзу и рабочего
Раим-Заде во время их поездки по Европе, редактировал прокламации
для персидских, китайских, индусских революционеров и сотрудничал в
их журналах и газетах…» (Деятели СССР и революционного движения
России. – М., 1989. – С. 577–578).
После Октябрьской революции М.П. Павлович работал в
Наркомнаце, в Союзе действий и пропаганды народов Востока, в
Восточной торговой палате и др. учреждениях. Одновременно он
занимался
научной
деятельностью.
Многочисленные
работы
М.П. Павловича о колониальной политике империалистических стран, о
социально-экономическом строе некоторых стран Азии, о национальноосвободительном движении на Востоке были в числе первых
марксистских трудов по востоковедению. Среди них – «Империализм и
борьба за великие железнодорожные и морские пути будущего»,
«Борьба за Азию и Африку», «Русско-японская война», «Империализм»,
«Французский империализм».
Выступления и статьи М.П. Павловича о советском
востоковедении были в известном смысле руководящими. Так, в 1926 г.
он писал: «Отличительной чертой молодого советского востоковедения,
несомненно, является то, что оно стремится объяснить все социальные,
политические, культурные процессы, происходящие в странах Востока,
характер развития этих процессов, форму классовой структуры
населения этих стран основными чертами хозяйственной жизни, их
влиянием прошлой истории и т.д., причем вся жизнь современного
Востока изучается советским востоковедением под углом зрения
освободительной борьбы угнетенных народов желтого и черного
континентов против империализма» (Кузнецова Н.А., Кулагина
Л.М. Из истории советского востоковедения. 1917–1967. – М., 1970. –
С. 26.
Но М.П. Павлович при всем этом прекрасно понимал все сильные
и слабые стороны молодых востоковедов и считал, что представителям
марксистского направления не мешало бы поучиться кое-чему у
востоковедов старой школы. Его речь на юбилейных торжествах
Академии наук была направлена на то, чтобы показать, как люди его
взглядов умеют ценить заслуги прежнего востоковедения и понимают
всю важность строгости его научных методов. М.П. Павлович, по
мнению С.Ф. Ольденбурга, многое сделал лично, чтобы уменьшить
остроту взаимного чрезмерного критического отношения представителей старого и советского марксистского востоковедения.
Справедливости ради надо отметить, что, проявляя глубокое
уважение к академическому востоковедению, ученым старой школы,
М.П. Павлович в полемическом азарте позволял себе и пренебре-
жительные суждения о значении изучения древних восточных языков и
цивилизаций.
В 1920-е гг. в стране, кроме ВНАВ, существовали и другие
научные общества, комиссии, в той или иной мере связанные с
востоковедением. В 1922 г. в Ташкенте была организована специальная
Научная восточная комиссия при представительствах Наркоминдела и
Наркомвнешторга в Средней Азии. В 1925 г. при Коммунистическом
университете трудящихся Востока возникла научно-исследовательская
группа по изучению Востока, которая в 1927 г. трансформировалась в
Научно-исследовательскую ассоциацию (НИА КУТВа) по разработке
социально-экономических проблем советского и зарубежного Востока.
Ректором её стал Б.З. Шумяцкий.
Борис Захарович Шумяцкий (1886–1938) – видный партийный и
государственный работник. Свою революционную деятельность он
начал в Сибири в годы первой российской революции. В 1923–1925 гг.
он был полпредом Советского государства в Иране. Это обстоятельство,
по всей видимости, сыграло свою роль при назначении Б.З. Шумяцкого
руководителем НИА КУТВа.
Ассоциация создала страноведческие кафедры изучения стран
зарубежного Востока и советских восточных республик. Члены
ассоциации подготовили ряд трудов по Востоку, организовали
экспедиции в Ойротию, Якутию, Таджикистан, Монголию, Туву.
Основным теоретическим и научным журналом КУТВа был с
1927 г. журнал «Революционный Восток». С конца 1920-х гг. он стал
претендовать на роль главного востоковедного органа, определяющего
развитие советской востоковедной работы. Именно члены НИА КУТВа
и журнал «Революционный Восток» в конце 1920-х гг. выступили со
статьями о положении на востоковедном фронте, в которых
подвергались критике авторы, чьи позиции трактовались ими как отход
от марксизма, пропаганда буржуазной идеологии, проявление
необъективности. Совершенно очевидно, что НИА КУТВ таким
образом прокладывала путь к утверждению в отечественном востоковедении методологического и идеологического монизма.
Не все востоковеды соглашались с подобными выступлениями
НИА КУТВа и «Революционного Востока». И это обстоятельство
препятствовало превращению ее в руководящий востоковедный центр.
Создание же такового после прекращения деятельности ВНАВ
марксистски ориентированными востоковедами считалось необходимым делом. В этих условиях заметную роль в сплочении
востоковедов новой школы, координации их деятельности начала
играть Ассоциация марксистов-востоковедов при Коммунистической
академии.
Ассоциация ставила перед собой цели изучения экономики и
политики восточных стран, новых путей национально-революционного
движения и классовой борьбы в странах колониального Востока, а
также путей изживания экономической и культурной отсталости
Советского Востока. Эти проблемы рассматривались на страницах
различных журналов Комакадемии: «На аграрном фронте», «Историкмарксист», «Проблемы Китая», « Революция и национальности» и др.
При некоторых учреждениях были созданы ячейки содействия
Ассоциации марксистов-востоковедов. В Академии наук членами такой
ячейки в 1932 г. были Г.М. Шитов, Ю.Н. Верховский, А.Ф. Искандеров,
Л.С. Пучковский, Н.И. Конрад.
1920-е годы стали и периодом поиска ответов на такие вопросы,
как: где готовить кадры, кого обучать, кому обучать. Потребность в
востоковедных кадрах была велика. Поэтому сейчас даже невозможно
перечислить все учебные заведения, которые открывались в то время,
причём не только в столичных городах, но и на местах.
Преподавание восточных языков в вузах Баку, Ташкента, Киева,
Тифлиса, Казани, Владивостока и др. городов обычно ограничивалось
потребностями того или иного центра. Так, в Ташкенте, Казани, Баку
изучались преимущественно тюркские языки, в Тифлисе – культура
Грузии, во Владивостоке готовились специалисты по Дальнему
Востоку.
В стране, кроме того, существовали многочисленные школы,
курсы с целью подготовки востоковедных кадров. Значительное
количество практических работников готовилось в ведомственных
школах наркоматов внешней торговли, иностранных дел, обороны. Так,
генерал А.Е. Снесарев стал организатором, руководителем и одним из
преподавателей Восточного отделения Военной академии РККА.
Ведущие учебные востоковедные заведения сосредотачивались,
естественно, в столицах. Одним из них был Московский институт
востоковедения. История его создания такова. В сентябре 1920 г.
В.И. Ленин подписал «Постановление об учреждении Центрального
института живых восточных языков» – ЦИЖВЯ. Институт создавался
на базе Лазаревского института восточных языков (одновременно
подобный институт возник и в Петрограде). Директором ЦИЖВЯ
избрали М.О. Аттая – известного московского арабиста.
Михаил Осипович Аттая (1852–1924) – араб по национальности.
Он родился в Дамаске, учился в Бейруте. Родину он вынужден был
покинуть ещё в юношеском возрасте из-за выступлений «в либеральных
органах арабской печати с резкими выпадами против турецкого
деспотизма», участия в тайном обществе «Снятие покрывала». С 1873 г.
М.О. Аттая начинал вести занятия в Лазаревском институте. Встав в
1917 г. на сторону Советской власти, М.О. Аттая одновременно с
преподавательской деятельностью работал над переводами на арабский
язык работ К. Маркса, текущей политической литературы.
ЦИЖВЯ учреждался для преподавания живых восточных языков
и предметов востоковедения. Целью института было предоставление
«возможности лицам, готовящимся к практической деятельности на
Востоке или в связи с Востоком в любой области (экономической,
административно-политической,
агитационной,
дипломатической,
педагогической и др.), приобрести необходимые для них востоковедные
знания и пройти систематическую школу практического востоковедения, а также подготавливать преподавателей и квалифицированных
инструкторов для практических курсов востоковедения». «Положение»
о ЦИЖВЯ предусматривало двухгодичный курс обучения в институте и
«год в командировках на Восток в пределах РСФСР или вне их на
средства института и по его назначению». Для слушателей института,
учебного персонала и служащих устанавливались нормы довольствия,
принятые для курсантов командных курсов РККА (Становление
советского востоковедения: Сб. статей / Отв. ред. А.П. Базиянц. – М.,
1983. – С. 56).
Учебный план, помимо языков, включал страноведческие
дисциплины, политическую экономию, исторический материализм,
историю Коммунистической партии, ленинизм и национальный вопрос,
а также ряд курсов по внешней политике и праву.
В октябре 1921 г. Президиум ВЦИК принял постановление о
слиянии ЦИЖВЯ и восточного отделения университета в одно высшее
учебное заведение – Институт востоковедения.
К созданию нового востоковедного вуза имел прямое отношение
А.М. Горький. Будучи с 1919 г. председателем Петроградской комиссии
по улучшению быта учёных, возглавляя организованное им
издательство «Всемирная литература», А.М. Горький работал в тесном
контакте с такими выдающимися востоковедами, как В.М. Алексеев,
Б.Я. Владимирцов, И.Ю. Крачковский, Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург,
И.А. Орбели.
Ещё в 1910-е гг. А.М. Горький имел переписку с М.П. Павловичем, будущим ректором Московского института востоковедения.
Именно по рекомендации писателя М.П. Павлович тогда опубликовал в
«Знании» статьи по вопросам внешней политики, в том числе по поводу
влияния прусской дипломатии на возникновение русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. В 1912 г. А.М. Горький рекомендовал знаменитому
И.Д. Сытину издать работы М.П. Павловича по вопросам
международной политики.
По воспоминаниям М.П. Павловича, «М. Горький первый обратил
внимание В.И. Ленина на необходимость преобразования старого
Лазаревского института». С середины 1920-х гг. в институте
существовали четыре отделения: Ближнего Востока, Среднего Востока,
языков и наречий Кавказа и Закавказья, Дальнего Востока. В составе
последнего были два сектора – японский и китайский. До середины
30-х гг. целевая установка института оставалась неизменной –
подготовка специалистов по странам Востока для преподавательской,
научно-исследовательской деятельности и, главное, для работы в
различных наркоматах.
В Москве, в отличие от Ленинграда, не было маститых
востоковедов. Из известных учёных в Московском институте
востоковедения преподавали А.И. Иванов, А.Н. Самойлович,
В.А. Гордлевский. Основной костяк преподавателей состоял из
молодых начинающих учёных и специалистов-практиков. Но в
Московском институте более смело разрабатывались социальноэкономические курсы, читались дисциплины, связанные с практическим
востоковедением. В этом плане показательно имя О.В. Плетнера
(1893–1929), который написал несколько исследований по японской
филологии, истории, литературе, театру, положил начало планомерному
изучению экономической истории Японии, в частности аграрного
вопроса, подготовил группу практических работ.
Московский институт востоковедения просуществовал до 1954 г.
В институтах наряду с большой учебной работой велись научные
исследования. В 1920-е гг. она в основном сводилась к созданию
учебных пособий: хрестоматий, словарей, грамматик, сборников по
истории и экономике стран Востока. Были изданы, например, «Выборки
из китайской прессы 1920–1922 гг.» В.М. Алексеева, «Физическая
география Японии» Н.В. Кюнера, «География Индии» А.Е. Снесарева.
Разумеется, в связи с необходимостью формирования
марксистских образованных кадров в востоковедных учебных
заведениях существенно менялись учебные планы. Так, по декрету СНК
от 4 марта 1921 г. «Об установлении общего научного минимума,
обязательного для преподавания во всех высших школах РСФСР»
вводилось чтение трёх обязательных курсов: развитие общественных
форм, исторический материализм, пролетарская революция.
Важную роль в подготовке национальных кадров для проведения
советской политики на местах сыграл Коммунистический университет
трудящихся Востока (КУТВ), созданный в 1921 г. В постановлении
ВЦИК прямо говорилось о том, что он учреждается «для подготовки
политработников из среды трудящихся восточных договорных и
автономных республик, автономных областей, трудовых коммун и
нацменьшинств» (Кузнецова Н.А., Кулагина Л.М. Указ. соч. – С. 18).
Преподавание в КУТВе велось на восточных языках.
Принимались в него главным образом лица из рабоче-крестьянской
среды союзных и автономных республик по рекомендации местных
партийных органов. Таким образом, КУТВ был не обычным учебным
заведением, а партийно-советской школой повышенного типа.
Задача воспитания марксистско образованных преподавательских
кадров востоковедов была возложена правящей партией на Институт
красной профессуры. Он был создан в Москве и Петрограде в 1921 г. по
декрету СНК, подписанному В.И. Лениным. В 1928 г. в Институте при
его историческом отделении появился восточный сектор (секция) для
подготовки специалистов по истории и современным проблемам
советского и зарубежного Востока.
Таким образом, в первое десятилетие после Октябрьской
революции востоковедный сектор в Академии наук в основном
сохранялся в том виде, как он сложился в начале ХХ в. По
свидетельству наркома А.В. Луначарского, «Наркомпрос имел прямые
директивы В.И. Ленина: относиться в Академии бережно и осторожно и
лишь постепенно, не раня её органов, ввести её более прочно и
органично в новое коммунистическое строительство» (Кузнецова Н.А.,
Кулагина Л.М. Указ. соч. – С. 43).
1920-е годы были периодом создания условий для этого
«введения». Правда, как показала практика, оно было отнюдь не
органичным и безболезненным.
Идеологическая проработка «спецов»-учёных дореволюционной
школы стала развёртываться уже в начале 1920-х гг. Тон этой кампании
задавал М.Н. Покровский – «красный профессор». Ратуя за немедленное
обновление
обществоведения
на
принципах
марксизма,
М.Н. Покровский буквально обрушивался на тех учёных, которые либо
не принимали вообще, либо сомневались в тех концептуальных схемах
познания общественных явлений, которые он выстраивал в своих
трудах и которые выдавались им за истинно марксистские. В своих
докладах, многочисленных статьях, публиковавшихся на страницах
«марксистских журналов», М.Н. Покровский и его ученики вели
систематическую атаку на «буржуазную общественную науку»,
«буржуазную историографию».
Наряду с идеологическим давлением на «буржуазных учёных»
власть уже в 1920-х гг. начала прибегать к мерам организационного
характера. В 1922 г. почти 200 учёных и представителей различных
«свободных» профессий были высланы из страны. Среди изгнанных
оказались такие
известные историки, как А.А. Кизеветтер,
А.Ф. Флоровский, В.Я. Микотин, А.П. Карсавин. В списке подлежащих
высылке учёных был и Николай Михайлович Коробков – профессор
Археологического института в Москве, специалист по истории
искусства Древнего Востока, Египта. Высылка Н.М. Коробкова не
состоялась ввиду его тяжёлой болезни, угрожающей смертью.
С середины 1920-х гг. начался новый виток идеологической
борьбы с буржуазностью дореволюционной исторической науки.
Кульминацией наступления на представителей «старой школы» стало
«дело» историков – в 1930 г. были арестованы академики
С.Ф. Платонов, М.К. Любавский, члены-корреспонденты АН СССР
Ю.В. Готье, Д.Н. Егоров, А.И. Яковлев, профессора С.В. Бахрушин,
В.И. Пичета и др. Центральной фигурой в этом деле был Сергей
Фёдорович Платонов. Ему и его коллегам инкриминировалось создание
в АН СССР контрреволюционной организации «Всенародный союз
борьбы за возрождение свободной России».
Как ни абсурдны были выдвинутые против учёных обвинения,
они вполне вписывались в развёрнутую в конце 1920-х гг. в стране
кампанию по «выкорчевыванию буржуазного вредительства». «Дело
С.Ф. Платонова» входило в серию сфабрикованных в политических
целях громких дел: Шахтинского, Промпартии, Союзного бюро
меньшевиков-интервенционистов и др.
Разгром исторической академической науки был логическим
завершением деятельности «красной» профессуры. В середине 1920-х
гг. ученики М.Н. Покровского серьёзно потеснили старую профессуру
на университетских кафедрах. Академия же наук оставалась
«беспартийной», до 1929 г. в ней не было ни одного учёногокоммуниста. Марксизм большинством учёных не принимался.
С.Ф. Платонов, даже будучи арестованным, говорил: «Я не марксист,
считаю, что не всегда будем мы смотреть через очки марксизма, а
потому убеждён в том, что научный марксизм – наука себя изживёт»
(Брачёв В.С. Сергей Фёдорович Платонов // Отечественная история.
1993. №1. – С.124). Подобные позиции в конце 1920-х гг. официальными властями рассматривались уже как абсолютно недопустимые.
Разъясняя изменившуюся ситуацию на обществоведном поприще,
М.Н. Покровский в 1928 г. говорил: «Мы уже прошли ту эпоху, когда
нам нужны были учёные, признающие советскую власть… Сейчас нам
нужны учёные, которые принимают участие в строительстве
социализма» (Брачёв В.С. Сергей Фёдорович Платонов // Отечественная
история. 1993. №1. – С.124).
Дело С.Ф. Платонова было своеобразным свидетельством того,
что фундамент для перестройки академической науки, по мнению
власти, создан, смена старым кадрам выросла. Перестройка АН СССР, в
том числе и её востоковедной составляющей, пришлась на начало 1930х гг.
Вопросы
1. Какие востоковедные центры существовали в составе Академии
наук в 1920-е гг.?
2. Кто из учёных-востоковедов стал на путь сотрудничества с
советской властью?
3. Какие структуры создавались советской властью и какие методы
использовались ею для «перевоспитания» старых научных кадров?
4. Какие учебные востоковедные центры действовали в Советском
государстве в 1920-е гг.? Как они отличались от подобных учреждений
дореволюционной России?
5. Что стояло за «делом историков»?
1.2. Начало 1930-х – конец 1940-х гг.: утверждение
марксистских схем и подходов, идеологический диктат партии
Формально перестройку Академии наук объясняли тем, что
Академия продолжала оставаться изолированной, оторванной от жизни
организацией, а должна была быть научным центром, практически
помогающим социалистическому строительству. Фактически же
перестройка была направлена на искоренение академических традиций
прошлого, освобождение этого учреждения от людей, не разделявших
идейных принципов советской, коммунистической системы, полное
подчинение науки партийному контролю и диктату.
В 1929 г. специальная правительственная комиссия проверяла
работу и личный состав Академии наук, анализировала её структуру. В
1930 г. Академией был принят устав, подчинявший всю академическую
работу интересам Советского государства. В течение последующих лет
деятельность Академии неоднократно обсуждалась в ЦК ВКПб и в
СНК. В 1934 г. она была передана в ведение СНК СССР и переведена в
Москву. В 1935 г. был принят новый устав.
Реорганизация Академии началась с пересмотра её структуры. В
числе первых был реорганизован сектор востоковедных учреждений. Он
резко критиковался за создание дробных родственных учреждений,
дублирующих друг друга, за наличие четырёх востоковедных структур,
построенных по разному – Азиатского музея, Коллегии востоковедов,
Тюркологического института, Института буддийской культуры. Но
основной огонь критики был направлен на тематику исследований, в
которой усматривалась чуждая советскому строю ориентация. В
качестве проявлений последней называлось то, что Тюркологический
институт занимался «чисто научными», схоластическими проблемами,
Институт буддийской культуры – «неприкрытой проповедью буддизма»
вместо того, чтобы сосредоточить своё внимание «на изучении
гражданской истории прошлого и настоящего восточных народов, всего
разнообразного богатства подлинной индийской истории и культуры».
Именно так в соответствии с официальными документами отразила
недостатки академического востоковедения одна из статей «Вестника
АН СССР» за 1937 г.
В результате реорганизации в октябре 1930 г. в составе Академии
наук появился Институт востоковедения (ИВАН). Он делился на два
отдела:
научно-исследовательский
и
библиотечный.
Первый
подразделялся на секторы: историко-экономический, литературоведческий и лингвистический (последний организовался чуть позднее).
По страноведческому принципу создавались кабинеты: Кавказский,
Арабский, Еврейский, Турецкий, Иранский, Индо-Тибетский, ЯпоноКорейский, Монголо-Маньчжурский, Китайско-Тангутский. Этот принцип построения востоковедного сектора оставался неизменным и в
последующие годы.
Директором ИВАН был назначен акад. С.Ф. Ольденбург.
Впоследствии директорами института были А.Н. Самойлович
(тюрколог), А.П. Баранников (специалист по древним и современным
индийским языкам, древнеиндийской литературе, истории цыган), В.В.
Струве (занимался древней историей и историей культуры Египта,
Двуречья, Закавказья).
Перед созданным институтом выдвигалась задача всестороннего
изучения на основе марксистско-ленинской методологии проблем
колониального, полуколониального и особенно Советского Востока.
Экономика, политика, национально-освободительная и классовая
борьба становились для ИВАН основными темами.
Историко-экономический сектор должен был обратить внимание на
изучение конкретных проблем социалистического переустройства
советских восточных областей и республик, истории современных форм
классовой и национально-освободительной борьбы в колониальных и
зависимых странах Востока, империалистических противоречий на
Востоке (особенно в Тихоокеанском регионе), экономики зарубежных
стран.
Литературоведческий, лингвистический секторы должны были
изучать литературу советского и зарубежного Востока, обеспечивать
решение таких проблем, как латинизация алфавитов народов СССР,
создание литературных языков, скорейшее издание словарей живых
языков.
В ИВАН продолжали работать многие выдающиеся востоковеды
дореволюционной
школы:
В.М.
Алексеев,
Е.Э.
Бертельс,
Б.Я. Владимирцов, П.К. Коковцов, Н.И. Конрад, И.Ю. Крачковский,
С.Ф. Ольденбург, И.А. Орбели, А.Н. Самойлович, В.В. Струве,
А.А. Фрейман, Ф.И. Щербатской и др.
Но ни по характеру своей подготовки, ни по научным интересам,
ни по методу исследовательской работы они не могли выполнить задач,
которые ставились перед институтом. Не решало проблемы и то, что
некоторые учёные из старой плеяды пытались приблизиться к
современности (С.Ф. Ольденбург, И.Ю. Крачковский, В.В. Струве и
др.). Поэтому вопрос о кадрах неоднократно обсуждался на разных
уровнях, в государственных и академических органах на протяжении
всех 1930-х гг. Проблема формирования кадров востоковедов, вооружённых марксистской методологией, решалась, прежде всего, через
аспирантуру.
Президиум АН СССР в «Положении об Институте Востоковедения» особо оговорил вопрос о подготовке именно таких кадров.
Аспиранты института должны были посещать специальные семинары
при Комакадемии, ездить в длительные командировки в страны Азии и
Африки. Штат научных сотрудников постепенно пополнялся молодыми
специалистами, которые, закончив учёбу в аспирантуре, приступали к
разработке современных национально-колониальных, аграрных и т.п.
проблем (А.Д. Новичев, М.С. Иванов и др.).
Молодые востоковеды, опиравшиеся уже на марксистскую
методологию, воспитываемые в духе преданности господствовавшей
идеологии, в отличие от востоковедов старой школы, в большинстве
своём имели слабую лингвистическую подготовку. Их отличало и
недостаточное знание конкретной истории стран Востока, что они
нередко компенсировали цитатничеством, ссылками на работы
марксизма-ленинизма, руководителей партии и государства. Тем не
менее, некоторым из молодых востоковедов была присуща
амбициозность, уверенность в том, что только их позиция является
единственно истинной.
Аспирантура ИВАН и др. востоковедных центров в 1930-е гг.
пополнялась уже и выпускниками советских востоковедных институтов.
Попасть в востоковедные институты с трудными курсами обучения
можно было, будучи либо представителем восточного народа, либо
выдвиженцем пролетарского происхождения.
Среди студенчества бытовали «комчванство», пренебрежительное
отношение к «старому» востоковедению, к «спецам» и то, что
Н.И. Конрад называл ученическим отношением к учёбе.
Студентам с такими настроениями адресовалась резкая статья
В.М. Алексеева «Что такое практическое изучение какого-либо языка»
(1935 г.).
В мае 1935 г. руководство Ленинградского Восточного института и
Московского института востоковедения отмечало: «До последних лет
набор студентов в институты был явно неудовлетворительный, в
институты принимались не только со средним, но и с низшим
образованием без достаточной подготовки по общеобразовательным
предметам, и в особенности по русскому языку, что отражалось на
качестве учёбы».
Очевидно, что снижение уровня востоковедного образования не
могло не сказываться негативно на качестве научно-исследовательских
работ, выполняемых молодым пополнением.
В планах ИВАН в 1930-е гг. фигурировали такие темы, как
колониальная политика империализма, национально-революционные
движения на Востоке, экономическая структура стран Востока и
пережитки феодализма, национальный вопрос в странах Востока, языки
и диалекты стран Востока. Кроме того, разрабатывались латинские
алфавиты для китайской, дунганской и др. письменностей, грамматики
абхазского, афганского, аннамского языков, составлялись двуязычные
словари.
Важнейшим направлением работы ИВАН и других востоковедных
центров было изучение советского Востока. ИВАН помогал в
разрешении некоторых вопросов советского строительства в восточных
республиках. Прежде всего – это планомерная систематическая
поддержка научно-исследовательских организаций в этих республиках,
помощь в подготовке кадров, что способствовало культурному
развитию советского Востока.
Определённую и весьма заметную роль в ИВАН в 1930-е гг. играли
научные ассоциации.
Первой возникла ассоциация японоведения. Её председателем
являлся Н.И. Конрад.
Ассоциацию
арабистов
возглавил
И.Ю.
Крачковский.
Игнатий Юлианович Крачковский (1883–1951), академик, был
крупнейшим отечественным арабистом. Его многочисленные труды по
литературе, языку, культуре арабов в средние века и новое время
получили признание и за рубежом. Не меньшую известность имели
работы академика по публикации памятников арабской культуры, а
также народов Средней Азии, которые в течение многих лет
проводились под его руководством.
ИВАН в 1930-е гг. не был единственным востоковедным
учреждением.
Объединением востоковедов, работавших над новой и новейшей
историей стран Востока являлся Сектор истории колониальных и
зависимых стран Института истории АН СССР. Его сотрудники
(И.М. Рейснер, Е.Л. Штейнберг, Н.А. Смирнов), разработали, в
частности, принципы, подходы к чтению лекций по истории
колониальных и зависимых стран Востока в вузах Москвы (после
известного постановления от 16 мая 1934 г. о преподавании
гражданской истории). Первым марксистским обобщением новой
истории колониальных и зависимых стран, а также первым учебником в
этой области в мировой исторической литературе стал подготовленный
в этом Секторе в 1940 г. вузовский учебник по истории стран Востока.
Через несколько месяцев он был переведён и издан в Китае. Тираж
второго тома учебника, отпечатанный к началу войны, погиб в первые
её дни.
Большое место занимала востоковедная тематика в работе
Института антропологии и этнографии, Академии истории материальной культуры, в гуманитарных институтах союзных академий, в
университетах. Специализированными востоковедными учебными
заведениями были Московский институт востоковедения и
Ленинградский восточный институт. Со всеми этими и другими научноисследовательскими и учебными учреждениями ИВАН поддерживал
связи, участвовал в совместных разработках, экспедициях, проводил
сессии и научные заседания.
ИВАН имел связи и с зарубежными учёными-востоковедами.
Особенно тесными были контакты с учёными Турции, Ирана. В
сентябре 1935 г. в Москве проходил III Международный конгресс
иранского искусства и археологии.
Новым явлением в востоковедении в 1930-е гг. стала подготовка
специалистов узкого профиля – историков, экономистов, лингвистов и
т.п., а не индологов, арабистов, китаистов широкого профиля, как это
делалось до революции. Узкая специализация превращалась в основу
системы востоковедения в СССР. Конечно, это радикальное изменение
было связано с естественным процессом дифференциации
востоковедения (как и других областей научного знания). Но оно,
наряду с позитивными, имело для востоковедения и несомненные
негативные последствия.
Главной же сущностной чертой этого периода стало утверждение в
советском обществоведении, в том числе и востоковедении,
марксистской методологии, причём в том её виде, в каком она
представлялась политическому руководству страны.
Первым серьёзным сигналом, который возвестил о начале
широкого наступления на творческую мысль, явилось письмо
И.В. Сталина, опубликованное в конце октября 1931 г. в журнале
«Пролетарская революция». В нём содержалась резкая критика
историков, которые, по мнению вождя, имели собственную, т.е.
неверную точку зрения на проблемы, связанные со строительством
социализма в СССР, а также по вопросам теории и истории мирового
коммунистического движения.
Редакция журнала обвинялась в том, что, публикуя подобные
материалы, она вступает на «неправильный путь», поддерживает
«гнилой либерализм». В письме содержался целый набор резких
выражений и эпитетов в адрес авторов, отошедших от официальной
точки зрения, – «жульническое крючкотворство», «галиматья», «головотяпство, граничащее с преступлением», «идейные контрабандисты» и
т.п. С такими авторами, по мнению И.В. Сталина, не стоило «долго
возиться» и редакция должна не предоставлять им дискуссионную
трибуну, а срывать с них маски, критиковать.
В рамках этой же жёсткой линии на подавление инакомыслия были
выдержаны опубликованные в 1934 г. замечания И.В. Сталина,
С.М. Кирова и А.А. Жданова на конспекты учебников по истории СССР
и новой истории, а также постановление СНК СССР и ЦК ВКПб «О
преподавании гражданской истории в школах СССР». Внешне будто бы
выражалась озабоченность состоянием преподавания истории. Более
того, создавалось даже впечатление о намерении властей снять всякие
ограничения на критику господствовавших до этого в исторической
науке ошибочных взглядов и концепций (речь шла главным образом о
так называемой школе М.Н. Покровского).
На самом деле историческую науку и всю систему преподавания
истории втискивали в жёсткие рамки, которые должны были
удерживать историческую мысль в русле официальной идеологии и
партийно-политической линии, определяемой решениями партийных
органов. Между тем ещё Ф. Энгельс писал, что «ценность
постановлений съездов, как бы ни были эти постановления достойны
уважения в области политической, в науке равна нулю». Но эта позиция
классика, как и многие другие, оказалась преданной забвению
руководством ВКПб.
Апогеем стало издание «Краткого курса истории ВКПб»,
одобренного в 1938 г. ЦК ВКПб.
С этих пор историкам, обществоведам отводилась роль
комментаторов и пропагандистов положений того исторического
материализма, который нашёл отражение на страницах этого учебника.
Истматовская схема «Краткого курса» представляла собой пятичленную
лестницу формаций: первобытное общество – рабовладельческое –
феодализм – капитализм – социализм (коммунизм). Схема опиралась на
К. Маркса, но марксову «азиатскому способу производства» в ней места
не оказалось, несмотря на пристальное внимание к нему советских
востоковедов в 1925–1931 гг.
К. Маркс, анализируя в 1857–1861 гг. формы, предшествующие
капитализму, выделил три: азиатскую, античную и германскую. Их
можно было интерпретировать как самостоятельные при переходе к
государственности. Ф. Энгельс, соглашаясь с замечаниями К. Маркса, в
1878 г. высказал положение о двух путях становления государства
(восточном и азиатском). В предисловии к «Критике политической
экономии» К. Маркс назвал азиатский способ производства как один из
способов (наряду с античным, феодальным, буржуазным) экономиической общественной формации. Таким образом, К. Маркс вполне
адекватно оценил особенности классической восточной структуры,
основа которой – поглощение личности коллективом, отсутствие
собственности европейского типа.
Марксова идея об «азиатском способе производства» и была
предметом научной дискуссии 1925–1931 гг. Разрабатывали ее
Л.И. Мадьяр, С.А. Дамин, М.Д. Кокин, Г.К. Папаян, А.И. Ломакин. Но
уже тогда в обстановке идеологического давления и политических угроз
они были вынуждены сначала ограничить существование «Азиатского
способа производства» древностью, а затем и вообще отказаться от этой
концепции.
«Краткий курс» провозглашал в качестве первейшей задачу
обществоведов, в том числе, естественно, и востоковедов, изучать и
раскрывать законы формационного развития общества, классовую
борьбу как движущую силу этого развития, реакционную роль
эксплуататорских классов и прогрессивную – их антагонистов и т.п.
Любые проблемы, которые выносились на обсуждение, могли вестись
только в рамках дозволенного и должно было подтверждать правоту и
незыблемость той философии истории, которую обозначали «Краткий
курс истории ВКПб», другие партийные документы.
Эта философия истории в 1930-е и последующие годы в сознании
многих людей, в том числе учёных, стала ассоциироваться с
марксизмом-ленинизмом.
И лишь некоторые из последних со временем начинали приходить
к пониманию того, что схемы «Краткого курса» и марксизм-ленинизм –
это не одно и то же. Академик Н.А. Симония, например, писал, что,
только прочтя полное собрание сочинений Ленина и Маркса, вышедшие
во времена хрущевской оттепели почти без купюр, он уяснил ту
«пропасть, которая отделяет подлинные идеи и построения Маркса,
Энгельса и даже Ленина о формационном развитии от того, что Сталин
и его подручные выдавали за марксизм» (Восток-Запад-Россия. – М.:
Прогресс-Традиция, 2002. – С. 28).
Средства, которые власть использовала для утверждения в науке
идеологического и политического единомыслия, методологического
монизма, были разнообразными.
Широко применялась критика позиций, взглядов тех или иных
учёных, если они не вполне вписывались в рамки, обозначаемые
руководящими документами. Но эта критика мало чего общего имела с
наукой. Как правило, она сопровождалась «вынесением приговора» в
виде тех или иных ярлыков, разрядов, которыми награждались
«прорабатываемые», что в обстановке 1930-х гг. было чревато весьма
опасными последствиями.
В числе объектов этой атаки оказались и некоторые востоковеды.
Так, академик В.В. Бартольд в докладе одного из ортодоксальных
марксистов А.В. Шестакова был охарактеризован как «типичный
образчик великорусского великодержавного шовинизма». Основанием
для такой оценки академика послужила книга «Очерки культуры жизни
Туркестана», которая, по убеждению Шестакова, была «апологетикой
действий великодержавного русского шовинизма, русского капитала,
русской колониальной политики в Средней Азии».
И.В. Сталин в своей статье «О некоторых вопросах истории
большевизма» не сказал ничего, что прямо касалось специфических
востоковедных проблем. В ней он требовал непримиримой борьбы с
троцкистской контрабандой в исторических исследованиях. Но этот
сталинский термин сразу же перекочевал в работы востоковедов. Так,
статья синолога Р.А. Ульяновского, напечатанная вскоре после
сталинской, имела такое название: «Против троцкистской контрабанды
Вардина» в национально-колониальном вопросе» (1931 г.).
Парадоксально и трагично то, что в 1935 г. сам Р.А. Ульяновский был
арестован и обвинён в участии в «контрреволюционной троцкистской
организации» и «антипартийных высказываниях», приговорён к пяти
годам каторжных работ, которые он отбывал в Воркуто-Печорских
лагерях.
Судьба тех, кто подвергался идеологической проработке,
складывалась по-разному. Одни, пережив критические моменты,
продолжали свою научную деятельность, естественно, как-то
адаптируясь к сложившейся обстановке (В.В. Бартольд, В.М. Алексеев,
И.Ю. Крачковский и др.).
Другие изгонялись из научных и учебных заведений.
Примечательна в этом отношении судьба Игоря Михайловича Рейснера.
Как учёный-востоковед он формировался не в тиши академических
кабинетов, а в обстановке острой политической дискуссии, среди
людей, непосредственно связанных с осуществлением политики СССР
на Востоке. Как и многие другие, И.М. Рейснер вынужден был
подчиняться ряду официальных установочных оценок по национальным
и колониальным проблемам. Но как настоящий учёный он не мог
абсолютизировать клише, утверждавшиеся в обществоведении. Это, а
также то, что трое из дававших ему рекомендации при вступлении в
партию оказались «врагами народа», привело к тому, что партийная
организация МГУ исключила его из рядов партии. И хотя политическое
обвинение с И.М. Рейснера Контрольной комиссией было снято, из
МГУ И.М. его в 1937 г. уволили, и он смог вернуться в Москву лишь
спустя два года.
Огромный урон науке нанесли репрессии 1930-х гг.
Востоковедение не стало исключением, причём особо мощный удар
пришёлся по дальневосточному востоковедению (по сравнению со
специалистами по Ближнему, Среднему Востоку, Южной Азии).
Накалённая международная обстановка на Дальнем Востоке порождала
шпиономанию, жертвами которой стало немало учёных-востоковедов.
В 1938 г. оборвалась жизнь выдающегося советского лингвиста
Евгения Дмитриевича Поливанова. Его вклад в общее языкознание,
социолингвистику, в изучение китайского, японского, корейского,
дунганского языков, в тюркологию, в языковое строительство в СССР
был значительным.
Он был одним из организаторов советской науки в первые
послеоктябрьские годы, занимая высокие посты в правительстве. Беды
учёного начались ещё в 1929 г., когда Е.Д. Поливанов бросил вызов
Н.Я. Марру, публично раскритиковав его «новое учение о языке». После
этого началась травля, он лишился всех должностей в Москве и
вынужден был уехать в Среднюю Азию. Выход в свет его книги «За
марксистское языкознание» (1931 г.) в защиту классического языкознания против нападок марризма вызвал новый тур борьбы с
«поливановщиной». Против него заставили выступить даже близких
ему по духу людей. Спасаясь от ревнителей марризма, Е.Д. Поливанов
несколько раз менял работу, переезжая из Самарканда в Ташкент,
оттуда – во Фрунзе. При этом он продолжал научные изыскания, в том
числе по дунганскому языку. Но в 1937 г. учёный был арестован,
привезён в Москву и после суда «тройки» в 1938 г. расстрелян. Ему
инкримировалась, помимо всего прочего, многолетняя шпионская
деятельность в пользу Японии, которая якобы началась с поездки
учёного в Страну восходящего солнца ещё в 1916 г.
Александр Николаевич Самойлович был директором ИВАН.
Талантливый и авторитетный учёный, глава отечественной школы
тюркологов, ученик В.В. Радлова, В.В. Бартольда, В.Д. Смирнова,
П.М. Мелиоранского, он ещё до 1917 г. выдвинулся как крупный
исследователь, автор содержательных грамматик крымско-татарского,
турецкого языков, разработчик первой классификации тюркских
языков, оказавшей большое влияние на советскую тюркологию. В
1925 г. А.Н. Самойлович был избран членом-корреспондентом АН
СССР, в 1929 г. – академиком. Снискал он известность и как
организатор науки. Так, с 1922 по 1925 г. он являлся ректором ПИЖВЯ,
с 1932 г. был председателем Казахстанской базы АН СССР, после
смерти С.Ф. Ольденбурга в 1934 г. стал директором ИВАН.
А.Н. Самойлович примирительно относился к марризму, более того –
под давлением Н.Я. Марра он отказался от публикации окончательного
варианта своей тюркской классификации. Но это его не спасло. В
1938 г. академик А.Н. Самойлович был расстрелян.
В 1937 г. не стало выдающегося исследователя Николая
Александровича Невского (1892–1937). Это был удивительно
разносторонний учёный. Он первым в отечественной истории взялся за
исследование диалектов островов Рюкю, австронезийских языков
островов Тайваня. Результаты последнего он отразил в своём
единственном крупном прижизненном издании «Материалы по говорам
языка цоу» (1935 г.). Готовил он и крупное исследование по фонетике и
грамматике рюкюских диалектов (сейчас материалы, собранные им,
вместе со словарём говоров Мияко, находятся в архиве ИВАН),
большую работу по японской исторической фонетике. Но наибольшую
известность Н.А. Невскому принесли работы 1930-х гг. по дешифровке
тангутских текстов. Они были изданы в 1960 г. под названием
«Тангутская филология». За этот труд Н.А. Невский в 1962 г. посмертно
был удостоен Ленинской премии. Роковую роль в судьбе Н.А. Невского
сыграли его длительное пребывание в Японии (1915–1929) и женитьба
на японке – его объявили «японским резидентом» в Ленинграде, где он
по возвращении из Японии преподавал японский язык в Ленинградском
восточном институте, а затем – в ЛГУ.
За связь с Н.А. Невским в августе 1938 г. в тюрьму попал глава
советской школы японоведов член-корреспондент АН СССР Николай
Иосифович Конрад. Ему «повезло» больше, чем другим: после
нескольких месяцев в одном из гулаговских лагерей около Канска его
перевели в закрытое учреждение для заключённых, где он мог
заниматься японским и китайским языками. Этот перевод стал
возможен благодаря хлопотам жены Н.И. Конрада Н.И. Фельдман (она
тоже была известной японисткой), обратившейся к президенту АН
СССР В.Л. Комарову. В сентябре 1941 г. Н.И. Конрад был освобождён.
На сей раз ходатайствовал за него его ученик, тогдашний начальник
военного факультета Московского института востоковедения,
обратившийся в ещё более высокие инстанции.
Сравнительно быстро освободили и других специалистов по
японскому языку: Е.М. Колпакчи, А.Е. Глускину, К.А. Попова,
М.С. Цын, С.Ф. Зарубина, И.Л. Иоффе.
Однако большинство арестованных в 1937–1938 гг. востоковедов
либо погибли в лагерях, либо были расстреляны сразу: Д.М. Позднеев –
старейший русский японовед, А.И. Иванов (1878–1937), Н.П. Мацокин,
Т.С. Юркевич, К.А. Харнский (1884–1940), Д.И. Скляров, Д.П. Жуков
(1904–1937), А.А. Лейферт, Я.П. Преман, М.И. Тубянский (1893–1937),
Ю.К. Шуцкий (1897–1938) и др.
Неизбежным следствием насаждаемого методологического и
идеологического монизма стали в 1930-е гг. такие черты, присущие
большинству работ историков, как схематизм, цитатничество
(С.Н. Ростовский, один из организаторов советского востоковедения, в
1938 г. назвал последнее цитатоложеством). Ссылки на К. Маркса, В.И.
Ленина, И.В. Сталина, партийные документы были безусловным
атрибутом работ советских обществоведов. Эти ссылки нередко играли
решающую роль в научной полемике, подчас даже заменяя какую-либо
научную аргументацию.
Интересный
эпизод
описан
арабистом-литературоведом
А.А. Долининой в её книге «Невольник долга» (СПб, 1994. – С. 387).
Будучи студенткой, она попала под огонь политизированной критики за
свой доклад о творчестве египетского писателя Махмуда Теймура в
1920-е гг. Доклад был оценён как «плоды буржуазной школы академика
И.Ю. Крачковского». А.А. Долинина, отвечая на критику своим более
подготовленным к политическим дискуссиям оппонентам, сказала о
Теймуре: «А что касается его буржуазных политических взглядов, то
ведь т. Сталин сказал в 1926 году в работе «К вопросам ленинизма», что
борьба египетских купцов и интеллигентов является борьбой
объективно революционной, поскольку она расшатывает империализм.
А раз так, то, значит, творчество Теймура в 20-е годы является
объективно революционным». По свидетельству А.А. Долининой,
заседание было быстро свернуто, поскольку про эту цитату из Сталина
явно забыли. Председательствующий же назвал её молодцом, хотя
только что «смешивал с грязью» и Долинину, и её учителя
И.Ю. Крачковского.
Догматизм, цитатничество пронизывают большинство научных
трудов советских авторов в 1930-е и последующие годы. Правомерен
вопрос: были ли они исключительно результатом страха, внушённого
учёным коммунистическим режимом? По всей видимости, у многих из
них имелись и иные, нежели только страх, резоны ссылаться на
классиков марксизма-ленинизма. Их спектр включал в себя и
идеологическую борьбу, и честолюбивые амбиции, и слепое следование
сложившейся со временем практике, и сведение личных счётов, и т.п.
Нельзя сбрасывать со счетов и то, что классики были в глазах
многих учёных высокоавторитетными, компетентными личностями.
Поэтому можно предположить, что включение их оценок, положений в
исследовательские работы означало и искреннее согласие с ними
авторов этих работ. Примечательно в этом плане суждение японоведа
И.А. Латышева: «…Но, осуждая догматизм и порочную цитатническую
практику…, я отнюдь не склонен считать, что все взгляды и
высказывания Ленина, Сталина, Димитрова и других видных деятелей
мирового коммунистического движения были никчемны, ошибочны и
не отвечали научному пониманию общественных явлений тех лет»
(Япония, японцы, японоведы. С. 40).
Ещё
более
примечательно
признание
авторитетнейшего
востоковеда Н.И. Конрада: «Окончательно снимаются с наших глаз
шоры, которые многие из нас сами на себя надели, неосмотрительно
оперируя взглядами то Н.Я. Марра, то И.В. Сталина» (Конрад Н.И.
Неопубликованные работы. Письма. – М., 1996. – С. 351).
Таким образом, утверждение марксистской методологии в
советском обществоведении происходило в условиях идеологического,
а затем и административно-политического насилия, сопровождалось
жёстким подавлением всякого инакомыслия. Всё это, в свою очередь,
вело
к
догматическому
перерождению
самого
марксизма,
превращающегося из научного метода социально-исторического
познания в собрание догматов.
В годы Великой Отечественной войны жизнь и работа
востоковедов строилась по законам военного времени.
Институт востоковедения вместе с другими академическими
институтами был эвакуирован из осаждённого Ленинграда.
Группа учёных-востоковедов во главе с А.Н. Болдыревым
получила задание сберечь в городе наиболее значительные частные
востоковедные библиотеки, сосредоточив их в институте. Продолжалась и научная жизнь – под председательством акад. И.Ю. Крачковского с апреля 1942 г. начал работу объединённый Учёный совет ряда
гуманитарных институтов. И.Ю. Крачковский сыграл большую роль в
спасении научных ценностей Ленинграда.
В осаждённом Ленинграде погибли многие востоковеды, в том
числе А.М. Баранов, П.П. Иванов, К.К. Флуг, чьи труды были
подготовлены и изданы товарищами и учениками в послевоенные годы.
Погиб в 1943 г. профессор Г.С. Кара-Мурза, бывший аспирант ИВАН.
Заявление с просьбой отправить его на фронт подал проф. Б.Н. Заходер
– московский востоковед. Память о востоковедах – участниках Великой
Отечественной войны бережно сохраняется во всех востоковедных
учреждениях. Так, в Ленинграде (Санкт-Петербурге) есть мемориальная
доска с именами погибших востоковедов. Журнал «Восток» в 1995 г.
опубликовал списки сотрудников институтов востоковедения и Африки
РАН – участников войны.
Местом эвакуации Института востоковедения стал Ташкент.
Задачи военного времени, распыление научных кадров изменили работу
Института. В план научных исследований включены были только
наиболее важные проблемы по языкам, литературе и истории народов
Востока.
Сотрудники Института не ограничивались выполнением своих
планов. Многие преподавали в университетах и институтах,
участвовали в изысканиях, проводимых в научно-исследовательских
учреждениях Средней Азии. В те годы стали формироваться планы для
написания
обобщающих
трудов
по
истории
Узбекистана,
Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Казахстана, которые вышли в
свет в послевоенные годы. Многое было сделано для укрепления
местных востоковедных центров.
После реэвакуации в Ленинград основной массы сотрудников
Института востоковедения и приёма новых в институте начала
постепенно восстанавливаться нормальная рабочая обстановка. Но
потеря многих научных работников создавала большие трудности,
затрудняла восстановление лидирующего положения ИВАН на
востоковедном фронте.
Отчасти поэтому всё более заметную роль в это время начинает
играть Московская группа ИВАН. До войны какой-либо специальной
востоковедной организации в системе Академии наук в Москве не
существовало. Во время войны часть ленинградских учёныхвостоковедов переехала в Москву. Они и составили ядро Московской
группы Института востоковедения, получившей официальный статус
после постановления Президиума АН СССР 28 декабря 1943 г. В
феврале 1944 г. группа была включена в список структурных
подразделений АН СССР. Председателем группы стал академик
И.Ю. Крачковский, позднее – после реэвакуации И.Ю. Крачковского в
Ленинград – Н.И. Конрад. К началу 1950 г. в Московской группе
насчитывалось вместе с докторантами и аспирантами 36 востоковедов.
Она являлась видным востоковедным научно-исследовательским
институтом. Значение группы состояло в том, что она объединила
вокруг себя большую часть востоковедов Москвы. В неё входили
Н.И. Конрад, Е.Э. Бертельс, А.Е. Глускина, В.И. Авдиев, В.А. Гордлевский, Б.Н. Заходер, И.М. Рейснер.
Игорь Михайлович Рейснер (1899–1958) был весьма колоритной
личностью в научном сообществе. Решающую роль в формировании его
характера и мировоззрения сыграли три фактора. Прежде всего это –
влияние семьи. Отец его – М.А. Рейснер был профессором-юристом
Томского университета и происходил из обрусевших прибалтийских
дворян. Другой фактор – это обстановка революционности, которая
окружала И.М. Рейснера с детства. Отца в 1902 г. уволили из
университета за связи с революционно-оппозиционным движением,
сестра И.М. Рейснера – Лариса Михайловна была комиссаром Красной
Армии в годы гражданской войны, став прообразом женщиныкомиссара в пьесе В. Вишневского «Оптимистическая трагедия». Она
являлась также одной из самых ярких и романтических фигур советской
журналистики 1920-х гг. Третьим важным фактором в становлении
И.М. Рейснера как личности и учёного была его работа в
«интеллектуальных» учреждениях молодого Советского государства и,
прежде всего, в Наркомате иностранных дел (с 1919 г.).
И.М. Рейснер был первым секретарём советского постпредства в
Афганистане, референтом по Индии и Афганистану. Приходилось ему
работать и на западном направлении советской внешней политики,
бывать в командировках в скандинавских странах, Германии. Но
предметом научного интереса И.М. Рейснера всё же стал Восток. После
ухода в 1926 г. из наркомата И.М. Рейснер целиком отдал себя научной
и преподавательской деятельности. В историю отечественного
востоковедения он вошёл как основатель советской школы историковиндоведов и афганистов. В сферу его научных интересов входило по
преимуществу изучение экономической, социальной, политической
истории Востока в периоды позднего средневековья, нового и
новейшего времени.
Профессор Б.Н. Заходер в 1944 г. возглавил созданное при
Московском университете отделение Востока на историческом
факультете (несколько востоковедных кафедр имел в своей структуре и
филологический факультет МГУ). Новое отделение сразу взяло курс на
развёртывание научно-исследовательской деятельности по изучению
проблем Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. Здесь начиналась
научная карьера таких востоковедов, как Е.И. Попова, Л.В. Строева,
Л.Р. Гордон, В.А. Ромодина, В.Н. Никифорова.
Борис Николаевич Заходер (1898–1960) пришёл в востоковедение
в конце 1920-х – начале 30-х гг. Образование он получил в Московском
ИВ, в котором после окончания прошёл и аспирантуру. Основные
исследования Б.Н. Заходера были посвящены истории Ирана,
средневековой истории Ближнего и Среднего Востока, восточным
источникам по истории народов Восточной Европы.
Научный авторитет, преподавательский опыт, организационный
опыт позволили Б.Н. Заходеру поднять на большую высоту
руководимое им Восточное отделение истфака МГУ.
Многие годы Б.Н. Заходер был связан с АН СССР. После перевода
ИВАН в Москву он занимал в нём различные руководящие должности.
Для СССР, как и для царской России, предметом повышенного
внимания всегда был Дальний Восток. Обширные границы нашей
страны на Дальнем Востоке, длительные дипломатические и торговые
отношения с Китаем, Кореей, Японией, комплекс международных
проблем на Тихом океане, крупные изменения, происходившие на
Дальнем Востоке в 20-е – 30-е гг. ХХ в. и особенно после Второй
мировой войны выдвинули изучение дальневосточного, тихоокеанского
региона на видное, приоритетное место в советском востоковедении. С
целью изучения дальневосточных и тихоокеанских проблем и был
создан в ноябре 1942 г. Тихоокеанский институт Академии наук СССР.
Предшественниками
Тихоокеанского
института
как
академического учреждения были Тихоокеанский комитет АН СССР во
главе с акад. В.Л. Комаровым (1927 г.), реорганизованный в 1942 г. в
научно-исследовательский институт.
В составе Тихоокеанского института как академического учреждения научные изыскания вели А.Л. Гальперин, А.Я. Климов,
А.М. Дьяков, К.М. Попов, Э.Я. Файнберг, А.А. Губер, Е.А. Цибиков.
Об интенсивной работе коллектива говорят многочисленные статьи
в «Учёных записках», монографии, сборники статей, а также подготовка
в аспирантуре кадров молодых учёных.
Война вызвала гигантский подъём национального, патриотического
самосознания народа и определённые изменения в стиле, методах
работы партийно-государственного аппарата: происходило реальное
свёртывание бюрократизма, некоторое сокращение репрессий,
ослабление идейно-политического пресса в отношении интеллигенции,
религиозных организаций.
Некоторые представители научной, творческой интеллигенции
почувствовали и использовали возможность более свободного
выражения своих взглядов и мнений по поводу советской
действительности, партийной политики в области истории, философии,
литературы, искусства.
Советское руководство усмотрело в этих настроениях серьёзную
опасность для режима. Его реакцией на эту ситуацию стало проведение
летом 1944 г. совещания по вопросам исторической науки. В работе
совещания принимали участие историки (как члены ВКПб, так и
беспартийные), секретари ЦК партии А.А. Андреев, Г.М. Маленков,
А.С. Щербаков, группа ответственных работников аппарата ЦК.
Председательствовал на всех заседаниях А.С. Щербаков.
Стенограмма совещания историков исключительно рельефно
отражает положение исторической науки, учёного-исследователя,
сложившееся в результате идеологизации и политизации общественных
наук, общественного и массового сознания в духе сталинизма. Это была
не столько научная дискуссия, сколько свара, участники которой, за
некоторым исключением, стремились показать себя и очернить других,
вынести приговор. Даже председательствующий на совещании
секретарь ЦК ВКПб А.С. Щербаков, прерывая некоторых ораторов,
вынужден был заявлять, что если всё обсуждение пойдёт таким
образом, то его можно будет считать провалившимся, ибо проблемы не
обсуждаются и даже не ставятся.
Никакой информации о совещании в периодической печати не
публиковалось. Но критический заряд против инакомыслящих
историков был выпущен. Он представлял собой не официальные
директивы ЦК ВКПб, а развёрнутые рецензии на «сомнительные»
работы, опубликованные в журнале «Большевик». «Сомнительными»
оказались труды А.И. Яковлева «Холопы и холопство в Московском
государстве», Е.В. Тарле «Крымская война» и коллектива авторов,
написавших «Историю Казахской ССР с древнейших времён до наших
дней» (редакторы А.М. Панкратова и М. Абдыкалыков).
Последней из названных работ «востоковедная часть» совещания
не ограничивалась. Например, в поле зрения выступавшего
С.П. Толстова (в 1944 г. он был директором Института этнографии АН
СССР, в начале 1950-х станет директором ИВАН), оказался и труд
будущего многолетнего директора ИВАН Б.Г. Гафурова (в соавторстве
с Прохоровым) «Таджикский народ в борьбе за свободу и
независимость». Одним из главных пороков этой работы С.П. Толстов
назвал «сознательное стремление вычленить историю Таджикистана из
истории всех остальных народов Средней Азии».
Совещание в ЦК ВКПб в 1944 г. по вопросам исторической науки
было своеобразной предтечей масштабных идеологических кампаний,
развёрнутых в стране в послевоенные годы с целью укрепления позиций
коммунистического режима.
Вопросы
1. Что
представляла
собой
структура
академического
востоковедения после перестройки АН СССР в начале 1930-х гг.?
2. Какие задачи ставились перед советскими обществоведами
партийными, государственными органами?
3. Что было предпринято правящей партией для утверждения
своего идеологического диктата в области науки в 1930-е гг.?
4. Кто из востоковедов был репрессирован в 1930-е гг.? Как могут
быть объяснены эти репрессии?
5. Какие черты обрело советское востоковедение в результате
насаждения идеологического и методологического монизма?
6. Какие изменения в советское востоковедение привнесла Великая
Отечественная война?
1.3. 1950-е – конец 1980-х гг.: идеологический догматизм и
поиски путей обновления концептуальных подходов к изучению
Востока
Начало 1950-х гг. ознаменовалось очередной реорганизацией
советского востоковедения. В 1950 г. было принято решение о переводе
Института востоковедения из Ленинграда в Москву, ликвидации
Тихоокеанского института и передаче его кадров реорганизованному
Институту востоковедения. Последнему, кроме того, передавалась часть
востоковедов, работавших в институтах экономики, истории,
языкознания и др. Институт востоковедения переходил из Отделения
литературы и языка АН СССР в отделение истории и философии.
Реорганизация объяснялась тем, что востоковедение отставало от
актуальных проблем современности, связанных с углублением кризиса
колониальной системы, охватившим мир Востока. В постановлении
Президиума АН (июль 1950 г.) подчёркивалось, что Институт востоковедения и Тихоокеанский институт за последние годы не создали
крупных работ по актуальным вопросам востоковедения.
Эта оценка ситуации в востоковедении разделялась в то время
многими. Но выход из неё через реорганизацию Института
востоковедения имел «оппонентов». Одним из них был директор
Тихоокеанского института Е.М. Жуков. Начиная с 1946 г., он в своих
выступлениях и докладных записках отстаивал идею создания
Института новой и новейшей истории Востока. Предложение
Е.М. Жукова исходило из того, что для изучения истории, религии,
общественной мысли, специфики современных национальных
движений требовались совокупные исследования учёных нового склада.
А его, по мнению Е.М. Жукова, не было у большинства академических
востоковедных кадров. Институт востоковедения в то время продолжал
во многом сохранять традиции филологического центра, занимаясь
преимущественно лингвистикой, литературой, древней и средневековой
историей Востока. Единства ориенталистов «классического цикла и
востоковедов «коминтерновской школы» так и не сложилось, несмотря
на их взаимодействие и сотрудничество.
На первый план в работах реорганизованного Института
востоковедения выдвигалось изучение проблем кризиса колониальной
системы,
развития
национально-освободительного
движения,
социально-экономических
и
культурных
преобразований
в
освободившихся от колониального гнёта странах Востока, политики
империалистических стран в Азии и Африке.
В дирекцию реорганизованного Института вошли проф.
С.П. Толстов (директор), проф. В.И. Авдиев, член-корр. АН СССР
Е.М.Жуков, канд. истор. наук И.С. Брагинский.
При институте были организованы три секции: историческая,
экономическая и филологическая.
Новая структура включала в себя следующие секторы: Китая
(зав. В.А. Масленников); Монголии и Кореи (зав. Г.Д. Санжеев);
Японии
(зав Е.М. Жуков); стран Юго-Восточной Азии (зав.
А.А. Губер); Индии и Афганистана (зав. А.М. Дьяков); Ирана (зав.
Б.Н. Заходер); Турции и арабских стран (зав. В.А. Гордлевский);
советского Востока (зав. Е.Э. Бертельс); восточных рукописей (и.о. зав.
Д.И. Тихонов).
Для публикации трудов сотрудников Института предусматривалось
издание «Учёных записок ИВАН», «Кратких сообщений ИВАН». После
создания в 1957 г. Издательства восточной литературы эти
периодические издания были закрыты и вместо них стали готовиться
страноведческие, проблемные сборники. Создание Издательства
разрешило вопрос издания трудов востоковедов в наиболее короткие
сроки.
Директором Издательства стал О.К. Дрейер. В 1998 г. вышла в свет
книга, посвящённая первому директору, – «Олег Константинович
Драйер». Академик Е.М. Примаков, один из её авторов, писал: «Трудно
переоценить значение «своего» издательства для института. Это был не
только выход для научных сотрудников, стремившихся утвердиться как
учёных… Это было «окно» института во внешний мир, без которого не
было
возможности
сохранить
реноме
этого
выдающегося
востоковедного центра» («Восток», 2003, №6. – С. 30).
Важно заметить, что в 1950-е годы постоянно увеличивались
ассигнования института на выписку зарубежной литературы и научные
командировки.
Основная проблема, которая объединяла до 40% всех тем,
разрабатываемых в Институте, – это кризис колониальной системы.
Вторая группа проблем – изучение современного языка и литературы
стран Востока. Третья – изучение древней, средневековой и новой
истории стран Востока. Четвёртая – публикация памятников по
истории, литературе и языкам.
Отчёты института свидетельствуют об интенсивной работе
коллектива по всем этим направлениям. Но столь же интенсивной была
и критика в адрес института как со стороны партийных структур, так и
со стороны руководства АН СССР. Эта критика сопровождалась почти
перманентными изменениями в структуре института (в 1953 г., 1955 г.,
1956–1958 гг.). В 1950–1956 гг. директорами ИВ были С.П. Толстов,
В.И. Авдиев, А.А. Губер. В 1956 г. им стал Б.Г. Гафуров.
На ХХ съезде КПСС член Президиума ЦК КПСС А.И. Микоян
обратил внимание на состояние советской востоковедной науки. Суть
его выступления была такова: «Восток проснулся, а наши востоковеды
всё ещё спят». Вслед за съездом последовало постановление
Президиума АН СССР с неудовлетворительной оценкой работы ИВАН
и организационными выводами – освобождением от должности
директора А.А. Губера.
Александр Андреевич Губер (1902–1971) был настоящим
учёным-исследователем, автором ряда монографий. Он пользовался
неизменным уважением как в академических кругах СССР, так и у
зарубежных учёных. В 1953 г. он стал членом-корреспондентом АН
СССР, в 1966 г. – действительным академиком.
Основная сфера научных интересов А.А. Губера – Индонезия,
Филиппины, Юго-Восточная Азия в целом.
А.А. Губер был не только блестящим учёным-исследователем, но и
образцовым русским интеллигентом в самом широком смысле этого
понятия. Его отличали обаяние, благородство, отзывчивость, кипучее
остроумие. Его манера изложения создавала у слушателей ощущение
сопричастности тем событиям, о которых он рассказывал.
Бободжан Гафурович Гафуров – бывший первый секретарь. ЦК
КП Таджикистана, сохранивший при освобождении от этой должности
членство в ЦК КПСС, был известен как автор ряда работ по истории
Таджикистана, имел научную степень доктора исторических наук и
другие престижные академические звания. В немалой степени
назначение Б.Г. Гафурова было связано с кадровой политикой Н.С.
Хрущёва. После ХХ съезда КПСС в партийных органах союзных
республик высвобождалось много руководящих кадров – Н.С. Хрущёв
стремился поставить во главе этих республик более молодых и
послушных людей. Но по отношению к партийной элите в
национальных республиках он должен был действовать более чем
осмотрительно: обиды, нанесённые тому или иному руководителю
республики, могли плохо сказаться на настроениях всей местной элиты.
При таких обстоятельствах лучшей формой смещения старых кадров
становились их отзывы в Москву с назначением на какие-то высокие
должности. Так что освобождение А.А. Губера, скорее всего, было
связано не только и не столько с его служебным несоответствием. На
посту директора Института востоковедения Б.Г. Гафуров, по
свидетельству многих востоковедов, проявил себя незаурядным
организатором, обладающим тонким чутьём ситуации и масштабностью
мышления.
Эту характеристику подтверждает уже один из первых шагов
Б.Г. Гафурова на директорском посту. В 1957 г. по его инициативе в
Ташкенте была проведена Первая Всесоюзная конференция
востоковедов. Её целями были координация научно-исследовательской
работы всех востоковедов СССР и изучение уровня состояния
ориенталистики. Лично для Б.Г. Гафурова она стала эффективным
способом установления контактов с авторитетными востоковедами
страны. По утверждению Л.Б. Алаева, нынешнего редактора журнала
«Восток», Б.Г. Гафуров, «будучи деятелем, прежде всего политическим,
всячески развивал «актуальные направления», изучение современных
проблем. Но как человек умный и к тому же «восточный», он понимал
также, что классическое востоковедение – это непреходящая ценность и
по мере возможности пытался его сохранить» («Восток». 1996. №1. –
С. 7).
В 1956 г. было создано Ленинградское отделение ИВАН. Его
заведующим стал академик И.А. Орбели.
Тогда же в структуре АН СССР появился Институт мировой
экономики и международных отношений. На него возлагалось изучение
экономических проблем и стран Азии, чем до этого занимался ИВАН.
В 1960–1970-е гг. в системе АН СССР возник ещё целый ряд
структур, так или иначе связанных с востоковедными исследованиями.
К 1966 году относится появление Института Дальнего Востока РАН. В
1971 г. был создан Институт истории археологии и этнографии народов
Дальнего Востока Дальневосточного отделения АН. Подобный центр
появился и в составе Сибирского отделения АН. И в том, и в других
центрах начали формироваться секторы стран зарубежного Востока.
Востоковедная тематика разрабатывалась в Институте международной
экономики и политических исследований (создан в 1960 г.), Институте
мировой экономики и международных отношений (с 1956 г.) и
некоторых других научных центрах АН.
Претерпела изменения и востоковедная периодика. В 1959 г. на
базе журналов «Советское востоковедение» и «Советское Китаеведение» создан журнал «Проблемы востоковедения» (с 1961 г. он стал
называться «Народы Азии и Африки», в настоящее время это журнал
«Восток»). С 1957 г. стал выходить новый иллюстрированный
востоковедный журнал «Современный Восток» (с 1961 г. – это журнал
«Азия и Африка сегодня»). При всей своей тематической схожести, по
профилю эти журналы значительно отличались.
В начале 1960-х гг. организационная структура академического
востоковедения вновь подвергалась реорганизации. В 1960 г. на базе
ИВАН и Института китаеведения были созданы Институт народов Азии
– ИНА (своё прежнее название – ИВАН – институт вернул в 1969 г.) с
отделением в Ленинграде и Институт экономики мировой социалистической системы. Директором ИНА остался Б.Г. Гафуров, его
заместителями стали С.Л. Тихвинский, Р.Т. Ахрамович и с 1965 г.
В.М. Солнцев. Заведующим Ленинградским отделением был назначен
И.А. Орбели (после его смерти этот пост занял А.Н. Кононов,
впоследствии – Ю.А. Петросян).
Задачи, структура ИНА были определены в развёрнутом
постановлении Президиума АН СССР от 16 декабря 1960 г.
Основными структурными подразделениями ИНА становились
регионально-страноведческие, проблемно-отраслевые отделы, в составе
которых выделялись секторы. Среди регионально-страноведческих
отделов были отделы стран Ближнего и Среднего Востока (зав.
В.В. Цыбульский); арабских стран Азии и Африки (Е.А. Лебедев);
Индии, Пакистана, Цейлона и Непала (В.В. Балабушевич); ЮгоВосточной Азии и Океании (Р.А. Ульяновский, затем В.А. Жаров);
Китая (С.Л. Тихвинский, затем Р.Р. Вяткин, Л.П. Делюсин); Кореи,
Монголии, Вьетнама (Г.Ф. Ким); Японии (М.И. Лукьянова). Среди
проблемно-отраслевых отделов – международных вопросов (Г.Л.
Бондаревский); научной информации (А.А. Вартанян); литературы и
публикации памятников народов Азии (И.С. Брагинский, затем Е.П.
Челышев); языков народов Азии (Г.П. Сердюченко, затем
В.М. Солнцев); древнего Востока (М.А. Коростовцов).
Новым явлением в структуре ИНА явилось создание проблемных
групп. Это позволяло сосредотачивать усилия учёных разных профилей
на изучении наиболее значимых проблем. Кроме того, практиковалось
временное объединение различных специалистов для создания
коллективных монографических работ. В качестве примеров
проблемных групп могут быть названы группы по вопросам рабочего
движения, по финансово-кредитным проблемам стран Азии, по аграрнокрестьянским проблемам, истории Средней Азии, тихоокеанским
проблемам.
Таким образом, в 1960-е гг. началось организационное закрепление
новой и важной тенденции – разделение востоковедения по проблемнотеоретическому принципу, а не по традиционному страноведческорегионоведческому.
Эта тенденция продолжала развиваться и в 1970–1980-е гг. И попрежнему первостепенное внимание советское востоковедение в
соответствии с партийными установками уделяло проблемам
современности.
Именно эти проблемы стали центральными во всех отраслях
отечественного востоковедения: арабистике, тюркологии, иранистике,
афганистике, индологии, монголоведении, корееведении, китаеведении,
японоведении и др.
Долговременная ориентация на исключительно современные
проблемы имела для советского востоковедения огромные негативные
последствия. С уходом из жизни востоковедов старшего поколения
оголялись прежде всего такие области востоковедения, как культура,
религия, средневековье Востока. В этой связи весьма показателен
рассказ Л.С. Васильева. Л.С. Васильев – автор известных учебников по
истории Востока и истории религий Востока. В 1970-е гг. на основе
лекций, прочитанных в МГИМО, было издано его пособие «Культурнорелигиозные традиции стран Востока». Для издания потребовались
рецензии. По свидетельству Л.С. Васильева, он не мог найти в ИВАНе
специалиста по исламу для написания квалифицированного отзыва на
соответствующий раздел своей работы.
Естественно,
возникшая
в
советском
востоковедении
культурологическая брешь не могла не беспокоить учёных. И она, хотя
и медленно, начала заполняться. В СССР в 1970–80-е гг. стали
появляться работы по культуре и театру Японии, традиционной
китайской культуре, об индийском театре, были изданы персидские и
индийские миниатюры, исследования по истории восточной
архитектуры, настенной живописи. Повышенный исследовательский
интерес к вопросам культуры особенно явно проявился в 1980-е гг.
Важным направлением в работе советских востоковедов
продолжало оставаться издание исторических и литературных
памятников народов Востока. Ведущие позиции на этом направлении
занимали востоковеды Ленинградского отделения (ЛО) ИНА. Профиль
работы ЛО ИНА определяли прежде всего описание восточных
рукописей и издание письменных памятников.
Начиная с 1960 г., этим работам был придан размах, не имеющий
аналогов в мировом востоковедении. Серия «Памятники письменности
Востока», основу которой составляли издания, готовившиеся в ЛО ИНА
АН СССР, получила международную известность. За высокий научный
уровень работ по описанию письменных восточных памятников группе
сотрудников ЛО ИНА в 1965 г. была присуждена международная
премия им. С. Жюльена (Эта премия учреждена французской
Академией надписей и изящной словесности).
Значительными работами пополнились в 1970–1980-е гг.
ориенталистское литературоведение и языкознание. Наряду с изучением
современных литератур народов Востока исследовались проблемы
национальной специфики, средневекового народного романа, восточной
поэтики, истории литератур.
Новым явлением стал интерес к истории отечественной науки.
Кроме работ по отдельным учебным и научным центрам, деятельности
востоковедов, развитию востоковедных дисциплин, были подготовлены
и изданы избранные или неопубликованные произведения выдающихся
учёных-востоковедов – И.Ю. Крачковского, В.М. Алексеева, В.В. Бартольда, Б.Н. Заходера, И.М. Рейснера и др.
Новые масштабы и географию приобрели международные
контакты советских востоковедов. Они носили разнообразный характер.
Учёные-востоковеды из СССР участвовали практически во всех
научных востоковедных форумах, которые проводились в других
странах в
1970–1980-х гг. Проводились подобные и в СССР. В СССР
побывали и выступали с докладами многие зарубежные учёныевостоковеды. Труды зарубежных учёных публиковались на страницах
советских периодических изданий. Осуществлялись также совместные
научные проекты советских и зарубежных востоковедов.
Большую роль в повышении международного авторитета
советского востоковедения сыграл ХХV Всемирный конгресс
востоковедов. Он проходил в августе 1960 г. в Москве. На нём
присутствовало 1393 делегата из 48 стран, в том числе из 21 страны
Азии и Африки. Советская делегация насчитывала 525 человек.
Конечно, для КПСС, СССР конгресс был ареной борьбы за влияние на
интеллигенцию афро-азиатских стран. Но для советских востоковедов
он стал ещё и «окном» в мир не только в плане заявления о себе, но и в
плане сопоставления своих концепций, идей, тем с подходами,
проблемами, которые разрабатывались их коллегами за рубежом.
Заметную роль в советском востоковедении 1960–1980-х гг., кроме
академических институтов, играли и другие институты и структуры.
В 1954 г. был ликвидирован Московский институт востоковедения.
Он был слит с МГИМО (создан в 1944 г.), где возник восточный
факультет из 9 кафедр восточных языков, которые до этого в МГИМО
не преподавались. Многие видные учёные продолжили свою
педагогическую и научную деятельность в стенах МГИМО. Это
Х.К. Баранов, создавший известную в мире московскую арабистическую школу, В.М. Насилов – крупный учёный-тюрколог,
Л.С. Пейсиков – прекрасный теоретик и практик персидского языка,
Н.Н. Коротков – блестящий знаток китайского языка, Е.Л. НавронВойтинский – видный японист.
Вместе с этими учёными в МГИМО пришла группа талантливой
молодёжи, прошедшей военное лихолетье, занявшей впоследствии
ключевые позиции в отечественном востоковедении, отечественной
культуре и лингвистике. Это акад. РАН Е.П. Челышев – индолог,
В.М. Солнцев (девятнадцать лет возглавлял Институт языкознания
РАН), В.И. Горелов – китаевед, представитель Харбинской школы
китаеведов (в МГИМО он в течение многих лет возглавлял кафедру
китайского языка и языков Индокитая и Юго-Восточной Азии),
А.В. Котов – крупнейший специалист в области лексикографии
китайского языка, Б.П. Лаврентьев –один из ведущих теоретиков и
практиков японского языка, С.В. Неверов – японист.
Основоположниками
африканистики
в
МГИМО
стали
А.М. Глухов, В.В. Егоров, Г.Ф. Фокеев – авторы серьёзных работ по
международным отношениям, экономике, политике африканских стран.
К востоковедческой школе МГИМО относятся академики РАН
Е.М. Примаков, В.С. Мясников, Н.А. Симония, С.Л. Тихвинский, проф.
Э.Я. Файнберг, Т.С. Короткова, А.В. Меликсетов и др.
Крупным научным центром историко-филологического профиля
продолжал
оставаться
восточный
факультет
Ленинградского
университета (открылся в 1855 г.). Учебно-педагогическую деятельность на факультете осуществляли известные в востоковедных кругах
учёные А.Н. Кононов, Д.А. Ольдерогге, И.В. Винников, Г.В. Ефимов,
Н.В. Пигулевская, А.Н. Болдырев и др.
В 1956 г. после реорганизации Отделения Востока был создан
институт восточных языков при МГУ, который с 1972 г. стал
называться Институтом стран Азии и Африки при МГУ. Возникновение
этого учебного и научного востоковедного центра восполняло пробел с
подготовкой востоковедных кадров, возникший после ликвидации
Московского института востоковедения.
Широкое развитие востоковедной работы в стране, образование
крупных востоковедных центров в республиках поставили вопрос о
создании коллективного центра для руководства этой работой в стране.
В июне 1961 г. в Москве было созвано первое координационное
совещание по востоковедению. Оно, обсудив вопросы, касающиеся
дальнейшего развития советского востоковедения, приняло решение о
создании Научного центра по координации. Главной задачей центра
стало объединение деятельности советских востоковедов. Его
председателем был избран директор Института востоковедения
Б.Г. Гафуров.
Координационная деятельность Научного центра носила
разнообразный характер: составление общих сводных планов научных
исследований по востоковедным проблемам в СССР, проведение
общесоюзных совещаний востоковедов по различным вопросам и
отраслям востоковедения, налаживание и развитие научных контактов
между востоковедными учреждениями страны, с учёными других стран.
В 1960–1980-х гг. советскими учёными было сделано немало в
изучении проблем формационного и цивилизационного развития
Востока.
В немалой степени это определялось тем, что в это время начали
переосмысливаться и отвергаться многие догмы, господствовавшие в
востоковедении с 1930-х гг.: постулаты однолинейного экономического
детерминизма, обязательной во всех случаях жизни «авангардной роли»
рабочего класса и компартий, всегда якобы «реакционной» роли
буржуазии, особенно мелкой, вечного будто бы доминирования
классовой борьбы над межэтнической, межконфессиональной,
межрасовой, и д.т.
В то же время были выдвинуты новые положения – о
прогрессивной в определённых условиях роли национализма и религии,
об интеллигенции и среднем классе как самостоятельном авангарде
освободительных движений, о противоречивой и многоплановой роли
колониализма.
Выдвижение этих и других подобных положений, выходящих за
пределы установившихся официальных догм, стало возможным в силу
целого ряда факторов. Таковыми были новая общественнополитическая обстановка в стране (даже «откат» брежневской эпохи не
смог перечеркнуть те ростки раскрепощённости научной мысли,
которые появились после ХХ съезда КПСС), расширение
международных контактов советских востоковедов, реальности
освободительного движения и развития стран третьего мира.
Но, кроме этих факторов общего характера, свою позитивную роль
в развёртывании дискуссий в востоковедном научном сообществе
сыграли и обстоятельства иного характера. Это «периферийность»
востоковедения по отношению к гуманитарной науке в целом.
Деятельность учёных-специалистов по России (СССР) была под более
пристальным вниманием академического и партийного руководства.
Кроме того, классиками марксизма-ленинизма о Востоке было написано
неизмеримо меньше, чем о Западной Европе и России. Поэтому
ревнителям чистоты теории оспаривать новые положения востоковедов,
ссылавшихся на специфику Востока, было непросто.
Новый этап принципиально нового осмысления проблем Востока
связан с выдвижением на передний план идей К. Маркса об «азиатском
способе производства». Дискуссия по нему была одним из способов
раздвинуть узкие методологические рамки. Содержание дискуссии
отражено в издании 1966 г. «Общее и особенное в историческом
развитии стран Востока. Материалы дискуссии об общественных
формациях на Востоке (Азиатский способ производства)».
Внешне востоковеды делились на «пятичленников» и
«азиатчиков». На самом деле разграничительная линия была иная. Одни
защищали теорию формаций (с «азиатским способом» или без него),
другие стремились если не подорвать её вообще, то, по крайней мере,
оспорить идею однолинейности.
К сожалению, большого развития дискуссия об «азиатском способе
производства» не получила и в эти годы, ибо не без вмешательства
властей была свёрнута. Причины их неприятия идеи, которая была в
центре дискуссии, очевидны: советское общество слишком напоминало
традиционные общества Востока и, таким образом, оказывалось, что
марксистский социализм по советской модели – это модификация
Востока, а не преодолённый Запад.
Тем не менее, положительный результат дискуссия имела – она
способствовала оживлению теоретических исследований, повышению
интереса к востоковедным трудам зарубежных авторов.
Научные поиски привели к появлению целого ряда работ, которые
существенно обогатили отечественное востоковедение. Речь не шла о
выходе за пределы марксизма, но главным врагом стал уже не
ревизионизм, а догматизм. Тем самым как бы приоткрывалась дверь для
критики догматов вообще. На практике это выражалось в
использовании некоторых «несистемных» высказываний основоположников марксизма-ленинизма для конструирования альтернативных
общих и частных концепций историко-экономического процесса.
Главное внимание советских востоковедов было обращено на
особенности развития формационных процессов на Востоке. В рамках
этой проблемы А.И. Левковский, Н.А. Симония, В.И. Павлов,
Л.И. Рейснер и другие выдвинули различные концепции –
«дуальности», «синтеза традиционного и современного», «зависимого
развития» и т.п. Эти концепции сущностно различны, по-разному
представляли нынешний облик Востока, его историю. Но основой их
являлась концепция многоукладности. Понятие было взято у
В.И. Ленина, но использовалось оно так же, как и марксова идея об
«азиатском способе производства», для того, чтобы уйти от жёстких
формационных схем.
Концепция многоукладности получила последовательное развитие
в работах А.И. Левковского (1924–1985). Это – «Третий мир в современном мире» (1970), «Экономическая политика и государственный
капитализм в странах Востока» (1972), «Социальная структура
развивающихся стран» (1978), «Мелкая буржуазия: облик и судьбы
класса» (1978). Многоукладность для А.И. Левковского была главным
отличием восточного общества от европейского. Он признавал, что она
присуща и многим странам Европы, но подчёркивал, что для них
многоукладность – нечто второстепенное, чем-то «загрязняющее»
основную, господствующую формацию, для афро-азиатских же обществ
это – принципиальная характеристика, ибо они находятся на «переломе,
стыке двух формаций». А.И. Левковский писал, что «для
преобладающей части стран Востока всегда были характерны крайне
длительные,
затяжные
переходные
периоды
и
огромная
незавершённость в вытеснении предыдущих типов производства,
обнаруживающих удивительную живучесть и приспособляемость».
Поэтому возникающее здесь многоукладное общество, по его мнению,
характеризуется многоклассовостью и социальной пестротой, крайней
запутанностью
антагонистических
конфликтов,
«комплексом
взаимодействия межукладных и внутриукладных противоречий».
Оппоненты «многоукладников» обвиняли их концепцию в
статичности, игнорировании механизмов развития восточных обществ.
А.И. Левковский, отвечая на эти обвинения, подчёркивал, что не
следует преувеличивать степень дезинтеграции составляющих частей
многоукладной экономики, ибо в реальной жизни, при всей
разобщённости укладов, нарастает тенденция к вовлечению в общий
процесс воспроизводства всё большего числа социальных сегментов и,
таким образом, множатся элементы «формационного прорыва». То есть,
многоукладное общество, по А.И. Левковскому, не одномерно, а
многомерно, не однолинейно, а многопотоково, и эволюционирует оно
ещё более многообразно, противоречиво, конфликтно, чем общество
европейского типа.
Одно из направлений «многоукладников» пыталось снять
возражение против своих концепций, соглашаясь на признание наличия
во всей системе многоукладности главного – формационнообразующего
уклада. Так, В.Г. Растянников писал, что «общее направление
взаимодействий
различных
укладов
определяется
развитием
формационного уклада, т.е. уклада системообразующего» («Аграрная
революция в многоукладном обществе. Опыт независимой Индии». М.,
1973. – С. 6).
Конечно, идея социально-формационной неоднородности Востока
родилась не в 1970-е гг. Уже в ходе дискуссий об «азиатском способе
производства» в 1920-е и 1960-е гг. появилось понятие «смешанных»
формаций, которые именовались как «общинно-рабовладельческий
строй», «рабовладельческо-феодальный строй». Все эти комбинации
можно считать частными случаями многоукладности. О социальноформационной неоднородности Востока в 1967 г. писали
В.Н. Никифоров, В.И. Павлов, С.Н. Ростовский в книге «Национально-
освободительное движение в Азии и Африке. Века неравной борьбы».
То, что К. Маркс определил как «азиатский способ производства» тоже
является, по сути, сочетанием феодального или феодальнопатриархального деспотизма, государственного рабовладения и
полупатриархальной общины.
Но именно развёртывание этих идей А.И. Левковским,
Н.А. Симонией и другими привело к тому, что в конце 1970-х гг.
понятие длительной исторической переходной эпохи, гетерогенной в
формационном отношении, достаточно прочно утвердилось в советском
востоковедении.
***
Таким образом, за годы существования Советского государства
сложилась достаточно разветвлённая система научных и учебных
востоковедных учреждений. Научная и преподавательская деятельность
в этих учреждениях многих учёных дореволюционной школы, несмотря
на многочисленные перестройки, идеологический и методологический
диктат, чистки старых кадров, позволила сохранить и даже развить
некоторые
традиции
дореволюционного
отечественного
востоковедения.
Но за это время в стране, естественно, было сформировано не одно
поколение советских востоковедов. Большинство из них строили свои
исследования в рамках марксистской формационной методологии.
Изменения произошли и в тематике исследований. В отличие от
дореволюционного периода, когда востоковеды отдавали предпочтение
историко-культурной проблематике, в сферу приоритетных интересов
советских учёных, в соответствии с требованиями коммунистической
системы, входили вопросы экономической, политической, социальной
истории советского и зарубежного Востока в новое и новейшее время. И
далеко не все работы советских историков могут быть отнесены
исключительно к разряду историографических памятников. Творческий
подход к исследуемым даже с позиций классового подхода
востоковедным проблемам, к марксистскому методу в целом
способствовали появлению трудов и по сей день представляющих
научную ценность. Естественно, этот творческий подход пробивал себе
дорогу через преодоление догматизма в научных кругах,
идеологизированности
и
политизированности,
насаждаемыми
официальными структурами.
В своё время в нашей отечественной науке бытовала
характеристика, всецело построенная на противоположности
«антинаучной» буржуазной и единственно научной марксистской
методологии. Из этой характеристики вытекал вывод о безусловном
превосходстве советского обществоведения.
Сегодня, хотя, может, и не столь масштабно и явно, как в начале
1990-х гг., продолжает существовать зеркально противоположная,
нигилистическая оценка советской историографии, доходящая до
изображения
её
в
качестве
фабрики,
создавшей
самую
фальсифицированную историю всех времён и народов.
Едва ли эта оценка истинна. Нельзя отрицать широкого размаха
фальсификации истории в советский период, но это определение не
может исчерпывать всего содержания как советского обществоведения
в целом, так и востоковедения в частности.
Это был сложный и чрезвычайно противоречивый период,
характеризующийся не только глубинами падения официальной
историографии, но и взлёта исследовательского мастерства в самых
различных сферах исторического познания, в том числе в
востоковедении.
Вопросы
1. Чем был обусловлен перевод ИВАН в Москву?
2. Какое значение для развития востоковедения имело создание
Издательства восточной литературы?
3. В каких научных центрах велись востоковедные исследования в
СССР в 1960–1980-е гг.?
4. Какие востоковедные периодические издания появились в СССР
в конце 1950-х гг.?
5. Какие востоковедные учебные заведения функционировали в
СССР?
6. Какие изменения произошли в проблематике востоковедных
исследований в 1960–1980-е гг.?
7. В чём выражался и почему стал возможен поиск путей
обновления концептуальных подходов к изучению Востока?
РАЗДЕЛ 2. СОВЕТСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ В ЛИЦАХ
Ю.М. Галенович
Юрий Михайлович Галенович относится к той плеяде
востоковедов, которые сформировались и получили известность как
учёные в советскую эпоху, но продолжают плодотворно служить науке
и обществу в новой России. И, как прежде, он успешно совмещает
научную и практическую деятельность.
Родился Юрий Михайлович в 1932 г. В 1954 г. окончил китайское
отделение Московского института востоковедения и в этом же году
впервые оказался в Китае в качестве сотрудника Советской выставки,
которая в 1954–1956 гг. экспонировалась в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу,
Ухани. В 1960–1967 гг. Ю.М. Галенович трудился в советских
загранучреждениях в КНР. Будучи прекрасным знатоком китайского
языка, он исполнял обязанности переводчика во время визитов в КНР
высоких советских руководителей – А.И. Микояна (1956 г.),
А.Н. Косыгина (1965 г.). Ю.М. Галенович был очевидцем китайской
«культурной революции». За работу в Пекине во время этой
«революции» его наградили орденом «Знак почёта». Важный этап
деятельности Ю.М. Галеновича – его работа в качестве эксперта и
советника Советской правительственной делегации на переговорах по
пограничным вопросам в Пекине (1964 г., 1969–1970 гг.).
Совершенно очевидно, что работа в Китае была периодом
становления и утверждения Ю.М. Галеновича как профессионала
высокого уровня – и как лингвиста, и как аналитика-исследователя, и
как политика. Поэтому не случайна следующая веха его биографии –
командировка в США на работу в ООН. В 1972–1976 гг. Ю.М. Галенович был директором Отдела внешних связей Секретариата ООН.
Научная деятельность Ю.М. Галеновича шла параллельно со
службой на дипломатическом и прочих поприщах. В 1959 г. он защитил
в МГИМО кандидатскую диссертацию по филологии (в ней
исследовалась проблема соотношения тона и интонации в китайском
языке). Докторская диссертация защищалась Ю.М. Галеновичем по
истории. В 1978 г. он становится сотрудником АН СССР. В настоящее
время является главным научным сотрудником Института Дальнего
Востока РАН.
Ю.М. Галенович – автор свыше 100 научных трудов. Предмет его
интереса – политическая история Китая, российско-китайские,
китайско-американские отношения. Его книги издаются не только в
России. В КНР в 2000 г. шесть его монографий опубликованы под
общим названием «Россия и Китай в ХХ в. Нации и их лидеры» («От
императора Николая II и императрицы Цы си до В.И. Ленина и Сунь
Ятсена», «Два генералиссимуса: И.В. Сталин и Чан Кайши», «Два
вождя: И.В. Сталин и Мао Цзедун», «Два первых лица: первый
секретарь Н.С. Хрущёв и председатель Мао Цзедун», «От
Л.И. Брежнева до М.С. Горбачёва и Дэн Сяопина», «Россия и Китай на
стыке ХХ и ХХI вв.»).
Ю.М. Галенович – автор одного из разделов коллективной
монографии «Границы Китая: история формирования» (2002 г.).
Большой интерес представляет его мемуарно-аналитическая книга
«Заметки китаеведа».
О хорошей научной форме Ю.М. Галеновича говорят и ещё две
крупных работы, опубликованные им в 2002 г.: «Москва-Пекин.
Москва-Тибет» и «Китайское чудо или тупик?». В последней автор
предпринимает попытку осмыслить основные проблемы КНР и задачи,
которые ставит перед страной её руководство в связи с этими
трудностями.
Ю.М. Галенович – активный член Общества российско-китайской
дружбы, первый вице-президент Ассоциации китаеведов РАН, один из
учредителей и член Совета Московско-Тэйбэйской координационной
комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.
В китаеведческом сообществе Ю.М. Галеновича уважают за
энциклопедические познания, редкостное владение китайским языком,
трудолюбие, готовность поделиться своими познаниями с коллегами.
Литература: Юрию Михайловичу Галеновичу – 70 лет //
Проблемы Дальнего Востока. 2002. №3;
Галенович Ю.М. Китайское чудо или тупик? – М., 2002.
А.Л. Гальперин
Александр Львович Гальперин (1896–1960) родился в Баку в
семье врача. В 1913 г. он с золотой медалью окончил московскую
гимназию и поступил на историко-филологический факультет
Петербургского университета. Университетский диплом он смог
получить только в 1922 г., так как его студенческая жизнь прерывалась
как по семейным обстоятельствам, так и по обстоятельствам военного и
революционного времени. Уже в университетские годы А.Л. Гальперин
заинтересовался Востоком и параллельно с учёбой на историческом
факультете он обучался на японском отделении Петроградского
института живых восточных языков.
Вся его жизнь после университета проходила в Москве. Десять лет
Александр Львович проработал в Высшем совете народного хозяйства.
Здесь он развил в себе навыки экономического мышления, что весьма
пригодилось ему в дальнейших исторических исследованиях, в
частности при изучении периода Токугава. В 1927 г. А.Л. Гальперин
написал свою первую научную работу «Японская эмиграция». В ней он
рассматривал основные направления эмиграции японцев, численность
её в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, США. Тогда же
А.Л. Гальперин начал изучать мировые экономические рынки,
экономику Японии и Китая.
Перейдя на работу в Институт мирового хозяйства и мировой
политики при Комакадемии (1934 г.), А.Л. Гальперин продолжал
заниматься исследованиями в области экономики. Их результаты
отражены в статье «Японская экспансия в Индонезию, Малайские
штаты и Филиппины».
С 1943 г. А.Л. Гальперин начал работать в Тихоокеанском
институте АН СССР. Здесь главной темой его исследовательского
поиска стала история японо-английского союза в период 1902–1921 гг.
В условиях войны это была актуальная тема. Острота противоречий в
Тихом океане не раз приводила к конфликтным ситуациям.
Естественно, они достаточно широко изучались советскими
востоковедами. Но тема англо-японского союза как отдельная в
российской исторической науке до тех пор ещё не изучалась.
Результатом исследования стала монография «Англо-японский
союз. 1902–1921 годы» (1947 г.), которая была защищена
А.Л. Гальпериным как докторская диссертация. По утверждению
специалистов, книга не потеряла своего значения до сих пор. По
мнению И.А. Латышева, известного российского специалиста по
Японии, она является «одним из лучших образцов научных
исследований советских японоведов».
Привлекательность книги объясняется не только авторской
концепцией, но и обширнейшей документальной базой. А.Л. Гальперин
скрупулезно изучил архивные материалы Министерства иностранных
дел царской России, литературу на японском языке. Он составил массу
синхронных таблиц событий, происходивших в Тихоокеанском регионе
в рассматриваемый период. В книге убедительно раскрыта связь японоанглийского союза с англо-русскими отношениями. «Историческая
дружба» Японии и Англии выводилась автором из японо-китайской
войны 1894–1895 гг. и войны против Китая великих держав в 1900–1901
гг. Союз Англии и Японии, сложившийся в этот период, подготовил
русско-японскую войну 1904–1905 гг., но, как и многие союзы такого
рода, оказался временным: трения и конфликты после первой мировой
войны столкнула бывших союзников друг с другом.
В 1950 г. начался новый этап в научном творчестве учёного – после
ликвидации Тихоокеанского института он перешёл на работу в ИВАН
СССР, где был создан сектор Японии. Здесь А.Л. Гальперин
переключился на изучение социально-экономической истории Японии
периода Токугава (1603–1867 гг.). Работая над темой, он опубликовал
ряд статей.
В 1958 г. вышли «Очерки новой истории Японии». Роль
А.Л. Гальперина в создании этого труда огромна: он был ответственным
редактором и автором одного из основных разделов – по эпохе
Токугава. И эта работа до сих пор привлекает внимание исследователей,
студентов, находясь в ряду основных пособий по истории Японии ХVI –
начала ХХ вв.
Осознавая важное значение периода Токугава в истории Японии,
А.Л. Гальперин готовил большую работу по этой теме, но успел
написать её лишь наполовину. Благодаря усилиям жены –
К.Н. Жуковской, аспирантам А.Л. Гальперина – Г.Б. Навлицкой,
А.А. Искендерову этот незавершённый труд, уже после смерти учёного,
был издан под названием «Очерки социально-политической истории
Японии в период позднего феодализма». Но содержание этой книги
шире её названия – это, скорее, социально-экономическая история
Японии XVII – первой половины XVIII в. В книге проанализированы
основные вехи и события японской истории этого периода, раскрыты
процессы, происходившие в аграрной сфере, охарактеризованы
основные слои японского купечества. Неукоснительно следуя своим
исследовательским принципам, А.Л. Гальперин и в этом труде ввёл в
оборот огромное количество источников и литературы. Ещё одним
несомненным достоинством книги является то, что автор заселил её
живыми лицами, сообщив немало интересных сведений об их жизни и
деятельности. Особую значимость «Очеркам социально-политической
истории Японии в период позднего феодализма» придаёт авторская
концепция А.Л. Гальперина. Опираясь на собранный материал и его
анализ, А.Л. Гальперин подверг критике ряд устоявшихся в науке
положений, казавшихся ему несостоятельными или малоубедительными, и, прежде всего, положение об экономической отсталости
Японии в XVI в.
Как и большинство других советских учёных, А.Л. Гальперин
исследовал историю Японии сквозь призму марксистского учения о
формациях. Сегодня некоторые из его рассуждений представляются
догматическими. Но скрупулезность, обстоятельность, упорное
стремление использовать источники, по возможности, труды японских
авторов, присущие А.Л. Гальперину, позволили ему создать работы,
занявшие заметное место в отечественном японоведении.
В Институте востоковедения А.Л. Гальперин начал заниматься ещё
одной темой – историей востоковедной науки в России. Он возглавил
группу учёных, работавших над составлением коллективной
монографии по истории русского востоковедения. Эта область знания
очень привлекала учёного. Его интерес к ней, в частности, проявился в
том, что в течение нескольких лет он читал курс по истории
востоковедения в России и зарубежной историографии стран Дальнего
Востока для студентов-востоковедов МГУ. В конце 1950-х гг.
А.Л. Гальперин приступил к чтению лекций по историографии Японии.
Педагогическая деятельность А.Л. Гальперина не ограничивалась
МГУ. В разные годы он преподавал также в Московском
государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина, в Военной
академии им. М.В. Фрунзе. Среди читаемых им курсов, кроме
названных историографических, – страноведение, новая и новейшая
история стран Востока, история международных отношений,
средневековая и новая история Японии.
По воспоминаниям учеников, А.Л. Гальперин был добрым,
отзывчивым человеком, но в то же время требовательным
преподавателем. Работать под его руководством было трудно, но
интересно. Для дипломных, аспирантских работ, как правило,
выбирались малоизученные в российском японоведении темы. В
процессе работы с учениками А.Л. Гальперин не подсказывал им
решение проблем, а направлял на путь научного поиска.
И.А. Латышев, вспоминая А.Л. Гальперина, с которым ему
пришлось работать, особо подчёркивает его манеру общения с
молодыми коллегами, студентами – он не подавлял их своим
авторитетом, «свои взгляды высказывал, хотя и убеждённо, но в то же
время не категорично, в мягкой форме», не игнорируя мнения
собеседников. В 1950-е гг., когда отношения СССР с Японией только
налаживались, и японоведам было трудно найти работу по
специальности, А.Л. Гальперин нередко помогал своим ученикам в
трудоустройстве. О высоких нравственных качествах учёного говорит и
такой факт его биографии. В 1937 г. была арестована его соседка по
коммунальной квартире, у которой не оказалось никаких
родственников. А.Л. Гальперин посылал ей в лагерь посылки, деньги. В
те времена это требовало немало мужества.
Скончался А.Л. Гальперин (у него было больное сердце) на
утреннем заседании японской секции Международного конгресса
востоковедов после своего доклада на ней.
Литература: Лещенко Н. Вспоминая учителя (к 100-летию
со дня рождения А.Л. Гальперина) // Восток. 1996. №5;
Латышев И.А. Япония, японцы и японоведы. – М.:
Алгоритм, 2001.
Л.П. Делюсин
Лев Петрович Делюсин (родился в 1923 г.) – один из крупнейших
современных российских синологов. В годы Великой Отечественной
войны находился в действующей армии (с августа 1942 г. по февраль
1945 г.), награждён двумя боевыми орденами и несколькими медалями.
В 1950 г. закончил Московский институт востоковедения. В течение 10
лет после института занимался журналистикой, а в 1959 г. перешёл на
научную работу. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию по
истории. В 1967–1990 гг. (с небольшим перерывом) заведовал Отделом
Китая в ИВ АН. В 1990 г. Л.П. Делюсин перешёл на работу в Институт
международных экономических и политических исследований РАН, в
структуре которого есть Центр азиатских исследований.
Как учёный Л.П. Делюсин формировался на фоне и в тесной связи
с историей Китая. Первые его работы были посвящены гигантским
преобразованиям, происходившим в канун становления нового Китая,
последние – самым острым проблемам наших дней. Подход учёного к
предмету своего исследования во многом определяли перемены,
которыми отмечены последние десятилетия жизни нашей страны.
Научное творчество Л.П. Делюсина весьма многогранно. В этом
смысле он является продолжателем традиций предшествующих
поколений отечественных востоковедов, стремившихся к познанию
стран Востока в целостности их истории и современного бытия. Но в то
же время во всех его поисках есть главный интерес. Это анализ
социальных, политических, идеологических проблем, сопровождающих
переход Китая от патриархальности, феодализма к современному
обществу.
Этот интерес, являющийся лейтмотивом научных изысканий
Л.П. Делюсина хорошо прослеживается и в названиях его публикаций:
«Проблема единства трёх народных принципов Сунь Ятсена в трактовке
Ху Ханьминя», «Публицистика Лю Биньяня в борьбе с левацкими
элементами в Китае», «Китайская модернизация и традиция»,
«Реформы в Китае: проблемы и противоречия», «О новом подходе к
марксизму в Китае», «Политическая реформа и проблема демократии в
Китае», «Китайский опыт: отход от социализма или его обновление»,
«Дэн Сяопин и теория социалистической модернизации», «Теория
сверхустойчивости китайского феодализма» и т.д.
Важное место в идейно-политических, научных дискуссиях
последних десятилетий занимает проблема соотношения модернизации
и традиции. Л.П. Делюсин показывает неоднозначность местной
китайской традиции, наличие в ней как ретроградских наслоений, так и
высокого гуманистического начала, которое вполне сопрягается с
лучшими духовными ценностями европейской культуры.
Научное и публицистическое творчество Л.П. Делюсина нацелено
на раскрытие антигуманной сущности идей и режима, связанных с
именем Мао Цзедуна, его попыток под знаменем классовой борьбы
обесчеловечить китайский народ, в том числе и путём нападок на
Конфуция. Он детально анализирует сложный процесс постепенного
устранения устоев тоталитаризма, подчёркивая при этом, что даже
наиболее далеко идущие планы второго и третьего поколений
руководства китайских коммунистов никогда не предусматривали
введения в Китае демократии по образцу Запада. Учёный обращает
внимание на одну из особенностей современной китайской
политической системы, сближающей её с феодальной. Она, по его
мнению, в том, что старые руководители, формально выйдя в отставку,
сохраняют своё влияние. Это было в прошлом, но это есть и в
современном Китае, причём на всех уровнях власти. Тем не менее,
Л.П. Делюсин оптимистически воспринимает перспективу демократизации Китая. По его мнению, нельзя рассчитывать на её скорый
успех, но нельзя и не видеть перемен в сознании китайцев, особенно
молодёжи.
Большое внимание уделяет Л.П. Делюсин теоретическому
осмыслению проблем и перспектив социализма в КНР. Прослеживая
этапы и перипетии дискуссий по вопросу о том, какая общественная
система для Китая лучше, анализируя концепции социализма в разные
периоды, учёный предпочитает не делать однозначных, категоричных
выводов. «Социализм с китайской окраской», по оценке Л.П. Делюсина,
нельзя признать ни белым, ни красным, у него пока неопределённый
цвет, в этом и заключается специфика китайской модернизации,
переходного её периода.
Подводя итоги реформации Дэн Сяопина (а к этой личности
учёный проявляет особый интерес), Л.П. Делюсин приходит к
заключению, что теория Дэна о «социализме с китайской окраской»
становится в современных условиях теорией модернизации, теорией
развития, которую нельзя назвать ни буржуазной, ни пролетарской.
Л.П. Делюсин солидарен, таким образом, с выводом российского
экономиста Я.А. Певзнера: в наше время понятия «социализм» и
«капитализм» теряют своё значение.
Заметное место в исследованиях Л.П. Делюсина занимают и
отношения между Россией и Китаем как в прошлом, так и в настоящем.
Вклад Л.П. Делюсина в науку не ограничивается его собственным
творчеством. На протяжении нескольких десятилетий он был
руководителем целого ряда научных коллективов. Это не только отдел
Китая в ИВАН. Л.П. Делюсин был первым директором Института
научной информации по общественным наукам АН СССР. Институт
оказал позитивное влияние на выход гуманитарных наук в нашей стране
из состояния самоизоляции, приобщения их к современным идеям и
методикам. Это направление работ ИНИОНа во многом было задано его
первым руководителем.
Уход Л.П. Делюсина из ИНИОНа хорошо высветил то качество его
личности, которое никогда не приветствовалось официальными
властями и вызывало настороженное отношение к нему с их стороны.
Он убеждён в том, что человек имеет право отстаивать свою позицию.
Поэтому, когда отдел кадров Института начал вмешиваться в его
решения по приёму на работу новых сотрудников (а среди них были
люди, которые по идеологическим или иным причинам оказались
неугодными властям, но при этом являлись классными специалистами),
он поставил вопрос ребром. И его отставка была принята.
Л.П. Делюсину принадлежит заслуга регулярного проведения
плодотворных научных форумов. Одним из них является конференция
«Общество и государство в Китае», ежегодно более 30 лет собирающая
в ИВ РАН китаистов из разных стран городов. Публикации материалов
этих конференций (НКОГК – Научная конференция «Общество и
государство в Китае») составили уже многотомную библиотеку,
содержащую ценнейшие материалы практически по всем важнейшим
проблемам истории и современности Китая.
Организаторская и научная деятельность Л.П. Делюсина, таким
образом, сыграла заметную роль в деле повышения научного уровня
отечественных исследований не только в области китаеведения,
востоковедения, но и в сфере гуманитарных общественных наук в
целом.
Литература: Бергер Я.М. К 80-леию Льва Петровича
Делюсина // Восток. 2001. №6.
Г.Ф. Ким
Георгий Фёдорович Ким (1924-1989) – член-корреспондент АН
СССР (с 1965 г.), известный востоковед, занимавшийся изучением
новейшей истории Кореи, активный общественный деятель,
замечательный по отзывам людей, знавших его, человек.
Родился он в Приморском крае в семье крестьянина. Как и все
корейцы, Г.Ф. Ким в 1937 г. подвергся насильственному переселению и
оказался в Казахстане. Высшее образование он получил в Омске,
закончив исторический факультет педагогического института. Летом
1949 г. Г.Ф. Ким поступил в аспирантуру Тихоокеанского института АН
СССР. После её успешного окончания началась плодотворная работа
Г.Ф. Кима в Институте востоковедения АН СССР, где он стал
признанным лидером советского корееведения. Возглавляемый им
сектор в ИВАН был главным центром корееведческих исследований в
стране. Свои исследования по новейшей истории Кореи сотрудники
сектора, в том числе и Г.Ф. Ким, начинали практически с нуля.
Советская литература 1920–1930-х гг. явно переоценивала
революционные
возможности
корейского
национальноосвободительного и рабочего движения, прогнозируя скорейшую,
причём даже пролетарскую революцию в этой стране. Большинство
авторов корееведческих работ довоенного времени не смогли ни
развить свои взгляды, ни пересмотреть их, поскольку подверглись
репрессиям. Так что сколько-нибудь стройной концепции новейшей
истории Кореи в советском востоковедении 1940-х гг. не было.
Изучение истории Кореи в комплексе с проблемами современного
развития привело к расширению круга исследовательских интересов
Г.Ф. Кима, к рассмотрению глобальных проблем развития стран Азии и
Африки. По его инициативе в 1971 г. в составе ИВ АН был создан отдел
общих проблем стран Востока.
Как заместитель директора ИВ АН (1978–1989 гг.) Г.Ф. Ким
многое сделал для установления связей советских востоковедов с
международным научным сообществом.
Для стиля Г.Ф. Кима как организатора научных исследователей
была характерна ориентация на коллективное обсуждение сложных
научных проблем, в том числе и тех, которые официально считались
«запретными». Он был твёрдым и настойчивым в отстаивании того, что
считал справедливым. Так, он решительно выступил против гонений на
Л.П. Делюсина, Н.А. Симонию, А.И. Левковского.
Г.Ф. Ким занимался не только научной, но и общественной
деятельностью.
Он
был
заместителем
председателей
ряда
общественных структур – Комитета солидарности стран Азии и
Африки, Центрального правления Ассоциации содействия ООН,
Общества советско-корейской дружбы, председателем Всесоюзной
ассоциации советских востоковедов.
Глубокие знания, организаторская деятельность, доброжелательность, открытость, скромность снискали Г.Ф. Киму высокий
авторитет в научном сообществе. Этот авторитет позволял ему
выполнять различные, иногда деликатные поручения политического
руководства страны. Так, в декабре 1988 г. он посетил Южную Корею,
где имел встречу с президентом Ро Де У, прочёл несколько лекций в
Сеуле. Эта миссия была своеобразной прелюдией к установлению
дипломатических отношений СССР и РК в 1990 г.
О тематической направленности научных исследований Г.Ф. Кима
говорят названия его публикаций: «Рабочий класс новой Кореи»,
«Рабочий класс Кореи в революционном и социалистическом
строительстве», «От национального освобождения к социальному:
Социально-политические
аспекты
современной
национальноосвободительной революции», «Великий Октябрь и судьбы народов
Азии, Африки и Латинской Америки».
Новейшая история Кореи в этих и других работах рассматривалась
им сквозь призму принципов, официально принятых в советском
обществознании. Это теория народно-демократической революции;
положения о резком обострении противоречий между национальноосвободительным движением и империализмом; о возможности
некапиталистического пути развития для освобождающихся от
колониализма стран Востока, об СССР и социалистической системе как
благоприятном внешнем факторе для этого пути.
Современные оценки этой концепции как догматической,
разумеется, не лишены оснований. Но, давая такие оценки, нельзя
доходить до крайностей, т.е. до нигилизма.
Во-первых, потому, что любая эпоха, не только советская,
накладывает какие-то ограничения на научное творчество. Для
Г.Ф. Кима таковыми были не только господствовавшие идеологотеоретические принципы (в правоте которых он, судя по всему, был
глубоко убеждён), но и ограничения политического характера. По
условиям времени и по своему статусу он не имел возможности
подвергать сколько-нибудь открытой критике доктрины руководства
ТПК и КНДР.
Во-вторых, потому, что в работах Г.Ф. Кима, несмотря на их
определённую идеологическую и политическую заданность, есть
немало суждений, оценок, интерпретаций, которые представляют
интерес для нынешнего поколения корееведов. Дело в том, что
концепция Г.Ф. Кима основана на его глубоком знании фактических
реалий корейской истории. Именно это обстоятельство позволяло
Г.Ф. Киму вносить определённые поправки в тезисы северокорейской
историографии. Например, замечать, что программа «Чогук кванбок
хве» пропагандировалась в Корее лишь отдельными коммунистами, а не
являлась сложившимся единым национальным фронтом, как
утверждали корейские историки, апологетирующие роль Ким Ир Сена.
Как ошибку рассматривал Г.Ф. Ким переход Коммунистической партии
Южной Кореи к прямой вооружённой (партизанской) борьбе с
оккупационными и проамериканскими силами.
Таким образом, Георгий Фёдорович Ким является знаковой
фигурой одной из страниц отечественного корееведения. И для
современных учёных, осмысливающих корейскую историю ХХ в. с
иных, нежели Г.Ф. Ким, концептуальных позиций, его труды сохраняют
научную ценность, причём не только как историографические
памятники.
Литература: Георгий Фёдорович Ким (1924-1989). –
Портреты историков. Т.4. – М.: Наука, 2004. – С. 245–256.
Н.И. Конрад
Николай Иосифович Конрад (1891–1970) – академик, один из
крупнейших отечественных учёных-гуманитариев ХХ в. Он внёс
значительный вклад в изучение Японии и Китая. И этот вклад был по
достоинству оценён не только в России, но и за рубежом. В 1969 г.
японское правительство наградило Н.И. Конрада орденом Восходящего
солнца второй степени – высшим знаком отличия, предусмотренным в
Японии для иностранных граждан. Н.И. Конрад никогда не замыкался
на сугубо страноведческих исследованиях – в своих работах он ставил
важные проблемы общетеоретического характера. Он по праву
считается создателем признанной научной школы японоведов.
Родился Н.И. Конрад в Риге, высшее образование получил в
Петербурге, закончив в 1912 г. восточный факультет университета по
китайско-японскому разряду и одновременно Практическую восточную
академию. На восточном факультете вместе с ним или чуть позже
учились Н.А. Невский, О.О. Розенберг, М. Рамминг, братья Орест и
Олег Плетнеры, в Практической восточной академии – Е.Д. Поливанов,
в Токийском императорском университете первым из иностранцев
прошёл тогда же курс обучения С.Г.Елисеев. Все эти люди сыграли
значительную роль в становлении и развитии научного японоведения
сразу в нескольких странах – Германии, Франции, США, России. Из
тех, кто после революции остался на родине, наиболее значимая роль
принадлежит Н.И. Конраду.
По окончании университета Н.И. Конрад впервые съездил в
Японию для сбора материалов по японской системе образования, затем
год преподавал в Киевском коммерческом институте. В 1914 г. он
вернулся в Петербург для подготовки к профессорскому званию и был
снова послан на трёхгодичную стажировку в Японию. В Россию он
вернулся в 1917 г. Переписка с Н.А. Невским, оставшимся в Японии,
отражает чувства, переживаемые им в 1917–1918 гг., – растерянность,
метания и в то же время сохранение надежд на будущее. В годы
гражданской войны Н.И. Конрад в основном находился в Орле (под
Орлом было имение его отца), где при его активном участии был
открыт университет (правда, вскоре преобразованный в обычный
пединститут).
В 1922 г. Н.И. Конрад переехал в Петроград. В городе к тому
времени не осталось японистов, кроме Д.М. Позднеева, и Н.И. Конрад
сразу возглавил японские кафедры в университете и Институте
востоковедения. В 1930 г. он стал руководителем японского кабинета в
ИВ АН СССР. Все японисты, учившиеся в Ленинграде в 1922–1938 гг.,
были его учениками, в том числе Е.М. Жуков, Н.И. Фельдман (в 1927 г.
она стала женой Н.И. Конрада), А.А. Холодович, Ф.А. Тодер,
А.Е. Глускина, Е.М. Колпакчи и др.
1938–1941 гг. – годы заключения Н.И. Конрада. Сначала это была
ленинградская тюрьма, затем лагерь под Канском, с апреля 1940 г. –
московская тюрьма, где по ходатайству президента АН СССР
В.Л. Комарова ему разрешили работать по специальности. В 1941 г.
после освобождения Н.И. Конрад сразу же был назначен заведующим
кафедрой Московского института востоковедения и вскоре вместе с
институтом оказался в эвакуации в Ташкенте. Не у всех
репрессированных коллег Н.И. Конрада оказалась подобная судьба. В
конце 1950-х гг. Н.И. Конрад многое сделал для издания работ
Н.А. Невского, Ю.К. Щуцкого, расстрелянных в 1937–1938 гг. и
вернувшегося больным из заключения А.А. Штукина. Опубликованный
труд Н.А. Невского в 1962 г. получил Ленинскую премию.
По возвращении из эвакуации в 1944 г. Н.И. Конрад стал жить в
Москве, т.к. его квартира в Ленинграде пострадала во время
бомбардировок, и часть вещей и библиотеки погибла.
Работал Н.И. Конрад в 1940-е гг. очень активно. Он преподавал в
Московском институте востоковедения, в Военном институте
иностранных языков, по существу, руководил Московской группой
востоковедения АН СССР. С 1944 г. начали выходить его публикации.
Но конец 1940-х снова оказался тяжёлым периодом в жизни
Н.И. Конрада: кампания борьбы с космополитизмом затронула много
людей из его окружения, в том числе и его жену. Н.И. Фельдман была
уволена, он чувствовал неприязненное отношение к Московской группе
востоковедов со стороны руководства ИВАН, к тому же, ухудшилось
здоровье (он страдал астмой). И в 1950 г., не достигнув пенсионного
возраста, Н.И. Конрад ушёл на пенсию, оставив, правда, за собой
руководство аспирантами.
Пенсионная пауза, к счастью, не затянулась: весной 1951 г.
Н.И. Конрад вернулся в ИВАН, переехавший за год до этого в Москву,
и оставался там до конца жизни. Но к преподаванию он, однако, не
возвратился.
Круг научных интересов Н.И. Конрада поистине велик, причём не
только в тематическом, но и географическом планах. У него есть работы
по Корее («Очерки социальной организации корейцев»), Китаю.
Главным учителем Н.И. Конрада в университете был китаист
В.М. Алексеев, и это обстоятельство оказало своё влияние на
Н.И. Конрада – китаистика, особенно с конца 1940-х гг., заняла видное
место в его исследованиях. И всё же в научном сообществе он носил, по
его собственному признанию, «официальное звание «япониста».
Н.И. Конрада занимали многие проблемы японистики – истории,
культуры, литературы, языка, театра, системы образования.
Исследования учёного на всех этапах творчества стимулировались как
логикой научного поиска, так и потребностями времени,
востребованностью японистической тематики. Последнее, как говорил
Н.И. Конрад, предопределило в своё время и выбор его профессии –
решающее влияние на него оказала русско-японская война
1904–1905 гг.
Наиболее разработанная концепция японской истории содержится
у Н.И. Конрада в работах середины 1930-х гг., хотя первые его работы –
книга «Народ и государство», статья «Вопросы японского феодализма»
появились в 1920-е гг. Н.И. Конрад, по определению одного из
исследователей его творчества В.М. Алпатова, «никогда не был
«внутренним эмигрантом» и был восприимчив к господствующим в ту
или иную эпоху идеям». В советское время таковыми были идеи
марксизма. И уже в ранних исторических работах Н.И. Конрада чётко
просматривается попытка совмещения традиционных японских
концепций с марксистскими. В 1930-е гг. он окончательно переносит на
японский материал марксистскую схему («Надельная система Японии»,
«Лекции по истории Японии», ч.1 и др.), рассматривая историю Японии
до 1868 г. (более поздней истории Н.И. Конрад касался лишь
эпизодически) в терминах феодализма и феодальной эксплуатации.
Правда, догматизированный вариант марксистской схемы – так
называемую «пятичленку» – Н.И. Конрад не принял, не обнаружив в
японской истории черт «рабовладельческой формации».
Помимо чётко выраженного классового подхода, в работах учёного
проявилась и ещё одна черта советской японистики 1930-х гг. –
рассмотрение всего традиционного компонента японской культуры как
тормоза на пути прогрессивного развития, причём сознательно
сохраняемого реакционной властью.
Но при всех своих упрощениях концепция Н.И. Конрада была и
шагом вперёд как первая попытка рассмотреть японскую историю в
рамках всемирно-исторического процесса.
Идеи, связанные с новым пониманием всемирно-исторического
процесса, начинают активно развиваться Н.И. Конрадом в 1950-е гг.
Они получили название концепции «восточного Ренессанса». Суть её:
общемировой процесс Ренессанса, перехода от средневековья к Новому
времени, начался в Китае эпохи Тан (VII–Х вв.), затем распространился
на Ближний Восток и Среднюю Азию, а к XIII в. достиг Европы (статья
«Средние века в исторической науке» и др.). Подобная схема во многом
уже не вписывалась в принятые в советском обществознании
формационные представления. При любом представлении формаций
трудно приравнять предкапиталистичекую Европу к Китаю эпохи Тан.
Конечно, в концепции «восточного Ренессанса» явно проявилась
советская традиция борьбы с европоцентризмом. Но она расходилась с
другим свойством идеологии тех лет – особым выделением роли
русской культуры.
Концепция «восточного Ренессанса» в 1950-е гг. была очень
популярной. Она хорошо вписывалась в общественную ситуацию тех
лет. После ХХ съезда КПСС появилось, особенно у молодёжи,
стремление пересмотреть надоевшие схемы и догмы. Гипотезы типа
«восточного Ренессанса», не порывая окончательно с прошлыми
представлениями, давали ощущение новизны и антидогматизма.
Наибольшее место в научной деятельности Н.И. Конрада всегда
занимало изучение японских литературы и искусства. Особо значимой в
этом плане является книга «Японская литература в образцах и очерках»
(1927 г.). Несмотря на присущую ей в духе советского времени
социологизацию, она была переиздана в 1991 г. Ценность книги
определяется, прежде всего, полнотой очерка о литературе Японии, а
также её хрестоматийной частью: о многих литературных
произведениях российский читатель и сегодня может получить
представление только по описаниям Н.И. Конрада. Кроме того,
интерпретация Н.И. Конрада не ограничивалась социологическим
подходом как в книге, так и в других его публикациях значительное
место занимает анализ поэтики литературных произведений.
В 1935 г. коллектив ленинградских авторов опубликовал
хрестоматию «Литература Китая и Японии». Н.И. Конраду в ней,
помимо общей редакции, принадлежала вступительная статья, по идеям
предвосхищавшая его исследования более поздних лет. Уже в ней есть
сопоставление японской и китайской литератур, а также попытка
типологизации литературных жанров.
Своё развитие и завершение эти идеи получили в книге «Запад и
Восток» (1966 г.). Всё в ней, несмотря на разнообразие
рассматриваемых явлений, объединено общностью замысла. Автор
сосредотачивает внимание на том общем, что, по его мнению,
обнаруживается в разных культурах. Он сопоставляет греческого
историка Полибия и китайского историка Сыма Цяня (оба жили во II в.
до н.э.), религиозную философию разных народов, прослеживает
типичное в развитии литератур Запада и Востока. Так, например, в
книге проводится аналогия между средневековыми мистериями в
Европе и жанром ёкёку в Японии и т.п.
Видимо, многое в подобного рода синхронистических построениях
сегодня кажется устаревшим. Но сам пафос рассмотрения разных
явлений мировой культуры в едином всемирно-историческом контексте
тогда явно был направлен против тенденции к «фактографии, узкой
специализации». Кроме того, в книге Н.И. Конрада содержался призыв
к преодолению односторонней культурной ориентации на Запад и
проводилась характерная для других работ последних лет мысль: нельзя
мировую культуру сводить только к светской, важна и религиозная
культура.
Немало работ Н.И. Конрада посвящено проблемам языка. Это
«Синтаксис японского национального литературного языка» (1937 г.),
«Латинская письменность в Японии» (1945 г.), «О литературном языке в
Китае и Японии» (1954 г., 1960 г.), «О китайском языке» (1952 г.), «Об
изучении восточных языков в наших высших учебных заведениях»
(1952 г.), «О национальной традиции в китайском языкознании»
(1959 г.) и др.
Многие годы он руководил работой по составлению «Большого
японско-русского словаря», вышедшего за несколько месяцев до его
смерти. За этот труд Н.И. Конрад посмертно в 1972 г. был удостоен
Государственной премии СССР.
Н.И. Конраду принадлежит и немало переводов на русский язык
памятников классической японской литературы. Им были заложены
основы школы художественного перевода с японского, которой он
руководил несколько десятилетий. Исследователи научного творчества
учёного обращают внимание на то, что при изучении японских
литературы и искусства он не отделял научных задач от
просветительских. В отличие от востоковедов классического типа,
Н.И. Конрад работал с уже изданными в Японии текстами, стремясь
познакомить с ними широкие круги читателей в СССР.
У Н.И. Конрада мало работ по новейшей истории стран Востока,
современности вообще. Но он обладал удивительной способностью
связывать с ней явления прошлых эпох. Так, например, в описываемых
им расправах с конфуцианцами в 212 г. до н.э. и его рассуждениях по
этому поводу нетрудно было усмотреть аналоги с недавним советским
прошлым. Типичной для советской интеллигенции 1960-х гг. была
мысль Н.И. Конрада о том, что «устранять нужно и стремление
оправдывать антигуманистические действия некими «высокими»
целями» (Размышления об истории культурного развития человечества
// Народы Азии и Африки. 1963. №5. – С. 115). Ключевым для
Н.И. Конрада в 1960-е гг. стало слово гуманизм как «начало,
одушевляющее человека в его личном и общественном поведении…»
Гуманизм оказывался, таким образом, чем-то первичным, некоей
априорной категорией, что, скорее, согласовывалось с конфуцианским
верховным законом, чем с марксистским материализмом. В 1960-е гг.
проявился у Н.И. Конрада и отход от привычного для советской науки
понимания прогресса.
При всём этом в работах Н.И. Конрада в 1960-е гг. немало
марксистских формулировок и утверждений. И, по утверждению его
биографа В.М. Алпатова, вряд ли можно рассматривать их как только
результат цензуры. Скорее всего, дело в том, что идеи и мысли
«шестидесятников», а Н.И. Конрад, несомненно, к ним относился, были
далеко не цельными. То есть что-то из прежнего багажа ими
отвергалось, что-то сохранялось, но окончательного разрыва с
марксизмом не было.
Научная деятельность Н.И. Конрада продолжалась более полувека.
Она отразила сложный путь развития отечественной науки в
1910–1960-е гг. Многое в построениях, подходах Н.И. Конрада
менялось со временем. Но некоторые черты его творчества всегда
оставались неизменными: преобладающий интерес к изучению
культуры в разнообразных её аспектах, стремление к широким
обобщениям, сравнительный подход к объектам своих исследований,
связывающий воедино древность и современность.
Не всё в наследии Н.И. Конрада выдержало испытание временем.
Но значение его в истории отечественного востоковедения, и не только
востоковедения, велико. Он умел ставить проблемы, многие из которых
сохраняют актуальность и сегодня. Он создал значительную научную
школу, которая во втором и третьем поколениях существует по сей
день.
Литература: Николай Иосифович Конрад (1891–1970). –
Портреты историков. Т.4. – М.: Наука, 2004. – С. 492–512.
Алпатов В.М. Мечта учёного выдержала суровые
испытания (Воспоминания Воротынцева Н.И. о Н.И.
Конраде (1891-1970) // Азия и Африка. 1999. №7; Алпатов
В.М. Документ о заключении Н.И. Конрада // Восток. 2000.
№2.
Н.В. Кюнер
Николай Васильевич Кюнер (1877–1955) – один из выдающихся
представителей
российского
востоковедения.
Он
обладал
разносторонними знаниями в области истории, географии, этнографии,
культуры народов Дальнего Востока. Огромная эрудиция, знание
восточных языков (по его собственному признанию, он хорошо владел
одиннадцатью иностранными языками, в том числе шестью
восточными), личные наблюдения жизни японского, корейского,
китайского народов, глубокое и тщательное изучение документов,
летописей, хроник, литературы позволили Н.В. Кюнеру создать
оригинальные работы по Дальнему Востоку. Количество их огромно –
более 300 статей, монографий и 100 рецензий.
Родился Н.В. Кюнер в Тифлисе в семье учителя музыки, который
был родом из Германии, но, приехав в 80-х гг. ХIХ в. в Россию, принял
русское подданство. Своим родным городом Николай Васильевич
считал Петербург-Ленинград. Здесь он получил гимназическое, а затем
университетское образование (на восточном факультете по китайскоманьчжурско-тибетскому разряду). За выдающиеся успехи в учёбе
Н.В. Кюнера в 1900–1902 гг. командировали в Японию (в дальнейшем
он ещё не раз побывает в этой стране, а также в Китае, Маньчжурии в
1909, 1911, 1912, 1913 и 1915 гг.). По возвращении в Россию
Н.В. Кюнера назначили на должность профессора Восточного института во Владивостоке. В нём (в 1920 г. институт был преобразован в
восточный факультет местного университета) он проработал до 1925 г.
С 1925 г. Н.В. Кюнер трудился в Ленинграде (за исключением
1942–1944 гг., когда он находился в эвакуации в Алма-Ате). Основным
местом его работы до последних дней его жизни был Ленинградский
университет. Кроме того, с 1932 г. Н.В. Кюнер являлся старшим
научным сотрудником и долгие годы заведовал сектором Восточной и
Юго-Восточной Азии Института этнографии АН СССР. В своей
научной работе он был постоянно связан с ИВ АН СССР.
За время своей преподавательской деятельности профессор
Н.В. Кюнер прочитал более 50 курсов о Японии, Китае, Маньчжурии,
Корее, Индии, Монголии. Ему принадлежит разработка курса по
историографии стран Дальнего Востока.
Читаемые Н.В. Кюнером курсы всегда вырастали в учебные
пособия и монографии. Так, книга «География Японии» (1927 г.) многие
годы оставалась практически единственным учебным пособием для
студентов и преподавателей. Основой её стал учебный курс, впервые
разработанный Н.В. Кюнером.
По свидетельству многих людей, знавших Н.В. Кюнера, он был
прекрасным учителем для студентов, молодых учёных. Николай
Васильевич вёл занятия с аспирантами в университете, Институте
этнографии, ИВ АН СССР. Своим ученикам он прививал высокие
чувства научной добросовестности, трудолюбия, целеустремлённости,
скромности. Обладая неисчерпаемыми знаниями, Н.В. Кюнер щедро
раздавал их ученикам, предоставлял им материалы своих исследований,
переводы, делился открытиями. Многие советские востоковеды разных
поколений пользовались аннотированными библиографическими
материалами Н.В. Кюнера. Профессор Кюнер подготовил много
специалистов по истории и этнографии Китая, Японии, Кореи, Индии.
Среди его учеников такие известные востоковеды, как Б.К. Пашков,
А.А. Холодович, К. Харнский и др.
Н.В. Кюнер обладал поистине энциклопедическими знаниями по
странам Дальнего Востока. Они складывались из непосредственного
знакомства с ними. Путешествия по Японии (Японские острова он
прошёл с севера на юг), Китаю, Маньчжурии помогали в изучении быта,
нравов, языков народов этих стран. Всю свою жизнь он скрупулёзно
изучал источники – письменные документы (в архивах Ленинграда,
Москвы, Дальнего Востока, Средней Азии), памятники материальной
культуры. В Институте этнографии он вёл систематическое описание
коллекций по буддизму, по народностям Синьцзяна. В 1942–1944 гг. он
работал в архивах г. Алма-Аты, в государственной публичной
библиотеке, где имелись богатейшие корейские фонды. И, конечно же,
учёный постоянно изучал литературу, как отечественную, так и
зарубежную. В 1905–1906 гг. он был в научной командировке в Вене,
целью которой было ознакомление с западноевропейской литературой о
Восточной Азии.
Трудно обозначить сферы научных интересов Н.В. Кюнера. В
1909 г. он защитил в Петербурге диссертацию на степень магистра
истории Востока. В качестве таковой он представил четырёхтомное
«Описание Тибета». Труд включал в себя географическое,
этнографическое описания, экологический очерк, очерк по
политическому устройству и религии Тибета. Монография «Описание
Тибета» до сих пор остаётся явлением в отечественном востоковедении.
Во владивостокский период научно-педагогической деятельности
Н.В. Кюнером было создано более 65 работ, из которых 45
опубликованы. Это работы по экономической географии Китая,
географии стран Дальнего Востока, Японии, японской эмиграции, об
охране памятников старины в Китае, состоянии японской исторической
науки, экономической географии Кореи и т.д.
Ещё до Октябрьской революции 1917 г. Н.В. Кюнера интересовали
проблемы современной политической жизни стран Дальнего Востока.
После Октября 1917 г. эта тема, естественно, получила дальнейшее
развитие. Результатом научных изысканий Н.В. Кюнера в этом
направлении стала монография «Очерки новейшей политической
истории Китая» (1927 г.).
Н.В. Кюнер был непревзойдённым знатоком источников,
классической и современной исторической литературы стран Восточной
Азии. Источниковедческие статьи Н.В. Кюнера – это та литература,
которая не может не быть предметом внимания любого серьёзного
учёного – востоковеда.
В большом и малом Н.В. Кюнер высказывал оригинальные
научные мысли, ему принадлежит приоритет в разработке теории
этногенеза корейского народа.
Особой областью научных интересов Н.В. Кюнера являлась
библиография стран Дальнего Востока, которой он занимался свыше 55
лет. Научное значение подготовленных им библиографических работ
трудно переоценить. Это – «Библиография Тибета», «Указатель русской
этнографической литературы по народам Тихого океана» (2 редакции:
1927 и 1931 гг.), «Библиография по национальным меньшинствам
Китая» (1932 г.), «Библиография по Якутии» (1932 г.), «Библиография
китайской, корейской и японской литературы о народах Севера»
(1933 г.), «Литература о Монголии на китайском и японском языках»
(1935 г.), «Библиография китайской литературы о народах Севера» (3
редакции: 1933, 1938, 1947 гг.), «Библиография Кореи» (1935–1940 гг.)
и др. Им составлены словари географических названий Китая, Кореи,
Японии.
Научное наследие Н.В. Кюнера поистине необъятно. Даже простое
описание его архивного наследия, как справедливо подчёркивает один
из биографов учёного, поражает: трудно поверить, что всё это можно
было создать за одну человеческую жизнь.
Большая часть научной деятельности Н.В. Кюнера пришлась на
советское время. Но как учёный-востоковед он сформировался до
Октябрьской революции. В Кюнере–учёном воплощались лучшие черты
дореволюционной школы востоковедения – владение языками, глубокая
источноведческая подготовка, эрудиция. Как человек он являл собой
тип настоящего российского интеллигента.
Литература: Зенина Л.В. Н.В. Кюнер, историк Дальнего
Востока. – Очерки по истории Ленинградского
университета. Вып. 1. – Л.:Изд-во ЛГУ, 1962;
Кочешков Н.В. Кюнер Николай Васильевич. – Восточный
институт во Владивостоке (1899–1920 годы) и его
профессора. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 1999.
В.С. Мясников
Владимир Степанович Мясников (род. в 1931 г.) – академик
РАН. За всю историю Российской академии наук только шесть учёныхсинологов удостоились этого звания. В.С. Мясников в их числе.
В.С. Мясников прошёл все ступени академической лестницы – от
аспиранта до действительного члена РАН, от должности научнотехнического сотрудника Института китаеведения АН СССР до поста
заместителя директора Института Дальнего Востока РАН и заместителя
академика-секретаря Отделения истории РАН. Последняя из названных
должностей – свидетельство его большого научного авторитета не
только среди учёных-востоковедов, но и в научном историческом
сообществе в целом.
За долгие годы работы в различных структурах АН СССР и РАН
В.С. Мясников опубликовал более 250 научных и научнопублицистических трудов, в том числе несколько монографий. Часть из
них переведена на иностранные языки и издана за рубежом. Среди
публикаций В.С. Мясникова широкую известность имеют такие его
работы, как «Империя Цин и Русское государство в XVII веке» (1987 г.),
«Историко-культурные особенности экономического взаимодействия
России с Китаем» (1993 г.), «Россия и Китай: Контакты государств и
цивилизаций» (1996 г.), «Договорными статьями утвердили.
Дипломатическая история русско-китайской границы» (1996 г.) (за этот
труд В.С. Мясников удостоен академической премии им. Н.И. Кареева).
Одним из наиболее важных научных свершений В.С. Мясникова по
праву считается работа по выявлению и публикации архивных
документов, связанных с российско-китайскими отношениями в XVII–
XX вв. Начата она была совместно с д. и. н. Л.И. Думаном и академиком
С.Л. Тихвинским в конце 1950-х гг. и продолжается до сих пор.
Предпринятая впервые в практике российского китаеведения, эта работа
вылилась в многотомную серию публикаций «Русско-китайские
отношения в XVII–XIX вв.». Изданные документы стали бесценным
подспорьем для российских и зарубежных историков, изучающих
проблематику многовековых отношений двух великих держав.
Естественно, что этот капитальный труд вызвал большой интерес в
КНР, где он переведён на китайский язык.
В.С. Мясников выступает в этом труде не только в качестве
организатора и руководителя коллектива документалистов. Он – автор
обширных аналитических предисловий, а также комментариев ко всем
шести объёмистым томам серии и её продолжению, охватывающему
документы ХХ века.
Огромный документальный массив, подкреплённый изучением
русской, китайской, западной литературы по Китаю, стали прочной
базой многочисленных научных трудов В.С. Мясникова, в том числе
аналитических записок для различного рода правительственных
государственных структур.
Коллеги В.С. Мясникова особо подчёркивают, что с самого начала
своей научной деятельности и по сей день он самым теснейшим
образом увязывает свои фундаментальные исследования истории Китая
и российско-китайских отношений с решением существующих и
назревающих задач политики нашего государства на китайском
направлении. Поэтому вполне закономерно, что В.С. Мясников,
начиная с 1969 г., состоял экспертом Советской правительственной
делегации на переговорах в Пекине по пограничным вопросам. В
настоящее время он в том же качестве включён в состав Комиссии МИД
по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона. В.С. Мясников
убеждён, что научные знания, особенно исторические, должны
высвечивать наиболее рациональный путь движения своего народа,
своей страны к достойному месту и роли в мире. И в этом плане он
является продолжателем традиций, заложенных отечественными
востоковедами ещё в XIX в.
Спектр научных интересов В.С. Мясникова, как и у всякого
большого учёного, достаточно широк. Одно из направлений его
научного поиска – история России вообще и история российской
дипломатии в частности. И на этом направлении академик закрывает
одно из «белых пятен» отечественной истории. Он опровергает
устоявшееся мнение о том, что зарождение отечественной дипломатии
относится к началу XV в. Скрупулёзно проанализировав многовековый
опыт древней и средневековой Руси, В.С. Мясников приходит к
утверждению, что нельзя перечёркивать этот весьма протяжённый
период отечественной дипломатии. Это утверждение позитивно
воспринято специалистами в области истории дипломатии.
Приоритетной же сферой в научной деятельности В.С. Мясникова
всегда была проблематика российско-китайских отношений и, прежде
всего, пограничная тематика. В этой тематике профессионализм
учёного доведён, по мнению гл. кор. РАН М.Л. Титаренко и проф.
А.Г. Яковлева, до высшей точки совершенства. Концепция
В.С. Мясникова заключается в том, что национально-государственные
интересы двух стран никогда не были антагонистическими и что
возникающие между ними трения и проблемы устранялись, смягчались
дипломатическими средствами. Именно поэтому на протяжении почти
четырёх столетий своего взаимодействия две соседние великие страны
ни разу на находились в состоянии объявленной широкомасштабной
войны.
Межгосударственные
отношения
России
с
Китаем
В.С. Мясников впервые рассматривает как форму межцивилизационного евразийского и восточно-азиатского цивилизационных
комплексов. Критический анализ зарубежной историографии,
проведённый автором, показывает несостоятельность попыток
некоторых её представителей исказить 300-летний процесс
международно-правового оформления совместных рубежей двух
держав. Традиции добрососедства, как считает В.С. Мясников, –
надёжный фундамент конструктивного сотрудничества и стратегического партнёрства России и КНР на длительную перспективу.
В последние годы В.С. Мясников концентрирует своё внимание на
вопросах, связанных с формированием новой политической структуры
мирового сообщества и с конкретными проявлениями этого процесса в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, он исследует объективные основы и перспективы развития стратегического партнёрства
России и КНР, а также становления «стратегического треугольника»
«Россия-Китай-Индия» и неизбежного возрастания роли «Шанхайской
пятёрки».
Много сил и внимания В.С. Мясников отдавал и отдаёт подготовке
научных кадров и как руководитель исследовательского коллектива, и
как наставник аспирантов и докторантов, и как вузовский
преподаватель. В последнее время он ведёт преподавательскую работу в
Институте стран Азии и Африки при МГУ и в МГИМО.
Обширна деятельность В.С. Мясникова и на общественном
поприще. Он является заместителем председателя Общества российскокитайской дружбы, председателем Ассоциации китаеведов РАН и т.п.
Многочисленные публикации, доклады на различных, в том числе
международных научных и общественно-политических форумах, с
которыми выступает В.С. Мясников в последние годы, свидетельствуют
о том, что он продолжает оставаться активной творческой фигурой в
российском востоковедении.
Литература: Титаренко М.Л., Яковлев А.Г. Академику В.С.
Мясникову – 70 лет // Проблемы Дальнего Востока. 2001.
№3;
Премия имени Н.И. Кареева 2000 года - В.С. Мясникову //
Вестник РАН. 2001. т. 71. №2.
С.Ф. Ольденбург
Сергей Фёдорович Ольденбург (1863–1934) – это личность, в
которой, по всеобщему признанию, удивительно сошлись два таланта –
талант учёного и талант организатора. Последний помог ему провести
корабль Академии сквозь бурные десятилетия первой трети ХХ в.
С.Ф. Ольденбург происходил из старинного германского
дворянского рода – впервые имя рода упоминается в Ольденбургской
хронике 1247 г. Российская история одной из ветвей рода началась в
XVIII в. Военная его линия оборвалась на отце С.Ф. Ольденбурга в
1867 г., оба сына которого выбрали другую стезю служения России.
С.Ф. Ольденбург в 1881 г. поступил на Восточный факультет
Петербургского университета по санскрито-зендско-персидскому
разряду. По окончании курса учёбы С.Ф. Ольденбург очень быстро
приобрёл известность как блестящий учёный-индолог и уже в 1904 г.
стал непременным секретарём, то есть по-нынешнему учёным
секретарём Президиума Академии наук. На этом посту он находился до
1929 г. Четверть века С.Ф. Ольденбург осуществлял руководство всей
повседневной организационной деятельностью Академии, активно
участвовал в разработке планов, перспектив её развития.
Это была для него нелёгкая ноша. И потому, что обширными были
его личные интересы и замыслы. И потому, что ему пришлось
заниматься реорганизацией Академии в соответствии с требованиями
новой власти после Октября 1917 г., налаживать контакты учёных с
этой властью.
С.Ф. Ольденбург был одним из первых российских учёных –
представителей старой академической школы, кто принял советскую
власть. Он сумел также убедить сделать подобный шаг и президента
Академии наук А.П. Карпинского и вице-президента В.А. Стеклова. В
голодные и холодные годы гражданской войны он отдал себя делу
спасения научных учреждений, учёных. Он был правой рукой
А.М. Горького в комиссии по улучшению быта учёных. Во многом
благодаря его усилиям и хлопотам даже в эти годы научная работа в
Академии наук продолжалась. Каждый год С.Ф. Ольденбург
докладывал общему собранию о подготовленных к печати и изданных
научных трудах, о новых полученных результатах. Примечательно
письмо от 20 октября 1918 г., отправленное С.Ф. Ольденбургом
племянницам своего наставника И.П. Минаева: «В Академии работаю
усердно, мы считаем, что, как бы ни слагалась политическая жизнь,
научная и культурная работа должна идти непрестанно, дабы не
погибла страна» (Новая и новейшая история. 1994. №1. – С. 226).
Будучи убеждённым в необходимости установления тесных связей
науки с жизнью во имя блага России, С.Ф. Ольденбург и в эти, и в
последующие годы проводил политику активного участия Академии в
решении практических задач, которые ставились Советским
государством. В мобилизации научного потенциала Академии на
службу этому государству роль С.Ф. Ольденбурга велика. По
признанию академика Г.К. Скрябина, Сергей Фёдорович «был одним из
лидеров Академии наук не только по должности, но и по признанию, по
личной авторитетности и влиятельности» (Вестник Академии наук
СССР. 1984. №9. – С. 111).
Это не значит, что не было сложностей во взаимоотношениях с
коллегами. В среде академиков имели место и соперничество, и личные
амбиции, и пристрастные суждения друг о друге. Не были
безоблачными и отношения с властью. Несмотря на то, что
С.Ф. Ольденбург решительно расстался со своим прошлым, его как
бывшего кадета, члена Временного правительства (в июле-августе 1917
г. он занимал в нём пост министра просвещения), преследовали: в доме
неоднократно проводились обыски, а в сентябре 1919 г. его подвергли
аресту. 17 дней С.Ф. Ольденбург провёл в тюрьме и освобождён был
под давлением научной общественности.
Огромна роль С.Ф. Ольденбурга в становлении советского
востоковедения. В его размышлениях, оценках, констатациях
подчёркивались
междисциплинарный
комплексный
характер
востоковедения, необходимость многостороннего анализа не только в
отношении древнего и средневекового, но и современного Востока,
причём не по проторённым, традиционным дорожкам, а с включением в
исследовательский процесс изучения экономики, политики, новейшей
истории (С.Ф. Ольденбург. Восток и Запад в советских условиях. М. –
Л., 1931г. Свои взгляды и убеждения С.Ф. Ольденбург вносил и в
практическую деятельность. С 1904 г. и до конца своей жизни он был
бессменным руководителем главного востоковедного центра страны –
сначала Азиатского музея, а затем созданного на его основе
академического Института востоковедения.
Во многих воспоминаниях об С.Ф. Ольденбурге отмечается то, что
он был прирождённым деятелем и организатором. Профессор
М. Азадовский, хорошо знавший С.Ф. Ольденбурга, писал в 1934 г.:
«Изумительные организационные способности – основная черта в
характере и работе Сергея Фёдоровича. Подобно тому, как поэт каждую
идею представляет в ритмах и созвучиях, художник в линиях и
красочных пятнах, так для Сергея Фёдоровича каждая проблема
принимала всегда чёткие организационные формы» (Вестник АН СССР.
1984. №9. – С. 108).
Совершенно очевидно, что общественное и организаторское
признание С.Ф. Ольденбурга требовали от него немалых жертв. Ими
были его собственные научные замыслы, часть которых оказалась
неосуществлёнными. Сам Сергей Фёдорович писал: «Мне казалось, что
важнее, может быть, чем труд личный, тут будет труд
организационный, продумывание и осуществление общих работ. Почти
всегда особенно у нас, гуманитариев, это значит отказ от многих
личных работ, причём всегда остаётся невыясненным, кто поступает
здесь правильнее и целесообразнее» (Вестник АН СССР. 1984. №9. –
С. 109).
При всём этом С.Ф. Ольденбург был выдающимся востоковедом,
учёным с мировым именем. Он состоял почётным членом английского
Королевского Азиатского общества и французского Азиатского – двух
наиболее старых и авторитетных научных обществ, почётным
председателем общества изучения буддийской литературы в
Гейдельберге, членом-корреспондентом Берлинской и Геттингенской
академий, почётным членом Археологического института в Индии и
доктором Абердинского университета.
В востоковедном творчестве С.Ф. Ольденбурга главное место
занимали буддология и индология. Но, по признанию многих коллегиндианистов, даже в этих специальных областях его деятельность была
столь многообразной, что описать полностью его индологическое
наследие
достаточно
трудно.
С.Ф.
Ольденбурга
отличали
исключительная эрудиция и широта научных поисков. Он был
превосходным филологом, текстологом, фольклористом, крупным
буддологом, археологом – исследователем индийских древностей в
Центральной Азии, одним из первых отечественных историков древней
Индии, зачинателем в России новой отрасли индологии – истории
отечественной индологической науки.
Интерес к Индии возник у С.Ф. Ольденбурга очень рано. Ещё в
детстве он решил выучить санскрит, чтобы поехать в Индию и
познакомиться с далёким прошлым человечества. В университете он
получил прекрасное востоковедное образование: изучал санскрит,
арабский, персидский, китайский и тибетский языки. Университет
привёл его к убеждению, что «индийская культура – одна из
замечательнейших культур человечества».
Учителем С.Ф. Ольденбурга был выдающийся индолог
И.П. Минаев, создатель русской индологической школы, разносторонний учёный, блестяще знавший не только древние языки и тексты,
но и интересовавшийся современной Индией.
Первый период в индологических исследованиях С.Ф. Ольденбурга
был связан с изучением народной литературы и фольклора Индии.
Такой подход во многом был новаторским. В Европе в это время – в
конце ХIХ в. – объектом внимания индологов являлась ведическая и
классическая санскритская литература. Работа над рукописными
собраниями в библиотеках Лондона и Парижа закончилась написанием
его главного труда по древнеиндийской литературе «Буддийские
легенды и буддизм», который в 1894 г. был защищён им в качестве
магистерской диссертации. Работая над рукописями, С.Ф. Ольденбург
овладевал такой труднейшей отраслью индологии, как палеография.
Впоследствии это позволило ему провести первоклассные исследования
индийских текстов из Восточного Туркестана. Уже в то время
проявилось ещё одно важное качество С.Ф. Ольденбурга: к анализу
литературных памятников он подходил с позиций историка. Он одним
из первых в мировой индологии и буддологии высоко оценил
значимость буддийских сказаний как исторического источника для
изучения социальной и духовной жизни древнеиндийского народа.
Изучение индийской народной, в том числе буддийской,
литературы привело С.Ф. Ольденбурга к исследованию индийского
буддийского искусства в целом. В этой области индологии ему
принадлежит большое количество работ, здесь его авторитет был очень
высок и получил международное признание. С.Ф. Ольденбург впервые
ввёл в научный оборот ценные памятники буддийского искусства из
российских собраний.
С.Ф. Ольденбург предложил свою концепцию происхождения и
развития индийского искусства, отличную от складывающихся тогда у
западноевропейских учёных взглядов на эту проблему. Основу их
составляло убеждение в том, что именно буддийское искусство –
предтеча древнеиндийского искусства в целом. С.Ф. Ольденбург в
1901 г. выступил против такой апологетики буддийского искусства,
отстаивая идею брахманистской основы буддийского искусства,
подчёркивая, что это никоим образом не умаляет роли буддизма как
мировой религии и носителя индийской цивилизации вне Индии.
С.Ф. Ольденбург был одним из первых учёных в мировой
индологии, кто обратил внимание на необходимость изучения
гандхарского искусства (Гандхара – северо-западная пограничная
область древней Индии). Эту проблему он разрабатывал с начала
1900-х гг. Результатом изысканий был вывод о том, что Гандхара
сыграла большую роль не только в истории индийского искусства, но и
культуры Непала, Тибета, Восточного Туркестана, Средней и ЮгоВосточной Азии. С.Ф. Ольденбург, таким образом, выступал против тех
учёных (а их было тогда большинство), которые полагали, что
гандхарское искусство было провинциальным вариантом грекоримского искусства, влияние же индийских, культурных традиций либо
недооценивали, либо вообще отрицали.
С.Ф. Ольденбург решительно выступал против довольно
распространённого мнения о неисторичности индийцев, отсутствии у
них чисто земных устремлений. По его мнению, подобные идеи
«коренятся в неправильном методологическом подходе», то есть в том,
что учёные часто отрывают искусство и культуру от всей совокупности
социальных и экономических отношений (См.: «Современная
постановка изучения изобразительных искусств и их техники в Индии»,
1931). Исторические источники, по глубокому убеждению учёного,
имеются даже для относительно древних периодов истории Индии.
В этой связи он уделил специальное внимание эпиграфике и
свидетельствам шастр – «сводов этико-правовых норм». Одним из
первых в отечественной индологии он высоко оценил значение
политического трактата «Артхашастра» («Наука о достижении
полезного») для реконструкции социально-экономических отношений в
Древней Индии. По его инициативе в ИВ АН в 1930 г. была создана
группа во главе с Ф.И. Щербатским для перевода этого трактата на
русский язык и уже в 1932 г. основная часть работы была завершена
(перевод первого тома «Артхашастры» сделал сам С.Ф. Ольденбург).
С именем С.Ф. Ольденбурга связано и такое международное
предприятие как серийное издание «Bibliotheca Buddhica». Это издание
было начато ещё в 1897 г. Целью проекта стала публикация
оригинальных и переводных буддийских сочинений, связанных с
северным буддизмом. К работе были привлечены крупнейшие учёные
из разных стран. Осуществление этого проекта, по словам
Ф.И. Щербатского, доставило отечественной Академии наук заслуженную славу.
Особое место в индологическом наследии С.Ф. Ольденбурга
занимает центральноазиатская тематика – изучение санскритских
буддийских текстов и памятников искусства Центральной Азии.
Заметной вехой в истории мировой индологии и буддологии стали
возглавляемые С.Ф. Ольденбургом научные экспедиции в Восточный
Туркестан, открывшие миру многие замечательные памятники древней
культуры, в том числе знаменитые пещеры Дуньхуана. Благодаря
усилиям и личному участию учёного в Азиатском музее была собрана
богатейшая коллекция центрально-азиатских рукописей. Их изучением
до сих пор занимаются востоковеды, причём не только российские.
Характерной чертой творческой биографии С.Ф. Ольденбурга был
гражданский пафос, вера в неисчерпаемые возможности народов
Востока. Ещё будучи молодым учёным, он пришёл к глубокому
убеждению о необходимости расширения востоковедных исследований
в России. Россия, как многократно подчёркивал С.Ф. Ольденбург,
более, может быть, чем какая другая страна, нуждается и в
практическом изучении, и в теоретическом знании Востока. Он же
одним из первых советских востоковедов-индологов осознал
необходимость расширения предмета традиционной индологии,
важность изучения современного Востока.
С.Ф. Ольденбург постоянно интересовался историей мирового
востоковедения и прекрасно её знал. Ему принадлежит целая серия
статей, заметок о жизни и творчестве корифеев индологической науки.
Причём это был не просто интерес биографа – изучая историю
индологии, он выявлял наиболее важные для индолога черты
исследовательского метода, искал пути реализации творческих планов и
замыслов. С глубочайшим вниманием следил С.Ф. Ольденбург за
трудами индийских учёных, высоко оценивал достижения индийской
исторической науки. Не случайно он пользовался высочайшим
авторитетом среди индийских индологов.
Эпиграфом к деятельности академика С.Ф. Ольденбурга как
востоковеда-индолога вполне могут быть его собственные слова: «При
всех несомненных отличиях Востока от Запада, Восток свою духовную
жизнь строил на тех же общечеловеческих началах, как и Запад, живёт
по тем же общечеловеческим законам исторического развития»
(Вестник АН СССР. 1984. №9. – С. 121).
С.Ф. Ольденбург, несомненно, занимает достойное место в ряду
российских учёных, которые своим вкладом в мировую науку
обеспечивали высокий престиж отечественной науки.
Литература: Скрябин Г.К. Выдающийся организатор науки
// Вестник АН СССР. 1984. №9;
Примаков Е.М. С.Ф. Ольденбург и становление советского
востоковедения // Вестник АН СССР. 1984. №9;
Бонгард-Левин Г.М. С.Ф. Ольденбург как индолог и
буддолог // Вестник АН СССР. 1984. №9;
С.Ф.Ольденбург.Портреты историков. Т.3. – М.: Наука,
2004.
Серебряков И.Д. Непременный секретарь АН академик
Сергей Фёдорович Ольденбург // Новая и новейшая
история. 1994. №1.
Н.А. Симония
Симония Нодари Александрович родился в 1932 г в Тбилиси. В
1950–1955 гг. он был студентом Московского института востоковедения, в 1955–1958 гг. учился в аспирантуре МГИМО, затем более 30
лет проработал в Институте востоковедения АН СССР. В 1988 г.
перешёл на работу в Институт мировой экономики и международных
отношений АН СССР (сейчас Российской Академии наук). В настоящее
время он является директором этого института.
Кандидатскую диссертацию Н.А. Симония защитил в 1954 г.,
докторскую – в 1974 г. В 1990 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1997 г. – действительным членом РАН. В
1998 г. он становится академиком-секретарём Отделения международных отношений РАН.
Н.А. Симония – автор 17 научных монографий и брошюр,
множества статей и критико-библиографических работ. Многие из его
трудов переведены на европейские и восточные языки.
Круг научных интересов учёного многообразен. Но все его труды
пронизывает стремление к выявлению сквозных всемирноисторических тенденций, которые красной нитью проходят через
несхожие судьбы различных социальных массивов, стран, регионов в
различные исторические эпохи. Это обстоятельство тем более важно
отметить, что научные пристрастия Н.А. Симония складывались в то
время, когда исследователи работали поврозь, почти не соотнося друг с
другом проблемы и результаты своих изысканий.
Первой серьёзной вехой в своей научной деятельности
Н.А. Симония считает свою кандидатскую диссертацию (1958 г.). Речь в
ней шла о хозяйственной активности и роли китайского населения в
экономике стран Юго-Восточной Азии. В те годы эта работа выглядела
необычно и непривычно как по названию, так и по теме. Книга
Н.А. Симония вскоре была переведена на английский язык в США, что
являлось своеобразным исключением из правил: американцы
предпочитали тогда переводить советские издания, посвящённые лишь
точным и естественным наукам и технологиям.
В 1975 г. появилась его монография «Страны Востока: пути
развития». Центральные темы книги – анализ структур и динамики
великих революций (последнее рассматривалось им сквозь призму
категорий «забегания» и «отката»), революционных крайностей и
экстремизма. Эти и другие темы прослеживались автором от самых
первых буржуазных революций до тех, которые шли вслед за Англией,
в том числе в колониальной и зависимой Периферии. «Мировая
буржуазная революция» – вот что, по мнению учёного, во многом
предопределяло контекст социально- и культурно-исторической трансформации восточных обществ XVIII–XX вв.
Этот вывод Н.А. Симония шёл вразрез с идеями, которые в
1970-е гг. разрабатывались в отечественной науке. В соответствии с
ними феномен «буржуазной революции» – это явление далёкого
прошлого, в ХХ же веке уже действуют новые социальные связи,
понятия, идеи, производительные силы, которые предопределяют выбор
не буржуазного, а социалистического вектора развития странами
третьего мира. Поэтому книга Н.А. Симония «Страны Востока…» стала
причиной идеологического скандала, а ему самому в связи с этим
пришлось пережить немало трудных моментов.
В 1984 г. под руководством Н.А. Симония и со значительной долей
его текстов вышла в свет ещё одна монография «Эволюция азиатских
обществ: синтез традиционного и современного». В ней была выстроена
классификация трёх моделей капитализма, фактографический анализ
которых показал умение Н.А. Симония и его коллектива увидеть
всемирную историю и, в частности, историю стран Востока, в их
сквозных диалектических взаимосвязях.
Как востоковед Н.А. Симония уделил особое внимание синтезным
феноменам в колониальных и постколониальных условиях, подчёркивая
при этом, что в капиталистической трансформации стран третьего мира
лидирующим является не частнохозяйственный капитализм, а чаще
всего коррумпированный бюрократический капитализм.
Третья большая книга, которая писалась под руководством
Н.А. Симония и на основе его авторских принципов, – «Город в
формализационном развитии стран Востока» (опубликована в 1990 г.).
В ней был вскрыт и проанализирован один из важнейших и давно
осознанных Н.А. Симония пробелов российской востоковедной мысли
советского периода – недостаток соотнесения понятий модернизации с
понятиями о глубинно-исторических матрицах восточных обществ и
культур.
В основе трудов Н.А. Симония, как подчёркивают Е.Б. Рашковский
и В.Г. Хорос, лежит особый критический востоковедный марксистский
дискурс. Он основан на тщательном изучении теоретической
марксистской традиции, в том числе и анализе трудов самого
К. Маркса. И этот анализ для Н.А. Симония – базис, отталкиваясь от
которого он пытается определить долговременные всемирноисторические тенденции, пронизывающие все сферы общества в разные
эпохи. Такой подход требует обобщения и взаимного соотнесения не
только огромного теоретического материала,
но и конкретноисторического материала по истории народов Востока и Запада,
Старого и Нового Света и т.д. И всё это присутствует в научных трудах
Н.А. Симония.
Сам Н.А. Симония считает, что отечественная наука слишком
поспешно и неразумно отказалась от концепции формационного
развития. Во-первых, потому, что, по его мнению, учёные не должны не
замечать ту пропасть, которая отделяет подлинные идеи и построения
Маркса, Энгельса и даже Ленина о формационном развитии от того, как
представлялись эти идеи в советское время политиками и многими
представителями учёного мира. Во-вторых, потому, что под формацией
не следует иметь в виду одну только социально-экономическую сферу и
тем более полагать, что каждое данное общество должно обязательно и
последовательно пройти через все известные формации. В-третьих, по
глубокому убеждению учёного, без учёта азиатского способа
производства невозможно понять суть общественного развития
большинства стран Востока. Формационный подход не исключает
альтернативности исторического процесса, особенно в странах
догоняющего развития, поскольку в мире существуют, влияют друг на
друга разные цивилизации и разные типы формационного развития
(Н.А. Симония не склонен к жёсткому ограничению численности этих
типов).
Эти и другие подобные суждения – результат долговременных
научных поисков Н.А. Симония, и он отстаивает их не только сейчас.
Он отстаивал их и в середине 1970-х гг., когда выступал с критикой
советского обществоведения. В 1973 г. Н.А. Симония написал
докторскую диссертацию «Некоторые закономерности революционных
процессов в странах Востока». Этот труд учёного некоторыми его
оппонентами был назван антисоветским, автора обвинили в
антимарксизме. Сам же Н.А. Симония тогда указывал, что он в своей
работе был предельным марксистом, и что подлинный марксизм не
имеет ничего общего с тем марксизмом-ленинизмом, который им
изучался до того времени. В этом его убеждало чтение новых изданий
Ленина и Маркса (вышедших благодаря, как он пишет, Хрущёву почти
без купюр, в достаточно полном виде).
Последние годы Н.А. Симония работает над проблемами
глобалистики и новейшей отечественной истории (в 1991 г. им
опубликована работа под названием «Что мы построили»). Эти
исследования во многом связаны с его макроисторическими
наработками предшествующих десятилетий.
Главное, что характеризует творческий облик Н.А. Симония, – это
его подход к истории экономики и социальности на высоких уровнях
теоретического обобщения. И это обстоятельство предопределяет
глубокий научный интерес к его творчеству, осмыслению всего того
нового, чем обогатилась востоковедная наука благодаря исследованиям
учёного.
Литература: Рашковский Е.Б., Хорос В.Г. От составителей.
– Восток – Запад – Россия. Сб. статей. – М.: ПрогрессТрадиция, 2002;
Симония Н.А. Интервью Е.Б. Рашковскому. – Восток –
Запад – Россия. Сб. статей. – М.: Прогресс-Традиция, 2002.
С.Л. Тихвинский
Сергей Леонидович Тихвинский (род. в 1919 г.) – академик,
видный историк-востоковед, организатор науки, общественный деятель,
дипломат, автор более 500 научных работ, в том числе 10 монографий.
Образование он получил в Ленинградском университете, где
окончил четыре курса филологического факультета, и на китайском
отделении Московского института востоковедения. Его учителями были
такие выдающиеся представители отечественного востоковедения как
академики И.Ю. Крачковский, В.М. Алексеев, В.В. Струве. Они
помогли развиться его исследовательскому таланту, привили глубокий
интерес и любовь к избранной специальности. В дальнейшем это
позволило С.Л. Тихвинскому обеспечить в своих трудах
преемственность
демократических
традиций
отечественной
востоковедной науки, а благодаря широте охвата предмета изучения и
глубине научного анализа развить и обогатить её.
Особая страница биографии С.Л. Тихвинского – дипломатическая
служба в Китае, Англии, Японии (1939–1957), работа в Историкодипломатическом управлении МИД СССР, в Коллегии МИД СССР,
заведующим отделом стран Азии в Госкомитете по культурным связям
с зарубежными странами при Совете Министров СССР.
С.Л. Тихвинский имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.
С.Л. Тихвинский являлся непосредственным
свидетелем и
участником событий, которые развёртывались в конце 1930–1940-х гг. в
Китае – освободительной войны против японских милитаристов, а затем
гражданской войны. В октябре 1949 г. именно С.Л. Тихвинский –
генеральный консул СССР – был тем дипломатом, который от имени
правительства СССР осуществил акт признания Китайской Народной
Республики и установления дипломатических отношений с ней.
Талант учёного и дипломата, глубокие знания стран Востока
предопределили и роль, которую С.Л. Тихвинский сыграл в середине
1950-х гг. в установлении дипломатических отношений между
Советским Союзом и Японией. Он был первым представителем СССР в
послевоенной Японии.
Всё это время С.Л. Тихвинский вёл активную научную работу.
Поэтому его переход в Академию наук в начале 1960-х гг. был вполне
естественным. Уже в аспирантские годы в Тихоокеанском институте
АН СССР определился научный выбор С.Л. Тихвинского – проблемы
истории Дальнего Востока. Труды по истории международных
отношений на Дальнем Востоке, новой и новейшей истории Китая,
Японии и др. стран стали крупным вкладом в отечественное
востоковедение. Основное направление его научной деятельности –
изучение реформ и революций в Китае. С.Л. Тихвинским написаны
такие работы как «Китай и его соседи в новое и новейшее время»,
«История Китая и современность», «Китай и всемирная история»
(1988 г.), «Сунь Ятсен. Внешнеполитические воззрения и практика»,
«Движение за реформы в Китае и Кан Ювэй», «Завещание китайского
революционера. Сунь Ятсен: жизнь, борьба и эволюция политических
взглядов» (1986 г.).
Дальнейшим развитием концепции о роли реформ и революций в
Китае, получившей отражение в исследованиях о Кан Ювэе и Сунь
Ятсене, стала большая монография С.Л. Тихвинского «Путь Китая к
объединению и независимости, 1898–1949. По материалам биографии
Чжоу Эньлая» (1996 г.). Она посвящена жизни и деятельности одного из
крупнейших революционеров и реформаторов современного Китая,
первого премьера и министра иностранных дел КНР Чжоу Эньлая, с
которым учёный был лично знаком. Анализ исторических событий в
этой книге сочетается с увлекательным изложением политической
биографии Чжоу Эньлая. С.Л. Тихвинскому, таким образом, удалось
расширить рамки жанра исторической биографии.
Обращается учёный и к отечественной истории. Его внимание
привлекает роль советской дипломатии в мировой политике в наиболее
ответственные периоды истории. Так, предметом его внимания стала
Генуэзская конференция, деятельность Наркомата иностранных дел
СССР и его зарубежных представительств в годы Великой
Отечественной войны.
Всегда доброжелательно относясь к изданию мемуаров своих
коллег, С.Л. Тихвинский и сам обращается к этому жанру. Кроме
воспоминаний о работе в Китае («Китай в моей жизни»), он выпустил в
1996 г. книгу «Россия-Япония: обречены на добрососедство.
Воспоминания дипломата и записки историка». В ней он подробно
описывает ход дипломатических переговоров в Лондоне, а затем в
Токио о восстановлении дипломатических отношений СССР и Японии.
В 1960-е гг. под его руководством публикуется серия сборников
статей, документов, переводов трудов выдающихся революционеров и
реформаторов конца XIX – начала XX вв. Вместе со своими учениками
и коллегами С.Л. Тихвинский в 1970-е гг. развёртывает деятельность по
выявлению и публикации документов для комплексного изучения
истории российско-китайских отношений и становится ответственным
редактором многотомной серии «Русско-китайские отношения в XVII–
XIX веках. Документы и материалы».
Научный
вклад
С.Л.
Тихвинского
не
ограничивается
востоковедением. Он принимал деятельное участие в подготовке таких
многотомных трудов, как «История дипломатии», «История внешней
политики СССР», «Всемирная история». При его непосредственном
участии вышел в свет ряд сборников документов по советскогерманским, советско-американским, советско-французским, советскомексиканским отношениям, в том числе фундаментальная публикация
«Россия и США. Становление отношений. 1765–1815».
Деятельность С.Л. Тихвинского никогда не ограничивалась чисто
научными изысканиями. Одна из его ипостасей – организатор науки. Он
был директором Института китаеведения АН СССР, ректором
Дипломатической академии МИД СССР, заместителем директора
Института народов Азии и Африки и Института экономики мировой
социалистической системы АН СССР, заведовал кафедрой истории
стран Востока в МГИМО, ректором Дипломатической академии МИД
ССР и т.д.
Немало сил отдано С.Л. Тихвинским научной исторической
периодике. Он возглавлял в течение ряда лет журнал «Новая и
новейшая
история»,
был
членом
редколлегий
журналов
«Международная жизнь» и «Проблемы Дальнего Востока».
Учениками С.Л. Тихвинского защищено 9 докторских и 15
кандидатских диссертаций.
Многие годы С.Л. Тихвинский посвятил деятельности Общества
советско-китайской дружбы, до 1998 г. являясь его председателем.
Сейчас академик избран Почётным председателем Общества.
Научная, общественная и дипломатическая деятельность
С.Л. Тихвинского получила признание не только в нашей стране (он –
лауреат Государственной премии СССР, имеет многочисленные
государственные награды), но и за рубежом. Он избран иностранным
членом Королевского Азиатского общества Великобритании и
Ирландии (1955), Флорентийской Академии дель арте дель десиньо
(1980).
Будучи членом Исполнительного совета ЮНЕСКО (1968–1974),
С.Л. Тихвинский участвовал в организации спасения и реставрации
уникальных памятников мировой культуры в Пакистане, Индонезии,
Египте. Эта работа С.Л. Тихвинского отмечена настольной медалью
ЮНЕСКО.
Деятельность С.Л. Тихвинского на протяжении многих
десятилетий была и остаётся примером сочетания науки, и практики,
активного служения Отечеству.
Литература: Академику С.Л. Тихвинскому – 70 лет //
Вестник АН СССР. 1989. №6;
Титаренко М.Л. Академику С.Л. Тихвинскому – 80 лет //
Проблемы Дальнего Востока. 1998. №5;
Академику С.Л. Тихвинскому – 80 лет // Вестник РАН.
1999. т. 69. №1.
Список сокращений
АН – Академия наук;
ВНАВ – Всероссийская (Всесоюзная) научная ассоциация востоковедов;
ИВАН, ИВ АН – Институт востоковедения Академии наук СССР;
ИНА АН СССР – Институт народов Азии Академии наук СССР;
КУТВ – Коммунистический университет трудящихся Востока;
ЛО – Ленинградское отделение;
МИВ – Московский институт востоковедения;
НИА КУТВ – Научно-исследовательская ассоциация при Коммунистическом университете трудящихся Востока;
РАН – Российская Академия наук;
ЦИЖВЯ – Центральный институт живых восточных языков.
Приложение
Директора ИВ АН СССР
1930–1934
1934–1937
1937–1950
1950–1953
1953–1955
1955–1956
1956–1977
1977–1985
1987–1994
Ольденбург Сергей Фёдорович (1863–1934)
Самойлович Александр Николаевич (1880–1938)
Баранников Алексей Петрович (1890–1952)
Струве Василий Васильевич (1889–1965)
Толстов Сергей Павлович (1907–1976)
Авдиев В.И.
Губер Александр Андреевич (1902–1971)
Гафуров Бободжан Гафурович (1908–1977)
Примаков Евгений Максимович (род. 1929)
Капица Михаил Степанович (1921–1995)
ЛИТЕРАТУРА
1. Артизов А.Н. Судьбы историков школы М.Н. Покровского
(середина 1930-х годов) // Вопросы истории. 1994. – №7. – С. 34–48.
2. Аттая М.О. 1852–1924 // Восток. – 2002. №6. – С.196–199.
3. Академику С.Л. Тихвинскому – 80 лет // Вестник РАН, том 69,
№1. 1999. – С. 91.
4. Алпатов В.М. Мартиролог востоковедной лингвистики //
Вестник АН СССР. 1990. №12. – С. 110–121.
5. Алпатов В.М. Репрессированные японисты. – Япония 1989.
Ежегодник. – М.: Наука, 1991. – С. 310–318.
6. Афганские уроки: выводы для будущего в свете идейного
наследия А.Е. Снесарева. – М.: Военный ун-т, Русский путь, 2003. –
896 с.
7. Бергер Я.М. К 80-летию Льва Петровича Делюсина // Восток.
2001. №6. С. 201–206.
8. Бонгард-Левин Г.М. С.Ф. Ольденбург как индолог и буддолог //
Вестник АН СССР. 1984. №9. – С. 118–127.
9. Борис Николаевич Заходер (1898–1960) – Портреты историков.
Т.3. – М.: Наука, 2004. – С. 407–418.
10. Брачёв В.С. Сергей Фёдорович Платонов // Отечественная
история. 1993. №1. – С. 141–149.
11. Васильев Л.С. История Востока: в 2 т. Т.1: учеб. по спец.
«История». – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с.
12. Гаврилов Ю.Н. Академик Александр Андреевич Губер (К 100летию со дня рождения) // Восток. 2002. №2.
13. Галенович Ю.М. Заметки китаеведа. – М.: Муравьев, 2002.
14. Гафуров Б.Г. Юбилей отечественного востоковедения //
Вестник АН СССР. 1970. №12.
15. Георгий Фёдорович Ким (1924–1989). – Портреты историков.
Т.4. – М.: Наука, 2004. – С.245–256.
16. Гурницкий К.И. Агафон Ефимович Крымский. – М.: Наука,
1980.
17. «Дело» молодых историков (1957–1958 гг.) // Вопросы истории.
1994. №4. – С.106–135.
18. Евгений Михайлович Жуков (1907–1980). – Портреты
историков. Т.4. – М.: Наука, 2004. – С.195–209.
19. Зенина Л.В. Н.В. Кюнер, историк Дальнего Востока. – Очерки
истории Ленинградского университета. Вып.1. – Л.: Изд. ЛГУ, 1962. –
С.81–87.
20. Зеленов М.В. Главлит и историческая наука в 20-30-е годы //
Вопросы истории. 1997. №3. – С.21–36.
21. Игорь Михайлович Рейснер (1899–1958). – Портреты историиков. Т.4. – М.: Наука, 2004. – С.378–397.
22. Интеллектуалам в Советской России места нет // Вестник РАН.
2001, том 7. №8. – С. 738–747.
23. К истории российского востоковедения. Составители
Н.В. Степанова, В.Л. Розанов, О.Г. Ульциферов. Под общей редакцией
А.В. Торкунова. – М.: МГИМО, 2000. – 31 с.
24. Кочешков Н.В. Восточный институт во Владивостоке (1899–
1920 годы) и его профессора: Учебно-справочное пособие. –
Владивосток: Издательство ДВГТУ, 1999. – 96 с.
25. Кривошеев Ю.В., Дворниченко А.Ю. Изгнание науки:
российская историография в 20-х – начале 1930-х годов ХХ века //
Вопросы истории. – 1994. – №3. – С. 143–158.
26. Кузнецова Н.А., Кулагина Л.М. Из истории советского
востоковедения. 1917–1967. – М.: Изд-во «Наука». Гл. редакция
восточной литературы, 1970. – 251 с.
27. Ланда Р.Г. Восток: цивилизация, формация, социум // Вопросы
истории. 1995. – №4. – С. 47–55.
28. Латышев И.А. Япония, японцы, японоведы. – М.: Алгоритм,
2001. – 932 с.
29. Ленинградский университет. Краткий справочник / Ред.
Е.И. Михлин, Л.А. Карпова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. – 255 с.
30. Лещенко Н. Вспоминая учителя (К 100-летию со дня рождения
А.Л. Гальперина) // Восток. 1996. – №5. – С. 214–216.
31. Милибанд С.Д. Библиографический словарь советских
востоковедов. – М.: Гл. ред. восточной литературы, 1975. – 732 с.
32. Николай Иосифович Конрад (1891–1970). – Портреты
историков. Т.3. – М.: Наука, 2004. – С. 492–512.
33. Ориентация – поиск. Восток в теориях и гипотезах (Сборник
статей). – М.: Наука, 1992. – 231 с.
34. Примаков Е.М. С.Ф. Ольденбург и становление советского
востоковедения // Вестник АН СССР. 1984. – №9. – С. 114–118.
35. Рахматуллин
М.А.
Дело
по обвинению
академика
С.Ф. Платонова // Отечественная история. 1994. – №6. – С. 174–183.
36. Рашковский Б.Е., Хорос В.Г. От составителей. – Восток-ЗападРоссия. Сборник статей. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – С. 5–16.
37. Серебряков И.Д. Непременный секретарь АН академик Сергей
Фёдорович Ольденбург // Новая и новейшая история. 1994. – №1. –
С. 217–238.
38. Стенограмма совещания по вопросам истории СССР в ЦК
ВКПб в 1944 году // Вопросы истории. 1996. – №2. – С. 47–86; № 5–6.
С. 77–106; № 7. С. 70–105.
39. Тамазишивили А.О. Ссылаясь на Сталина… (К проблеме
мифологизации роли политического руководства в СССР в развитии
отечественного востоковедения) // Восток, 2000. – №6. – С. 88–100.
40. Титаренко М.Л. Академику С.Л. Тихвинскому – 80 лет //
Проблемы Дальнего Востока. 1998. – №5. – С. 155–157.
41. Титаренко М.Л. Академику В.С. Мясникову – 70 лет //
Проблемы Дальнего Востока. 2001. – №3. – С. 188–191.
42. Тодер Ф.А. Записки востоковеда // Восток. 1999. – №4. –
С. 131–144; №5. – С. 134–148.
43. Симония Н.А. Судьбы учёного, судьбы науки. Интервью
Е.Б. Рашковскому. – Восток-Запад-Россия. Сборник статей. – М.:
Прогресс-Традиция, 2002. – С. 19–35.
44. Скрябин Г.К. Выдающийся организатор науки // Вестник АН
СССР. 1984. – №9. – С. 108–114.
45. Сотрудники институтов востоковедения и Африки РАН –
участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Восток. 1995.
– №2. – С. 197–209.
46. Становление советского востоковедения. Сб. статей / Отв. ред.
А.П. Базиянц. – М.: Наука, 1986. – 196 с.
47. Шаститко П.М., Скворцова Н.И. Отечественное востоковедение
после Второй мировой войны (1943–1950) // Восток. 2000. – №5.
48. Шаститко П.М., Чарыева Н.К. Период ренессанса советской
ориенталистики (II половина 1950-х – I половина 1970-х годов) //
Восток. 2003. – №6. – С. 92–107.
49. Шаститко П.М., Чарыева Н.К. Как закрывали Московский
институт востоковедения // Восток. 2002. – № 6.
50. Шемякин Я.Г. Проблема цивилизации в советской научной
литературе 60–80-х годов // История СССР. 1991. – №5. – С. 86–103.
51. Юрию Михайловичу Галеновичу – 70 лет // Проблемы Дальнего
Востока. 2002. – №3. – С. 189–190.
Маргарита Викторовна Иванова
ВВЕДЕНИЕ В РЕГИОНОВЕДЕНИЕ.
ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Учебное пособие
Научный редактор
доктор исторических наук, профессор
Л.И. Шерстова
Редактор
С.П. Барей
Подписано к печати 12.07.2006.
Форма 60х8/16. Бумага офсетная.
Печать RISO. Усл. печ. л. Уч.-изд. л.
Тираж экз. Заказ . Цена свободная.
Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина, 30.