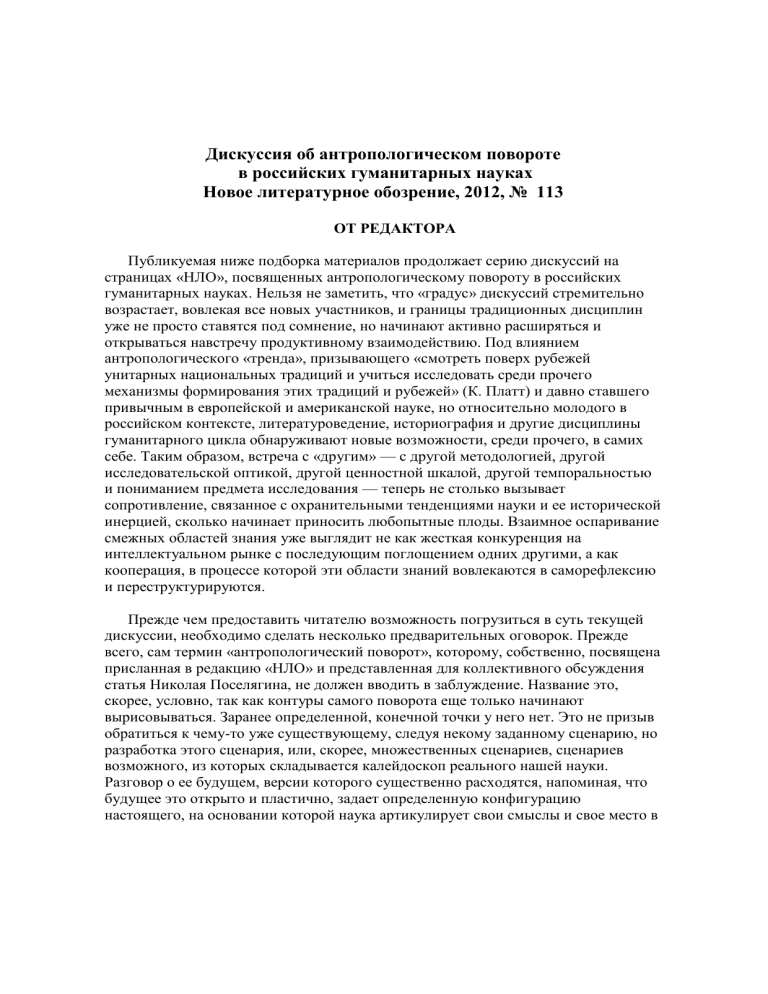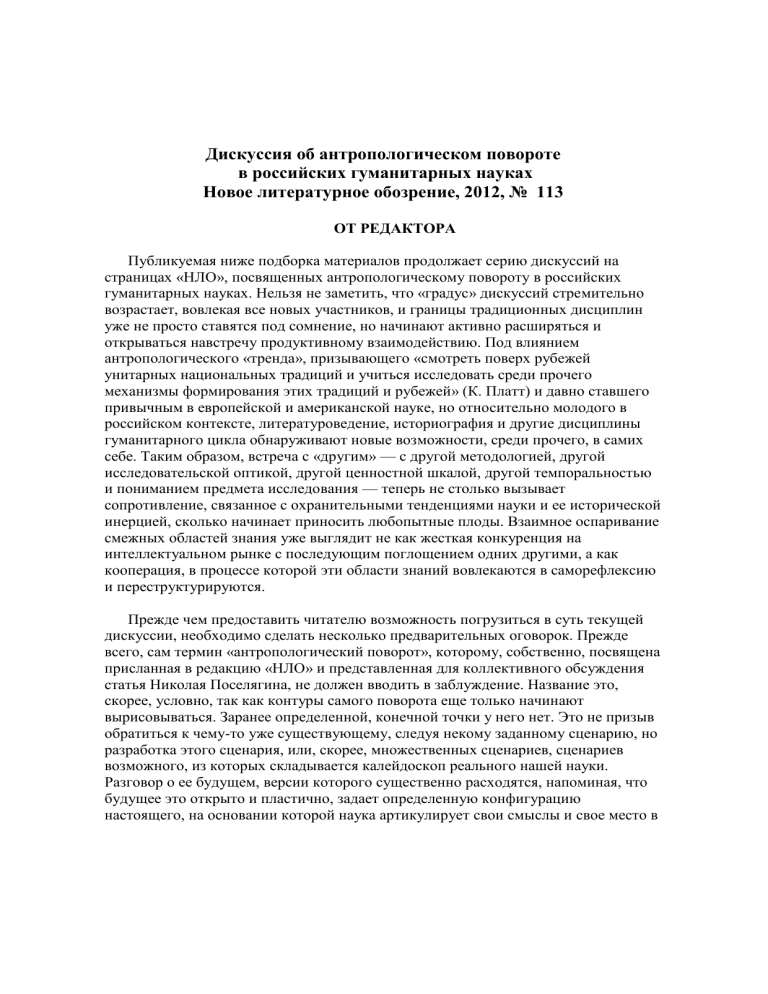
Дискуссия об антропологическом повороте
в российских гуманитарных науках
Новое литературное обозрение, 2012, № 113
ОТ РЕДАКТОРА
Публикуемая ниже подборка материалов продолжает серию дискуссий на
страницах «НЛО», посвященных антропологическому повороту в российских
гуманитарных науках. Нельзя не заметить, что «градус» дискуссий стремительно
возрастает, вовлекая все новых участников, и границы традиционных дисциплин
уже не просто ставятся под сомнение, но начинают активно расширяться и
открываться навстречу продуктивному взаимодействию. Под влиянием
антропологического «тренда», призывающего «смотреть поверх рубежей
унитарных национальных традиций и учиться исследовать среди прочего
механизмы формирования этих традиций и рубежей» (К. Платт) и давно ставшего
привычным в европейской и американской науке, но относительно молодого в
российском контексте, литературоведение, историография и другие дисциплины
гуманитарного цикла обнаруживают новые возможности, среди прочего, в самих
себе. Таким образом, встреча с «другим» — с другой методологией, другой
исследовательской оптикой, другой ценностной шкалой, другой темпоральностью
и пониманием предмета исследования — теперь не столько вызывает
сопротивление, связанное с охранительными тенденциями науки и ее исторической
инерцией, сколько начинает приносить любопытные плоды. Взаимное оспаривание
смежных областей знания уже выглядит не как жесткая конкуренция на
интеллектуальном рынке с последующим поглощением одних другими, а как
кооперация, в процессе которой эти области знаний вовлекаются в саморефлексию
и переструктурируются.
Прежде чем предоставить читателю возможность погрузиться в суть текущей
дискуссии, необходимо сделать несколько предварительных оговорок. Прежде
всего, сам термин «антропологический поворот», которому, собственно, посвящена
присланная в редакцию «НЛО» и представленная для коллективного обсуждения
статья Николая Поселягина, не должен вводить в заблуждение. Название это,
скорее, условно, так как контуры самого поворота еще только начинают
вырисовываться. Заранее определенной, конечной точки у него нет. Это не призыв
обратиться к чему-то уже существующему, следуя некому заданному сценарию, но
разработка этого сценария, или, скорее, множественных сценариев, сценариев
возможного, из которых складывается калейдоскоп реального нашей науки.
Разговор о ее будущем, версии которого существенно расходятся, напоминая, что
будущее это открыто и пластично, задает определенную конфигурацию
настоящего, на основании которой наука артикулирует свои смыслы и свое место в
истории. Перед нами не просто «прогнозы научной погоды» (сезонная метафора,
предложенная С.Л. Козловым в его программной статье «Осень филологии»[1],
которая стала предметом обсуждения на страницах 110-го номера «НЛО», была
подхвачена многими авторами, и уже в начале зимы обросла «весенними» коннотациями) — в конечном итоге, любые прогнозы ненадежны и необязательны, —
но совместная попытка задать систему координат, определить пространственные
векторы поворота, учитывая, что антропология должна восприниматься «не в
дисциплинарном и тем более не в институциональном, а в широком
методологическом, и даже шире — ценностном смысле познавательного
горизонта» (И. Калинин). В этой связи, дискуссия об антропологическом повороте
выявляет не только уровень готовности российского гуманитарного сообщества к
переменам, но и ряд ключевых проблемных точек и симптомов, с которыми можно
и нужно работать, чтобы эти перемены имели позитивный характер.
В первую очередь, необходимо понимать, что мы имеем дело не с антропологией, а, скорее, с антропологиями — с культурной, с социальной, но также и с
философской, ставящей своей целью концептуализацию «человека» и
«человеческого», «своего» и «другого». Возможен ли некий универсализирующий
подход, задействующий как исследования конкретных исторических сообществ, их
повседневных, культурных и дискурсивных практик, форм социализации и
нормализации, так и анализ самой идеи человека, претерпевающей трансформации
вместе с этими практиками? Как расцвет в классическую эпоху и затем крах в XX
веке масштабного гуманистического проекта связаны с модернизационными
процессами? Какое знание может дать гуманитарным наукам антропология после
гуманизма?
Фигура, вокруг которой вращается широко понимаемая антропология,
двусмысленна и неопределенна. Если предположить, как это делает Н. По- селягин,
что «конечный (идеальный) объект гуманитаристики в пределах
антропологического поворота — человек в его социально ориентированной
знаковой деятельности», то как в таком случае избежать нерефлексивного возврата
к старому гуманизму, как избежать опасности превращения антропологического
поворота в «антропоцентрический»? Как избежать той опасности, к примеру, что в
результате такого поворота перед нами вновь «в качестве универсального
"человека" предстанет гетеросексуальный мужчина или "условная" женщина,
неотличимая от гетеросексуального мужчины» (М. Липовецкий)? И здесь
становится ясно, что одной антропологии в качестве универсализирующего
ориентира для складывающейся новой научной парадигмы будет недостаточно.
Междисциплинарность — это не просто абстрактное содружество автономных
дисциплин. Их автономия должна уступить в пользу принятия риска опасного
смешения, которое только и может привести к заранее не предопределенным, то
есть по-настоящему новым результатам. Заполнение пустоты
«антропологического» все еще требует серьезных инъекций со стороны тендерной
теории, постколониальных, квир-исследований. Именно такого рода
ангажированные дисциплины, заявившие о себе в XX веке как результат активной
не только интеллектуальной, но и политической борьбы и впоследствии
завоевавшие самые респектабельные позиции в западной академии, обладают
ценным опытом, без которого никак не обойтись, если перед нами стоит цель «не
"принять", и даже не "сформулировать", а "изобрести", "выдвинуть в качестве
гипотезы"» понятие человека, отличное от привычных нам гуманистических
шаблонов (К. Кобрин).
Впрочем, вопрос может быть — и должен быть — поставлен и более радикальным образом: «насколько "человека" стоит ставить во главу такой консолидации?» (М. Вальдштейн), или: «А зачем вообще нужны гуманитарные
знания?» (К. Кобрин). Искусству правильно ставить наивные вопросы учит
философия. В частности, в том, что касается полного пересмотра концепции
человека, текстуальности и статуса гуманитарных наук, очень много было сделано
деконструкцией и постструктурализмом и, шире, философской критической
теорией XX века, которые на Западе вошли «"в кость" гуманитарного мышления и
образования», а в России, где «деконструкцию по-прежнему путают с
деструкцией», остаются практически незадействованными, так что «опасность
эссенциалистских подходов <...> крайне редко осознается как проблема» (М.
Липовецкий). Условно говоря, мы не можем адекватно оценить значимость теории
Клиффорда Гирца, оставаясь в неведении о других исторически значимых версиях
антропологии, например о структурной антропологии Леви Стросса или теории
дара Марселя Мосса, а последние, в свою очередь, требуют отсылок к более
широкому теоретическому контексту, благодаря которому антропоцентрическая
перспектива сводится на нет и нерефлексивное обращение к «человеку» становится
невозможным, — к психоанализу Ж. Лакана, деконструкции Деррида,
критическому марксизму и так далее. Так что работа по заполнению лакун
предстоит, очевидно, значительно большая, чем это могло показаться на первый
взгляд — в том числе и потому, что она осложняется инерцией «нелюбви» к
философии (по причинам, как считает М. Вальдштейн, прежде всего,
политическим). Тем временем, посредничество антропологии значительно
способствует сближению литературоведения и философии, замечательным
примером чему могут служить новейшие исследования творчества А. Платонова
(Х. Гюнтер).
При этом важно понимать, что «задача антропологического поворота <... > не в
том, чтобы адаптировать — условно говоря — подход Гайятри Чакраворти Спивак
к местным реалиям; задача в том, чтобы на основе анализа местных культурных
практик ставить вопросы, которые могли бы иметь универсальное культурное
значение»; что «антропологический поворот — это не "догоняющая модернизация"
в сфере отечественных гуманитарных исследований, но попытка сделать тематику
и язык этих исследований актуальными для общества, существующего здесь и
сейчас» (С. Ушакин). Работа над производством нового отнюдь не сводится к
импорту, к заимствованию готовых теоретических моделей и «разговору о путях
"модернизации" российских гуманитарных наук» (К. Кобрин), имеющему сугубо
локальное значение и оттого всякий раз грозящему стать «свалкой дилетантских
сочинений "на тему культуры"» (К. Богданов). Привлечение имеющегося
концептуального опыта (например, опыта германского, о котором рассказывают
Дина Гусейнова — в исторической перспективе, — и Риккардо Николози — в
современных его дисциплинарных и, что немаловажно, финансовых аспектах)
значимо в той мере, в какой оно служит не абстрактному заимствованию стратегий
поворотов[2], а рождению «новой антропологии культуры»[3] из сопротивления
конкретного эмпирического материала.
В этой связи, «здесь и сейчас» заявляет о себе другой аспект антропологии,
связанный не с ее мировоззренческими предпосылками, а с ее бытованием как
дисциплины, с ее конкретными исследовательскими практиками: «антропологический поворот без этнографии — то есть (в данном случае) без производства новых дискурсивных (описательных) материалов и документов —
немыслим» (С. Ушакин). И, в частности, первостепенным направлением исследования представляется «рефлексивная этнография науки», которая «не только
имеет историографическое или прогностическое значение, но должна быть
непременной частью антропологического поворота как интеллектуального
проекта» (А. Панченко). Однако и задача интеллектуальной этнографии — с
двойным дном, поскольку «для России, с ее статусом "второго мира", дело
осложняется стремлением быть одновременно субъектом и объектом
"антропологического" (в традиционном смысле) исследования» (Б. Гаспаров). «Мы
другие», и с этого, пожалуй, стоит начинать всякое постулирование «другого»,
который был бы без того слишком легкой добычей, то есть предсказуемым,
выхолощенным, безжизненным объектом, нерелевантным и теоретически, и
политически. Возможно, дело в том, что «нам другим», по выражению Дины
Гусейновой, попросту не подходит «управляемая методологическими поворотами
демократия» и искомая нами новая антропология культуры требует для себя
«демократии стихийных выборов аналитической оптики», продуктивность которых
зависит от нашей готовности принять на себя нелегкий груз перемен.
О. Тимофеева
___________________________
1) См.: Козлов С. Осень филологии // НЛО. 2011. № 110. С. 15—22, а также
дискуссию в том же номере (с. 23—91).
2) См.: Бахманн-Медик Д. Режимы текстуальности в литературоведении и
культурологии: вызовы, границы, перспективы. От антропологического поворота к
cultural turns / Пер. с нем. К. Бандуровского // НЛО. 2011. № 107 (http://
magazines.russ.ru/nlo/2011/107/do5.html).
3) См.: Прохорова ИД. Новая антропология культуры. Вступление на правах
манифеста // НЛО. 2009. № 100. С. 9—16.
Опубликовано в
журнале:
Херберт Грабес
Эстетическое измерение: триумф и/или
скандал?
КАРТОГРАФИРУЯ
«НЛО» 2012,
№113
ПОВОРОТ:
ЖАРКИЕ ЗИМНИЕ
(пер. с англ. А. Логутова)
версия для печати (89760)
«‹–›»
ДЕБАТЫ
Ключевые слова: антропологический поворот, литературоведение, эстетическое
измерение, культурная антропология
Херберт Грабес
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ: ТРИУМФ И/ИЛИ СКАНДАЛ?[1]
1
Если антропологическому повороту в литературоведении суждено произойти (а
возможно, он уже произошел), то все еще непонятно, будет ли он осуществлен в
направлении более обобщенной формы философской антропологии или в сторону
ее более узкоспециального культурологического извода. Рост интереса к культуре
или, точнее, «культурам» говорит в пользу второго варианта. В этом случае
литература будет рассматриваться в основном как продукт, содержащий указания
на некоторые черты той культуры, в которой он был произведен.
Подобный подход особенно актуален в контексте современного взгляда на
культуру как на «текстовый ансамбль»[2], переплетение знаковых систем,
сложившихся на протяжении долгого времени и закрепившихся в общественных
практиках. Поскольку язык является самой дифференцированной из этих систем, а
литература — самым дифференцированным модусом его использования,
значимость роли литературоведения в культурной антропологии представляется
вполне логичной. Тем более это верно в контексте активно развивающейся в
последнее время «низовой антропологии» (anthropology from below), анализ в
которой начинается с рассмотрения «плотных описаний» (thick description[3]), то
есть частных фрагментов социального дискурса, содержащих авторскую
установку. Сказки и комиксы, приключенческая литература и хоррор, детективы,
любовные романы, мелодрамы, комедии и трагедии — все эти виды
художественной продукции могут служить примером «плотного описания», даже
будучи фрагментами не реального, а воображаемого социального дискурса. Если
мы вслед за ранним Бартом будем рассматривать культурные знаковые системы
как системы ценностей, то нарративы, пользующиеся популярностью в данной
культуре, смогут рассказать нам многое о том, что ценится, допускается,
отвергается или даже вызывает ненависть в среде ее носителей.
Однако в рамках подобного подхода за скобками остается эстетическое
измерение литературы как вида речевой деятельности. Это не значит, что художественные произведения (в том числе устная и письменная литература) были
оставлены антропологами без внимания. Но для того, чтобы адекватно оценить их
значение и роль в общем «наборе текстов», составляющих культуру, необходимо
более глубокое понимание эстетики, чем антропологи не всегда могут
похвастаться.
Если даже антропологический поворот в литературоведении неизбежен,
филологам, традиционно имеющим дело с эстетической стороной вопроса, не
следует опасаться конкуренции. Какие бы острые споры ни возникали вокруг
определения антропологических функций эстетики, антропологический поворот в
литературоведении невозможен без рефлексии над ними.
В этой работе мне хотелось бы представить на суд читателя одну из точек
зрения на антропологическую роль эстетического измерения в культуре, продемонстрировать некоторые следствия применения этой точки зрения в культурноантропологической интерпретации художественных текстов, а также привести
несколько умозрительных заключений касательно антропологической значимости
эстетики как таковой.
2
Значительным препятствием на пути описания функций эстетического в культуре
является тот факт, что в эстетической теории, как правило, постулируется
отсутствие у него каких-либо специфических функций. Таким образом, перед нами
стоит парадоксальная задача определения функций нефункционального.
Аристотель считал, что истинных парадоксов не существует, а иллюзия
парадокса возникает только тогда, когда не принимаются во внимание альтернативные точки зрения. Следуя этой логике, мы можем разрешить наш
парадокс путем ответа на вопрос, каким образом и на каком основании нечто, что
лишено каких-либо функций в парадигме эстетической теории, может обладать
ими с точки зрения культурной антропологии. Действительно: культурная
антропология исходит из предположения, что все явления внутри культуры
функциональны. Это связано с тем, что с самого начала своего развития
антропология базировалась на холистическом представлении о культуре.
Влиятельный исследователь сэр Эдвард Тайлер еще в 1871 году определял
культуру как «сложное целое, объединяющее в себе знания, верования, искусство,
мораль, законы, обычаи и иные способности и привычки, приобретаемые
человеком как членом общества»[4].
Холистический характер этого «сложного целого» был впоследствии
реинтерпретирован в различных парадигмах, прежде всего в марксизме (где
цельность культуры определяется идеологией) и в семиотике, где он представлен
через такие понятия, как миф у Барта[5], эпистема у Фуко[6], текстовый
ансамбль у Клиффорда Гирца[7], а также как общий код в синкретической модели
культурной власти нового историзма[8]. Если культура воспринимается как нечто
цельное, то все ее элементы неизбежным образом должны обладать какой-то
функциональностью, даже если это не соответствует их представлению о самих
себе.
Тот факт, что постструктурализм отверг взгляд на культуру как на данность,
детерминированную такими физическими факторами, как раса или условия
окружающей среды, угадав в ней социальный конструкт со сложной историей, чье
существование зависит от негласного консенсуса субъектов, никоим образом не
ослабил холистическую точку зрения. Наоборот, даже если конкретная культура
является лишь одной из возможных, это не отменяет ее актуальной способности
регулировать жизнь в мельчайших ее проявлениях. В семиотике подобная
способность имеет тотальный характер. Даже не принимая в расчет внешний
социальный контроль, культура руководит действиями субъектов посредством
«текстового ансамбля», лежащего в ее основе, не оставляя человеку ни малейшего
шанса вырваться из «тюрьмы языка»[9], из-под власти мифологических
содержаний вторичной знаковой системы, в которой общие ценности записаны в
виде общего кода. Эксплицированные ценностные системы, поддерживаемые
механизмами официальной религии, законодательства, общественной морали и
экономико-политических институтов, имеют заведомо меньшее значение, чем
неписаные «нормы» восприятия и истолкования «реальности». Круг явлений,
удовлетворяющих здравому смыслу, определяется общностью этого смысла.
Любое отклонение в восприятии действительности имеет все шансы показаться
«неестественным», безумным и, в конечном счете, разрушительным. То
обстоятельство, что культуры различаются по степени социального контроля и что
так называемые открытые общества предполагают намного менее суровые санкции
в отношении нарушителей установленных порядков, лишь маскирует принуждающий и сдерживающий потенциал любого культурного мифа. «Людям
труднее всего, когда жизнь реальна»[10] — именно такую цену мы платим за
роскошь культуры, обладание которой имеет, разумеется, и положительные
стороны. Поскольку консенсус, ответственный за поддержание существования
культуры, имеет тенденцию воспроизводиться в структурах культурной памяти (в
особенности благодаря образованию), степень несвободы ее носителей
представляется поистине бесконечной.
Слабым местом описанной выше картины является тот факт, что, если бы она
полностью соответствовала действительности, культурные изменения изнутри
были бы положительно невозможны. Разумеется, культура существует в симбиозе
с материальной средой, поэтому такие явления, как долгосрочное изменение
климата или истощение запасов полезных ископаемых, могут спровоцировать
сдвиги в культуре. Не следует забывать и о том, что разнообразные культуры
постоянно взаимодействуют друг с другом и изменения в одной из них можно
приписать влиянию другой, более совершенной в военном или техническом плане.
Это влияние может осуществляться не только в форме прямого контакта, но и при
помощи средств массовой информации. Определенную роль здесь также может
играть свойственное людям влечение к экзотике, которое легко удовлетворить
путем обращения к чужой культуре. Однако адекватно оценить ту степень, в
которой подобные внешние влияния способны существенно изменить
сложившуюся систему культурных ценностей, по меньшей мере нелегко. На
протяжении своей истории человечество продемонстрировало недюжинную
способность адаптироваться к изменениям внешних условий (в число которых
входит как физическая среда, так и контакты с иными культурами) без скольконибудь значимых последствий для своего мировоззрения. С другой стороны, такие
явления, как глобальное распространение мировых религий в странах с глубоко
различными политическими системами, невозможно было бы объяснить, если бы
основной движущей силой всякого изменения были внешние факторы.
В чем же может заключаться источник внутренних изменений, если все
носители определенной культуры неизбежно являются потребителями одних и тех
же мифов? Для этого необходимо допустить возможность дистанцирования от
мифа, наличие силы, способной обеспечить хотя бы частичную приостановку
контроля со стороны последнего. Но как мы можем, будучи внутри культуры,
пусть даже временно выйти за ее пределы? Вместо того чтобы продолжать
обсуждение этого вопроса в теоретическом ключе, вспомним, что на протяжении
довольно обширных периодов развития западной культуры возможность выхода за
ее пределы существовала, по крайней мере, в двух формах: в форме философии и в
форме искусства. Или, если угодно, в виде концептуальной и эстетической игры.
Чтобы не выходить за рамки заявленной темы, я воздержусь от анализа того,
каким образом философия позволила европейцам трансцендировать границы
собственной культурной мифологии, и сосредоточусь на эстетической стороне
вопроса. Тем не менее мне хотелось бы отметить некоторые черты, общие для
философского рассуждения и эстетического переживания. В основе обоих лежит
то, что Платон обозначал как «изумление» (thaumazein)[11], способность видеть
вещи «как будто впервые»[12], которая служит импульсом для «пересмотра
предпосылок мышления и восприятия»[13]. И философия, и искусство
представляют собой легитимные способы расширения реальности за счет
вписывания ее в пространство возможного. Границы этой легитимности
определяются убежденностью контролирующих инстанций в том, что философия
и искусство — это не более чем игра, которая не представляет угрозы для
устоявшейся системы верований. Но как только угроза становится очевидна, пусть
даже и в скрытой форме, задействуются механизмы культурного контроля. В
истории философии известным примером такого рода является судьба Джордано
Бруно, сожженного инквизицией на костре за свои пантеистические воззрения.
Похожая участь чуть было не постигла Баруха Спинозу, который был изгнан из
еврейской общины Амстердама за несогласие с метафизической догмой. И,
наконец, уже в 1937 году Карлу Попперу пришлось срочно уехать из нацистской
Австрии в Новую Зеландию, где он и написал свою книгу «Открытое общество и
его враги». В истории литературы есть не менее убедительные примеры. Так,
Фридрих Шиллер был вынужден бежать из Вюртемберга после того, как местный
герцог, посмотрев «Разбойников», запретил ему впредь писать пьесы. Показательны в этом плане печальная судьба модернизма в СССР 1920-х и Германии
1930-х годов XX в., изгнание так называемых «контрреволюционных» писателей
из ГДР и фетва, выпущенная в Иране против Салмана Рушди. Подобные случаи
доказывают, что охранители тоталитарных идеологий не разделяют благодушную
убежденность У.Х. Одена в том, что «поэзия ни к чему не приводит» (poetry makes
nothing happen)[14].
Независимо от того, насколько обоснованны страхи ревнителей идеологической
«уравниловки» (Gleichschaltung), перед нами встает вопрос о том, каким образом
литература и искусство могут обладать трансформационным потенциалом при том,
что художники и писатели работают «изнутри» культуры, а зрители и читатели
руководствуются в своих вкусах интернализированными ценностными
установками данного общества. Для решения этой проблемы нам придется
обратиться к некоторым понятиям, которые были, к несчастью, преданы анафеме в
современной теории культуры. Речь идет, прежде всего, о «свободной игре»
художественного воображения и мнимой нефункциональности искусства в системе
культурных ценностей, его «бесполезности» и относительной «автономности»,
понимаемой в духе кантианского представления о «незаинтересованной» позиции
наблюдателя, читателя или слушателя. Возрождение этих понятий требует от нас
демонстрации их эвристической ценности или, по крайней мере, мыслимости.
Начну со второго.
Каким образом в антропологии оказалось возможным если не полностью
игнорировать, то, по крайней мере, выносить за скобки интерес к тому, что
называется «эстетическим переживанием»? В истории эстетики на этот вопрос
давались самые разные ответы, и я хотел бы кратко перечислить наиболее
убедительные и актуальные из них. Так, Шиллер в своих «Письмах об
эстетическом воспитании человека» утверждает, что люди, будучи в повседневной
жизни жертвами страсти (посредством чувств) или морального закона
(посредством разума), могут обрести свободу в эстетическом опыте: «Так как дух
во время созерцания красоты находится в счастливой середине между законом и
потребностью, то он, именно потому, что имеет дело с обоими, не подчинен ни
принуждению, ни закону»[15]. Впоследствии подобных взглядов придерживался и
Айвор Ричардс, писавший, что в эстетическом переживании импульсы, привычки
восприятия и способности человека уравновешивают друг друга и, как следствие,
взаимоуничтожаются, вызывая у последнего ощущение свободы[16].
Таким образом, объединение материального и духовного начал в искусстве,
которое Гегель обозначал термином «чувственное свечение идеи» (das sinnliche
Sheinen der Idee)[17], позволяет человеку трансцендировать интернализированные ценности его родной культуры. Мы способны постигать новое в
искусстве благодаря эстезису — форме чувственного восприятия, стимулирующей
наше воображение посредством ярких образов. Содержание художественного
произведения по необходимости кажется нам чуждым, мы видим его «как будто
впервые» и, как следствие, переживаем то самое изумление (thaumazein), которое,
по мнению Платона, лежит в основе всякого философствования. Недаром русские
формалисты определяли первичную функцию искусства через понятие
остранения, через способность художественного произведения вмешиваться в
работу культурных автоматизмов. Возможно, минутной «незаинтересованности» в
кантианском смысле не под силу вызвать значительное изменение в системе
верований и установок, но повторные переживания такого рода вполне способны
оставить свой след в сознании человека, открыть перед ним горизонты, выходящие
за рамки привычного культурного консенсуса.
В таком случае представляется возможным найти объективную меру эстетической ценности, ответить на вопрос о том, почему избранные произведения
искусства занимают особенное место в каноне, и обосновать само существование
канона. Проиллюстрируем это на примере нескольких выдающихся произведений
английской литературы, чья антропологическая значимость, по нашему мнению,
происходит из их способности пробуждать эстетическое чувство у читателя.
3
В качестве первого примера рассмотрим «Кентерберийские рассказы» Джеффри
Чосера (ок. 1343—1400), в которых тридцать с лишним паломников по пути на
поклонение гробу св. Томаса Бекета в Кентербери коротают время, рассказывая
друг другу какую-нибудь сказку или повесть. Довольно скоро становится
очевидно, что тематически эти истории почти не связаны с паломничеством как
таковым. Читатель—современник Чосера без труда угадывал в них переделки
известных сюжетов (позаимствованных, в том числе, у Боккаччо и Овидия),
покрывавших всю гамму средневековых нарративных жанров: жития, куртуазного
романа, басни о животных, рыцарского романа, фаблио и т.д. В результате
разножанровые повествования, взятые из различных культурных контекстов,
оказались возведены (или низведены) до одного и того же уровня развлекательного
путевого рассказа. Они подверглись своеобразной операции выравнивания, что
выражается, среди прочего, в их стилистическом и формальном единстве: за
исключением истории о Мелибее и рассказа священника все они написаны
рифмованным пятистопным ямбом. Выравнивание служит тем контрастным
фоном, который позволяет дополнительно подчеркнуть связь между конкретной
историей и ее рассказчиком, его характером, уровнем образования и социальным
статусом. Если бы Карл Маркс был знаком с чосеровским шедевром, то он не
преминул бы использовать его как убедительную иллюстрацию своего тезиса о
том, что «социальное бытие определяет сознание»[18]. Представляется, что
подобная релятивизация ценностей, бывшая, несомненно, в новинку для читателя
XIV в., до сих пор играет существенную роль в восприятии этого текста — не в
последнюю очередь благодаря ироническому тону повествования.
Еще одним примером может послужить поэма Эдмунда Спенсера «Королева
фей» (1590—1596), представляющая собой незаконченное переложение легенды о
короле Артуре в аллегорическом духе, сочетающем в себе религиозную
дидактичность и светскую развлекательность. «Королева фей» была, по сути дела,
первой попыткой создания английского национального эпоса, объединившей в
себе средневековую героику, строгость протестантской морали, возвышенные
представления о любви и новаторский для своего времени патриотический пафос.
Но, пожалуй, самое впечатляющее в поэме Спенсера — это то, что, не выходя за
рамки возвышенно-поэтического языка своего времени, он сумел сочетать в этом
повествовании аллегорическое олицетворение добродетелей с богатством
чувственных деталей. Таким образом, представления об облагораживающем
влиянии истинной любви, о крепости веры, о нравственном долге и героической
природе патриотизма передавались читателю посредством именно эстетического
опыта.
Однако, обратившись к наследию современника Спенсера Уильяма Шекспира,
мы вынуждены будем признать, что подобного рода эстетический опыт, даже если
поводом для него послужили самые выдающиеся художественные произведения
рассматриваемой эпохи, не может служить надежным проводником в сложный
мир культурных явлений. Так, в «Гамлете» все воспетые Спенсером ценности
сталкиваются со всепоглощающей зыбкостью мироздания, с неизлечимым
скептицизмом героев. Кажется, что желание и страсть навсегда одержали победу
над разумом, который становится лишь надежным инструментом интриг и обмана.
Сама структура частного мира Гамлета вынуждает его видеть в своей матери
соучастницу убийства отца только потому, что она ослеплена страстью к нему. Он
не подвергает сомнению хладнокровность своего дяди, решившего узурпировать
трон. Он верит, что его привязанность к Офелии используется Клавдием, чтобы
следить за ним. В публичной жизни Гамлет вынужден прийти к выводу, что не
может никому доверять, в особенности после того, как его бывшие друзья
пытаются убить его по наущению короля. Что до религиозного чувства, то оно не
мешает принцу во время молитвы обратить свою зыбкую веру в загробную жизнь
в инструмент возмездия. У него достаточно веры, чтобы удержаться от
самоубийства, но ему понятно решение Офелии, которая «не смутилась грядущей
жизнью»[19]. Единственной альтернативой самоубийству становится страстное
желание мести: Гамлет мстит за отца и за себя, Лаэрт мстит за отца и сестру,
Фортин- брас мстит за то, что у его отца отняли землю. При всей односторонности
подобной интерпретации, несомненно, что и зрители шекспировских времен, и
современные читатели остро переживают ощущение глобального распада самых,
казалось бы, незыблемых традиционных ценностей в пьесе, наблюдая за тем, как
порочность окружающего мира убивает все лучшее в Гамлете.
Явное противоречие между мировоззренческими установками в эпической
поэме Спенсера и в трагедии Шекспира демонстрирует всю несостоятельность
характерного для современной культурологии представления о единственности
«культурной власти» и производимого ею «общего кода»[20]. Ограничения на
свободу художественного воображения должны быть слабее, чем это
предполагается отдельными теоретиками.
Обратившись к «Потерянному раю» (1667) Джона Мильтона, отметим, что
пронизывающее поэму ощущение насущной актуальности теодицеи необъяснимо
без учета провала протестантского проекта по построению Нового Иерусалима в
Англии времен Содружества. Надежды, связанные с ожиданием наступления
тысячелетнего Царства Христова, объясняют не только само появление столь
оптимистичного проекта, но и его конечную неудачу. Признавая за нашими
прародителями всю полноту ответственности за утрату рая, Мильтон тем не менее
фокусируется на грандиозной борьбе между Богом и его антагонистом, Сатаной.
Чистота человеческой природы до грехопадения не мешает ему изображать Адама
и Еву как слабых существ, мало чем отличных от падших ангелов, ставших
заложниками борьбы между двумя высшими силами. Утрата невинности
происходит равным образом вследствие желания Сатаны отомстить Богу, погубив
его новое творение, и вследствие неспособности людей избегнуть расставленной
перед ними ловушки. Сходным образом, спасение — это не только следствие
стремления Бога к демонстративной победе в решающей схватке, но и проявление
его бесконечной милости. Величавый стиль Мильтона, лексическое, синтаксическое и ритмическое богатство его поэмы позволяют читателю почти на физическом уровне ощутить всю грандиозность вселенской драмы, в которой человек
играет роль малозначительной пешки.
В романе Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» (1719) задача «пути Творца пред тварью оправдать» решается на фоне не
столь масштабных событий (впрочем, мир Робинзона Крузо не настолько мал,
чтобы в нем нельзя было затеряться). Основной проблемный пункт романа
касается вопроса о том, каким образом человек может пережить материальный и
духовный кризис без помощи извне. Дефо отвечает на него, повествуя о жизни
моряка, который ни на минуту не оставляет веры в божественное Провидение и
собственные силы. Вся глубина этой веры находит отражение в повествовании, в
котором Робинзон, руководствуясь практической смекалкой и прибегнув к
дотошному учету своих побед и поражений, последовательно преодолевает
сомнения в возможности как жизненного, так и вечного спасения, происходящие
из его кальвинистских воззрений и глубины постигшего его бедствия. Таким
образом, читатель способен пережить опыт прагматического разрешения
важнейших жизненных проблем духовного и материального порядка. Подобный
перенос подчеркнуто актуализирован в третьей части книги, озаглавленной
«Серьезные размышления Робинзона Крузо», в которой приключения главного
героя истолковываются как аллегорическое изображение жизненных коллизий,
пережитых автором.
Если в случае Дефо мильтоновская вселенная сужается до ограниченных
пространств морских торговых путей, то в произведениях Сэмюэла Ричардсона
(1689—1761) она вписывается в еще более узкие рамки домашнего быта. Тем не
менее в подзаголовке своего эпистолярного романа «Кларисса, или История юной
барышни» (1748) Ричардсон без обиняков заявляет, что его книга описывает
«самые насущные заботы личной жизни» и «беды, происходящие от
ненадлежащего поведения родителей и детей в семье»[21]. Именно так и
воспринимали «Клариссу» многочисленные читательницы XVIII века: они видели
в ней доказательство того, что борьба буржуазной морали и аристократического
либертинизма не только способна осчастливить человека (как это показано в
другом романе Ричардсона, «Памела»), но и может быть наказуема. «Кларисса» —
это история о том, как любовь приводит к страданию. Ричардсону удалось найти в
жанре эпистолярного романа ту форму, которая позволила ему максимально
убедительно раскрыть внутреннюю жизнь героини и вызвать у европейского
читателя искреннее сострадание к ее судьбе. Благодаря этому еще до появления
гётевского «Вертера» романтическая идея о несчастной любви смогла стать
предметом эстетических переживаний широкой публики.
Примером противоположного рода является роман Генри Филдинга (1707—
1754) «История Тома Джонса, найденыша» (1749), в котором автор отдает
предпочтение внешнему описанию событий, а не внутренних терзаний героев.
Картина мира, описанная в романе, обладает намного большей широтой, а
изображение героя, осваивающего искусство социальных отношений, — большей
динамичностью, чем у Ричардсона. Используя заимствованный у Дефо прием
чередования описательных и рефлексивных моментов в тексте, Филдинг меняет
порядок их следования. Изложение этических максим в «Томе Джонсе»
предшествует описанию событий, призванных их проиллюстрировать, что
приводит к принципиальным изменениям в восприятии текста. Читатель вынужден
соизмерять действия героя с общепринятыми моральными нормами и, как
следствие, констатировать разрыв между ними и личными этическими
установками героя.
В своей автобиографической поэме «Прелюдия, или Становление сознания
поэта» Уильям Вордсворт (1770—1850) впервые в истории западноевропейской
литературы предпринимает масштабную попытку рефлексии над природой
художественного творчества. Основной темой поэмы являются развитие
художественного воображения и демонстрация ведущей роли воображения не
только в области искусства, но и в повседневной жизни. Организуя свое
повествование по законам лирической поэзии, Вордсворт позволяет читателю не
только теоретически уяснить принципы функционирования романтического
воображения как мистического синтеза восприятия, чувствительности и рассудка,
но и в акте эмпатического чтения пережить его на своем собственном опыте.
Для того чтобы обратиться к последнему своему примеру, мне придется
совершить прыжок в литературу XX в. В романе Джеймса Джойса «Улисс»
(1918—1920) хронотоп сужается до событий, происходящих в пределах одного дня
в одном городе. Подобная «близорукость» повествования позволяет автору
обнажить событийное богатство повседневности, одновременно увязав его с
героическим нарративом гомеровского эпоса. Несмотря на всю неповторимость
внутреннего мира героев (Блума, Стивена и Молли), которая раскрывается
посредством экстравагантного описания их явных и тайных желаний, в
повествовании
доминирует
ироническая
констатация
архетипической,
воспроизводимой сущности человеческой природы. При этом уверенность
читателя в собственной осведомленности относительно происходящего
уменьшается по мере возрастания стилистического контраста между главами.
Втягиваясь в игру слов (the play of words), читатель неизбежно становится
участником манипулятивной игры миров (the play of worlds).
4
Надеюсь, что мой краткий анализ ряда известных литературных произведений дает
хотя бы отдаленное представление о том, каким образом репрезентация идей
посредством чувственного воображения позволяет трансцендировать рамки
сложившегося культурного консенсуса. Для того чтобы полностью раскрыть
механизм этого процесса, нам пришлось бы заодно рассмотреть дискурсивные
формации, ответственные за поддержание этого консенсуса. Тем не менее даже
поверхностного знакомства с эпохами создания вышеупомянутых произведений
достаточно для констатации неприменимости к ним представлений о едином
«общем коде» и о культуре как ансамбле референциальных текстов
политического, юридического, религиозного или научного характера. Ничто не
указывает на то, что ироническое отношение к сложившейся системе ценностей
доминировало во времена Чосера или традиционализм Спенсера был частью
интеллектуального мейнстрима в эпоху расцвета радикальных политических и
религиозных идей, когда английский извод протестантизма нуждался в
действенной защите от насаждаемой испанцами контрреформации. Сомнительно,
чтобы этический скептицизм автора «Гамлета» был сколько-нибудь свойственен
его современникам. Теологические воззрения Мильтона, артикулированные им в
«Потерянном рае», также имеют мало общего с системами Томаса Мора и
Джозефа Гланвиля, не говоря уже о гоббсовском «Левиафане». Тезис об
исключительности «Робинзона Крузо» Дефо и «Приключений Гулливера»
Джонатана Свифта в контексте английской культуры XVIII в. представляется,
возможно, более спорным, но от этого не менее показательным. В случае с
Вордсвортом мы, вероятно, имеем дело с необратимым углублением разрыва
между научным и артистическим мировоззрением, так что здесь речь должна идти
скорее о параллельном существовании двух принципиально различных культур,
чем о неразрешимых противоречиях внутри одной культурной формации.
Аналогичная ситуация сохраняется и в XX в.
Суть моих размышлений состоит в том, что, оставаясь в пределах эстетического
измерения, мы постоянно наталкиваемся на «коды», которые вступают в
противоречие с общепринятыми и, как следствие, способны инициировать далеко
идущие изменения в культуре. Возможно, именно этот трансформационный
потенциал и является главной антропологической функцией искусства.
Представление об искусстве как о принципиально нефункциональном культурном
явлении маскирует его способность вносить разлад в установившееся
распределение функций.
Как следствие, ответ на вопрос, поставленный мной в заглавии этой статьи,
зависит от способности конкретной культурной формации приспосабливаться к
изменениям изнутри. Эта способность подвержена существенным флуктуациям,
так как первостепенная антропологическая задача любой культуры состоит,
насколько мы можем судить, в поддержании и воспроизводстве сложившегося
статус-кво. Культурные явления, пытающиеся нарушить установившееся
равновесие, воспринимаются как «скандальные». Приведенные выше примеры
проявления
уравнительных
тенденций
(Gleichschaltung)
убедительно
демонстрируют, что эта проблема выходит за рамки чистой теории.
Литературоведы-марксисты, такие как Терри Иглтон, до сих пор пытаются
показать[22], что эстетический подход к анализу художественных произведений
является не более чем побочным продуктом буржуазной идеологии, как будто бы
эстетический опыт стал доступен человечеству только в XVIII столетии.
Буржуазному
(или,
в
терминологии
Джеймисона,
«позднекапиталистическому»[23]) обществу и в самом деле свойственно
повышенное внимание к эстетическому измерению реальности. Это объясняется
возрастающим динамизмом культуры, которая, отрываясь от мира
неодушевленных объектов, проникается изменчивым духом живой природы. А
поскольку культурный консенсус создается и поддерживается деятельностью
конкретных людей, выживаемость общества, независимо от его отношения к
капитализму, определяется его готовностью к переменам. Следовательно, в рамках
культурно-антропологической парадигмы эстетика должна восприниматься как
триумф человеческой культуры, а не скандальный симптом ее упадка.
Пер. с англ. Андрея Логутова
________________________________
1) © Herbert Grabes. The Aesthetic Dimension: Bliss and/or Scandal. Перевод
выполнен по изданию: The Anthropological Turn in Literary Studies / Jurgen Schlaeger
(Ed.) // REAL. Yearbook of Research in English and American Literature. Vol. 12.
Tubingen, 1996. P. 17—30.
2) Geertz Clifford. Deep play: notes on the Balinese cockfight // The interpretation
of cultures: selected essays. N.Y.: Basic Books, 1973. Р. 412—53.
3) Geertz Clifford. Thick description // Ibid. Р. 3—30.
4) Tyler E. Primitive culture. L., 1871. Цит. по: BeattieJ. Other cultures: aims,
methods and achievements in social anthropology. L.: Routledge, 1993. P. 20.
5) См.: Bathes R. Mythologies. L.: Jonathan Cape, 1972. Русское изд.: Барт Р.
Мифологии / Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Академический проект, 2010. — Примеч.
перев.
6) См.: Foucault M. The order of things: an archeology of the human sciences.
N.Y.: Pantheon, 1970. Русское изд.: Фуко М. Слова и вещи: археология
гуманитарных наук / Пер. с фр. В.П. Визгина и Н.С. Автономовой. СПб.: A-cad,
1994. — Примеч. перев.
7) См.: Geertz C. Deep play: notes on the Balinese cockfight. P. 452.
8) См.: Greenblatt S. Fiction and friction // Reconstructing individualism:
autonomy, individuality, and the self in Western thought. Stanford: Stanford University
Press, 1986. P. 30—56.
9) Jameson F. The prison house of language. N.H.: Yale University Press, 1972.
10) «Humankind cannot bear very much reality» (цит. по изд.: Элиот Т.С.
Четыре квартета. Бернт Нортон, I // Элиот Т.С. Полые люди. СПб.: ООО
«Издательский дом "Кристалл"», 2000. — Примеч. перев.
11) Plato. Theaetetus, 155D. Цит. по изд.: Платон. Теэтет // Платон. Собрание
сочинений: В 4 т. Т. 2 / Под ред. Л.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи. М.:
Мысль, 1993. С. 192— 274. — Примеч. перев.
12) Boehm G. The first view: artwork — aesthetics — philosophy // REAL.
Yearbook of research in English and American literature. 1994. Vol. 10. P. 150.
13) Ibid. P. 151.
14) Auden W.H. In memory of W.B. Yeats. Harmondsworth: Penguin, 1958. P. 67.
15) SchillerF. Letters on the aesthetic education of man, no. 15. L.: Routledge &
Kegan Paul, 1954. Цит. по изд.: Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании
человека. Письмо 15 / Пер. Э. Радлова // Шиллер Ф. Собрание сочинений в переводах русских писателей. М.: Издание Брокгауза — Ефрона, 1901. — Примеч.
перев.
16) Ogden C.K., Richards IA, WoodJ. The foundation of aesthetics. N.Y.:
International Publishers, 1929. P. 75—78.
17) Hegel G.W.F. Asthetik. Frankfurt: Europaische Verlaganstalt, 1965. S. 117.
Цит. по изд.: ГеггельГ.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 2. М.: Искусство, 1969. — Примеч.
перев.
18) Marx K. Preface and introduction to «A critique of political economy». Peking:
Foreign languages press, 1976. P. 4. Цит. по изд.: Маркс К. Капитал. Критика
политической экономии. Т. 1. М.: Политиздат, 1960. — Примеч. перев.
19) Шекспир У. Макбет. Акт I, сцена 7 / Пер. М.Л. Лозинского. — Примеч.
перев.
20) См.: Meyer R. Discursive difference: toward a correlation of the scientific and
the aesthetic // Amerikanstudien / American studies. 1994. Vol. 39. № 4. Р. 499—510, в
особенности p. 504.
21) Richardson S. Clarissa. Or the history of a young lady. L., 1748, титульный
лист.
22) Eagleton T. The ideology of the aesthetic. Oxford: Basil Black- well, 1990.
23) Jameson F. Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism // New Left
Review. Vol. 146. 1984. July—August. Р. 59—92. Переиздано в: Jameson F.
Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism. Durham: Duke University Press,
1991.
Опубликовано в
журнале:
Николай Поселягин
«НЛО» 2012, №113
ПОВОРОТ:
Антропологический поворот в российских
гуманитарных науках
ЖАРКИЕ
версия для печати (89762)
КАРТОГРАФИРУЯ
ЗИМНИЕ
ДЕБАТЫ
Ключевые слова: антропологический поворот, гуманитарные науки,
литературоведение, социальные науки
«‹–›»
Николай Поселягин
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В РОССИЙСКИХ ГУМАНИТАРНЫХ
НАУКАХ
1
Для чего российским гуманитарным наукам нужен антропологический поворот?
Что может означать словосочетание «антропологический поворот» для
России[1]?
В настоящее время, когда всевозможные повороты и смены парадигм, breaks and
turns, в гуманитарных науках стали скорее регулярностью и правилом хорошего
тона, появление еще одного может казаться лишь дополнительной избыточностью.
И в самом деле: когда словосочетание, связавшее с этим трендом антропологию,
впервые возникло — а это, по всей видимости, произошло не раньше октября 1995
года, когда в Констанцском университете состоялся коллоквиум на тему «The
Anthropological Turn in Literary Studies», — оно не получило большого хождения за
пределами Германии. В самой же Германии, однако, зерно упало на благодатную
почву: усвоенный гуманитарными науками опыт нового историзма и давно
распространенная в этнографии концепция «культуры как текста» позволили
немецким гуманитариям использовать антропологический поворот как способ
переосмысления и обновления своей научной сферы в целом. Уже в середине 2000х стало возможно подвести предварительные итоги, важнейшими из которых
оказались усилившееся стремление к преодолению национально ориентированной
замкнутости гуманитаристики[2] и постструктуралистская по своей сути
переориентация «культуры как текста» на «культуру как процесс перевода и
переговоров»[3].
Если в немецкой науке антропологический поворот оказался удобным способом
самоидентификации в глобализирующемся мире, то в англоязычной традиции это
словосочетание превратилось в некий бренд, которым стали обозначать самые
разные явления — от особенностей деятельности католического богословареформатора Карла Ранера[4] до специфики творчества Геродота и Сыма Цяня[5].
(Аналогичная ситуация сложилась и в российской философии и публицистике, где
антропологическим поворотом могут называть и творческий путь А.Я. Гуревича, и
эволюцию античной философии, и даже гуманизацию техники и
предпринимательства.) Поэтому имеет смысл вернуться к сборнику «The
Anthropological Turn in Literary Studies», вышедшему по итогам вышеупомянутого
коллоквиума в 1996 году в Тюбингене, и сказать о нем еще несколько слов.
Большинство материалов в нем — case studies, намечающие пути взаимодействия филологии и антропологии скорее индуктивно; несколько статей, однако,
обладают определенной концептуальной заостренностью. Жан-Жак Лесеркль
предлагает под антропологическим поворотом понимать смещение акцента с
самоценной текстуальности на прагматику коммуникации, на взаимодействия
участников диалога; и условием, и результатом этого диалога становится
конструирование «я» и «другого», которое, по мнению Лесеркля, является
основным объектом изучения в рамках поворота. Текст, в том числе литературный
текст, при этом остается важным звеном — инстанцией, как раз и конструирующей
эту прагматическую структуру субъектов коммуникации; именно в нем
происходит порождение смыслов, которыми обмениваются участники диалога.
Другой автор сборника, Герберт Грабес, исходит из того, что культурная
антропология обходит вниманием эстетическую функцию, несмотря на всю ее
важность для культуры, а литературоведение (и, по всей видимости,
гуманитаристика в целом), войдя с антропологией в сотрудничество, способно
компенсировать этот недостаток. Клаус Петер Мюллер видит точку объединения
антропологии (прежде всего ее конструктивистской ветви) и филологии в том, что
они обе ориентированы, помимо прочего, на изучение производства и
воспроизводства смысла, хотя и каждая в своей области. Наконец, для Валентина
Каннингема антропологический поворот вообще не является проблемой: для него
это, наоборот, возвращение литературной теории от увлечения текстуальностью
обратно к литературе как таковой, которая обращена к человеку и, следовательно,
уже по определению, антропологична[6].
Вернемся к России.
В юбилейном 100-м номере «Нового литературного обозрения», посвященном
антропологии закрытых обществ, была опубликована статья И.Д. Прохоровой
«Новая антропология культуры», имеющая статус полуманифеста[7]. В ней было
предложено новое направление разговора о самоидентификации российской
гуманитарной сферы, который продолжается еще с начала 1990-х под разными
именами. Фактически эта статья — предварительный итог плюс попытка
дальнейшей консолидации под новым, но интуитивно уже хорошо знакомым
знаменем. Чем именно оно интуитивно знакомо — об этом несколько слов чуть
дальше.
Вскоре, в 106-м номере, была опубликована подборка, посвященная антропологическому повороту с культурологической и социологической точек зрения[8], — рассматривался широкий контекст бытования гуманитарных и социальных наук (по крайней мере, в США и России), обсуждались перспективы
дальнейших путей. Если подходить к проблеме с этих позиций, то тут на данный
момент сказано, пожалуй, достаточно. Поэтому в настоящей статье делается
попытка подойти к ней — пусть максимально эскизно и бегло — с точки зрения
методологии нарождающегося интеллектуального движения. Правда, необходимо
сразу внести две оговорки: во-первых, это ракурс довольно утилитарный (см.
вопросы, выставленные в начало работы), а во-вторых (и это главное), это не
утверждение догматов и не описание явления, а субъективная попытка прогноза на
будущее — настолько же условная и необязательная, насколько вообще условны и
необязательны бывают подобные прогнозы.
По-видимому, можно предварительно резюмировать, что конечный (идеальный)
объект гуманитаристики в пределах антропологического поворота — человек в его
социально ориентированной знаковой деятельности. В отличие от классической
семиотики (и смежных направлений типа структурализма), где конечным объектом
выступает знаковая деятельность человека как таковая, для антропологического
поворота главным является именно человек, любой индивид (как действующее
лицо социума), но познаваемый не непосредственно, как в физической
антропологии, и даже не только через его социальную активность (включая
индивидуальный повседневный быт), а прежде всего через знаковые медиаторы —
тексты. В каком значении здесь употребляется понятие «текст», станет понятно из
дальнейшего.
Также необходимо сразу оговорить, что «социум» здесь понимается не как некая
целостность, а как совокупность вступающих в отношения коммуникативного и
культурного обмена (диалога) индивидуумов. То есть человек в данном случае
выступает как фокус социальности[9], однако сама социальность, в свою очередь,
становится медиатором между человеком и человеком — индивид и социум
неотделимы друг от друга так же, как (воспользуюсь известной метафорой) две
стороны одного листа бумаги. Человек взаимодействует с человеком постольку,
поскольку индивидуум конструирует социум, а социум конструирует
индивидуума.
2
Я предлагаю выделить несколько научных дисциплин и течений, которые могут
оказаться актуальными для антропологического поворота с методологической
точки зрения.
1. Этнология. В числе основных проблем, которые поднимает антропологический поворот, — проблемы идентичности «себя» и «другого». Для гуманитарных наук они не новы: многие течения XX века ставили перед собой задачу
осмысления этих категорий и вполне преуспевали в этом. Однако основной
эпистемологический вектор при этом был: к «я» и «другому» — сквозь текст; повидимому, антропологический поворот способен внести дополнительный аспект, в
России по традиции ассоциируемый скорее с историей, социологией и
культурологией, чем с собственно гуманитаристикой в узком смысле: текст —
сообщество — индивидуум. (Это в принципе не означает, что гуманитарии не
занимались исследованиями сообществ, однако дисциплинарный статус этих
исследований оказывался неопределенным, отсылая скорее к истории, как в
случае, допустим, В.Э. Вацуро или А.И. Зайцева, или к культурологии, как в
работах Тартуско-московской школы.) В эпоху глобализации без понимания
транснациональных, транссоциальных, кросскультурных и т.п. взаимодействий (в
широком смысле — взаимодействий перехода) такие объекты, как «я» или
«другой», не выстроить; в то же время еще с 1970-х годов известно, что сами эти
взаимодействия познаются нами сквозь и с помощью текстов разного рода и
конструируются нами тоже как тексты. Фактически в филологию и философию
возвращается их же метод, но обогащенный опытом социальных наук.
С другой стороны, постколониализм, возникший в гуманитарной сфере и
прочно утвердившийся в этнографических и социологических исследованиях во
многих странах мира, в России до сих пор остается методологией отдельных
энтузиастов. Возможно, антропологический поворот, вобрав его в себя, не только
сделает более стереоскопической свою исследовательскую оптику, но и привьет
российской гуманитаристике набор новых точек зрения и исследовательских
ракурсов.
2. Семиотика. Антропологический поворот в целом стремится преодолеть
диктат текстуальности, генетически восходящий к классической семиотике
середины XX века, и в существующих на данный момент манифестах этого
движения неизменно присутствует критика семиотики. Думается, однако, что
соотношение поворота и семиотики более сложное: борясь с ее главенствующим
положением и смещая акценты с текста на человека, антропологически
ориентированный гуманитарий не может обойтись без семиотики как методологии
чтения текста — а познание человека (в вышеозначенном смысле) в рамках
поворота, по всей видимости, не сможет проходить иначе, чем сквозь текстымедиаторы. Причем медиаторы троякого рода: а именно, те тексты, которые
обусловливают деятельность индивида (к примеру, формируют его идеологию,
которая сама по себе — закономерный объект как гу- манитаристики, так и
антропологии), те, которые сами обусловлены деятельностью человека, и те,
которые служат посредниками уже между «я» и «другим» как объектами и «я» как
субъектом исследования.
Становится ясно, что человек здесь — «титульный», но отнюдь не единственный
предмет внимания. Он дает название всему движению — причем предполагается,
что в фокусе исследования остается не романтизированный абстрактный
«антропос» из философии XIX века, а обычный прохожий на улице, или
общественный деятель по телевизору, или блогер в Интернете, или, наконец,
исполнитель ритуала на острове в Малайском архипелаге и средневековый монах в
келье — однако все они становятся объектами исследования только сквозь
различного типа тексты. В конце концов, здесь ведь «поворачивается» не
антропология сама к себе, а гуманитарные науки...
Семиотика может оказаться важной для антропологического поворота в двух
вариантах: как интеллектуальное течение с собственной научной базой и набором
аналитических практик и как определенная методика анализа (представление
изучаемого объекта в виде знаковой системы). Если со вторым вариантом все
достаточно ясно, то необходимость первого нужно оговорить немного подробнее.
Тем более, что именно семиотику в этом значении антропологический поворот, на
первый взгляд, ставит под сомнение.
Как известно, в истории семиотики выделяются два основных направления —
условно говоря, «женевское» (с отсылкой не столько даже к самому Фердинанду де
Соссюру, сколько к его редакторам Шарлю Балли и Альберу Сеше; хотя
справедливее было бы его называть, возможно, «якобсоновским») и «пирсоморрисовское». Первое направление моделирует свой объект как целостную
замкнутую структуру, атемпоральную и иерархически организованную. Изменение
любого элемента приводит к появлению новой структуры взамен старой (и,
следовательно, принципиально нового объекта), а диахрония возможна только в
виде переключений между такими структурами. Наиболее полное воплощение оно
нашло в классическом структурализме. Второе направление представляет свой
объект в виде динамического процесса — семиозиса, система которого пребывает в
состоянии постоянной изменчивости и открытости внешним влияниям.
Синхроническое статичное описание этой системы, по сути никогда не
пребывающей одинаковой, но при этом все-таки остающейся равной самой себе,
возможно только как исследовательская абстракция. Канонические формы
объектов, изучавшихся первым направлением, — система языка в синхронном
разрезе и структура текста поэтического произведения; канонические формы
объектов второго направления — речь в процессе ее непосредственного
развертывания (или, говоря языком М.М. Бахтина, в диалогическом измерении) и
читательское восприятие текста искусства.
Для антропологического поворота, скорее всего, актуальным окажется именно
второе направление. Поскольку антропологический поворот разделяет бартовский
призыв к возрождению и восстановлению в правах читателя (фактически —
человека, оживляющего самим актом восприятия знаковую систему), он относится
к умеренному крылу постструктурализма. Под «постструктурализмом» в данном
случае понимается не просто постмодерн в науке, а широкий комплекс
интеллектуальных течений, в той или иной мере отталкивающихся от
структурализма и развивающихся на семиотическом фундаменте.
В связи с этим для российской версии антропологического поворота могут
оказаться в той или иной мере важны такие разные теоретики (необязательно
ассоциирующие себя с постструктурализмом), как Ян Ассман, Хоми Баба, Джудит
Батлер, М.М. Бахтин, Пьер Бурдьё, Карло Гинзбург, Клиффорд Гирц, Стивен
Гринблатт, Ханс Йоас, Джонатан Каллер, поздний Ю.М. Лот- ман, Эдвард Саид,
Гайятри Чакраворти Спивак, Хейден Уайт, Мишель Фуко (как ранний, так и
поздний), Жан-Мари Шеффер и многие другие — и это только самые
«классические» фигуры, имена-символы направлений, актуальных для настоящего
разговора. Безусловно, подобный набор имен, на первый взгляд, больше похож на
парад знаменитостей в стиле «все флаги в гости...», чем на поиск единой и
непротиворечивой интеллектуальной парадигмы, ассоциированной с фамилиями
определенного круга теоретиков. Очевидно, что и невозможно всех их объединить
одновременно — к слишком разным направлениям гуманитарных, социальных
наук и философии они принадлежат, слишком разные символы веры исповедуют и
в слишком сложных интеллектуальных отношениях друг с другом состоят. Однако
с методологической точки зрения у них есть ряд общих элементов, которые
антропологический поворот способен абсорбировать и на их базе разработать свои
собственные теоретические установки. По-видимому, он будет являть собой скорее
не отдельное течение, а комплекс взаимосвязанных и тесно сотрудничающих
течений, что снимет проблематичность объединения «высоких имен» воедино.
Кроме того, ориентация (как уже было сказано выше) на индивидуума в его
социально обусловленной знаковой деятельности (и на антропологически
ориентированный социум, опять-таки в его знаковой деятельности), на контакт с
«другим» (в том числе через тексты), присущая если не всем, то большинству
вышеназванных авторов, также важна (в общем концептуальном плане) для
движения, называющего себя антропологическим поворотом.
В числе этих «классиков» есть и такие, которых российская гуманитари- стика
приняла достаточно безболезненно (Лотман и Фуко в первую очередь), и такие,
судьба которых в России, наоборот, сложилась непросто. Новый историзм
Гринблатта десять лет назад был встречен одними равнодушно, другими резко
отрицательно (что может объясняться разными причинами — например, тем, что
российский гуманитарий по тем или иным причинам был не готов воспринимать
исторически одновременные тексты различного вида как аксиологически
равноценные). Постколониальные исследования, за исключением перевода книги
Саида «Ориентализм» и нескольких статей, на русском языке практически
неизвестны.
3. Антропология. Эта дисциплина дает название всему движению, однако, повидимому, ее присутствие в пределах поворота может оказаться несколько меньше
ожидаемого. Это связано с рядом факторов, не последний из которых — то, что в
уже наметившихся обсуждениях феномена «антропологический поворот» в
качестве самой устоявшейся канонической фигуры (и чуть ли не «отцаоснователя») упоминается Клиффорд Гирц, известный, помимо прочего, тем, что
сам повернулся к гуманитарной сфере, введя в аналитический аппарат культурной
антропологии семиотику. Вообще для российской гуманитаристики, как кажется,
наиболее близкой отраслью антропологии может оказаться именно культурная
антропология, а в ее пределах — те направления, которые традиционно
ассоциируются с именами Гирца (исследовавшего системы культур разных
народов как системы знаков) и Рут Бенедикт (не имевшей возможности во время
Второй мировой войны изучать японскую культуру непосредственно и
анализировавшей ее сквозь порожденные ею тексты). Вся эта область граничит с
гуманитарными науками. Поэтому антропология в рамках поворота, вероятнее
всего, будет важна не столько как источник аналитических практик, сколько как
основной вектор внимания, тот ориентир, в соответствии с которым будут
проходить конкретные научные исследования.
Можно возразить: зачем прививать российской гуманитаристике в целом и
филологии в частности этот не очень понятный ориентир, когда уже есть,
например, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, В.М. Живов и ряд других крупных
ученых, создавших множество работ, в которых семиотическими методами
исследуется поэтика повседневности? Тем не менее антропологический поворот,
даже если эта попытка прогнозирования полностью оправдается, не будет простым
возвращением Тартуско-московской школы под новыми флагами[10].
Семиотическим разысканиям Тартуско-московской школы в основном была
присуща ориентация на знаковые системы, как напрямую, так и опосредованно —
через деятельность человека и общества. Однако та же повседневная жизнь
декабриста или социальная ситуация в России в эпоху Петра I были важны не сами
по себе, а как внешние проявления — манифестации — внутренних культурных
закономерностей, развивающихся автономно и обусловливающих собой все
остальные сферы человеческого бытия. Для антропологического же поворота
финальным объектом будет именно человек как, в предельном случае, автономная
личность и социум как сообщество таких взаимодействующих личностей; а
манифестациями, наоборот, станут те самые закономерности, выраженные в
различных текстах культуры.
Кроме того, в отличие от марксизма и позитивизма, в антропологическом
повороте знаковые системы культуры — то есть тексты в широком понимании (повидимому, именно такой смысл понятия «текст» окажется наиболее актуальным
для этого движения) — не будут простыми «выражениями» чего- то внешнего по
отношению к ним. В российской научной культуре достаточно авторитетна
академическая традиция, способная стать противоядием против этой
утилитаристской тенденции. Для антропологического поворота в России, скорее
всего, окажется актуальным также и опыт Бахтина, который считал, что личность в
тексте реализуется через слово — кстати, открытую динамическую систему.
1. История и психология. У этих двух научных дисциплин, в
европейской и американской традиции относящихся не к humanities, а к
social sciences, есть большой опыт работы с индивидуумом как с одним из
основных объектов своего изучения. Грубо говоря, история касается
индивида в социальном аспекте, психология — социума в индивидуальном;
при этом в числе имен- символов, знаменующих поворот обеих дисциплин к
исследованию своих объектов не непосредственно, а сквозь тексты разного
рода, антропологически ориентированные гуманитарии находят Хейдена
Уайта и Зигмунда Фрейда соответственно.
2. Социология. Социум — второй (после текста) медиатор при
обращении к человеку в рамках антропологического поворота. Та ветвь
социологии, которая восходит к Максу Веберу и которую можно — в
противоположность дюркгеймовской традиции — назвать
антропоцентричной, предоставляет ряд конкретных методик анализа,
которые в гуманитарных науках используются сравнительно редко. Такие
важные для антропологического поворота категории, как «эмоция»
(включая процесс актуализации эмоций в социуме), «память», «знание»
(включая процессы производства, хранения и передачи памяти и знания),
«повседневность», «институция», «закрытое / открытое (со)общество»,
«модерность», гораздо легче будет изучать, если обратиться к опыту
дисциплин социологического цикла, а также, безусловно, к истории.
3.Нарратология и дискурс-анализ. Эти гуманитарные направления могут
обеспечить антропологический поворот техническими навыками анализа текстов, в
том числе — рассмотрения текстов в качестве открытых динамических систем.
Антропологический поворот не может изучать человека изолированно, так же как
не может существовать изолированная индивидуальная знаковая деятельность;
следовательно, одним из ключевых направлений исследования должна стать
коммуникация в различных своих проявлениях, и два данных направления могут
предоставить для этого необходимые инструменты и методики.
4. Анализ идеологий. Под этим несколько неуклюжим названием в данном
случае понимается изучение идеологий как текстов особого рода — ментальных
рамок и систем аксиоматических представлений для тех социумов и индивидуумов, которые их породили. Весьма вероятно, что для антропологического
поворота будет актуально и более широкое толкование идеологии — как
социально обусловленных систем мышления.
5.Теории перевода. Эта отрасль в данном случае важна не сама по себе, а как
важный инструмент для работы с иноязычными и полиязычными текстами
культуры при помощи тех методов и точек зрения, о которых говорилось в первом
и втором пунктах.
Пожалуй, на данный момент можно ограничиться этими пунктами как основными, оговорив при этом еще раз: это скорее предельно схематический
прогноз, чем уверенная в себе констатация, и вовсе необязательно антропологический поворот пойдет именно по этому пути. Вполне допустимо, что он
окажется гораздо ближе к собственно антропологии, чем к истории, семиотике и
наукам гуманитарного цикла. Еще вероятнее, что это движение выберет себе
какой-нибудь третий, сейчас лишь смутно уловимый вариант развития. Наконец,
вполне возможно, что антропологический поворот в России окажется
невостребованным. Во всяком случае, сейчас не так уж много исследователей,
которых можно было бы с определенной степенью уверенности отнести к этому
движению, и большинство из них находятся настолько же в русле европейской и
американской научной традиции, насколько и в русской[11].
Наконец, в заключение необходимо подчеркнуть, что антропологический
поворот, даже если он состоится приблизительно в таком виде, как здесь очерчен,
и вберет в себя все из перечисленных выше направлений и дисциплин, — это
отнюдь не монстр, который императивно подчинит себе несколько дисциплин и
теорий и просто поглотит все остальное. Конечно, потенциально в нем содержатся
предпосылки, чтобы развиться не просто в научное направление, а в большую
парадигму — универсалистскую философскую теорию, стремящуюся с помощью
ограниченного набора терминов и практик объяснить любой феномен
человеческой культуры, который попадает в сферу ее внимания. Однако и большие
парадигмы XX века уживались друг с другом, сотрудничая, игнорируя или
полемизируя, но не уничтожая одна другую полностью, — если только
превосходство одной из них перед остальными не утверждалось на
государственном уровне, как это произошло с марксизмом в СССР. Так же и
антропологический поворот — если он все-таки состоится, то в любом случае не
займет собой всего поля гуманитарных наук, насильно подчиняя несогласных. Но
зато расширит это поле, разрушив (нередко ненужные) дисциплинарные
перегородки, в том числе и между гуманитарными и социальными науками, и
обогатит его новыми способами видения.
3
Но необходимо вернуться к первому вопросу из поставленных в начале статьи. И
здесь я уже теряю свой эпистемологический оптимизм. Если на вопрос, что
антропологический поворот может значить (как потенциально способен
реализоваться, как может выглядеть), как мне кажется, существует целый набор
вариантов ответа (что я и попытался предельно схематично воспроизвести), то на
вопрос, зачем он, собственно, России нужен, я готов дать только один ответ — не
знаю.
Антропологический поворот, несмотря на все его внутреннее разнообразие,
предполагает общую эпистемологическую систему координат, которую можно
обозначить как субъективистскую — имея в виду, конечно, не аксиологию, а
способ подхода к предмету: как я могу воспринимать мир и анализировать
воспринятое. Здесь первична самоценность концепции, познавательный ракурс, с
которого именно я смотрю на объекты; исследователь-субъективист отдает себе
отсчет, что никогда не сможет узнать доподлинно, «что хотел сказать автор» (или
«что объективно говорит текст»), и занимается не столько воссозданием смыслов,
сколько их конструированием с помощью определенного набора аналитических
практик. В России же господствующая система координат другая — условно
говоря, позитивистская (или традиционная, или академическая): мы предполагаем,
что любые исследователи, при известном навыке обращения с фактами и
эвристическом опыте их складывания в объективные системы, способны понять
истинные смыслы сказанного в тексте и происходившего за текстом. Пусть мы не
знаем, что же все-таки собирался сказать тот автор, но зато мы убедительно
воссоздаем то, что он смог сказать, и этот смысл не сконструирован нами, а
воскрешен из той, другой эпохи. Мы беседуем с текстом, как с реальным
«другим», а не как с неуловимым собой. И убедительность здесь — категория
сродни естественно-научной доказательности (и, в конечном счете, объективной
истине), а не постструктуралистской реализации субъективной идентичности.
Я не знаю, как антропологический поворот может оказаться востребован
людьми, системой координат которых является академизм: он не предлагает
исходить из фактов, которые сами подсказывают исследователю выбор его оптики.
Наоборот, он предлагает разрушить дисциплинарные границы и — в идеале —
тоже исследовать «других», но сквозь себя, преодолевать субъективность
восприятия с помощью субъективности же, но слегка иного рода: и «я», и «другие»
— одинаково «человек в его (субъективной) социально ориентированной знаковой
деятельности». И весь набор методологий, которые я предельно кратко — и
предельно субъективно — попытался представить в этой статье, способен служить
этой конечной цели. Важен здесь именно человек, хотя и весьма комплексно
интерпретируемый, а не факты как таковые и не научные дисциплины с их
границами, отделяющими одни факты от других и одни аспекты от других.
При этом мой пафос — вовсе не в отрицании академизма и не в массовом уходе
от него под знамена антропологического (или любого другого) поворота: меньше
всего мне хотелось бы, чтобы эта моя статья воспринималась в стиле «что такое
хорошо, а что такое плохо», — а тем более чтобы отрицательным членом этой
нехитрой оппозиции становился академизм. В конце концов, если то или иное
субъективистское движение превратится в монополию, от этого тоже ничего
хорошего ждать не приходится. Академизм — серьезное направление с глубокой
традицией, его необходимо развивать и дальше, — только не как единственно
возможный для науки путь, а как одно из многих достойных уважения
направлений. Более того, я уверен, что без мощного академического бэкграунда
большинство субъективистских течений — и течения антропологического
поворота в том числе — вряд ли смогут развиваться вообще.
Я боюсь не того или иного направления или той или иной системы эпистемологических координат самих по себе, а их абсолютизации: одинаково опасно,
и когда оппозиция «академизм / субъективизм» (оценочная, но часто
претендующая на объективность) превращается в коррелят «серьезности /
несерьезности», «научности / ненаучности», в основе подразумевающий фундаментальную религиозную оппозицию «истина / ложь»; и когда, наоборот,
академизм воспринимается просто в качестве еще не преодоленного фона для
самореализации субъективистской мысли. Россия до сих пор не оправилась от
многолетнего диктата вполне субъективистского марксизма в его ленинистской
(или, точнее, сталинистской) огласовке. Однако и обратный мо нологизм —
неизбежный монологизм академической работы с фактами и отрицания тех теорий,
которые предполагают иную эпистемологию, — не перестает быть монологизмом:
метафорически говоря, вместо Сталина предлагается Брежнев, но болевая точка
остается.
Традиционализм, как и брежневский застой, психологически понятен: он
кажется уютным, почти домашним (ибо уходит от публичности), даже тактильно
ощущаемым; он не ставит «последних вопросов» (наоборот, не замечает их ради
сохранения окружающей ситуации в том виде, в котором она и так уже пребывает
или должна пребывать); он создает уверенность, что мы обладаем покоем, который
заслужили, никакого движения никуда и не нужно, а нужно только продолжать
переклассифицировать факты. Однако это еще не значит, что противоположное
движение должно безвариантно приводить к тоталитарному диктату единоличной
субъективности — оно к нему приводит, только когда я отказываюсь слышать в
себе голоса «других» и (вместо утверждения собственной субъективности во что
бы то ни стало) признавать эпистемологическую демократию.
Правда, в конце концов я остаюсь в сомнениях, возможен ли этот третий путь в
России в обозримом будущем.
_____________________________________
1) Я вынужден ограничиться разговором о ситуации в России, не вдаваясь в
подробности бытования гуманитарных наук в остальном мире, потому что для
разговора об академической жизни в тех или иных научных сообществах нужно не
только знать ее академически, но и прожить в ней какое-то время самому. В конце
концов, антропология науки предполагает, что чтение литературы, принадлежащей
этой науке, — это лишь один аспект исследования — условно говоря,
аутсайдерский (не в оценочном смысле), — а целостная картина объекта
выстроится только после взаимоналожения инсайдерской и аутсайдерской точек
зрения. У меня же, как человека, пишущего эту работу, есть «инсайдерский» опыт
жизни только внутри российской филологии и отчасти эстонской славистики —
областей, по большей части (в выбранном для данной статьи ракурсе) не столь
различных меж собой. С этим и связано вынужденное — и, безусловно, во многом
искусственное — ограничение геополитического толка.
2) Под гуманитаристикой я понимаю явление более узкое, чем российское
понятие «гуманитарные науки», и скорее приближающееся к humanities в
английской традиции; это цикл наук, ориентированных больше на изучение
текстов, чем людей и сообществ, стоящих за этими текстами: литературоведение,
философия, киноведение, история визуальных искусств, музыковедение и т.д.,
отчасти также лингвистика и религиоведение (как комплекс мифологических
исследований). В этом случае не только антропология и этнография, но и история с
психологией относятся к сфере социальных наук.
3) Подробнее об этом см.: Бахманн-Медик Д. Режимы текстуальности в
литературоведении и культурологии: вызовы, границы, перспективы / Пер. с нем.
К. Бандуров- ского // НЛО. 2011. № 107. С. 32—48. Здесь также дана богатая
библиография, позволяющая представить тенденции академической жизни в
немецких гуманитарных и социальных науках «в лицах».
4) Losinger A. The Anthropological Turn: The Human Orientation of the Theology of
Karl Rahner / Transl. with a foreword by D.O. Dahlstrom. N.Y.: Fordham University
Press, 2000.
5) Stuurman S. Herodotus and Sima Qian: History and the Anthropological Turn in
Ancient Greece and Han China // Journal of World History. 2008. Vol. 19. № 1. P. 1—
40.
6) LecercleJJ. The «Turn» in Literary Studies: Anthropology, or Pragmatics, or Both //
The Anthropological Turn in Literary Studies. Tubingen: Gunter Narr Verlag, 1996. P. 1
— 16; Grabes H. The Aesthetic Dimension: Bliss and/or Scandal // Ibid. P. 17—30;
Cunningham V. In the Cap Fits: Figuring the Space of the Human // Ibid. P. 45—64;
MutterK.P. «The Enactment or Bringing Forth of Meaning from a Background of Understanding» — Constructivism, Anthropology, and (Non) Fictional Literature // Ibid. P.
65—80.
7) Прохорова И.Д. Новая антропология культуры: Вступление на правах
манифеста // НЛО. 2009. № 100. С. 9—16.
8) Подборка «Антропология как вызов»: Платт К.М.Ф. Зачем изучать
антропологию? Взгляд гуманитария: вместо манифеста / Авториз. пер. с англ. А.
Маркова; Гусейнова Д., Венедиктова Т., Липовецкий М, Зенкин С., Эткинд А., Живое В., Богданов КА, Могильнер М, Грант Б., ГумбрехтХ.У. Десять отзывов на
статью Кевина Платта / Пер. с англ. К.В. Бандуровского; Платт К.М.Ф. В ответ на
отзывы / Пер. с англ. А. Маркова // НЛО. 2010. № 106. С. 11—64.
9) Термин предложен Т.Д. Венедиктовой.
10) О некоторых отличиях теории Гирца от теории Лотмана уже говорил А.Л.
Зорин в предисловии к книге «Кормя двуглавого орла.» — в частности, он указал
на то, что гир- цевская семиотика была очищена от структурализма и обогащена
исследованиями идеологий. См.: Зорин А. Литература и идеология // Зорин А.
Кормя двуглавого орла. Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение,
2001, переизд. 2004. С. 13—17.
11) Я имею в виду прежде всего Константина Богданова, Бориса Гаспарова,
Андрея Зорина, Олега Проскурина, Юрия Цивьяна, Михаила Ямпольского, а также
некоторых других. Думаю, нелишним будет еще раз оговориться, что антропологический поворот выступает в моей интерпретации не как течение
(названные авторы принадлежат к довольно широкому спектру гуманитарных
направлений), а как движение — то есть комплекс взаимосвязанных течений с некоторыми общими эпистемологическими установками.
Опубликовано
в журнале:
«НЛО» 2012,
№113
Марк Липовецкий
Конец «застольного» периода
версия для печати (89784)
«‹–›»
Марк Липовецкий
КОНЕЦ «ЗАСТОЛЬНОГО» ПЕРИОДА
В статье Николая Поселягина меня привлекает, прежде всего, возраст ее автора.
То, что антропологический поворот (далее АП) находит поддержку у коллег, чья
дата рождения приходится на начало-середину 1980-х, — на мой взгляд, может
быть прочитано как важнейшее свидетельство, что сам этот поворот не абстракция
и не мертворожденный проект, а то, что действительно резонирует с
потребностями следующего за нами научного поколения. А широта теоретической
эрудиции автора, вызывая искреннее восхищение, в то же время предполагает
серьезность разговора. Поэтому without further ado, попробую сформулировать, что
смущает меня в той модели АП, которую предлагает Н. Поселягин, и как она могла
бы быть скорректирована при сохранении ее основного вектора.
Начну с того, что лично для меня не вполне убедителен, а вернее, неполон тот
набор дисциплин и теоретических подходов, которые, по мнению Н. Поселягина,
являются определяющими для АП в российской «гуманитаристике»: этнология,
семиотика, антропология, история и психология, социология, нарратология и
дискурс-анализ, анализ идеологий, теория перевода. Кажется, особенно не
поспоришь с актуальностью тех или иных дисциплин — кроме тех, что относятся
собственно к области изучения текстов (о чем ниже), — однако показательны те
подходы, которые либо исключены из этого списка, либо минимизированы в своем
значении. Отмечу только два важных (для меня) зияния.
Во-первых, теории и подходы, связанные с гендерным анализом, как текстов, так
и субъективности: от женских до квир-исследований, от гендерных режимов
текстуальности (по Э. Сиксу и Ю. Кристевой) до гендерной культурной
антропологии (Дж. Батлер, Р. Брайдотти и др.). По мысли Н. Поселягина, для
антропологического поворота «финальным объектом будет именно человек как, в
предельном случае, автономная личность и социум как сообщество таких
взаимодействующих личностей; а манифестациями, наоборот, станут те самые
закономерности, выраженные в различных текстах культуры». Однако, учитывая
редукцию гендерного анализа и близких ему исследований культурных
манифестаций телесности в предлагаемой версии АП, этот человек рискует
оказаться бесполым и бестелесным. А скорее всего (как обычно бывает), в качестве
универсального «человека» предстанет гетеросексуальный мужчина или
«условная» женщина, неотличимая от гетеросексуального мужчины.
Во-вторых, в предлагаемой версии АП удивляет отсутствие деконструкции и
каких бы то ни было отсылок к ней. На мой взгляд, крайне важно указать на эту
лакуну, поскольку именно Деррида и его последователи радикально революционизировали и понимание текстуальности, и методы анализа текстов, и
само представление о культурной динамике. Впрочем, это отсутствие можно
объяснить тем, что в известной степени АП — это поворот от деконструкции, а
шире, от постструктуралистских методов анализа, вошедших «в кость» гуманитарного мышления и образования. Однако вряд ли подобное умозаключение
относится к российской гуманитарной среде, в которой деконструкцию попрежнему путают с деструкцией и в которой опасность эссенциалистских
подходов (то, что Н. Поселягин называет в другой своей работе «онтологизацией
собственного метода») крайне редко осознается как проблема.
В итоге этой редукции АП оказывается приглаженной и удобоваримой версией
cultural studies, лишенной свойственного этой дисциплине подрывного пафоса, ни в
коем случае не покушающейся на культурные гегемонии и не предлагающей
отстранения от собственной исследовательской позиции. В сущности, перед нами
все та же лотмановская культурная семиотика (культурология), лишь
сориентированная на опыт конкретных личностей, включенных в те или иные
«тексты культуры», культурология, лишенная амбиции строить глобальные модели
культуры. Но даже отказ от глобальных претензий ни в коей мере не предохраняет
от эссенциалистских тенденций, а конкретнее, от эссенциалистской концепции
культуры, понятой как совокупность неких раз и навсегда заданных
«национальных» традиций и моделей, реализуемых в разнообразных культурных и
литературных текстах, в том числе и в глубоко индивидуальных. В известной
степени такой страховкой может послужить методологическая оглядка на
деконструкцию и на дисциплины, либо сопредельные ей (как гендерные
исследования), либо параллельно осуществившие сходные интеллектуальные
процедуры (снятие оппозиций между онтологией и эпистемологией в лакановской
психологии). Ни одна из упомянутых Н. По- селягиным дисциплин — за
исключением разве что постколониальных исследований (под рубрикой этнологии)
— не содержит в себе подобных «страховок» от эссенциализма. Понимая эту
опасность, Н. Поселягин подчеркивает, что ориентация «на индивидуума в его
социально обусловленной знаковой деятельности» предполагает «контакт с
"другим"», однако исключение из спектра АП дисциплин, вырабатывающих
концептуальный язык для описания «другого», во многом заставляет усомниться в
содержательности этой оговорки — не станет ли «другой», воссоздаваемый данной
версией АП, лишь зеркальной, хотя и замаскированной версией «своего» (как не
раз уже бывало)?
Не в меньше степени меня смущает сама попытка Н. Поселягина сформулировать, что значит АП для всей российской «гуманитаристики». Поскольку наша
дискуссия происходит в журнале, содержащем в своем названии слово
«литературный», и поскольку сам Н. Поселягин, как и я, является по своему
образованию филологом, я позволю себе переориентировать его концепцию АП по
отношению к собственно литературоведению. С этой точки зрения, безусловно,
впечатляет то, что от филологического спектра дисциплин в «повороте» участвуют
не история литературы, не поэтика, не теория интертекстуальности, а главным
образом последние тучи рассеянной бури. А именно: дискурс-анализ (вполне
техническая отрасль лингвистики, не путать с дискурсивным анализом,
обращенным на культурно-идеологические дискурсы), нарратология (последний
оплот структурализма) и теория перевода (которая, как оговаривается Н.
Поселягин, полезна «не сама по себе, а как важный инструмент для работы с
иноязычными и полиязычными текстами культуры»). Иными словами,
литературоведение, захваченное АП, перестает существовать как самостоятельная
дисциплина: ему суждено стать техобслуживанием куда более масштабных и
престижных антропологии, семиотики, социологии, истории и т.п. И точно — ведь
не только не литература, но даже не тексты, а собственно люди, их порождающие,
теперь будут находиться в центре внимания «гуманитаристики». Что-то это ужасно
напоминает? «...Историкам литературы все шло на потребу — быт, психология,
политика, философия. Вместо науки о литературе создавался конгломерат
доморощенных дисциплин. Как бы забываясь, что эти статьи отходят к
соответствующим наукам — истории философии, истории культуры, психологии и
т.д. — и что последние могут, естественно, использовать литературные памятники
как дефектные, второсортные документы»1[1], — так Р.Я. Якобсон описывал ту
ситуацию, которую должен был преодолеть формализм. И хотя кое-что с тех пор
значительно изменилось и интердисциплинарность более не воспринимается как
порок, однако опасность переквалификации литературоведов в доморощенных
антропологов и сегодня достаточно реальна, а что литература может
восприниматься как второсортный (искаженный) документ культуры — об этом
выстроенная Н. Поселягиным дисциплинарная мозаика свидетельствует, по-моему,
вполне отчетливо. Разумеется, в развитии любой науки есть свои циклы — в
литературоведении маятник качается от устремлений к размыканию литературы в
широкие социокультурные «ряды» до «спецификаторства». Однако это не
означает, что нужно постоянно наступать на одни и те же грабли.
Н. Поселягин ссылается на действительно крайне полезную статью Д. БахманнМедик, в которой обозревается ход АП в европейском, и главным образом
немецком, литературоведении. Начальная стадия этого процесса полностью
соотносима с текущим состоянием российского литературоведения: «Поначалу эта
концепция еще тесно связывалась с этнологическим исследованием и с
семиотической рамкой интерпретативной версии культурной антропологии (по
Клиффорду Гирцу). Однако примерно с конца 1990-х годов она стала
использоваться для того, чтобы захватывать гораздо более широкий, объемлющий
различные дисциплины горизонт наук о культуре. При этом сама концепция
"культура как текст" превращалась из концептуальной метафоры, сгущающей
культурные значения, в свободно плавающую, условную формулу
культурологического анализа. <...> Для литературоведения представление о
"культуре как тексте" стимулировало появление нового взгляда на литературу как
"текст культуры", что имело большие последствия и ускорило расширение
традиционного понимания текстуальности — от закрытого текста с его четкими
границами до "нестрогих текстов" (unfesten Tex- ten) — так далеко, как никогда
ранее»2[2].
Однако впоследствии выявились, по крайней мере, две важные методологические проблемы. Первая — опустошение, в силу чересчур широкой валент1[1] Якобсон Р.Я. Работы по поэтике. М., 1987. С. 275.
2[2] Бахманн -Медик Д. Режимы текстуальности в литературоведении и культурологии:
вызовы, границы, перспективы. От антропологического поворота к cultural turns / Пер. с
нем.
К.
Бандуровского
//
НЛО.
2011.
№
107
(http://
magazines.russ.ru/nlo/2011/107/do5.html).
ности, самого смысла понятия «текст культуры». Этот кризис, по мнению Бахманн-Медик, разрешается с помощью приложения к описанию культуры теорий
практик и связанного с ними изучения перформативности в литературе и культуре.
Вторая проблема — это именно то, что отчетливо демонстрирует интерпретация
АП, предложенная Н. Поселягиным:
Литературоведению весьма стоило бы вновь вспомнить здесь о том, что его
предмет не только представляет собой текст культуры, но и обладает
собственной эстетической значимостью. При любой культурной
контекстуализации требуется отдавать должное эстетическому
своеобразию литературных текстов. Ведь предметом интерпретации в духе
культурологии становится не просто культурное содержание, отраженное в
литературе, но также эстетические структуры и парадигмы изображения
как таковые. Если в культурологической рефлексии о литературе,
осуществляемой в последние годы, что-либо вообще и было упущено, так это,
вероятно, не сам «предмет» литературы, но обращение к литературноэстетическому потенциалу «материала» и его необходимый формальный
анализ3[3].
Один из путей преодоления этой проблемы — а именно утраты специфики
литературы как области культуры и литературного текста среди других «текстов
культуры» — Бахманн-Медик видит в расширительной интерпретации концепции
трансгрессии и понимании литературы и искусства вообще как необходимой
трансгрессии (и проблематизации?) культурных ритуалов и практик. Подход
вполне логичный, хотя, конечно, явно не универсальный.
Я так подробно пересказываю эту статью, поскольку, кажется, она позволяет
предупредить возникающие проблемы до того, как они приведут к очередному
кризису.
На мой взгляд, в первую очередь требуется кардинальная переакцентировка
самого предмета дискуссии — антропологический поворот не вообще, а именно в
литературоведении, внутри и по отношению к литературоведческой проблематике.
С этой точки зрения вырисовываются две важнейшие темы, а вернее, два пути, вне
которых искомый АП рискует превратиться в научную моду, о которой будущие
историки напишут как о «еще одном» проявлении кризиса постсоветской
литературной науки.
Во-первых, это путь теоретических поисков. Статья Н. Поселягина, как ни
странно, удивительно перекликается со статьей С. Козлова «Осень филологии»4[4].
Хотя эти работы написаны представителями различных поколений и хотя сам Н.
Поселягин выступает в качестве одного из оппонентов Козлова, их отличает
парадоксальный комплекс: сочетание потрясающей теоретической эрудиции со
своеобразным страхом теории, страхом самостоятельного теоретического поиска.
3[3] Там же.
4[4] НЛО. 2011. № 110.
Здесь не место для обсуждения историко-культурных причин этого комплекса,
хотя, полагаю, решающую роль здесь играет отталкивание от «системноструктурного подхода» в литведе 1970—1980-х, сочетавшего теоретический
провинциализм с устремленностью к глобальным эссенциалистским построениям.
Как полагают и С. Козлов (эксплицитно), и Н. Поселягин (имплицитно), для
адекватного описания русского культурного или литературного материала
достаточно коктейля из уже существующих теоретических подходов. Однако в
этом вопросе я полностью солидарен с Сергеем Ушакиным, писавшим по поводу
«Осени филологии»: «Дисциплина, активно сторонящаяся попыток повлиять на
интеллектуальную повестку дня академического сообщества, дисциплина, не
заинтересованная в экспансии своей тематики и своих способов решения
интеллектуальных (и социальных) проблем, дисциплина, не озабоченная
увеличением того, что в социологии принято называть "собственной социальной
базой", — такая дисциплина обречена не просто на "стадию остывания", а на
холодную (и быструю) смерть. С такой "осенью" до зимы можно и не дожить»5[5].
На мой взгляд, участниками российского АП накоплен достаточный эмпирический опыт (не говоря уже о теоретической эрудиции) для того, чтобы
ставить перед собой масштабные теоретические задачи, способные структурировать поле «поворота», придавая ему черты самостоятельного научного
направления. Обсуждение этих задач могло бы стать предметом не одной
дискуссии на страницах «НЛО».
Первостепенной же мне представляется именно проблема соотношения
литературы и литературной поэтики (как индивидуальной, так и свойственной
целым течениям и направлениям) с культурными и социальными образованиями —
практиками и институциями. По-видимому, эти соотношения невозможно
адекватно концептуализировать вне категории дискурса — понятия, что
характерно, практически не используемого Н. Поселягиным (по- видимому, оно
уже вышло из моды). Именно дискурс соединяет литературу (и литературность) с
социумом, идеологиями и культурными практиками. Или, иными словами: это
механизм двусторонних отношений между литературой и текстами культуры в
самом широком смысле.
Отсюда (повторю то, о чем я уже писал в «НЛО», № 106) необходимость
целенаправленного исследования поэтики дискурсов — исследования, не
ограничиваемого риторикой конкретных дискурсов (в этом направлении уже
немало сделано), но и включающих в себя вопросы дискурсивных переводов и
гибридов, методов проблематизации и «наращивания» дискурсов; типологии
дискурсов и изучения дискурсивных «жанров»; построения дискурсивных карт
конкретных эпох и описания историй конкретных дискурсов в рамках
национальной культуры. Литературные тексты и литературная среда в рамках этой
исследовательской программы остаются в центре внимания, поскольку именно
5[5] Ушакин С. «Осень, доползем ли, долетим ли до рассвета?» // НЛО. 2011. № 110
(http://magazines.russ.ru/nlo/2011/110/ u5.html).
литература в русской культурной истории была, да и остается, важнейшей
«лабораторией дискурсов», в которой они рождаются и умирают, испытываются на
прочность и мутируют. Причем весь арсенал литературоведческого «академизма» в
этих исследованиях будет не только востребован, но и потребует радикального
обновления: анализ дискурса не сводится только к «идеям» — строго говоря,
дискурсы и есть «формы времени», хотя и существенно отличные от собственно
литературных форм. Разумеется, это лишь один из векторов теоретических
поисков, необходимых для того, чтобы наш АП не повис в безвоздушном
пространстве «гуманитаристики».
Кроме того, это путь масштабных, междисциплинарных проектов по изучению
литературной истории — в частности, русской. Именно в рамках таких проектов с
рабочими группами, включающими не только литературоведов, но и историков,
антропологов, социологов, с регулярными конференциями и публикациями могут
оформляться новые теоретические подходы. Опять же не претендуя на изобретение
велосипеда и открытие лекарства от всех болезней, упомяну в этом контексте, на
мой взгляд, крайне продуктивную идею И. Прохоровой о создании альтернативных
историй литературы.
В 1990—2000-е годы было написано множество новых учебников по истории
русской литературы (я тоже приложил к этому руку). Они вошли в вузовские
программы, по ним учится новое поколение филологов. Новые истории
литературы отличаются, во-первых, включением материала, в советское время
окруженного цензурным запретами, а во-вторых, отказом от стереотипных,
идеологизированных интерпретаций. Однако ожидаемой трансформации системы
литературоведческого знания не произошло. Нельзя назвать ни одной новой
истории литературы, в которой была бы предложена картина исторического
развития, принципиально отличная от тех стадиальных концепций, которые
сложились в советском литературоведении. В новых историях литературы либо попрежнему доминируют неарти- кулируемые, иногда усложненные, но тем не менее
вполне отчетливые положения «материалистической эстетики», предполагающие
«постижение и отражение жизни», «художественную оценку и обобщение» в
качестве универсальных механизмов литературного творчества. Либо же на
первый план выдвигаются религиозные модели, предлагающие близость
художника к Богу в качестве гарантии высоких творческих достижений и
превращающие путь к вере (всегда христианской и православной) в заменитель
таких ярлыков советского литературоведения, как «участие в революционном
движении» и «борьба с самодержавием».
Очевидно, что расширения исследовательской базы оказалось недостаточно для
изменения интеллектуальной парадигмы, лежащей в основе историй и учебников
русской литературы. И дело не только в том, что история литературы по-прежнему
строится на основании внелитературных моделей. Гораздо важнее, что нигде в
«новых» историях не произошло усвоения тех радикальных изменений в
гуманитарном знании, о которых пишет Н. Поселягин и на которых, собственно, и
основывается наш АП. Авторы новых историй, кажется, не допускают мысли о
существовании различных — нетотализирую- щих — историй; что отражается и на
структуре литературного образования, остающейся практически неизменной с
1970-х годов. История литературы, как и тридцать лет назад, воображается
линейным процессом, происходящим главным образом в Москве и Петербурге
(Ленинграде), в полной изоляции как от мировых тенденций, так и от других форм
русской культуры.
Возможно, полезным окажется «запретительный жест», некое добровольно
принятое табу. Допустим, отказ от привычной литературоведческой номенклатуры
— в первую очередь от системы понятий, описывающих литературные
направления и течения (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
модернизм, соцреализм, постмодернизм и т.п.). Попытка писать историю литературы, не прибегая к этим удобным рамкам, неизбежно заставит искать новые
принципы концептуализации и периодизации. Может быть, вместо очередной
истории русского классицизма, романтизма, реализма, символизма, авангарда и т.п.
стоит задуматься об истории русского социального или метафизического письма,
русской фантасмагории и мистики, стоит попробовать написать историю смешного
в литературе и историю «слезливой» литературы, историю «непристойного» и
«возвышенного», насилия и его литературных манифестаций, литературного
андеграунда и официоза и т.д. в широком контексте русской культуры, а также в
общеевропейском (и особенно — восточноевропейском) контексте? Уже написаны
и еще пишутся истории русской литературной репрезентации гендера и телесности,
этнического и религиозного Другого и имперского воображения, массовой
литературы и «промежуточной словесности», но и тут еще достаточно места для
коллективных проектов в духе АП и с четким теоретическим прицелом.
Разумеется, с теми коррективами самой концепции АП, о которых я говорил выше.
Все эти альтернативные истории будут иметь смысл, если, говоря словами
Лотмана, они «наполнят кровью реальных интересов» последовательную
деконструкцию до сих пор доминирующей в литературоведческих исследованиях
логики бинарных оппозиций, эссенциализма и иерархических парадигм.
Может быть, ничего не получится или результат окажется неудовлетворительным. Но только так можно испытать пределы и возможности АП в литведе.
«Застольный период» не может длиться бесконечно.
Декабрь 2011 г.
Опубликовано
в журнале:
«НЛО» 2012,
Борис Гаспаров
№113
Почему антропологический?
версия для печати (89785)
«‹–›»
Борис Гаспаров
ПОЧЕМУ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ?
В романе Д.Г. Лоуренса «Женщины в любви» («Women in Love») об одном из
героев говорится:
Его больше не интересовали личности и люди — все люди были разными, но
сегодня они все были ограничены определенными рамками, говорил он; <...>
Они действовали и противодействовали неосознанно согласно нескольким
великим законам, и как только эти законы, эти великие принципы,
становились известными, люди теряли свою мистическую загадочность. По
своей сути они все были одинаковыми, и разница между ними была только
вариацией на заданную тему. Никто из них не нарушал заданных условий6[1].
В рассуждении героя Лоуренса узнается строй мыслей, типичный для начала ХХ
века с его чередой триумфальных прорывов к сущностным «законам или
принципам», делавшим «людей» и их дела все менее интересными, вплоть до
полной иррелевантности самого факта их физического существования. Лишенная
трансцендентного блеска идея интереса к ближнему заменилась интересом к
дальнему, которого можно достичь, лишь вознесясь высоко над его
существованием и оттуда бросив на него взгляд. Позиция, конечно, слишком
привлекательная, чтобы у нее не нашлось множества предшественников, но,
кажется, никогда ее соблазн не был таким сильным, как в недавно ушедшем
столетии. Стоило одной всеобщности потускнеть, как ее с фатальной
неизбежностью сменяла другая: от прозревания мистических сверхсмыслов — к
фантому структурной объективности, а за ним — к «смерти автора», оставившей
критику неограниченную свободу судить «бывшего автора» с высоты своих
идеологических стереотипов.
Антропологический поворот, насколько я его понял, призван предложить
средство против этой эпидемической «высокой болезни» или, по крайней мере,
начать его поиск. Цитируя удачную формулировку Н. Поселягина: «Для
антропологического же поворота финальным объектом будет именно человек как,
в предельном случае, автономная личность и социум как сообщество таких
взаимодействующих личностей; а манифестациями, наоборот, станут те самые
закономерности, выраженные в различных текстах культуры». Задача
кардинальной важности, к тому же в России приобретшая, любопытным образом,
6[1] ЛоуренсД.Г. Женщины в любви. М.: Азбука-классика, 2006. Цит. по электронной версии:
http://knigosite.ru/library/ read/20113.
внезапную актуальность: начинает казаться, что само общество стоит на пороге
«антропологического поворота».
Сущность заявленного подхода состоит в том, что первичной действительностью признаются непосредственные действия, при помощи которых личности
вступают в контакт друг с другом в рамках того или иного сообщества:
конкретные языковые высказывания, которыми говорящие обмениваются в
определенной ситуации и с определенной целью; и аналогично, различные
поведенческие «высказывания», также каждый раз определяемые ситуацией и
целевой направленностью. Традиционное соотношение «языка» и «речи»
подвергается инверсии: вместо того чтобы видеть в обобщающих схемах «языка»
первичный механизм, порождающий конкретные высказывания, последние
рассматриваются как первичная, непосредственно данная действительность, а
схема — как вторичный продукт интеллектуального осмысливания этой
действительности, возможный лишь производно от непререкаемого факта ее
данности.
Главная проблема при таком переворачивании перспектив — как теперь обращаться с этой бесконечно разнообразной и текучей действительностью, если
отказаться от категориальных опор, делающих эмпирические феномены предсказуемыми в каких-то основных чертах. Здесь не место распространяться о том,
что сами эти категориальные опоры при более пристальном рассмотрении
оказываются иллюзорными, поскольку они имеют дело не с самими феноменами, а
с их избирательно конструированными схемами; отношение же такой схемы к
самим предметам, во всей их бесконечной нюансированности в конкретных
условиях употребления, остаются неуловимо разнообразными. Категоризация
действительности, предварительно препарированной в параметрах, делающих эту
категоризацию возможной, способна породить интересные интеллектуальные
построения, сами по себе, в качестве фактов культуры, имеющие неоспоримую
ценность. Но собственно описанием они не являются, поскольку даже не ставят
вопрос о том, как человек — неоспоримый эмпирический субъект культуры —
ориентируется в бесконечном разнообразии актов языкового и поведенческого
высказывания и в летучей изменчивости условий их употребления. Как в этих
условиях внутренней свободы, которую никакое обобщение не способно охватить,
субъектам культуры все-таки как-то удается «передавать» и «понимать»
высказывания?
Разумеется, ни заявленный ныне «антропологический поворот», ни его
предшественники (о которых речь ниже) не в состоянии дать полностью
удовлетворительный ответ на подобные вопросы; но принципиально важно то, что
в рамках этого подхода они могут быть поставлены. Оказывается возможным
посмотреть на культуру как на движение от одного высказывания к другому,
соотнося их друг с другом по горизонтали, в качестве длительности
накапливающегося опыта и памяти, а не относя по вертикали к обобщающей
сверхреальности. Разные акты употребления имеют отношение друг к другу, но не
в качестве манифестантов какой-либо общей категории, а по принципу «семейного
сходства» в определении Витгенштейна7[2]. Признаки сходства с чем-то прежде
бывшим в новом высказывании, определяющие его «узнавание», не предсказаны в
виде матрицы — они варьируются, дробятся, выступают во все новых
конфигурациях, подобно сходным чертам внешности, характера, привычек у
членов одной семьи.
Говоря о прецедентах такого подхода, естественно в первую очередь упомянуть,
наряду с Витгенштейном, М. Бахтина. Еще более ранним антецедентом
«горизонтального» подхода была теория фрагмента йенских романтиков. Не
стремясь к существенному расширению этого списка, я хотел бы упомянуть еще
одно явление в истории мысли, поскольку к пониманию его места в этом ряду мы
только начинаем приходить и для меня самого оно явилось неожиданностью. Я
имею в виду теорию знака Фердинанда де Соссюра.
О том, что взгляды, высказанные Соссюром во множестве отрывочных записей
(отчасти напоминающих йенские фрагменты), существенно отличаются от
основополагающих тезисов, которые мы привыкли отождествлять с «Курсом
общей лингвистики», начали говорить уже давно, после выхода книги Р. Годеля
«Les sources manuscrites de F. de Saussure» (1957). Но что смысл того, что силился
высказать Соссюр в своих записях, являет собой не просто смягченную версию
конвенционального представления о его теории, но во многом ее полную
противоположность, стало выясняться постепенно, по мере появления в печати все
новых материалов. Более того, читая «Курс.» в свете этих записей, можно увидеть,
что смысл его лаконичных, отчасти туманных (несмотря на афористическую
отчетливость языка) тезисов совсем не таков, каким его увидел структурализм и
каким он отложился в культурной памяти.
Принцип произвольности (арбитрарности) знака у Соссюра означает, что тот
факт, что некоторый квант формы и некоторый квант смысла оказались сопряжены
в знаке, не имеет под собой никаких оснований, кроме самого факта сопряжения,
санкционированного употреблением. Это делает невозможным лингвистическую
инженерию, то есть сознательное реформирование языка на основе социального
договора между говорящими; любая реформа такого рода вызывает
непредвиденные побочные эффекты, и таким образом, ее результат никогда не
адекватен ожидаемому. Эту идею Соссюра структурализм интерпретировал в том
смысле, что язык представляет собой имманентную структуру, которая строится и
развивается по своим внутренним законам. Однако эта внеположность языкового
(и шире, любого культурного) знака каким-либо разумным основаниям делает
язык беззащитным перед лицом индивидуальных употреблений. Говорящие все
время сдвигают форму и смысл знаков, эластично «растягивают» сферу их
употребления, приспосабливая их к текущей ситуации, — именно потому, что у
знака нет прочной опоры ни в логике, ни в эмпирических условиях существования.
7[2] Витггвнштейн Л. Философские исследования. М.: АСТ, 2011.
Если посмотреть на язык извне, он предстает идеальным монолитом, подчиненным
лишь своим внутренним законам. Но если встать на точку зрения конкретных
фактов употребления языка в конкретных ситуациях, уделом языка оказываются
беспрестанные микроскопические сдвиги-толчки, хаотические и совершенно
бесконтрольные, поскольку они исходят от неопределенного множества
говорящих и мотивируются бесконечным множеством ситуаций употребления.
Принцип арбитрарности Соссюра — это принцип свободы обращения говорящих с языком. Мне кажется, что ревизия взглядов Соссюра — или, скорее,
непредвзятое его прочтение — может явиться важным вкладом в «антропологический проект».
Теперь пора обратиться к вопросительному знаку в заглавии этой заметки. Он
относится не к содержанию обсуждаемого здесь феномена, а к его наименованию.
Термин «антропологический» представляется мне неудачным, поскольку слово
«антропологический» отягчено большим, быть может, непосильным грузом
предшествовавших употреблений, прямо противоречащих интенции смысла,
которую ему хотят придать.
Если бы содержание термина «антропологический» определялось его этимологической формой, его можно было бы счесть вполне уместным, даже
удачным. В сходном значении его употреблял Фейербах (и за ним Чернышевский),
чья, надо признать, несколько аморфная философия материальности человеческого
существования осталась эпизодом между идеалистическим детерминизмом Гегеля
и материалистическим детерминизмом Маркса. Но это было давно. Сейчас же при
слове «антропология» на ум приходит «первобытное мышление», бриколаж,
символическая значимость боя петухов и подобных экстравагантных ритуалов,
внеположность категорий языка хопи «нашей» категоризации времени, реальности
и количества и т.п. Все это — именно плоды внешнего взгляда на предмет,
стремления охватить его целиком в качестве некоторой закономерности, для
которой конкретные высказывания конкретных субъектов служат лишь
репрезентациями. Этот принцип действителен не только для «структурной
антропологии» с ее преднамеренным схематизмом, но и для «богатых описаний»
Клиффорда Гирца. Примером новейшей вариации такого подхода может служить
идея «постколониального», которая мне представляется очередным способом
посмотреть с позиции культурной метрополии («первого мира») на то, что лежит
за ее пределами; парадоксальным образом, такая позиция обнаруживает свою
поистине «постколониальную» природу, в том смысле, что служит естественным
продолжением
«колониального»
изучения
мышления
дикаря.
Пафос
саморазоблачения или самоуничижения описывающего субъекта, характерный для
работ Нового времени, не отменяет кардинального отношения к объекту как к
«другому». Стратегия культурной антропологии — это стратегия остранения.
Для России, с ее статусом «второго мира», дело осложняется стремлением быть
одновременно субъектом и объектом «антропологического» (в традиционном
смысле) исследования. Сфера «первобытного» определяется субъектом, самого
себя к таковой не относящего. Но русская мысль часто стремится сама себя
определить в качестве «другого». Для говорящих на хопи безразлично то, что в
глазах Уорфа квантификацию времени в их языке нельзя измерить аршином. Но в
работах по изучению русской «языковой мен- тальности» сами носители этой
ментальности провозглашают ее «другой» по отношению к постулируемому
неотмеченному (так сказать, первомирному) состоянию. Мы другие: и
стратификация времени у нас «не такая», и идея лица размыта безличностью и
коллективностью, и модальность долженствования смягчена (подаются ли эти
экзотические черты «другого» с отрицательным или положительным знаком, сути
дела не меняет). В отличие от работ по языковой ментальности, поражающих
своей теоретической наивностью, да и эмпирическим невежеством, работы
Лотмана о русской культуре, в особенности поздние, отличают замечательная
глубина и богатство наблюдений. Но и они являют тот же парадоксальный
симбиоз субъектности исследователя и объектности его самосознания как
маркированного «другого».
Не исключено, что новое употребление слова «антропологический» позволит
преодолеть инерцию памяти, тем более что в этом направлении уже сделаны
начальные шаги; но достигнуть этого будет нелегко, учитывая огромную
инерционную массу традиционного понимания; а главное, непонятно, к чему такое
чисто внешнее осложнение задачи, и без этого достаточно сложной. Нет смысла,
однако, тут же экспромтом предлагать какой-нибудь новый термин. Эта заметка
является скорее призывом не спешить с прокладыванием трассы «поворота», а
потоптаться немного на месте (состояние, в высшей степени свойственное
«антропологическому» элементу, когда он получает голос), чтобы лучше уяснить
себе и разные векторы проблемы, и те явления культурной памяти, в которых для
нее можно найти питательную среду. Может быть, тогда стало бы яснее и как она
должна называться.
Опубликовано
в журнале:
Илья Калинин
«НЛО» 2012,
Время кризиса и бремя манифестов
№113
Филология на повороте
версия для печати (89786)
«‹–›»
Илья Калинин
ВРЕМЯ КРИЗИСА И БРЕМЯ МАНИФЕСТОВ. ФИЛОЛОГИЯ НА ПОВОРОТЕ
Озабоченность собственной идентичностью — характерный симптом кризиса.
Кризисы бывают разные. Почти все они хорошо нам знакомы: экономический,
политический, энергетический, кризис доверия, кризис среднего возраста, наконец.
Как показывает общая психология, identity crisis может быть и началом выхода из
психологического тупика, и окончательным замыканием субъекта в
неразрешимости внутренних проблем. Медицинский опыт еще более
радикализирует стоящий за моментом кризиса разрыв: или пациент жив, или
пациент мертв.
В этом смысле вопрос о кризисе, ощущаемом частью гуманитарного сообщества
в связи с унаследованной идентичностью (методологической, дисциплинарной,
институциональной), стоит не столь остро. Чем бы он ни кончился, все останутся
живы (и те, кто ощущает кризис, и те, кто видит в этой обеспокоенности
теоретическую суету, скрывающую практическую неспособность «делом
заниматься»): кафедры будут заседать, молодые, хотя и не сразу и не без мытарств,
будут находить работу внутри академий и университетов, диссертации будут
защищаться, книги будут писать, радушные коллеги будут откликаться на них в
рецензиях. Контора пишет, знание воспроизводится внутри институтов, институты
воспроизводят сами себя. И с этим ничего не поделаешь. Проблема в том, будет ли
хранимое и умножаемое внутри этих институтов знание кому-то нужно, помимо
тех, кто занимается его хранением и приумножением. И это не вопрос рынка, это
вопрос вписанности гуманитарного (и социального) знания в общий ценностный
горизонт, наделяющий или не наделяющий смыслом любой тип человеческой
активности. Этот вопрос о формах и результатах производства гуманитарного
знания не может быть вынесен за пределы социальной прагматики. Я опять же
говорю не об идеологической ангажированности или политической
инструментализации, а об ощущении целого, общего контекста, истории, в
которую погружен исследователь, а не только его предмет, — ощущении,
утраченном не столько даже теми или иными представителями филологической
корпорации, сколько филологией как научным проектом8[1]. В отличие от
богословов, у гуманитариев нет алиби, заранее оправдывающего их деятельность
раскрытием истины божественного откровения. Так что вопрос о том, кто (и за
что) выдаст гуманитарию индульгенцию за грех бессмысленного умножения
дискурсов, должен тревожить его, выступая в роли чеховского человека с
молоточком.
8[1] Филология здесь выступает как синекдоха, возможно, наиболее репрезентативная для
гуманитарного знания в целом.
В середине 1920-х годов Борис Эйхенбаум, реагируя на постепенный отход от
революционной парадигмы самоощущения эпохи, писал, что современность ставит
уже не вопрос о том, как писать, а вопрос о том, как быть писателем. Продолжая
его мысль, можно сказать, что если революция проблематизирует способ
производства знания, то реакция проблематизирует идентичность того, кто его
производит. Специфика нашего позднего модерна состоит, в том числе, и в
размывании различия между революцией и реакцией (в ускорении процесса,
размывающем эти различия), так что вопрос о методе совмещается с вопросом об
идентичности9[2]. Что хорошо видно по гуманитарным манифестам недавнего
времени. Еще одной общей для них чертой является то, что при всей их
проективной направленности в будущее они пронизаны идеей наследования,
точнее, ревизии доставшегося нам теоретического наследия. И это тоже черта
времени: будущее видится как продуктивная утилизация прошлого. Манифесты
новой науки задают вектор развития, реализация которого состоит в следовании
маршрутам, чьими ориентирами выступают освещенные историей имена. Новизна
парадигмы видится в выстраивании новой траектории движения между уже
заданными точками. Хочется и повернуть, и ничего не оставить за поворотом.
Время кризиса (поворотной точки, если верить этимологии) чревато манифестами. Проблема в том, что сами манифесты несут в себе бремя прошлого,
которое, как предполагается, должно разродиться новой теоретической
парадигмой. Что вряд ли получится. И слава богу. Если очередная сильная теория
и появится, произойдет это как-то по-другому: неожиданно и вдруг (как говорил
дракон в пьесе Евгения Шварца: «Настоящая война начинается. вдруг»). А вот
вопрос о необходимости рефлексии относительно нового эпистемологического
горизонта, на фоне которого могло бы в дальнейшем развиваться гуманитарное
знание, действительно важный. Да и само ощущение неблагополучия внутри
филологической науки (и особенно внутри славистического литературоведения)
имеет под собой все основания: все работает, но ничего не происходит, на фронте
уж которое десятилетие без перемен, что заставляет задуматься, а есть ли сам
фронт или остались только окопы, усердно углубляемые в не связанных между
собой и потерявших всяческий тактический и стратегический смысл
направлениях? Ирония во многом состоит в том, что большая часть
окапывающихся никакого внутрицехового неблагополучия не ощущает (разве что
имеются трудности со снабжением, ну да к этому, как говорится, не привыкать).
Неблагополучие испытывают те, кто дезертировал с полей описательной поэтики и
стиховедения, позитивистской истории литературы и поиска духовных основ или,
наоборот, — подтекстов и претекстов. За это, наверное, и страдают. Потому что
другие поля заняты, теми же социологами и антропологами, которые делиться не
спешат. А других полей пока нет. Их еще предстоит изобрести.
9[2] См. также мою статью: Калинин И. Часовые истории в эпоху, когда караул устал //
Неприкосновенный запас. 2010. № 3 (71).
Антропологический поворот в филологии — одно из движений в этом
направлении.
Итак. Череда манифестов, появившихся за последние несколько лет и ставших
поводом для все еще продолжающейся дискуссии, является проявлением
дискомфорта, связанного с ощущением маргинализации гуманитарного (и
филологического прежде всего) знания. Особенно неприятно то, что вина за эту
маргинализацию не может быть возложена исключительно на «бездуховность
массового общества», переставшего с инфантильной надеждой смотреть на
представителей гуманитарных наук. Отсутствие спроса в данном случае
полностью гармонизировано практически полным отсутствием предложения.
Указанный дискомфорт слышится и в самих программных выступлениях,
предлагаемых к осуждению, и в ответных репликах. Его мотивы могут быть
различны:
теоретическая
стагнация,
институциональная
ригидность,
коммодификация знания (превращение университета в агента сферы услуг, а
преподавателя — в менеджера по продажам). Если первые два пункта еще
решаемы в рамках академической сферы, последний является частью процессов,
которые выступают скорее как предмет описания, нежели как объект регулирования — по крайней мере, со стороны науки. Поэтому программа масштабных институциональных реформ, нарисованная Кевином Платтом10[3],
кажется мне не столько несостоятельной (содержательно, в отличие от ряда
коллег, откликнувшихся на нее, я с ним во многом согласен), сколько утопической.
Институциональный дизайн гуманитарных и социальных факультетов будет связан
не с автономным внутринаучным методологическим перераспределением границ
между ними, а с принципами, диктуемыми наукой о продажах: что можно
предложить на коммерческом рынке образования или продать государству в
качестве необходимого ему экспертного знания11[4]. Такова реальность, и
противопоставить ей можно не новый спор факультетов, а старые формы
критического мышления, традиционно конституирующие идентичность
интеллектуала. В рамках существующего ныне глобального режима
воспроизводства капитала, власти, знания, разделения труда и социальных
различий будущее социальных и гуманитарных наук 12[5], скорее всего, будет
связано не с университетом (здесь тенденции на довольно длительную
перспективу уже определились) и тем более не с академией (в тех странах, в
которых она все еще существует) как системами и корпорациями, а с конкретной
10[3] Платт К. Ф. Зачем изучать антропологию? Взгляд гуманитария: вместо манифеста //
НЛО. 2010. № 106. С. 13—26.
11[4] В этой связи, в отличие от Кевина Платта, будущее area studies видится мне вполне
безоблачным: пока государства исходят из геополитического мышления, нужда в
региона- листике вряд ли снизится. Скажем, переход американской славистики под
широкое, как степь, крыло Eurasia studies свидетельствует не о встречном движении
социального и гуманитарного знания, а о перераспределении политических границ,
перенаправлении финансовых потоков и перезагрузке геополитических интересов.
12[5] Под будущим науки я здесь понимаю ее существование в качестве открытого,
постоянно проблематизирующего самого себя и свои цели проекта, выходящего за
пределы обслуживания конкретных технических или идеологических задач, диктуемых
существующим в каждый конкретный момент порядком.
практикой каждого конкретного исследователя (что отнюдь не исключает, что эта
практика будет осуществляться внутри университета или академии). Ресурсы,
сконцентрированные в этих институциях, можно и нужно использовать, но это не
значит, что от самих институций стоит ждать какого- то продуктивного для
развития науки системного эпистемологического поворота. Для этого должны
измениться условия по ту, а не по эту сторону академических институций. А это
уже вопрос антропологического поворота иного масштаба, нежели сейчас
обсуждается.
В рамках развернувшейся дискуссии о продуктивности и перспективах
«антропологического поворота» в гуманитарной науке я склонен принципиально
не разделять социальные и гуманитарные дисциплины, наделяя тот или иной цикл
приоритетной позицией или статусом более продуктивного типа производства
знания. У гуманитарных и социальных наук разное происхождение, разная
история, но общая судьба. Вопрос не в том, что мы можем предложить друг другу,
сохраняя чувство собственного институционального достоинства и следя за
эквивалентностью обмена. Вопрос в том, насколько каждый конкретный
исследователь, исследовательская группа или академическая институция окажутся
способны не просто преодолевать существующие дисциплинарные и
методологические границы, но и не видеть в самом факте этого пересечения
какую-либо проблему, заслугу или прегрешение. Дело не в верности принципу
использования методов, разработанных в рамках социальных наук, в пространстве
гуманитарного исследования, а в степени отрефлексированности этого
заимствования
и
конкретной
успешности
его
применения.
За
междисциплинарность медалей уже не вручают. Даже в России. Так что само
указание на необходимость движения гуманитарных наук в сторону социальных
(или наоборот) еще ничего не дает. Равно как и перечисление возможных пунктов
перехода границы (не важно, что выступает в качестве такого Checkpoint Charlie:
авторитетное имя, имя школы или метода). Этот список принципиально открыт, и
выбор продуктивного теоретического ресурса может осуществляться каждый раз
заново в зависимости от материала и поставленной задачи.
Как мне представляется, проблема антропологического поворота в гуманитарных науках шире тезиса о необходимости учиться у антропологии или
социологии их способам работы с материалом. Антропология в данном случае
должна восприниматься не в дисциплинарном и тем более не в институциональном13[6], а в широком методологическом и даже шире — ценностном
смысле познавательного горизонта. Поэтому, говоря об антропологическом
повороте, определение «антропологический» я понимаю не как «относящийся к
13[6] Хотя в связи с практикой воспроизводства знания может быть поставлен и вопрос
институциональных трансформаций соответствующих университетских департаментов, но
он точно не является первичным: пока непонятно, что и как нужно менять, лучше ничего
не менять вовсе.
антропологии как науке»14[7], а как «относящийся к общей для антропологии
эпистемологической системе координат». Иными словами, это вопрос смещения
исследовательского акцента с текстов на людей. Но и здесь все не так схематично,
поскольку многие традиционные филологи не согласились бы с тем, что
занимаются именно текстами, а не людьми. Равно как и многие представители
социальных наук заслуженно считают, что занимаются именно текстами и
дискурсивными практиками, а не такой «гуманитарной» абстракцией, как человек.
Взаимное пересечение текстов, людей и социальных практик уже давно является
частью общего теоретического бэкграунда и гуманитарных, и социальных наук, и
здесь мы мало что нового можем сказать друг другу. Первые попавшиеся под руку
и достаточно древние примеры: историческая поэтика А.Н. Веселовского своим
предметом видела именно встроенность текстов в социальные и даже
хозяйственные практики, тогда как антропология К. Леви-Стросса рассматривала
структуру родства как язык, а различные социальные практики — как систему
высказываний.
По большому счету разговор, который мы ведем, — не о методе, а о предмете.
Что мы пытаемся или хотим описывать? Ответ, который намечается в рамках
дискуссии об антропологическом повороте, предлагает «учиться постигать
"взглядом и телом", как именно "встроен" данный текст в социальные практики,
институциональные контексты и живой опыт» (К. Платт), или, наоборот, познавать
человека, но «не непосредственно, как в физической антропологии, и даже не
только через его социальную активность (включая индивидуальный повседневный
быт), а прежде всего через знаковые медиаторы — тексты» (Н. Поселягин). При
внешней разнонаправленности этих исследовательских векторов между ними нет
противоречия. Оба движения устремлены к преодолению границы между
изучением текста и его структурных закономерностей и изучением человека и
закономерностей его социального поведения. Но необходимость этого движения
настолько очевидна, что ставит под сомнение сам пафос открытия: это все равно,
что призывать всех идти в ту сторону, куда все и так уже идут (кроме тех, конечно,
кто видит цель науки в воспроизводстве прежних традиций и на том стоит). Хотя в
любом случае манифестация уже существующих тенденций свидетельствует о ее
адекватности происходящему. И это можно только приветствовать.
Но повторюсь: это движение в определенном смысле уже произошло внутри и
социальных, и гуманитарных наук, и произошло оно вне их эксплицитного
дисциплинарного взаимопроникновения. Социальная активность (включая
индивидуальный повседневный опыт) уже изучается социологами как
пространство взаимодействия текстов и дискурсивных практик, а тексты уже
рассматриваются гуманитариями как проявления социальной активности и часть
14[7] Здесь, действительно, как на это указал К. Богданов в своей реплике на выступление К.
Платта, возникает масса конкретных вопросов относительно того, какую антропологию мы
имеем в виду, — что лишний раз служит в глазах профессиональных антропологов
доказательством фирменного дилетантизма вездесущих гуманитариев.
повседневного опыта. Не буду называть имен, множество из них уже прозвучали в
ходе идущей дискуссии (можно назвать и многие другие, вплоть до еще не
названных в этой связи формалистов и младоформалистов: концепция
«литературного быта» Б. Эйхенбаума направлена на постижение текстов в их
встроенности в социальные практики, поздняя модель литературной эволюции Ю.
Тынянова отменяет традиционные представления о литературном каноне).
Как представляется, прозвучавшие призывы к взаимному обогащению социальных и гуманитарных исследовательских процедур необходимо радикализировать, поскольку, ратуя за прописывание прагматических контекстуальных
связей между человеком и текстами, они по-прежнему исходят из представлений
об их принципиальном различии (то есть из подспудно не преодоленных
органицизма в отношении человека и структурализма в отношении текста и
языка). Противопоставление «живого опыта» и текста (К. Платт) или
представление о тексте как семиотическом медиаторе, опосредующем какую-то
иную, социальную (органическую или онтологическую) природу человека (Н.
Поселягин), — тому свидетельство. Представления о «живом человеческом опыте»
автоматически отсылают нас к представлениям о «мертвом теле текста»,
вписанного в жесткую грамматику отчужденного от человека языка.
Концептуализация текста как медиатора столь же автоматически отсылает нас к
субстанциализации человеческой природы, которую текст призван опосредовать.
Призывая к отказу от бинарных оппозиций, этот мыслительный ход латентно нам
их возвращает, но уже не в виде изначальной теоретической аксиоматики, как в
классическом структурализме, а в виде теоретического ориентира, к которому
необходимо двигаться. Хотя вряд ли с такой задачей согласятся сами
призывающие.
Антропологический поворот можно вписать в иную траекторию, движение
которой предполагает учреждение пространства, надстраивающегося над различиями между социальными и гуманитарными методами и предметами (что,
естественно, не снимет различия между самими дисциплинами). Это пространство
дискурса, в котором текст выступает не как медиатор социальной активности
человека, а как его часть, то есть как непосредственная социальная активность, и в
то же время человеческая социальность (коль скоро мы склонны опознавать ее как
конструкт) прочитывается как текстуальность. Находясь в этой плоскости, мы
могли бы избежать пространственно-метафорических ловушек, заводящих нас в
лабиринт представлений о «внутри» и «вне» текста. «Да простит нас Деррида, но
внутри текстов нет ничего, кроме того, что вложили в них живые люди, — и это
"вложение", как процесс, должно находиться в фокусе научного изучения
культуры "извне"», — пишет К. Платт. Деррида уже все простит. Не в этом дело.
Дело в том, насколько продуктивно говорить о «вложении» в текст какого-то
живого опыта, принадлежащего живым людям, если сам живой опыт и процесс его
вложения в текст носят текстуальный характер и при этом без всяких потерь для
жизни. Тексты не в меньшей степени оживляют человеческий опыт (вспомним о
принципе остранения), чем человеческий опыт оживляет тексты (вспомним о
такой все еще повседневной для многих процедуре, как обычное чтение). И торг
здесь неуместен. Переключая внимание на человека, мы по-прежнему остаемся
наедине с текстами (если мы говорим о филологии или истории; скажем,
визуальные исследования или исследования телесности не нуждаются в
антропологическом повороте, поскольку им и инициированы). Другое дело, что
само понятие текста должно быть иным, чем это было в структурализме или
позитивизме (то есть перестать опираться на представления о системе со- и
противопоставлений или об отражении действительности; но эти представления
уже и сами или отмирают, или провинциализируются, даже если учитывать то, что
большинство людей в мире все еще живет в провинции). Обращая свой вопрос к
человеку, мы все равно вынуждены искать на него ответ в тексте. Мы не должны
останавливаться на том, о чем тексты говорят на уровне прямого высказывания
или на уровне своей грамматической и риторической структуры. Более интересный
вопрос — о чем тексты молчат, но в чем можно попытаться услышать речь
человека, погруженную в его социальный праксис, равно как и в его
бессознательное (опять же организованные как текст)15[8].
Известный тезис нового историзма «история текстуальна — текст историчен»
можно перефразировать, поставив человека на место истории (что представляется
абсолютно корректной субституцией). Этот обновленный тезис: «человек
текстуален — текст человечен» — и мог бы стать формулой антропологического
поворота. Обе составляющие этого тезиса — текстуальность человека и
человечность текста — мотивированы историчностью человека (а значит, и его
вписанностью в координаты социума). Собственно, история (не как наука, а как
область постоянного напряжения между сменой и удержанием идентичности) и
есть то пространство, подключение к которому текс- туализирует человеческие
тела и социально контекстуализирует человеческие тексты. Более того,
чувствительность гуманитария к собственному историческому контексту
выступает залогом того, что его академические штудии будут не только вопросом
внутриакадемической жизни. То есть дает надежду на то, что машина времени не
оставит его за очередным новым поворотом.
15[8] Скорее типологически, нежели методологически, это можно сравнить с введением Ж.
Лаканом понятия «полной речи», которая, в отличие от речи пустой, не отчуждена от
человека и его желания. См.: Лакан Ж. Семинары. Книга 1: Работы Фрейда по технике
психоанализа (1953—1954). М.: Гнозис/Логос, 2009.
в начало страницы
Опубликовано
в журнале:
«НЛО» 2012,
№113
Сергей Ушакин
«Верните мяч в игру»
версия для печати (89787)
«‹–›»
Сергей Ушакин
«ВЕРНИТЕ МЯЧ В ИГРУ»
Прежде всего: все названия всегда неверны.
Виктор Шкловский16[1]
Обстоятельные заметки Николая Поселягина о возможных перспективах
антропологического поворота в российских гуманитарных науках напомнили мне
еще одну работу Шкловского. Поэтому продолжу цитаты. В 1925 году, рецензируя
фильм Юрия Желябужского «Коллежский регистратор» (снятый по повести
Пушкина «Станционный смотритель»), Шкловский сравнил попытки режиссера
«исправить» Пушкина идеологически с попытками выпрямить колесо: выпрямить
колесо можно, но ехать на выпрямленном колесе нельзя17[2]. «Антропологический
поворот», подвергшись методологической «выправке» в тексте Поселягина,
приобрел, судя по всему, некую стабильность, но, как и «колесо» у Шкловского,
утратил способность к езде.
Упрощая, в интервенции Поселягина можно выделить два основных шага. Сведя
воедино большинство ключевых мыслителей прошлого века, Поселя- гин
предлагает использовать созданные ими теоретические модели и методологические подходы для того, чтобы 1) уйти от традиционной для «классической
семиотики» зацикленности «на знаковой деятельности человека как таковой» и 2)
сфокусироваться «именно на человеке», познаваемом, «прежде всего, через
знаковые медиаторы — тексты», понимаемые, в свою очередь, «широко» — как
«знаковые системы культуры». Вполне допускаю, что не заметил главного в
аргументации Поселягина (и буду рад услышать пояснения), но мне кажется, что в
этом движении от «знаковой деятельности человека» к «знаковым медиаторам»
антропологический поворот становится не столько сменой угла аналитического
16[1] Шкловский В. О теории прозы. 1982 г. // Шкловский В. О теории прозы. М.: Советский
писатель, 1983. С. 80.
17[2] Шкловский В. Колесо // Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино. М.: Искусство, 1985. С.
30.
зрения или траектории интеллектуального движения, сколько вращением на месте
— от одних «знаковых систем культуры» к другим.
Проблема этой версии «антропологического поворота», разумеется, не в том, что
«знаковые системы» продолжают занимать в ней господствующее положение.
Проблема в том, что Поселягин так и не объясняет, зачем такому
антропологическому повороту к «знаковым медиаторам» нужен «человек», на
ценностном приоритете которого он так настаивает. Ни специфического круга
проблем человеческой деятельности, ни четких теоретических вопросов, которые
бы выделяли антропологический поворот на фоне уже известных исследовательских практик, текст Поселягина не предложил. И терминологически
(«человек/система»), и концептуально («человек взаимодействует с человеком
постольку, поскольку индивид конструирует социум, а социум конструирует
индивида») предложенная версия гуманитарного знания представляет собой
вариант теории социальных систем Толкотта Парсонса, сдобренный
гуманистической терминологией. «Человек» здесь действительно оказывается
«фокусом социальности» — трюком иллюзиониста, отвлекающего внимание от
скрытых пружин и изогнутых зеркал.
Симптоматично, что в качестве «самой устоявшейся канонической фигуры» в
дискуссиях об антропологическом повороте Поселягин (вслед за другими)
называет Клиффорда Гирца, пожалуй, одного из самых успешных учеников автора
«Системы современных обществ»18[3]. Любопытно, что при этом за скобками
оказалось направление американской культурной антропологии, которое, пожалуй,
наиболее полно совпадает с антропологическим поворотом, заявленным «НЛО», —
направление, связанное с двумя ключевыми работами Джеймса Клиффорда и
Джорджа Маркуса конца 1980-х — «Сочиняя культуру: Поэтика и политика
этнографии» и «Антропология как культурная критика: Экспериментальный
момент в гуманитарных науках». Во многом именно благодаря этим текстам
«гуманитаризация» антропологического знания стала развиваться вне
традиционных рамок системного и структурно- функционального подходов19[4].
Вряд ли случайно и то, что в список авторов, озвученный Поселягиным, не вошли
ни Наталья Козлова, ни Ирина Сандо- мирская, чьи работы представляют собой
замечательный пример сочетания интереса к конкретным социокультурным
практикам с методами дискурсивного и текстуального анализа20[5].
18[3] Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева.
Под ред. М.С. Ковалевой. М.: Аспект Пресс, 1998.
19[4] См.: Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography / Edited by James Clifford and
George E. Marcus. Berkeley: University of California Press, 1986; Marcus G.E., CliffordJ.
Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Science. Chicago:
The University of Chicago Press, 1986.
20[5] См., например: Козлова Н.Е., Сандомирская И.И. «Я так хочу назвать кино». «Наивное
письмо»: опыт лингвосоцио- логического чтения. М.: Гнозис, 1996; Сандомирская И. Книга
о Родине: Опыт анализа дискурсивных практик. Wien: Wiener Slawistischer Almanach.
Sonderband 50, 2001; Козлова Н. Горизонты повседневности советской эпохи: Голоса из
хора. М.: ИФРАН, 1996; Она же. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005.
Список имен можно было бы продолжать, но важны не сами имена, а причины
их отсутствия: Поселягин, как мне кажется, полностью понимает и
методологическую тавтологию предложенного им «антропологического знания»
(от систем к системам), и общую интеллектуальную нечленораздельность попыток
представить «филологию с человеческим лицом». На вопрос о том, зачем
антропологический поворот, «собственно, России нужен», автор заметок «готов
дать только один ответ — не знаю». С этого «не знаю» в принципе и стоило бы
начинать. Поворот без цели — это блуждание в незнакомой местности впотьмах.
Собственно, именно эта бесцельность — точнее, бессюжетность — сделала
возможными и предельную широту теоретического охвата (от М. Бахтина и Дж.
Батлер до З. Фрейда и М. Фуко), и сам жанр текста Поселягина («список»
дисциплин). У этой бессюжетности, однако, есть свое антропологическое имя —
бриколаж, инсталляция, в которой элементы объединяются не на основе их
внутренней логики, но в связи с их пространственной доступностью: при
отсутствии цели любой ветер оказывается попутным.
На фоне этого бриколажа «не знаю» Поселягина принципиально. На мой взгляд,
этот акт признания эпистемологического неприсутствия выявляет важную
проблему антропологического поворота. Наблюдая за дебатами последних лет, я
зачастую не могу отделаться от ощущения, что антропологическое в
«антропологическом повороте» — это омоним. При всей одинаковости звуков,
антропологическое в данном случае понимается как относящееся к
«человеческому» и имеющее мало общего с содержанием антропологии как
дисциплины. Подобный подход не лишен логики, но, как показывает текст
Поселягина, эта логика ведет в эпистемологический тупик. И дело не только в том,
что для любого антрополога антропологический поворот без этнографии — то
есть (в данном случае) без производства новых дискурсивных (описательных)
материалов и документов — немыслим. Существенным является и общая
установка антропологического знания, определяемая, по крайней мере, двумя
важными моментами. Во-первых, с самого начала своей истории
антропологическое знание продолжает сохранять нацеленность на описание и
анализ культурных различий, позволяющих продемонстрировать вариативность
способов организации жизни. Именно этот акцент на гетерогенности социальных и
символических практик и их культурной обусловленности — и это во-вторых —
дает возможность использовать антропологическое знание (об «экзотических»
сообществах, «маргинальных» группах, «лими- нальных» практиках и т.п.) в
качестве основы для культурной критики форм и практик, которые
воспринимаются в собственном обществе (нормативного большинства) в качестве
«естественных», «нормальных» или, допустим, «традиционных». Особенность
антропологического знания, собственно, и состоит в том, чтобы
продемонстрировать наличие культурных альтернатив и, тем самым, подчеркнуть
относительность и условность уже сложившихся норм, ценностей или
идентичностей.
Понятно, что, в отличие от большинства гуманитарных наук, антропология
работает не только с текстами, но и с сообществами: непосредственный контакт с
«носителями» обыденного знания и «создателями» знаковых систем влияет и на
проблематику исследований, и на характер интерпретаций. Но, несмотря на все
различия в способах производства знания, современная культурная антропология
и антропологический поворот в российских гуманитарных науках, на мой взгляд,
сходны в своих попытках видеть в локальных культурных практиках — будь то
ритуал или текст — не столько основу для узкоцеховых упражнений в
герменевтике («академизм»), сколько источник новых форм организации жизни и
способов их репрезентации. Задача антропологического поворота, иными словами,
не в том, чтобы адаптировать — условно говоря — подход Гайятри Чакраворти
Спивак к местным реалиям; задача в том, чтобы на основе анализа местных
культурных практик ставить вопросы, которые могли бы иметь универсальное
культурное значение. Могу ошибаться, но с самого начала мне казалось, что
антропологический поворот — это не «догоняющая модернизация» в сфере
отечественных гуманитарных исследований, но попытка сделать тематику и язык
этих исследований актуальными для общества, существующего здесь и сейчас. Как
говорил все тот же Шкловский, не надо писать сценарий о сценарии: «верните мяч
в игру»!21[6]
И напоследок — о мяче. То есть — о теории. Мне уже приходилось писать о
том, что искусство присвоения теории (а не ее производство), столь характерное
для современной российской гуманитаристики, есть форма защитной реакции и,
добавлю, следствие невключенности в более широкие сети интеллектуального
обмена. Текст Поселягина в данном отношении показателен: методологическое
развитие видится как экстенсивный (и, как правило, односторонний) процесс
прикладного заимствования теорий. «Теория» воспринимается как набор
инструментальных средств, как своеобразная связка ключей и отмычек. Базовая
антропологическая установка на то, что любая теория рождается как попытка
решить конкретные культурно-специфические проблемы, в данном случае
отсутствует. Как остается вовне и вопрос о том, насколько «заимствованные»
теории способны решать местные задачи. Тема формирования собственной теории
заслуживает отдельного разговора, здесь же я хотел бы привести лишь два
примера, которые показывают, как возникали теории, имеющие сегодня статус
универсальных.
Исследования угнетенных (subaltern studies) — ключевая составляющая
постколониальных исследований, о которых пишет Поселягин, — складывались,
прежде всего, как вполне конкретная попытка индийских историков- марксистов
подвергнуть последовательной критике сложившуюся историографию Южной
Азии («Кембриджская школа»). Первые пять выпусков журнала «Subaltern
Studies», выходившие в Дели с 1982 по 1987 год, представляют собой серию case21[6] Шкловский В. Верните мяч в игру // Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино. С. 321.
studies, подробное изложение альтернативных событий и тенденций, не вошедших
в канонические нарративы истории (колониальной) Индии, — от исследований
мелкотоварного производства сахара крестьянами на востоке Индии22[7] до
изучения практик лесопользования и связанных с ними социальных протестов23[8].
Накопление материала и выработка общего исследовательского языка постепенно
привели к тому, что «история угнетенных» начинает пониматься как история
угнетения, а сами исследования — как форма критики колониализма.
Соответственно трансформируется и теоретическая рамка: исходная теория
гегемонии Антонио Грамши «пропускается» сквозь работы Мишеля Фуко и Жака
Деррида24[9]. На первый план в итоге выходит не столько задача документации
конкретных «голосов угнетенных» и примеров их сопротивления, «выпавших» из
истории, сколько общие проблемы субъектности, власти и колониального
дискурса. Подчеркну: интеллектуальное движение и соответствующая теория
возникают в данном случае не как аморфная попытка анализа знаковых систем, но
как конкретная полемическая интервенция, направленная на дестабилизацию
устоявшихся традиций производства (колониального) исторического знания. В
свою очередь, журнал («Subaltern Studies») стал тем институтом, который позволил
кристаллизовать и материализовать разрозненные интеллектуальные попытки
исторической критики.
Мой второй пример — совсем иного рода. Идеи конструктивизма, предложенные теоретиками и практиками русского авангарда, стали, наверное, самым
узнаваемым вкладом раннесоветской интеллектуальной мысли. Влияние и
распространенность конструктивизма, однако, как правило, оставляют в тени
процесс, в ходе которого, собственно, и формировались главные идеи и положения.
Напомню, что основные термины, идеи и концепции конструктивизма
вырабатывались в ходе дискуссий в 1921 году в Институте художественной
культуры (ИНХУК), когда две группы — Рабочая группа объективного анализа и
Рабочая группа конструктивистов — в ходе многомесячных обсуждений (каждая
группа провела по девять заседаний) попытались определить для себя суть таких
понятий, как «конструкция», «композиция», «фактура», «тектоника» и т.п.
Показательно в данном случае вот что: несмотря на то что материалы этих
дискуссий так и не были (до сих пор) опубликованы, попытка выработать общий
концептуальный язык для описания конкретных артистических практик в итоге
стимулировала мощную серию индивидуальных проектов — от книги Алексея
22[7] Amin Shahid. Small Peasant commodity Production and Rural Indebtedness: the Culture of
Sugarcane in Eastern U.P., c. 1880—1920 // Subaltern Studies. № 1. Writings on South Asian
History and Society / Еdited by Ranajit Guha. Delhi: Oxford University Press, 1982.
23[8] Guha Ramachandra. Forestry and Social Protest in British Kumaun, 1893—1921 // Subaltern
Studies. №. 4. Writings on South Asian History and Society / Edited by Ranajit Guha Delhi:
Oxford University Press, 1985.
24[9] См. подробнее: Chakrabarty Dipesh. Subaltern Studies and Postcolonial Historiography //
Nepantla: Views from South. 2000. Vol. 1 (1); Prakash Gyan. Subaltern Studies as Postco- lonial
Criticism // The American Historical Review. Vol. 99 (5). Dec. 1994.
Гана, статей Николая Тарабукина и докладов Осипа Брика до изопроектов и
манифестов Александра Родченко, Варвары Степановой и братьев Стенберг25[10].
В обоих случаях принципиальным для меня является прямая связь теории с
практическими интеллектуальными задачами — будь то вопросы историографии у
постколониалистов или проблемы эстетики у ранних конструктивистов. Общий
теоретический язык возникает в ответ на общность интеллектуальных задач.
Антропологический поворот, инициированный «НЛО», судя по всему, определился
с направлением движения. Пора определяться с общностью интеллектуальных
задач: время вбрасывать мяч.
Принстон,
31 декабря 2011 г.
Опубликовано
в журнале:
Максим Вальдштейн
«НЛО» 2012,
«Новый поворот... что он нам несет?»: Об
антропологизме в гуманитарных науках
№113
версия для печати (89788)
«‹–›»
Максим Вальдштейн
«НОВЫЙ ПОВОРОТ... ЧТО ОН НАМ НЕСЕТ?»
ОБ АНТРОПОЛОГИЗМЕ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
Современная российская гуманитарная наука находится в состоянии «весеннего»
бурления, ренессансной креативности, открытого поиска, правда, с пока еще не
гарантированными шансами на успех. Такой в целом оптимистический, но, вместе
с тем, и осторожный диагноз ставит интеллектуальной атмосфере в науках о
литературе и культуре Николай Поселягин. Как и почти трехгодичной давности
«полуманифест» Ирины Прохоровой26[1], статья Поселягина — это попытка
подвести предварительные итоги дискуссиям о гуманитаристике в России, а также
внести вклад в «дальнейшую консолидацию под новым, но интуитивно уже
хорошо знакомым знаменем». Речь идет о знаменах, на которых начертано: «новая
25[10] См. подробнее: Хан-Магомедов С.О. ИНХУК и ранний конструктивизм. М.:
ARCHITECTURA, 1993.
26[1]
Прохорова И.Д. Новая антропология культуры: Вступление на правах
манифеста // НЛО. 2009. № 100. С. 9—16.
антропология культуры» и «антропологический поворот». Особенностью статьи Н.
Поселягина является ее эксплицитная направленность на идентификацию тех
методологических и теоретических ресурсов, которые могли бы послужить
«инвариантами» набирающей силу парадигмы (или «антипарадигмы», понимаемой
не как единая доктрина, а как комплекс взаимосвязанных и тесно сотрудничающих
течений).
Мне бы хотелось как выразить свою солидарность с озвученным И. Прохоровой
и Н. Поселягиным диагнозом современной ситуации в российской
гуманитаристике, так и высказать некоторые сомнения по поводу предлагаемой
ими стратегии выхода из этой ситуации. Полагаю, что призыв «поставить человека
во главу угла», как бы этот «человек» ни понимался, не годится в качестве
знамени, вокруг которого могли бы консолидироваться «живые силы» российской
науки. Причин — я постараюсь показать — несколько: предлагаемый «новый
поворот» не совсем нов; он по своей природе часто неразборчив в выборе
партнеров и союзников, а порою априори исключает из диалога партнеров вполне
достойных; и, наконец, он склонен игнорировать свои внутренние противоречия.
Все эти недостатки делают программу «антропологического поворота» не вполне
адекватной
задачам
преодоления
региональной
и
дисциплинарной
провинциальности отечественной гуманита- ристики. Иными словами, вопрос
Андрея Макаревича по поводу «нового поворота» — «что он нам несет?» — я бы
сформулировал иначе: а несет ли он нам то, что мы от него ожидаем?
В первую очередь, хотелось бы подчеркнуть, что я разделяю многие цели и
задачи наметившегося на страницах «НЛО» и нескольких родственных журналов
интеллектуального движения, а также многие пункты предложенного И.
Прохоровой и Н. Поселягиным диагноза современной ситуации в отечественной
гуманитаристике. Российские гуманитарные науки действительно до сих пор
больны региональным изоляционизмом, культурным снобизмом и провинциальной
узостью своего интеллектуального горизонта27[2]. Даже немалое число
действительных исключений из данного обобщения, в том числе перечисляемых И.
Прохоровой и Н. Поселягиным российских авторов, пока не в силах изменить факт
объективной периферийности отечественной науки в мировом масштабе. Тем не
менее делать кое-что можно и нужно: в частности, необходимо подвергнуть
серьезной критике теории «особого пути» России, а также теории
исключительности тоталитарных обществ и, наконец, «решительно ввести Россию
как предмет исследования в международный контекст и попытаться найти новую
оптику сравнительного изучения различных локальных историй»28[3]. Я также
поддерживаю идею Кевина Платта о том, что «на пороге», то есть «на границах
дисциплин и различных локальных культур <...>, — это лучшее место для работы,
27[2]
Многое из сказанного далее относится и к славистике/русистике в мировом
масштабе. Однако детали сравнения и взаимоотношений между отечественной наукой и наукой
о России выходят за рамки данного отзыва.
28[3]
Прохорова ИД. Новая антропология культуры. С. 10; ср.: Waldstein M.
Theorizing the Second World: Challenges and Prospects // Ab Imperio. 2010. № 1. P. 98—117.
которую нам предстоит совершить»29[4]. Несмотря на все реальные опасности
междисциплинарности и двойной карьеры, такая позиция помогает «не делить мир
на жрецов и профанов <...>, а искать живую мысль в любой области, как бы она
себя ни называла»30[5].
В обсуждаемой статье Николай Поселягин идет дальше этих уже не раз
озвученных идей и указывает на конкретные направления, в которых, с его точки
зрения, российские гуманитарии должны искать «живую мысль». Он предлагает
целый список научных традиций, дисциплин и специализаций, от семиотики и
теории перевода до антропологии и социологии. В некоторых из этих подразделов
он выделяет более и менее «полезные» с точки зрения «антропологического
поворота» направления. Так, он отдает явное предпочтение «пирсоморрисовскому» варианту семиотики перед «женевско-якоб- соновским». Что в
статье сразу бросается в глаза, так это имплицитный (до последнего раздела)
вывод: наиболее полезно как раз то, что наименее развито или укоренено
(институциализировано) «у нас». За исключением разве что по-разному не- или
постструктуралистских подходов к текстуальности у Бахтина и позднего Лотмана.
Отсюда скептический и несколько растерянный тон заключительной части статьи:
а нужен ли вполне собой довольной российской гуманитаристике
пропагандируемый автором «поворот»? Окажется ли этот поворот востребован
учеными, воспитанными на традициях академизма и методологического
позитивизма?
При чтении текста Н. Поселягина мне показались много более интересными
несколько иные вопросы. Если мы действительно являемся свидетелями некоего
«поворота» в российской гуманитарной науке, то насколько упор на его
«антропологичность» выражает суть осуществляющихся позитивных сдвигов?
Способен ли «антропологический поворот» соответствовать тем ожиданиям,
которые на него возлагаются? Иными словами, если задача действительно состоит
в «депровинциализации» мировой славистики и российской гуманитаристики, а
также в консолидации «здоровых сил» российской науки под общими заменами, то
действительно ли апелляция к «человеку» и «автономной личности» является
наиболее оптимальным способом достижения этих целей?
Для начала разберемся, что Н. Поселягин и некоторые другие авторы имеют в
виду под «антропологическим поворотом». В оличие от Кевина Платта, Николай
не предлагает гуманитариям «делать жизнь» с антропологов с их «признанными
методами»31[6]. В его списке методологических ресурсов «антропология»
появляется лишь на третьей позиции, и автор сразу оговаривается, что ее роль в
рамках поворота может оказаться несколько меньше ожидаемого. (Честно говоря,
не очень понятно из текста почему.) При этом первую позицию занимает
29[4]
Платт КМ. Ф. Зачем изучать антропологию? Взгляд гуманитария: вместо
манифеста // НЛО. 2010. № 106. С. 24.
30[5]
Эткинд А. Дорога, вымощенная благими намерениями // НЛО. 2010. №
106. С. 42.
31[6]
Платт К.М.Ф. Зачем изучать антропологию? C. 20.
«этнология». Учитывая, что границы между этнологией и антропологией крайне
условны и сильно варьируются в международном масштабе, не очень понятны
причины такого резкого разделения этнологии и антропологии как разных
дисциплин и ресурсов, особенно если учесть, что «история и психология» сведены
в единый пункт. Так или иначе, Н. Поселягин связывает «антропологический
поворот» не столько с ориентацией на науку антропологию, сколько с тем, что
можно назвать (по аналогии с «феноменологической установкой»)
«антропологической установкой», состоящей в направленности усилий
исследователей разной специализации на «человека в его (субъективной)
социально ориентированной знаковой деятельности», человека, познаваемого через
тексты32[7]. Чуть позже автор поясняет: «Для антропологического <...> поворота
финальным объектом будет именно человек как, в предельном случае, автономная
личность и социум как сообщество таких взаимодействующих личностей»33[8].
Итак, антропологический поворот состоит в принятии представителями разных
научных специализаций обозначенной выше «установки». Полагаю, однако, что
последовательное проведение такой позиции неминуемо столкнется с рядом
серьезных проблем. Так, даже среди часто публикующихся в «НЛО» авторов, то
есть наиболее вероятных кандидатов на участие в рассматриваемом Н.
Поселягиным повороте, есть немало тех, чьи работы и методологические
установки далеки от ориентации на «человека». Примером может служить
пространная реакция Михаила Ямпольского на недавнюю статью Сергея
Козлова34[9]. Там делается обзор того, что Ямпольский называет «теорией сложных
систем», — результата независимых, но конвергентных усилий ученых самого
разного толка, от гуманитариев и обществоведов до самых что ни на есть hard core
естественников. Важным аспектом этой парадигмы является (совсем не
обязательно постструктуралистская по происхождению) критика субъектобъектного дуализма философии Нового времени, теории познания как
репрезентации и привилегированного статуса человеческой деятельности (или
«агентности», agency) в нашей картине мира. Вместо оппозиции сознательной,
интенциональной деятельности человека и слепых/безличных структур/процессов
в природе и обществе нам предлагают на новом витке возродить идею
винеровской кибернетики 1940—1950-х: «вывод об отсутствии принципиальных
различий между связями внутри сознания, между сознанием и миром и между
объектами мира»35[10]. В последние десятилетия этот «постгуманистичекий
32[7]
Поселягин Н. Антропологический поворот.
33[8]
Там же.
34[9]
Ямпольский М. Без большой теории? // НЛО. 2011. № 110. С. 59—84.
35[10]
Там же. С. 72. В этом контексте нельзя не согласиться с М. Ямпольским, что
последняя книга Юрия Лотмана сильно опередила свое время. Но то же можно сказать о многих
других работах зрелого Лотмана, уже начиная с 1970-х годов. Рассматривая культуру и
повседневную жизнь как тексты, он одновременно сближал характеристики текста с
характеристиками эволюционирующего живого организма и даже человеческой личности. См.
мою попытку сопоставить идеи, центральные для современного западного науковедения
(science studies), с идеями Лот- мана: Waldstein M. The Mangle of Practice or the Empire of Signs?
поворот» оказал существенное влияние не только на философию, но и на такие
близкие некоторым авторам «НЛО» эмпирические области, как история и
социология науки (к примеру, работы Бруно Латура и Эндрю Пикеринга). Как
профессиональные теоретики, так и прочие специалисты в этих областях все чаще
интересуются не только культурой «ученых племен» (academic tribes) —
антропологический интерес! — но и научной практикой в целом, понимаемой как
нелинейно эволюционирующие комплексы отношений между «акторами» самого
разного характера: от человеческих индивидов и коллективов до социальных
институций, (лабораторных) инструментов, машин и микроорганизмов36[11].
Даже среди тех, кто все же готов принять предложенные Н. Поселягиным общие
определения «антропологического поворота», скорее всего, возникнут возражения
по поводу попытки «консолидировать» их в одно «движение» с носителями
неприемлемых для них установок. Подтверждением этому могут служить как уже
почти классический спор «философов» и «филологов», так и недавние обсуждения
статей К. Платта и С. Козлова37[12]. Хотя большинство участников этих дискуссий
интересуется человеком/личностью в сетях знаков/текстов, методологические и
прочие выводы из этого интереса делаются часто диаметрально противоположные.
Так, если для Кевина Платта «внутри текстов нет ничего, кроме того, что вложили
в них живые люди», то Марк Липовецкий готов согласиться с Кевином, но только
с одной поправкой: да, нет ничего, кроме самих текстов (или дискурсов) 38[13].
Учитывая, что спор здесь структурно напоминает классический спор между
философами Нового времени, между эмпириками и рационалистами, его
разрешение вряд ли поддается тривиальной медиации.
Можно привести и другие примеры фундаментальных разногласий, проходящих
через сообщество потенциальных фигурантов обсуждаемого Н. По- селягиным
интеллектуального движения: давние и недавние споры по поводу роли
«актуальности» в науках о человеке и о ценностно-направленной позиции
исследователя, по поводу роли теоретизирования и «эмпирического материала» в
Toward a Dialogue between Science Studies and Russian Semiotics // The Mangle in Practice / Eds. A.
Pickering, K. Guzik. Duke University Press, 2009.
36[11]
Latour B., Woolgar S. Laboratory Life. 2d ed. Prienceton, N.J.: Princeton
University Press, 1986; Latour B. Science in Action. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987;
Pickering A. The Mangle of Practice. Chicago: University of Chicago Press, 1995; Латур Б. Нового
времени не было: Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Издательство Европейского
университета, 2006; Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПб.: Издательство Европейского
университета, 2008. С. 243—261. Кстати, такой «постгуманистический» подход к практике Латур
и Вулгар обосновывают отнесением к опыту той же антропологии: «...антрополог [заранее, до
исследования] не знает ни природу исследуемого общества, ни где нужно провести границы
между технологическими, социальными, научными, природными и другими областями...»
(Latour B., Woolgar S. Laboratory Life. P. 279). Авторы называют этот, как они утверждают,
одолженный у этнографии принцип «рабочим принципом неопределенности». Интересно, что
антропология/ этнография здесь понимается не как эталон «антропологической установки» (см.
выше), а как образец максимального эмпиризма и минимальной предпосылочности (включая
отсутствие предпосылок по поводу того, что относится к миру человека, а что нет, и что нужно в
исследовании ставить во главу угла).
37[12]
См. блок материалов «Антропология как вызов» (НЛО.
2010. № 106. С. 11—64) и «Времена филологии» (НЛО.
2011. № 110. С. 13—114).
38[13]
См.: Антропология как вызов. C. 19, 37.
мотивации научной работы и т.д.39[14] Конечно, никто из сторонников
антропологического поворота не призывает к объединению вокруг некой новой
догмы. Николай Поселягин призывает лишь к сотрудничеству и взаимодействию.
Я не против, но вопрос состоит в том, насколько «человека» стоит ставить во главу
такой консолидации. Как мы уже видели, «антропологическая» (или
«антропоцентристская»?) постановка вопроса грозит исключением важных
направлений современной мысли из разговора и игнорированием реальных
концептуальных разногласий среди потенциальных участников «поворота». Кроме
того, акцент на «человеке» de facto легитимирует методологический
индивидуализм и его крайние позитивистские формы — теории рационального
выбора и экономического человека, — то есть направления, от которых,
подозреваю,
большинство
сторонников
«поворота»
предпочло
бы
дистанцироваться.
Вообще, стремление сделать «человека» основанием и знаменем новых веяний в
современной гуманитаристике коренится, по-видимому, не столько в собственно
научном поле, сколько в поле политическом (если использовать терминологию
Бурдьё). Нередка тенденция более или менее эксплицитно связывать
теоретические и методологические предпочтения в науке с конкретной, в
частности либеральной (в России — «правой»), ориентацией в политике. Отсюда и
упор на «автономию», в отличие от агентности. Автономия прочно ассоциируется
в нашем сознании с некой вне- и досоциальной самостийностью человеческой
личности и ориентирует исследователя на изучение средств и методов
сопротивления властным структурам и освобождения от них. Агент- ность же
включает в себя многообразные способы активного взаимодействия между
человеческими индивидами и между человеком и обществом, включая кооптацию,
мимикрию, манипулирование господствующими дискурсами, выборочную
идентификацию с фрагментами этих дискурсов и т.д. Кроме того, как считают
постгуманисты, агентность не ограничена миром людей.
Полагаю, что некоторые «отсутствия» в составленном Николаем списке
потенциальных ресурсов «антропологического поворота» тоже неплохо объясняются логикой политического поля. Возьмем, к примеру, отсутствие «философии» в списке. Понятно, что данный факт отражает довольно низкий статус
современной российской философии, но в мировом контексте такое отсутствие
совсем неоправданно. Скорее, оно унаследовано от предшествующих, еще
советских форм научного либерализма: как известно, в среде прогрессивных
ученых 1970—1980-х годов было принято морщить нос и криво улыбаться при
упоминании о философии. Сейчас этот рефлекс оправдывается отказом от гранднарративов40[15]. Таким образом, несмотря на подчеркивание Николаем
39[14]
Там же. См. особенно реплики Бориса Дубина, Виктора Живова, Сергея
Козлова, Кевина Платта и Сергея Ушакина.
40[15]
Несправедливо, кстати. Ведь удар по этим нарративам был в свое время
нанесен в первую очередь философами.
напряженности между новым «субъективизмом» и традиционным академизмом,
предлагаемый автором «поворот» унаследовал многие классификации и иерархии
ценностей от своего академического «оппонента».
То же можно сказать и о марксизме. Двадцать лет прошло после крушения
Союза, а мы все еще часто продолжаем бежать как черт от ладана от любого
упоминания о марксизме. Боюсь, что к этому нас подталкивают не научные
рассуждения, а наши политические пристрастия. Популярная в либеральных
кругах идея о том, что современный режим в России является прямым наследником советского режима, часто затемняет как родственные связи первого с
«правыми» диктатурами XIX—XX веков, так и актуальность Марксо- вого анализа
бонапартизма в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта».
То же относится и к требующему нового осмысления наследию философа науки
Бориса Гессена, не говоря уже об отсутствующих в предлагаемых Н. Поселягиным
и его коллегами каноне именах Льва Выготского и Александра Лурии. Кстати, от
марксистской теории практики и от теории деятельности отказываются и наши
«правые», как они сами себя определяют, теоретики практики41[16]. Мне же
представляется, что многие мыслительные ходы в работах Выготского и Лурии
являются прообразом реальной альтернативы современной суперпозитивистской
когнитивной науке, а также одним из мостов между наукой о мышлении и
поведении, с одной стороны, и историей, социологией и антропологией культуры,
с другой. В работах же Маркса, Гессена, а также малоизвестного у нас марксиста
Хенрика Гроссмана просматриваются очертания новой культурной и социальной
макроистории науки и техники — столь необходимого сейчас дополнения к
микроориентации современных западных STS, «исследований науки и
техники»42[17].
Ко всему прочему, призывы поставить человека во главу угла, как бы они ни
концептуализировались, просто не новы. Ориентация на «живого», «действительного», «исторического» человека, в отличие к «человека вообще», от
абстрактного «сознания», — это постоянный спутник гуманитарных и социальных
наук, по крайней мере с XIX века. Вспомним, что к такому повороту призывал еще
Маркс. В гуманитарных и социальных науках XX века неустойчивый баланс
между наукой и субъективностью, а также «структурой» и «агентностью», баланс,
периодически нарушаемый поворотами то в одну сторону, то в другую, — это
ключевое условие существования соответствующих дисциплин. Кого в такой
ситуации можно привлечь очередным призывом к человеку, тем более
раздающимся из России, уже несколько десятилетий считающейся академической
периферией?
Даже в самой российской традиции, описываемой Поселягиным в терминах
академизма и позитивизма, почти каждое десятилетие происходил какой-нибудь
41[16]
Волков В., Хархордин O. Теория практик. С. 12.
42[17]
Freudenthal G. The Hessen-Grossman Thesis: An Attempt of Rehabilitation //
Perspectives on Science. 2005. № 13. P. 166—193.
поворот к «человеку»: то в виде риторики «человеческого фактора», то в виде
«комплексного изучения человека». Не стоит забывать, что лидер советской
структуралистской семиотики, Вячеслав Всеволодович Иванов, описывает свою
научную парадигму уже с давних пор именно как антропологическую43[18].
Так что если и нужно бояться за судьбу работ новых историков, антропологов и
социологов культуры, группирующихся вокруг «НЛО» и родственных публикаций
и институций — как это делает Николай Поселягин, — то не из-за оппозиции
между их «субъективизмом» и «позитивизмом» российского академического
истеблишмента. В той степени, в какой эта оппозиция осмысленна, она разделяет
«новых» исследователей не меньше, чем отделяет их от «истеблишмента». То есть
вопрос не столько в том, привьется ли в России «антропологический поворот»,
сколько в том, привьется ли в ней такая стилистика научной работы, для которой
характерна глубокая интеграция в международный научный контекст, а также
рефлексивная (недогматическая) укорененность в отечественных традициях,
обладающих мировым авторитетом, но все еще довольно маргинальных в
российском контексте (к примеру, формализм и структурализм). То есть привьется
ли в ней «стиль "НЛО"», в самом широком смысле?
Во всяком случае, «антропологическим поворотом» этот стиль далеко не
исчерпывается. Если такой поворот действительно имеет место, то есть выходит за
рамки манифестов, то он является лишь одной из стратегий выхода российских
гуманитарных и социальных наук из сегодняшней совсем не блестящей изоляции.
Список таких стратегий включает уже
упомянутый постгуманизм,
пропагандируемый Хархординым и Волковым «прагматический поворот», а также
пространственный/географический
и
имперский
повороты,
широко
представленные на страницах журнала «Ab Imperio». Если у всех этих сдвигов есть
общие знаменатели, то они, в основном, отрицательные: антиэссенциализм,
антиевропоцентризм, анти-Sonderweg, отрицание «неподвижных двигателей»
(unmoved mover) истории. Все указанные выше «повороты» — это попытки
придать
положительное
теоретическое
и
эмпирическое
содержание
вышеперечисленным отрицаниям.
В отличие от Н. Поселягина, у меня не вызывает сомнения, что все эти усилия
приведут, и уже приводят, к более или менее глубокой реформе отечественной
науки. Правда, глубина и успех данной реформы будут во многом зависеть от того,
насколько нам удастся в ходе ее осуществления периодически пробивать бреши в
нашей национально-региональной и дисциплинарной изоляции. То есть вдобавок к
усилиям по выведению отечественной науки «на мировой уровень» нужны еще
целевые усилия по ee депровинциализации. В этом деле российским ученым есть
чему поучиться у западных славистов и русистов, в том числе и российского
происхождения. В силу своего географического положения, западные специалисты
по России чаще ощущают «на своей шкуре» последствия провинциальности и
43[18]
РГГУ, 2004.
Иванов В.В. Наука о человеке: Введение в современную антропологию. М.:
изоляции своих ученых занятий в более широком научном поле. Им чаще, чем
российским коллегам, приходится, с большим или меньшим успехом,
«переводить» свои результаты за узкие национальные и дисциплинарные рамки
своих специализаций. К примеру, в последние годы работы Алексея Юрчака
привлекли внимание не только коллег-славистов, но и коллег-антропологов. Дело
не только в том, что он написал книгу, что называется, «на уровне», но и в том, что
ему удалось показать структурное сходство между анализируемым им
«перформативным сдвигом» в позднем советском дискурсе и тенденциями в
американской политике после 9/1144[19].
Этот пример показывает, как важно продвигать идею о теоретической релевантности материала российской, советской и восточноевропейской истории и
современности. Идею о том, что многие аспекты истории и современности
недавнего «второго мира» достойны не только того, чтобы быть объектом
приложения «общепризнанных» (западных) концепций и моделей, но и того, чтобы
эти регионы сами служили легитимными источниками теоретических моделей. Эта
идея «депровинциализации» России/«второго мира» в последние годы становится
предметом серьезного внимания теоретиков и исследователей45[20]. Однако сделано
пока еще мало. Перед нами — поле непаханое работы. Остается лишь засучить
рукава и пахать. По этому поводу, я уверен, у нас с Николаем Поселягиным —
полное согласие.
Опубликовано
в журнале:
Александр Панченко
«НЛО» 2012,
«Антропологический поворот» и «этнография
науки»
№113
версия для печати (89789)
44[19] Boyer D, Yurchak A. American Stiob: Or, What Late-Socialist Aesthetics of Parody Reveal
about Contemporary Political Culture in the West // Cultural Anthropology. 2010. May. Vol. 25. № 2.
P. 179—221. См. также: http://www.culanth. org/?q=node /322.
45[20] См. годовую темy журнала «Ab Imperio» за 2011 год: Второй мир — второй раз?
Концепция Второго мира на перекрестке социальных наук и имперской истории.
«‹–›»
Александр Панченко
«АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ»
И «ЭТНОГРАФИЯ НАУКИ»
Статья Николая Поселягина произвела на меня двойственное впечатление. С одной
стороны, я вполне солидарен с интересом автора к перспективам
«антропологического поворота» в российском литературоведении и других
«текстуально ориентированных» дисциплинах. Вместе с тем, логика его рассуждений далеко не всегда представляется мне последовательной. Оставляя в
стороне несколько обескураживающее name-dropping (в котором, впрочем, автор и
сам охотно сознается), ряд спорных историографических выводов, а также не
вполне очевидных для меня методологических интерпретаций различных
филологических и антропологических работ, сосредоточусь на основных тезисах
статьи.
Согласно Поселягину, антропологический поворот в отечественных гуманитарных дисциплинах пока что представлен сравнительно небольшим количеством исследований (по именам названо всего шесть авторов), в том или ином
отношении противостоящих трудам «традиционалистов» / «позитивистов» /
«академистов». Последних, по мысли автора статьи, по-прежнему отличает
привязанность к идеологии объективного знания, подразумевающей, что «любые
исследователи, при известном навыке обращения с фактами и эвристическом
опыте их складывания в объективные системы, способны понять истинные смыслы
сказанного в тексте и происходившего за текстом».
Отмечая, что понимание и использование самого выражения «антропологический поворот» существенно варьируются не только в различных научных
сообществах, но даже и в рамках сборника «The Anthropological Turn in Literary
Studies» (1996), Поселягин, однако, решается предложить (или прогнозировать)
ряд методологических направлений и тенденций, которые могут быть характерны
для этого интеллектуального течения в российской науке. К ним он относит
этнологию (в силу ее предполагаемой ориентации на «проблемы идентичности
себя и "другого"», а также «постколониализм»), семиотику (как «интеллектуальное
течение с собственной научной базой и набором аналитических практик», а также
«определенную методику анализа (представление изучаемого объекта в виде
знаковой системы)»), социальную / культурную антропологию (не совсем понятно,
для чего тогда нужно было отдельно упоминать этнологию), историю и
психологию (представленные здесь только именами Хейдена Уайта и Зигмунда
Фрейда соответственно), социологию (речь вроде бы идет преимущественно о
«веберианской» традиции), нарратологию, дискурс-анализ, исследование
идеологий и «теории перевода». Не поясняя, как все эти дисциплины и
аналитические направления будут сосуществовать и взаимодействовать в
контексте предполагаемого «познания человека через знаковые медиаторы»,
Поселягин тем не менее допускает, что постулируемый антропологический
поворот способен «развиться не просто в научное направление, а в большую
парадигму — универсалистскую философскую теорию, стремящуюся с помощью
ограниченного набора терминов и практик объяснить любой феномен
человеческой культуры, который попадает в сферу ее внимания».
Нужно, впрочем, отдать должное автору: несмотря на все «величие замысла», он
относится к собственным рассуждениям с существенной долей скепсиса и
признает, что речь идет не об «утверждении догматов и не описании явления», а о
«субъективной попытке прогноза на будущее» — «настолько же условной и
необязательной, насколько вообще условными и необязательными бывают
подобные прогнозы».
Признаюсь, что мне вообще не очень по душе подобные глобальные эпистемологические проекты. Во-первых, они плохо соотносятся со спецификой гуманитарного знания как такового, не нуждающегося, в отличие от некоторых
точных и естественных дисциплин, в объяснительном и методологическом монизме. «Универсалистские философские теории», стремящиеся объяснить все и
вся, в данном случае скорее вредны, чем полезны. Во-вторых, они малореалистичны с точки зрения «этнографии научной жизни»: в современных демократических и даже авторитарных обществах академические корпорации устроены
не по иерархическому, а по «сетевому» принципу; они состоят из небольших
групп, объединенных общими интересами, методологическими приоритетами,
особенностями языков описания. Как правило, такие группы обладают хотя бы
относительной интеллектуальной и финансово-административной автономией.
Горизонтальные связи здесь играют гораздо большую роль, чем вертикальные, по
крайней мере когда речь идет не об имитативной, а о подлинной аналитической
работе. Навязывать подобным «академическим сетям» универсальную теоретикометодологческую рамку не только бессмысленно, но и вредно: инновативные
проекты в этом контексте рождаются, как правило, за счет приватных переговоров,
а не публичных деклараций. Ниже я еще вернусь к этой теме, поскольку она важна
именно в прогностической перспективе.
Дело, впрочем, не только в объяснительном универсализме, тем более что
Поселягин вроде бы и не очень на нем настаивает. Более проблематичным
представляется отсутствие сколько-нибудь четких методологических контуров той
версии антропологического поворота, о которой идет речь в его статье.
Рассуждения о противостоянии «субъективистского» и «объективистского»
подходов в гуманитарных дисциплинах кажутся мне в данном случае и не очень
уместными, и слегка устаревшими. Эта проблема, бывшая некогда предметом
оживленных дебатов и на Западе, и у нас (с соответствующим запаздыванием),
давно потеряла свою остроту. Очень скоро стало понятно, что солиптический
субъективизм так же скучен и аналитически порочен, как и твердолобый
академический объективизм, и что искусство гуманитарного исследования состоит
в адекватном сочетании «субъективистских» интер- претативных стратегий и
«объективистских» приемов аргументации. Как бы то ни было, все эти вопросы
имеют скорее общее гносеологическое значение и к проблеме антропологического
поворота прямого отношения не имеют.
Честно говоря, я не очень уверен, что с ней непосредственно связаны и обсуждаемые Поселягиным вопросы об «идентичности себя и "другого"», а также о
«человеке» / «автономной личности» как объекте антропологически
ориентированных исследований в области литературы, кинематографа, искусства и
т.д. Социальная / культурная антропология последних десятилетий не так уж часто
прибегает к столь абстрактному и размытому понятийному аппарату. Как правило,
«личность» понимается антропологами сквозь призму когнитивных моделей и
установок либо как персональный выбор между существующими социальными
нормами, предписаниями, стратегиями и т.п. Речь, таким образом, идет не об
автономии, а об agency, что все же смещает акценты в сторону общества, каким бы
его ни представляли себе те или иные исследовательские школы. Вообще говоря,
проблема антропологического поворота все же подразумевает более конкретные
вопросы. Прежде всего: что и как будут исследовать «новые» литературоведы,
киноведы, искусствоведы? Что, в частности, может дать специалисту по истории
литературы опыт современной антропологии с ее ориентацией на малые
социальные группы, продолжительные полевые исследования, «насыщенное
описание», скрытые от внешнего наблюдателя формы общественного
взаимодействия и коммуникации, «подразумеваемые значения», «emic points of
view» и т. д.?
Думаю, что одним из решающих факторов в формировании антропологически
ориентированных подходов к изучению «текстуальных форм» в культурах
прошлого и настоящего должен быть принцип социального конструкцио- низма,
восходящий к знаменитой работе Питера Бергера и Томаса Лукмана «Социальное
конструирование реальности» и по-прежнему играющий значимую роль в
современных исследованиях культуры и общества. В этом контексте «литература»
предстает не самодовлеющей сущностью, а «сильным концептом» и социальным
институтом, чье существование детерминировано общественными конвенциями и
ограничивается сравнительно коротким историческим периодом. Что же до
предмета традиционного литературоведения, то в подобной историкоантропологической перспективе он оказывается частью довольно сложной мозаики
или механики текстов и практик. Впрочем, и само понятие «текст», которое,
насколько я могу понять, Поселягин все же предлагает сохранить в качестве
одного из методологически значимых ориентиров для антропологии литературы,
имеет в подобной перспективе исключительно служебное значение. Речь, в
сущности, идет об исследовании определенных типов коммуникации, о
нарративных стратегиях и формах смысло- образования, характерных для разных
эпох
и
социальных
контекстов.
Образцом
«антропологического
литературоведения» в этом смысле, вероятно, стоит считать уже довольно давнюю
книгу Карло Гинзбурга «Сыр и черви», где говорится не о текстах как таковых, но
о том, как при их посредстве конструируются и трансформируются социальные
смыслы.
Именно эти соображения заставляют меня с осторожностью относиться к тому
увлечению семиотикой, которое несложно заметить в статье Поселя- гина. Мне
кажется, что в любом из своих изводов семиотический подход к исследованию
культуры и общества выглядит для современной антропологии устаревшим.
Боюсь, что «методология чтения текста», основанная на поиске «означающих» и
«означаемых», не только затрудняет понимание процессов социального
смыслообразования, но и неизбежно ведет к «системному подходу»,
заставляющему исследователя редуцировать многообразие наблюдаемых
культурных форм к громоздким и мало операциональным идеальным структурам.
Думаю, что попытки рассмотрения «культуры как системы», предпринятые
некогда Клиффордом Гирцем, прямо противоречат предложенному им самим
принципу «thick description».
Впрочем, я не считаю уместным подробно излагать здесь собственные взгляды
на проблему антропологического подхода к истории литературы. Вернемся к
непосредственной теме статьи, а именно — к перспективам подобных
исследований в российском академическом контексте. Я не думаю, что прогнозы
такого рода можно основывать на довольно условном противопоставлении
«архаистов-объективистов» и «новаторов-субъективистов», как это делает
Поселягин. Если бы мне пришлось писать статью на подобную тему, я бы начал
как раз с этнографии академической жизни, то есть попытался бы выяснить, какие
исследовательские группы и сети, существующие в современной России, в той или
иной степени могут быть соотнесены с представлением об антропологическом
повороте; как и почему сложились эти сообщества, в чем их эпистемологическая и
методологическая специфика, каковы перспективы их деятельности и развития. Я
понимаю, что такая работа требует времени и усилий, однако она помогла бы
составить более ясное представление о конкретных тенденциях научной жизни,
избежать излишне широких обобщений, где историю представляет только Хейден
Уайт, психологию — только Фрейд, а социологию — только Дюркгейм и Вебер, и,
наконец, избавиться от праздных вопросов о том, что именно в нашей научной
деятельности может или должно быть нужно России.
Мне кажется, что рефлексивная этнография науки не только имеет историографическое или прогностическое значение, но должна быть непременной
частью антропологического поворота как интеллектуального проекта. Нам стоит
хотя бы отчасти отдавать себе отчет в том, как формируются и трансформируются,
так сказать, «структуры научного интереса», какими аналитическими,
корпоративными и «внешними» факторами они определяются, какое влияние они
оказывают на конструирование предмета и целей исследования. Еще раз
подчеркну, что речь идет не об археологии, а об этнографии гуманитарного знания,
о том, какова «поэтика и политика» современной нам научной деятельности.
Западная наука, впрочем, располагает достаточно обширным опытом
размышлений такого рода, тогда как в России подобной рефлексии пока что явно
не хватает.
Не исключено, что при более тщательном анализе современной российской
науки нам удалось бы насчитать гораздо большее число сторонников
антропологического поворота, чем это делает Поселягин. Другое дело, что я
вообще не уверен в необходимости проведения жестких границ между российской
и мировой наукой. Понятно, что политико-идеологические, финансовые и
административные факторы, влияющие на работу гуманитариев в России,
отличаются определенной спецификой. Не секрет, что во многих отношениях
российская наука по-прежнему производит довольно безрадостное впечатление.
Вместе с тем, многие «горизонтальные структуры» отечественного академического
сообщества вполне успешно встроены в глобальные исследовательские сети.
Думаю, что это обстоятельство тоже необходимо иметь в виду, говоря о
перспективах антропологического поворота в России.
Короче говоря, давайте не будем ограничиваться общими декларациями и более
внимательно посмотрим, как на практике устроена академическая жизнь.
Возможно, что тогда будущее антропологического поворота в России станет нам
более ясным.
Опубликовано
в журнале:
«НЛО» 2012,
№113
Кевин М.Ф. Платт
Аутсайдеры в обители культуры
(пер. с англ. А. Маркова)
версия для печати (89790)
«‹–›»
Кевин Платт
АУТСАЙДЕРЫ В ОБИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
Статья Николая Поселягина представляет собой ценный экскурс в сущность и
перспективы антропологического поворота в российской гуманитарной науке. Как
говорит Поселягин в самом начале, его взгляд на проблему — взгляд инсайдера,
репортаж с фронтовой линии дисциплинарных изменений. Поселягин называет
целый ряд теоретических инструментов, совершенно необходимых для
дальнейшего продвижения гуманитарных дисциплин. Предложенное им
интереснейшее обсуждение возможных контуров российской дискуссии о
значении антропологического поворота — сталкивающей традиционалистских
«позитивистов» и реформистских «субъективистов» — не только интригует и
провоцирует, но и лучшим образом отвечает моему собственному опыту
обсуждения с российскими исследователями вопросов теории и практики.
Несмотря на осторожные и даже пессимистические замечания, которыми
Поселягин заканчивает свою статью, сам факт его собственных поисков по
расширению дисциплинарных границ гуманитарного знания в России и сам факт
данного форума по обсуждению его статьи свидетельствуют о том, что
предпринятые им усилия получают резонанс прямо здесь и сейчас.
В примечании в начале статьи Поселягин пишет: «.для разговора об
академической жизни в тех или иных научных сообществах нужно знать ее не
только академически, но и прожить в ней какое-то время самому». Я почти полный
(надеюсь, не до конца) «аутсайдер» по отношению к российским гуманитарным
сообществам. Тем не менее я набрался смелости представить некоторые
дополнения и альтернативные формулировки в ответ на доводы Поселягина. Мое
самое настоятельное дополнение: Поселягин очень мало учитывает труды
социологов наших дней, давая только самые общие ссылки на Макса Вебера,
Клиффорда Гирца и Рут Бенедикт. Поселягин сам признается в этом, но как раз
здесь нужно уточнить, какие подходы могут быть учтены в такой ситуации.
В частности, можно вспомнить теоретические работы культурных антропологов,
в которых рассматривается текстовая динамика их собственных методов: начиная с
фундаментальной работы Джеймса Клиффорда и Георга Маркуса «Написание
культуры: поэтика и политика этнографии» (1986) и продолжая большим числом
теоретических размышлений и этнографических case-study, возникших под
влиянием этого важнейшего эксперимента46[1].
Также удивительно отсутствие классических работ по социологии культуры,
включая эпохальные труды Пьера Бурдьё о культурном капитале и Мишеля де
Серто о культурном потреблении, и наличие большого количества работ,
написанных под их влиянием, как внутри собственно социологии, так и вообще в
гуманитарных науках47[2]. Наконец, что симптоматично для ситуации в России,
46[1] См.: CliffordJ., Marcus G. Writing Culture: the Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley,
Cal.: University of California Press, 1986. Многие исследования по культурной антропологии
и теоретические размышления, вышедшие после 1986 года, так или иначе ссылаются на
этот том. Репрезентативная работа последних лет, размышляющая в этом русле: Caton S.
«Peaks of Yemen I Summon»: Poetry as Cultural Practice in a North Yemeni Tribe. Berkeley,
Cal.: University of California Press, 1990; Marcus G. Ethnography Through Thick and Thin.
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998.
47[2] См.: Bourdieu, P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1984; Certeau M. de. The Practice of Everyday Life. Berkeley, Cal.:
University of California Press, 1984. Социологические исследования в этой области, в
которых учитываются и развиваются указанные подходы: Lamont M. Money, Morals and
Manners: The Culture of the French and the American Upper-Middle Class. Chicago: University
of Chicago Press, 1992; Griswold W. Bearing Witness: Readers, Writers, and the Novel in
Nigeria. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000. Важные гуманитарные работы,
черпающие терминологию и методы из этой традиции: Guillory J. Cultural Capital: The
приходящей в себя после крушения советских научных парадигм, за бортом
оказался весь корпус марксистской критики культуры — начиная от работ самого
Маркса и кончая живой традицией марксистской критики культуры ХХ в.: от
Вальтера Беньямина и Дьёрдя Лукача до Теодора Адорно, Макса Хоркхаймера,
Луи Альтюссера, Терри Иглтона и Фредерика Джеймисона.
Бедность социально-гуманитарного знания, о которой говорит Поселягин, — это
не просто проблема «отсутствия теоретических инструментов». Гораздо важнее то,
что отсутствие социального знания в изложении Поселя- гина прямо отражается в
его откровенном незнакомстве с собственно позициями социальных наук в
понимании культуры. Чтобы воспринять хотя бы часть того, что концепции
культуры в социальных науках могут предложить гуманитариям, я попробую
подойти к проблеме с другой стороны. Поселягин в своей статье больше всего
внимания уделяет теоретическим ресурсам, достаточным для реформы практики
гуманитарных занятий. Но он очень мало задумывается над вопросом о предмете
гуманитарного исследования. Размышление над тем, что мы изучаем, а не над тем,
как мы изучаем, может отталкиваться от предложенного Поселягиным описания
эпистемологии антропологического поворота как «субъективистской». Хотя
Поселягин применяет этот термин к «микроуровню», описывая динамику анализа
текста — предполагая, что значение в тексте становится материалом
интерпретации благодаря весьма произвольному выбору интерпретатором
теоретических инструментов и «этнографического» герменевтического подхода,
что и позволяет говорить о «субъективизме» интерпретатора, — он вполне
релевантен и для «макроуровня», в том, что касается выбора специфического
объекта для анализа. Так каким образом исследователь принимает решение о
выборе объекта: следуя какому-то правилу или произвольно?
Ярлык «субъективизм» в точности отражает ту терминологию, в которой
некоторые академические исследователи в России воспринимают поставленные
антропологическим поворотом вопросы. По моему собственному опыту, ведущие
российские гуманитарии считают своей профессиональной задачей давать
скрупулезную интерпретацию исторически верифицируемых фактов, принимая к
рассмотрению только традиционные объекты гуманитарного исследования:
канонические фигуры и канонические проблемы литературной и культурной
истории. Как мне однажды сказал видный российский специалист, пусть ученые на
Западе посвящают себя исследованию «кривоногих черных женщин», для России
правильно заниматься гуманитарными науками по прежней моде, направляя
внимание на Данте, Шекспира и Пушкина. При таком подходе любой метод,
уклоняющийся от этих центральных и традиционных дисциплинарных задач,
неизбежно опирается на какую-то форму культурного релятивизма, отстаивающего
Problem of Literary Canon Formation. Chicago: University of Chicago Press, 1993; Radway J. A
Feeling for Books: The Book-of-the-Month Club, Literary Taste and Middle-Class Desire. Chapel
Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1997; English J.F. The Economy of Prestige: Prizes,
Awards, and the Circulation of Cultural Value. Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
2005.
совершенно произвольный выбор объекта исследования — в согласии с праздными
фантазиями и субъективными воззрениями исследователя.
Такая позиция живо напоминает голоса консерваторов, звучавшие во время так
называемых «культурных войн» в США в 1990-е годы в ответ на расширение
программ этнологических исследований, гендерных исследований, квирисследований и других проектов изучения идентичностей (identity- based projects) в
гуманитарных науках. Признаться, позиция традиционалистов ошибочна только
отчасти. Но она и верна только отчасти. Чего не хватает консервативным
защитникам культурных традиций (и самому Поселягину), так это
трансформированного понятия гуманитарных дисциплин, которое является
требованием любого «антропологического поворота», заслуживающего этого
имени. Речь идет о скачке от перспективы гуманитарного знания, в которой
дисциплина как целое, ее институты и специалисты в этих институтах
определяются объектами исследования (скажем, Институт русской литературы,
специалисты по Пушкину, Данте или Шекспиру), — к перспективе, в которой
теория и метод в первую очередь определяют и дисциплину, и профессиональную
идентичность.
Культурный антрополог прежде всего и более всего — участник его/ее генерализующей дисциплины. Он/она пишет книги по той или иной специальной
проблеме в своей области; но что делает его/ее практику антропологической — так
это теория и метод. То же самое нужно сказать о социологах культуры. Общность
теории и общность метода задает научный язык, который и делает возможной
дискуссию
внутри
этих
дисциплин
поверх
предметных
областей.
Антропологический поворот в гуманитарных науках требует от нас рассматривать
наши собственные дисциплины тоже как определяемые применением общего
набора инструментов к генерализованной области, которую я бы предложил
называть «намеренная эстетическая деятельность в культурной жизни».
Несомненно, рано или поздно гуманитарные дисциплины должны были ослабить
свою мертвую хватку — замкнутость на отдельных объектах исследования; просто
потому, что количество возможных объектов растет, включая уже не только
высокую, но и низовую культуру, не только канонические традиции, но и не
принадлежащие канону произведения, не только литературу, но и кинематограф и
(современный) фольклор, не только национальные традиции, но и вопросы
передачи традиций и кросс- культурные явления, не только Пушкина, но и черных
женщин, геев, гастар- байтеров и других.
Но почему произошел этот переход в определении дисциплин? Разве эти
объекты не становились иногда, до некоторой степени, объектами исследования и
во вполне «традиционном» гуманитарном знании? Конечно, становились. Но я
настаиваю на том, что только фундаментальное переформулирование наших
дисциплин позволит нам четко разглядеть центральные исследовательские
проблемы нашего времени, не только через отсылку к «модным новым темам», но
и в отношении к самим традиционным фигурам.
Главными проблемами новых исследований могут стать: формирование
культурных идентичностей, национальных традиций и канонов литературной и
культурной ценности; отношения между центрами и перифериями культурно
санкционированной власти и актуальное состояние неясных границ между
ощутимо отдельными языками, традициями, «семиотическими системами» и
«жизненными мирами». В нашем мире, в котором каноны разрушены, глобальная
культура соперничает с национальной, население не определяется границами, а
границы не совпадают с территориями, визуальное пересиливает текстовое, мы
должны ответить на вызов этих и других новых исследовательских проблем.
Дело в том, что дисциплина или специалист, основывающиеся на национальном
каноне, особенной культурной фигуре или даже на доминирующей форме
культурной деятельности («высокая литература»), оказываются зашоренными.
Такие гуманитарии, сразу же видно, провинциальны и культурно ограничены —
они участвуют в производстве культурных ценностей, предназначенных для
посвящения других участников в священные смыслы данной традиции, но
оказываются совершенно бессильными, когда нужно разглядеть пределы этих
культурных смыслов, механизмы их производства и далеко идущие социальные и
политические последствия их существования. Как я писал однажды, специалист,
изучающий Пушкина, Данте или Шекспира в традиционной дисциплинарной
рамке, гораздо более похож на первосвященника какой-то религии, чем на ученого,
взыскующего знания. Некоторые российские специалисты намекали мне, что это
правильно и хорошо — что они счастливы надеть мантию первосвященника культа
Пушкина. Мне нечего возразить на их выбор. Но я полагаю, что наука в целом
должна двигаться другим путем.
Существуют две важные оговорки к предложенному пониманию антропологического поворота в гуманитарных науках. Прежде всего, никто не призывает
отказаться от Данте, Пушкина и Шекспира. Конечно, новые проблемы
реформированной гуманитарной науки привлекут внимание части тех исследователей, которые сейчас занимаются каноническими фигурами — и они начнут
изучать эти же фигуры новыми способами. Но любое серьезное изучение
«намеренной эстетической деятельности» в российском обществе должно
учитывать важность сочинений Пушкина как центрального стержня национальной
идентичности, как механизма производства канонических ценностей, в связи с
установлением нормы литературного языка и т.д. Но эти весьма традиционные
проблемы нужно поместить в контекст сравнительного описания: не только в связи
с другими традициями Нового и Новейшего времени, но и в соотнесении с
соперничающими системами культурной оценки в российском обществе и на его
окраинах — географических, языковых и социальных. Такая гуманитарная наука,
не думая о жреческом служении в храме русской культуры, способна исследовать
строение и функционирование самого храма.
Другая важная оговорка возвращает нас к очевидному смыслу термина
«субъективный». Как уже заметили читатели, я считаю термины «объективный» и
«субъективный» подходящими для формул отдельных традиционалистских критиков
дисциплинарной реформы, но неспособными описать импликации антропологического
поворота. Вероятно, при рассмотрении культурных смыслов и интерпретаций текстов
реформированная
гуманитарная
наука
будет
«конструктивистской»,
а
не
«субъективистской». Вопросы эпистемологии на микроуровне анализа текста вторичны
по отношению к эпистемологическим импликациям поворота к социальным наукам на
макроуровне. Как становится ясно из вышесказанного, предлагаемая реформа
гуманитарных наук представляет собой решительный шаг от культурно ограниченных
форм производства знания к формам производства знания, основанным на научном
консенсусе гуманитариев. Это шаг не в сторону «субъективной» оценки культурной
ценности, — но прочь от провинциализма.
Читатели не должны понимать мои заметки как критику изолированности деятельности
российских гуманитариев. Будем честны, я пишу о состоянии любой дисциплины,
которая определяет себя на основании объекта исследования, а не теории и метода, —
будь то отделение славистики или английской филологии в моем университете или
институты изучения русской литературы здесь, в России.
В приведенном выше примечании Поселягин делает предположение, что только
«инсайдер» достаточно оснащен для ответа на вопрос, зачем нужен России
антропологический поворот. На мой взгляд, это утверждение ошибочно. Настоящие
инсайдеры в российских гуманитарных институциях, по определению, не понимают
необходимости антропологического поворота. Для дисциплинарной реформы,
предлагаемой под девизом антропологического поворота, нужно научиться смотреть
поверх рубежей унитарных национальных традиций и учиться исследовать среди прочего
механизмы формирования этих традиций и рубежей. Говоря совсем кратко, успех или
провал этой реформы зависит от того, сможем ли мы все стать «аутсайдерами», «заглядывающими извне» со всей почтительностью в любую обитель культуры —
российскую, американскую или западноафриканскую.
Пер. с англ. А. Маркова
Опубликовано
в журнале:
Кирилл Кобрин
«НЛО» 2012,
Несколько частных замечаний по важному поводу
№113
версия для печати (89791)
«‹–›»
Кирилл Кобрин
НЕСКОЛЬКО ЧАСТНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ
ПО ВАЖНОМУ ПОВОДУ
Я с некоторым трепетом — и даже сомнением — принимаю участие в обсуждении
перспектив «антропологического поворота», и вот почему.
Прежде всего, это персональная неуверенность. В большинстве областей знания,
которые приглашаются для участия в «повороте» (или которые сами собой будут в нем
участвовать), я откровенно плаваю, а в некоторых так и вообще полный невежда.
Безусловно, довольно внимательно следя в последние двадцать с лишним лет за
развитием филологии, социологии, этнографии (этнологии, «антропологии в узком
смысле», как ни назови), можно более- менее представлять себе общее направление их
развития, видеть сильные стороны — и догадываться о слабых. Но этого, как мне кажется,
недостаточно. Оттого я решительно не могу охватить весь почти бесконечный горизонт
дискуссии; если и принимать в ней участие, то только по отдельным позициям.
Во-вторых, меня, честно говоря, несколько смущает неотрефлексирован- ная интенция
«за все хорошее против всего плохого» в планах на «антропологический поворот». «Все
хорошее» — это «человек» (как бы его ни понимали участники разговора), «все плохое»
— это. Зона «плохого» и вовсе не определена; сюда можно отнести и акцент некоторых
послевоенных гуманитарных направлений на изучение структур (вместо человека), и
тотальную «текстоизацию» филологии, истории, истории литературы (специально выделяю), истории культуры, философии и так далее (на проникновение «семиотики» в
свою отрасль мне недавно жаловались друзья-археологи); к «плохому» относят и
обособленность различных дисциплин, и (при всем уважении к нему, высказанном
Николаем Поселягиным) традиционный «академизм» (который, при ближайшем
рассмотрении, оказывается вовсе не столь уж традиционным — и уж точно не
«академизмом» в исторически ограниченном значении этого понятия).
Мы живем в эпоху почти полного угасания, умирания последних волн первого в новой
истории «антропологического поворота» (гуманизма); если затевать второй, то стоит
тогда понять, чем он будет отличаться от предыдущего. Главное отличие, на мой
непросвещенный взгляд, должно заключаться в самой концепции «человека», которую —
и это очень важно — надо не «принять», и даже не «сформулировать», а «изобрести»,
«выдвинуть в качестве гипотезы» (что, как мне кажется, итальянские гуманисты, под
влиянием Платона и гностиков, и сделали). И эта новая концепция неизбежно будет отличаться от старой — сильно отличаться, иначе непонятно, зачем все это начинать
вообще. У меня же такое ощущение, что в нынешнем разговоре об «антропологическом
повороте» «человек» берется вместе со всем позднегу- манистическим контекстом,
условно говоря — «человек из Марка Блока и Жака Ле Гоффа», и контекст этот не
отрефлексирован, не взят в рассуждение. К тому же — если вернуться к несколько
бесформенному «плохому» нашего разговора — не стоит забывать, что перечисленные
там дисциплины и гуманитарные направления не зря же стали таковыми,
негуманистическими, не- антропоцентричными. В той же «Школе "Анналов"» торжество
статистических методов или истории большой длительности Броделя были результатом
именно кризиса антропоцентричности основателей движения. А эта антропоцентричность, к примеру, Марка Блока была во многом продуктом как его времени (и
его социальной группы), так и пафоса его противостояния «академической французской
историографии», «Лависсу и Рамбо», которые за историей царствований, переворотов,
войн и хартий не видели живого человека в истории. Чтобы вернуть «жизнь в истории»
средневековому человеку, тот же Марк Блок первым делом лишил его «истории» в
традиционном значении этого слова. В «Королях-чудотворцах» он ввел дистанцию между
собой — французом, республиканцем, патриотом — и историей Франции, в которой
увидел не «историю», а «антропологию», что в те времена отсылала к народам, не
имеющим письменности, а значит, и истории. Иными словами, Блок подверг
средневекового француза такому же анализу, какому его современник—антрополог
подвергал туземцев Тасмании или Новой Гвинеи. Эта дистанция, этот сознательный
разрыв с контекстом собственной жизни позволили Марку Блоку изобрести новую
дисциплину — «историческую антропологию» — и, по моему глубокому убеждению, в
перспективе прикончить то, что традиционно называли «историей» (в смысле
историописания). В сегодняшних же дискуссиях об антропологическом повороте речь
чаще всего идет о «собирании дисциплин», о своего рода хит-параде достижений наиболее прогрессивного гуманитарного знания, а не о решительном отказе. В науке (если мы
сочтем гуманитарные дисциплины таковыми) исключительно важен жест. Мне в нашем
разговоре не хватает жеста отказа.
Третий повод для моего беспокойства — телеологическая неясность. В замечательной
статье Николая Поселягина много говорится о том, нужен ли России «антропологический
поворот», подойдет ли он ей, справится ли она с ним. Честно говоря, я совершенно не
понимаю этой проблемы. Прежде всего, что имеется в виду под «Россией»? Российское
общество? Российская интеллигенция? Российские гуманитарии? Российские
специалисты в нескольких областях? Если на какой-либо из первых четырех моих
вопрошаний последует ответ «да», то можно с уверенностью сказать —
«антропологический поворот» неотчетливо претендует на некую идеологическую
функцию. Не на то, чтобы стать «идеологией», нет, но вот функцией точно; и функция эта
— заложить базу для некоего относительно общего (в различных масштабах этого
«общего») мировоззрения той России, которую мы хотели бы видеть в будущем
(демократической, гуманной и проч.). Если же под «Россией» понимаются только
«российские специалисты в нескольких гуманитарных областях», то и здесь возникает
телеологический вопрос. Идет ли речь о попытке создать новую «большую теорию» или
имеется в виду некая «теоретическая конфедерация», где различные передовые в своих
областях гуманитарного знания теории мирно сосуществуют (но только передовые и
только антропо- центричные!)? Статус и предназначение «антропологического поворота»,
увенчайся он успехом, остаются сегодня для меня непонятными. И, наконец, если речь
идет о повороте «антропологическом», то почему тогда Россия отделяется от остального
мира? Ведь наша дискуссия ведется на страницах издания, славящегося своим
интернационализмом, ее участники живут и трудятся во всех уголках света; абсолютно
уверен, что, перейди мы на английский, она нисколько бы не потеряла своей остроты и
глубины. Действительно, вот это меня очень беспокоит: не получится ли так, что вместо
некоего профессионального теоретического обсуждения мы окажемся в ситуации
разговора о путях «модернизации» российских гуманитарных наук? Последнее очень
важно, бесспорно, но все же это — о другом.
И, наконец, последнее. Я уверен, что дискуссия наша необходима; более того, ее стоило
начать лет десять назад. И, быть может, поставить самые неприятные, казалось бы,
дурацкие вопросы, вроде: «А зачем вообще нужны гуманитарные знания?» В эпоху
одновременного торжества технократического утилитаризма и национализма второй
волны вопрос этот не выглядит столь уж праздным. Ответ на него должен носить не
этический или прагматический, а именно теоретический характер. Иначе, к примеру,
историческое знание окончательно станет сырьем для националистических бредней или
набором курьезных фактов из Википедии.
P.S. Стоило бы еще подумать над, казалось бы, такой приземленной вещью, как
институциализация дискуссий об «антропологическом повороте». «НЛО» — место для
печатного обсуждения. Банные чтения — для живого и непосредственного. Но, как мне
кажется, на каком-то этапе следует перейти от «разговора» к «выработке» теории; для
этого нужны регулярно действующие семинары, регулярно публикующие результаты
своей деятельности — уже не реплики, а полноценные статьи и даже труды.
Опубликовано
в журнале:
Дина Гусейнова
«НЛО» 2012,
О реполитизации антропологии и преимуществе
стихийных поворотов
№113
версия для печати (89792)
«‹–›»
Дина Гусейнова
О РЕПОЛИТИЗАЦИИ АНТРОПОЛОГИИ
И ПРЕИМУЩЕСТВЕ СТИХИЙНЫХ ПОВОРОТОВ
Что означает «антропологический поворот» в том смысле, в каком его интерпретирует, по
следам манифеста Ирины Прохоровой в сотом номере «НЛО», Николай Поселягин, для
историка? Ведь «поворотом» антропологический метод стал в первую очередь в области
литературоведения, где в 1980-е и 1990-е годы Вольфганг Изер на основе теории
рецепции и герменевтики литературного произведения определил направление ряда
исследований. Вкратце можно сформулировать результат его влияния следующим
образом. До «поворота» интересен был текст автора и сам автор; действующим лицом
представал текст как представитель своего автора. После поворота исследователи стали
больше интересоваться текстом как объектом интерпретации и субъективным статусом
его читателей. В этом смысле Николай Поселягин интерпретирует «антропологический
поворот» как объединение разных дисциплинарных традиций в общей системе координат,
которую он обозначает как «субъективистскую».
Может ли антропологический посыл в стиле Изера реформировать историю как
дисциплину, и если да, то насколько это желаемо? Для ответа на этот вопрос предлагаю
рассмотреть несколько методологически-мировоззренческих направлений в этой области.
Что является или являлось главным субъектом исторического анализа и как этот субъект
менялся в ходе исторических поворотов этой науки? Поскольку я в наибольшей степени
знакома с немецкой историографией и историографией по немецкой истории, ограничусь
примерами из этой области. Этот выбор можно обосновать еще и тем, что как
профессиональная наука история в конце XIX века впервые сформировалась именно в
этой культурной традиции. Начиная с «Исторического журнала» Ранке и его
предшественников, «субъектом» исторического анализа стали нация и народ 48[1]. Таким
образом профессиональные историки хотели оградить себя от своих исторических корней
придворных, церковных или «частных» летописцев, которые работали на своих
феодальных покровителей. Героем исторического рассказа в эпоху национальной истории
стал характер немецкой нации, о существовании которой мировой общественности
заявили незадолго до этого, после десятилетий безуспешных попыток, в Зеркальном зале
Версальского дворца. Иначе говоря, каким бы ни был предмет исследований историка,
осмысленным его исследование становилось только в том случае, если оно давало
возможность интерпретации становления немецкой нации или немецкого народа.
По следам влиятельного «Исторического журнала» во многих странах Европы,
особенно во Франции, в России и в Италии, а также в США, стали возникать подобные
попытки оторвать историческую науку от истоков истории дворянских семей или
династий и сделать ее национальной. В частности, в России Петр Бартеньев, издатель и
автор «Русского архива», сумел превратить сугубо личную и типическую для дворянина
своей эпохи библиотеку Черткова в монумент национального достояния — попытка стала
примером для интерпретации коллекции Льва Толстого49[2]. Одним словом, создание
48[1] Historisch-Politische Zeitschrift / Hg. Leopold von Ranke. Hamburg, 1833—1836; Historische Zeitschrift /
Hg. Heinrich von Sybel. Munchen, 1859.
49[2] Русский архив, издаваемый Петром Бартеньевым при Чертковской библиотеке. М., 1863—1917.
истории как науки в современном смысле совпало с определенным историографическим
поворотом от истории конкретных личностей и семей к истории абстрактной личности
нации. Перед тем как нация стала «воображаемым сообществом», как описал ее Бенедикт
Андерсен, она стала «воображаемым лицом».
Впрочем, как и все повороты, этот поворот не был тотальным. Существовали и
противоречащие ему стремления. Так, в 1909-м году в Лейпциге историк Карл Лампрехт
основал институт Истории культуры и универсальной истории на основе разработанных
им ранее представлений о сравнительном анализе культур 50[3]. Опираясь на исследования
своего учителя и «психолога народной души» Вильгельма Вундта, вместо предпочтения
одной нации, на котором настаивали вышеупомянутые исторические журналы, он
предлагал отдать предпочтение сравнению культур с целью изучения человека с антропологической точки зрения. При этом раскрывалось многообразие человеческих культур
и одновременно единство человеческой природы. В политическом отношении, как это
определил, например, Эрнст Кассирер, эти две школы историографии относились к
разным крыльям немецкого либерализма, причем националисты, вопреки немецкой
традиции 1848 года, к концу XIX века стали занимать правое крыло, а «компаративисты»
— левое. Левее «компаративистов» были более универсалистски настроенные
социалистические историки, представленные в «Социалистическом ежемесячнике», и
пацифисты51[4]. Для них целью сравнения была не существующая и структурно
неизменная природа человека, а общая попытка авангарда человества создать основу для
прогресса человека в будущем. Такой подход можно было бы описать как антропологию
будущего, опираясь на утопически-фейербаховские заметки Маркса о «специфике
человеческого бытия как вида», — специфике, которая проявится только в прошедшем
исторический процесс будущем. Справа от националистов до 1920-х годов существовала
еще маргинализиро- ванная расовая теория наций с социально-дарвинистской оптикой.
Между этими направлениями в амбивалентной позиции продолжал существовать,
пожалуй, самый древний жанр истории как науки: биография. В современной истории
легитимацию биографии создал Гегель с основанным им культом «исторического
индивида мирового значения». Такие фигуры, универсальным примером для которых до
сих пор является Наполеон, неосознанно улавливают движение духа истории и его
выполняют, часто принося в жертву и других и, в конечном итоге, себя самих. Если
простые смертные просто умирают, исторические личности умирают так, что даже своей
смертью активно продвигают диалектику истории вперед. К началу ХХ века другой,
скорее противоположный, толчок для развития жанра биографии дало развитие
психоаналитического метода Зигмунда Фрейда. Здесь «героем» анализа стал как раз
человек в измерении слабости. Это ведомый своим делом автор, как, например Моисей,
автор и, в каком-то смысле, «жертва» основанного им монотеизма; это «человек-крыса»,
страдающий от репрессивного общества поздней габсбургской империи и своей
собственной семьи. Когда в эпоху Веймарской республики все эти направления
столкнулись в более политизированной форме, в частности, биография прочно
укоренилась в правом политическом крыле и совпала с националистическими
стремлениями, как, например, в школе Стефана Георге, или же, в другом случае, стала
жанром популярной и популистской истории в лице консервативного либерала Эмиля
Людвига. Компаративистский подход тоже стал привлекать не только левых либералов,
но и правых консервативных революционеров, которые в лице Шпенглера и его фанатов
узурпировали это направление. Получается, что в результате политических катастроф XX
века в истории как науке на всех фронтах выигрывала националистическая оптика и
абстрактная персона нации стала все более совпадать с фигурой биографически
схваченного гения.
50[3] Lamprecht К. Die Kulturhistorische Methode. Berlin, 1900.
51[4] Sozialistische Monatshefte / Hg. J. Bloch. Berlin, 1897-1933;
Geschichtswissenschaft / Hg. Lud- wig Quidde. Freiburg, 1889—1894.
Deutsche
Zeitschrift
fur
В ходе 1940-х годов критические теоретики истории попытались найти выход из этой
ситуации двумя путями. Первым путем был некий гиперболический биографизм. К этому
явлению можно отнести исследования современности как болезненной эпохи на примере
метафорического тела, как в «Бегемоте» Фридриха Науманна или в «Мифе о государстве»
Кассирера, в книге «Бокельзон» Фридриха Река, на примере жанра трагедии, как у
Беньямина, и в случае с «двумя телами короля» Канторовича. Этот путь можно было бы
назвать «гиперболическим поворотом» в историографии. Второй путь собственно
историческим поворотом трудно назвать постольку, поскольку он, по существу, был
совершен посредством выхода из истории в другие дисциплины, в первую очередь —
социологию и антропологию. Критические теоретики Франкфуртской школы стали
обращаться к методам социологического исследования, а в Америке под влиянием
антрополога Франца Боаса и студентки Кассирера Сузанны Лангер произошел,
собственно, не столько антропологический поворот в истории, сколько уход
потенциальных историков в антропологию как область изучения культуры методом
«погружения», через которое возможно необходимое аналитику отчуждение от своей
культуры. Наконец, осталось упомянуть еще четыре момента немецкой историографии:
официальную марксистскую историографию в ГДР как исследование истории под знаком
телеологического прогресса, движимого исторически сформированными классами; эпоху
«истории концептов» вокруг Райнера Козеллека, эпоху поворотов к исследованию эмоций
в период после воссоединения Германии и объединяющий все эти эпохи жанр
конфессиональной историографии, целью которой является покаяние немецкого народа
или его отдельных представителей за причастность к Холокосту.
Характерно, что на протяжении всего этого развития немецкой историографии понятие
«антропологический поворот» в том смысле, в котором оно применимо к преобразованию
литературоведения в 1980-х и 1990-х годах, применимо только к феномену истории
понятий в духе Козеллека. Все остальные направления или никогда не выходили из русла
антропологии, или просто ушли в саму антропологию: даже националисты и расисты,
которые верили в превосходство одной нации над другой хотя бы в методологическом
смысле, считали ее при этом высшим достижением человеческого, а компаративисты и
биографы тем более были всегда ориентированы на образ человека или в духе научного
сравнения, или в духе религиозного «Эссе хомо». В Германии долгое время к
«антропологическому» повороту Изера относились скептически, потому что он слишком
близко подошел к расовой антропологии национал-социалистов, которая надолго
захлестнула и гуманитарные науки. Только история понятий как подход сознательно
уходит от человека, делая «автором», то есть субъектом истории, не индивидуальную или
абстрактную персону, а, наоборот, само понятие. Тут человек оказывается ведомым
понятием и поэтому и ведомым через анализ понятий. Не случайно главным источником
для аналитиков школы Козеллека является словарь — безлично созданная анонимная и
коллективная (или, по крайне мере до появления Википедии, квазиколлективная) база
данных, которая не только дает нам возможность осмыслить прошлое, но и
подсознательно влияет на то, как мы действуем в настоящем.
Мне кажется, что «антропологический поворот» как форма привлечения внимания
анализа к человеку, можно сказать, несмотря на его брошенность в язык, могла бы стать
очень продуктивным толчком для строгих концептуалистов. Однако такого рода
«антропологический» поворот очень резко отличается от того антропологического
поворота, о котором говорили Изер, Яусс и их ученики. В школе рецепции литературы
как антропологического процесса есть момент мистического восхищения развитием идеи.
Под кажущейся либеральной субъективистской оптикой, как мне представляется, стоит
не индивидуальная личность в традиции «слабого», подверженного противоречивым
влияниям и репрессиям со стороны государства, близких и даже собственных творений
человека. «Антропологический поворот» по Яуссу, как мне кажется, — это не что иное,
как призыв вернуться к суеверному восхищению «Эссе хомо» вместо решительного бунта
против простой человеческой трагедии: уничтожения одного человека политическим
режимом при использовании неартикулированного недовольства масс его же народа. Как
ни странно, сегодня, в декабре 2011-го, именно в России, как мне кажется, предвидится
возможность избежать такого суеверия. «Антропологический» поворот в исторической
науке, понимаемый как поворот от анализа человека как мнимой части абстрактной
персоны нации, или как объекта насилия собственных понятий, к анализу его как
деятельного субъекта, сможет послужить основой для политического поворота с целью
самореализации человека с российским паспортом.
Понятие «поворота» напоминает кантовский термин «коперниканского поворота»,
который послужил толчком для реориентации мышления. С перемещением центра
тяжести пояснения мира от Солнца к Земле наступила эпоха гуманизма. Идея
антропологического поворота принадлежит Канту, который является одновременно
первым автором «антропологического» исследования человека. При этом характерно, что
явления, связанные с этим поворотом, обрели это название ретроспективно. Ни Коперник,
ни Галилей не объявляли о возможных последствиях своих исследований заранее. Однако
характерно, что Кант решительно отказывался от попытки полагаться на исторический
анализ как основу для прогнозирования будущего или же анализа сущности человека. В
светлое будущее необходимо было верить, даже Канту. А человеческая природа
определялась априорно, и так же априорно было ясно, что человеку от природы даны
добро и разум и нужно только заточить разум для того, чтобы в нем, так сказать,
активировать добро. Мне лично ближе анализ его соперника Моисея Мендельсона (не
того Моисея, которым занимался Фрейд), который установил, что соотношение добра и
зла редко меняется и оба аспекта проявляются непредсказуемо. В этих условиях, как мне
кажется, антропологический поворот в исторической науке требует выяснения политических целей, которые преследует исследователь: хочет ли историк убедить читателей
и себя в том, что историю делают за него его характер, «свободный» рынок или его
Dasein, или же он хочет показать, что человек делает свою историю сам? Как и при любой
интерпретации «демократии», в случае упоминаемой Николаем Поселягиным
«эпистемологической» ее формы я предпочла бы управляемой методологическими
поворотами демократии демократию стихийных выборов аналитической оптики.
Опубликовано
в журнале:
Риккардо Николози
«НЛО» 2012,
Антропологический поворот в литературоведении:
примечания из немецкого контекста
№113
(пер. с нем. А. Слободкина)
версия для печати (89793)
«‹–›»
Риккардо Николози
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ: ПРИМЕЧАНИЯ ИЗ
НЕМЕЦКОГО КОНТЕКСТА
Дискуссии об антропологическом повороте в российских гуманитарных науках, которые
ведутся на протяжении последних нескольких лет на страницах «НЛО», всегда имеют
некий двойной фокус, поскольку они затрагивают как методологические, так и
институциональные вопросы. Это касается и текста Николая Поселягина, который в
прогностическом плане хочет предложить свой вариант антропологических исследований
в России, набрасывая возможный сценарий развития как в методологическидисциплинарном, так и в академически-институциональном плане. Моей целью не
является оценить, насколько верны эти «прогнозы на будущее», поскольку у меня нет
«инсайдерского» опыта; скорее, я хочу сделать некоторые примечания к этим темам,
подразумевая немецкий контекст. «Немецкий пример» интересен потому, что
антропологический поворот в литературоведении в Германии произошел уже в середине
1990-х годов и принес с собой значительные методологические и институциональные
изменения, которые именно в своем взаимодействии являются особенно
информативными. В то время как структурные изменения немецкой науки, пожалуй, мало
известны русскому читателю, с крайне динамичным полем междисциплинарного
теоретизирования в Германии, возникшим в ходе антропологического поворота, читатель
журнала «НЛО» в основном уже знаком благодаря статье Дорис Бахманн-Медик52[1].
Поэтому я ограничусь тем полем исследований, которое не было учтено в статье, а
именно исследованием взаимодействий между естественными науками и литературой на
уровне формирования, передачи и циркуляции антропологических знаний. При этом речь
идет о «крайнем» примере междисциплинарности, при котором должно быть очевидно,
что литературоведение должно не только не терять свою традиционную специализацию
благодаря анализу культурных феноменов, которые выходят за пределы литературы, но и
даже значительно усиливать ее53[2].
Николай Поселягин в своей статье указывает, что одной из первых работ, в которых
речь шла об антропологическом повороте в литературоведении, является сборник «The
Anthropological Turn in Literary Studies», появившийся в 1996 году как итог одноименной
конференции в Университете города Констанц54[3]. При этом речь ни в коем случае не
идет о совсем новой научной парадигме — скорее, об одной из первых систематизаций
различных попыток «реформировать» традиционное литературоведение в Германии,
возникших уже в 1980-е годы. Подобную систематизацию представляет собой и книга
Дорис Бахманн-Медик «Культура как текст: Антропологический поворот в
литературоведении», которая также вышла в 1996 году и в которой тоже были
представлены попытки «этнологизации литературоведения» — от культурной
антропологии до этнологической теории ритуалов и перформан- сов, от дебатов о Writing
Culture до постколониализма55[4].
Напрашивается ретроспективный вопрос: что было бы с этими новаторскими
импульсами, если бы в немецкой научной системе не было структур, позволяющих
претворить междисциплинарные положения, изначально чисто теоретически
сформулированные, в академическую практику? Я имею в виду, прежде всего,
финансовую поддержку совместных исследований (Verbundforschung), которую
Немецкий научный фонд (DFG — Deutsche Forschungsgemeinschaft, крупнейший спонсор
в области научных исследований в Германии) с 1990-х годов начал усиленно оказывать
также гуманитарным и социальным наукам. Именно в рамках одного из таких научных
объединений — так называемых «отделов специальных исследований» (SFB —
52[1]
Бахманн-Медик Д. Режимы текстуальности в литературоведении и культурологии: вызовы,
границы, перспективы.
53[2]
Когда я в дальнейшем тексте говорю о немецком литературоведении, я имею в виду не
просто германистику, а весь спектр филологических областей, которые отличаются только тем, что
занимаются различными культурными пространствами. Национальная филология, как известно, — это чистая
фикция XIX века.
54[3]
The Anthropological Turn in Literary Studies // REAL. Yearbook of Research in English and
American Literature / J. Schlaeger (Ed.). Vol. 12. Tubingen: Gunter Narr Verlag, 1996.
55[4]
Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der Litera- turwissenschaft / D. BachmannMedick (Hg.). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1996.
Sonderforschungsbereiche), существовавшего в 1996—2002 годах при Констанц- ском
университете и называвшегося «Литература и антропология», с помощью различных
дисциплин — от германистики, англистики, романистики, славистики, искусствоведения,
медиологии и до философии, социологии, психологии и этнологии — изучались
отношения между литературой и ант- ропологией56[5]. Необходимо было преодолеть
границы между дисциплинами и синергетически смешать разные методы и теории, чтобы
исследовать, как именно литература и различные медиа передают информацию об
антропологических константах человека в историческом развитии или какую роль играют
антропологические основы (такие, как способность к воображению) при создании и
восприятии литературы и искусства.
Этот процесс объединения гуманитарных и социальных наук путем интердисциплинарного сотрудничества в последние годы был усилен в ходе так называемой
«Exzellenzinitiative»57[6], при которой немецкие университеты начиная с 2006 года
конкурируют друг с другом для получения финансирования крупных исследовательских
проектов. При этом можно заметить, что в области гуманитарных и социальных наук
спектр участвующих дисциплин становится все больше и что исследуемые темы, по сути,
принципиально антропологические. Они выходят за рамки классической проблематики
anthropological turn 1990-х годов (культурная гибридность, медиальные представления
«своего» и «чужого» и т.д.) и относятся скорее к антропологическим константам, распространяющимся за пределы отдельных культур и эпох. Например, в грантовом кластере
программ (Exzellenzcluster) «Религия и политика в культурах предмо- дерна и модерна»
Мюнстерского университета около 200 ученых из 20 направлений гуманитарных и
социальных наук исследуют сложные отношения между религией и политикой, которые
оказывали определяющее воздействие на все эпохи и культуры 58[7]. В грантовом кластере
«Языки эмоций» Свободного университета Берлина исследуются связи между эмоциями
и знаковыми практиками, то есть то, как эмоции формируют язык и изображение и,
наоборот, как языковая компетенция влияет на способность к эмоциональной коммуникации. А в Констанцском университете представители социальных и гуманитарных наук
исследуют «культурные основы интеграции» — так называется соответствующий
грантовый кластер, — то есть объединяющие и разобщающие аспекты моделей
социального устройства (sozialer Ordnungsmuster)59[8].
Разумеется, вкратце описанный здесь процесс в корне изменил способы исследования в
гуманитарных и социальных науках в Германии. Хотя индивидуальные публикации
статей и книг в рамках границ классических дисциплин все еще имеют место, они,
попросту говоря, больше не дают ни денег, ни славы. Символический (и финансовый)
капитал в немецком академическом мире получает тот, кто осуществляет крупные
исследовательские проекты, и это возможно только в сотрудничестве с другими
коллегами и другими дисциплинами. Эта тенденция, конечно, небесспорна: многие
ученые отвергают практику объединенного исследования как чуждую модель,
свойственную исключительно естественным наукам и навязанную наукам гуманитарным
и социальным из политических соображений. Они жалуются на потерю научности,
которая возникает вследствие потери внутридисциплинарных знаний и навыков и
«размывания» собственной методологии. Эти жалобные возгласы раздаются не в
последнюю очередь тогда, когда речь идет о литературоведении, которое все больше
покидает свои традиционные области исследования (эстетику, историю литературы,
структурный анализ и т.д.), чтобы исследовать самую разнообразную культурную
56[5]
Результаты работы этого отдела были зафиксированы в серии «Литература и
антропология», выходившей в Тюбингене в издательстве «Gunter Narr Verlag». Между 1998 и 2005 годами в
этой серии вышло 23 тома.
57[6]
Инициатива федеральных и земельных властей по дополнительной финансовой
поддержке научных институтов. — Примеч. перев.
58[7]
См.: www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik.
59[8]
См.: www.exc16.de/cms/start.htm. Список финансируемых кластеров и прочие
объединенные проекты находятся на домашней странице DFG: www.dfg.de/en/funded_projects/ index.html.
семантику. Конечно, такие сомнения во многом оправданны. С другой стороны, можно
наблюдать, что этот процесс не только заключает в себе опасности, но также открывает
новые возможности. Литературоведение не обязательно должно мутировать в (плохую)
социологию, чтобы быть новаторским, — совсем наоборот, оно может с помощью
собственной методики объяснять культурные феномены, в широчайшем смысле
обладающие «литературным» измерением. Стоит только подумать о многочисленных
областях знания, в которых повествование играет организующую и смыслонаделяющую
роль, — от юридического до медицинского дискурса60[9]. С незапамятных времен
культуры организуются с помощью нар- ративов, которые управляют критериями
включения и невключения, дружбой и враждой, производят селективный отбор и
моделирование действительности и таким образом создают «когерентные» модели
интерпретации, благодаря своей повествовательной природе легко оседающие в
культурной памяти. Чтобы эти культурные нарративы не рассматривались как чисто тематические «мотивы», а, напротив, интерпретировались в их структурном измерении,
нужно такое литературоведение, которое могло бы предоставить специально
выработанный тонкий нарратологический инструментарий.
Тем временем литературоведение все больше стремится вторгаться в области, которые
из-за считавшихся непреодолимыми границ между «двумя культурами» (Чарльз Перси
Сноу61[10]) казались для него недоступными. В Германии невероятно быстро растет число
исследований взаимосвязей литературы и естественных наук62[11]. При этом дело не
столько в том, чтобы исследовать влияния естественно-научных концепций на литературу
— в этом бы не было ничего нового. Гораздо больше исследуют дискурсивные поля, в
которых литература и наука в равной степени вносят вклад в создание и циркуляцию
знания. Основываясь на концепции знания (savoir) Мишеля Фуко как некой матрицы всех
высказываний, возможных в определенное историческое время 63[12], литературоведы
исследуют формы представления антропологического знания и при этом подчеркивают
роль поэтических техник для производства знания. Так называемая «поэтология знания»
хочет сдвинуть перспективу с объекта знания в сторону дискурса, чтобы исследовать
процессы переплетения поэтологии и эпистемологии64[13]. Особым вариантом «поэтологии знания» является исследование «литературных экспериментальных культур»: здесь
под экспериментом понимается стык между наукой и литературой как «медиум между
эмпирическим доказательством и открытием новых возможностей»65[14]. Этот подход
обязан своим возникновением научно- историческому повороту в эпистемологии
эксперимента, восходящему к Гас- тону Башляру и Людвигу Флеку, после которого под
экспериментом больше не понимается простой инструмент проверки теорий и гипотез.
Скорее, эксперимент означает творческую практику, которая обладает «собственной
жизнью»66[15] и лишь в процессе проведения создает научные факты как «непредвосхищаемые события»67[16]. Акцент на перформативности эксперимента был
подхвачен литературоведением, которое обратило всеобщее внимание на процесс
взаимодействия между порядком проведения опытов в естественных науках и способом
литературного письма68[17].
60[9]
Ср., например: Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research / S. Heinen, R.
Sommer ^ds.). Berlin; N.Y.: Walter de Gruyter, 2008.
61[10]
Snow Ch.P. The Two Cultures [1959]. Cambridge, MA, 1993.
62[11]
См. обзор в: Pethes N. Literatur- und Wissenschaftsgeschich- te. Ein Forschungsbericht //
Internationales Archiv fur So- zialgeschichte der deutschen Literatur. 2003. Band 28. Heft 1. S. 181—231.
63[12]
См.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994.
64[13]
См., в частности: VoglJ. Poetologien des Wissens um 1800. Munchen, 1999; Pethes N.
Poetik/Wissen. Konzeptionen eines problematischen Transfers // Romantische Wissenspoetik. Die Kunste und die
Wissenschaften um 1800 / Hrsg. v. G. Brand- satter u. G. Neumann. Wurzburg: Koningshasuen & Neumann; 2004;
Renneke P. Poesie und Wissen. Poetologie des Wissens der Moderne. Heidelberg: Winter Verlag, 2009.
65[14]
См.: Literarische Experimentalkulturen. Poetologien des Experiments im 19. Jahrhundert / M.
Krause, N. Pethes. (Hrsg.). Wurzburg, 2005.
66[15]
См.: Hacking I. Einfuhrung in die Philosophie der Naturwis- senschaften. Stuttgart, 1996.
67[16]
См.: Rheinberger H.-J. Experiment, Differenz, Schrift: Zur Geschichte epistemischer Dinge.
Marburg, 1992.
68[17]
См., в частности: Gamper M. Experiment und Literatur. The- men, Methoden, Theorien.
Gottingen, 2010.
Этот пример радикальной междисциплинарной ориентации литературоведения, которое
хочет преодолеть даже границу с «точными науками», делает наглядным как потенциал,
так и опасности, скрывающиеся в антропологическом тренде. Ведь когда литературоведы
решают вторгнуться на чужую территорию исследований, в поле научной эпистемологии
необходимо отрефлектировать условия и возможности собственного вклада в познание.
Если, например, утверждается — так, как это делает «поэтология знания»69[18],— что
научные процессы познания принципиально связаны с эстетическими критериями, то это
означает, что анализ любого научного текста является областью научной компетенции
литературоведов. Это та точка зрения, которую нельзя принять, поскольку очевидно, что
не любая форма выражения в науках играет роль для их семантического и
систематического познания70[19]. Но наряду с научными текстами, чья словесная форма не
играет роли для содержания, существуют, безусловно, случаи, в которых граница между
эмпирикой и воображением размыта и словесная форма научных текстов совершенно не
является «излишней рамкой» (Framing)71[20]. Во времена «научных революций» (Томас С.
Кун)72[21], то есть в условиях еще не точного знания, при котором результаты не являются
ни закрепленными опытным путем, ни выведенными логически, нарративные и
риторические структуры часто выполняют функцию «интуитивных насосов» («Intuition
pumps»)73[22], создающих научную очевидность. Самым известным примером является,
конечно же, книга Ч. Дарвина «Происхождение видов» (1859), где на месте недостающих
экспериментальных опытов выступают «воображаемые иллюстрации» («ima- ginary
illustrations»), которые принадлежат к широкому, риторически-нарративному
инструментарию дарвиновского «веского аргумента» («one long argument»)74[23]. В
качестве элементов убеждения в еще не закрепленном знании эти риторическинарративные структуры являются лучшим примером научного аргументирования, которое
имеет не только формально-логическую, но также и прежде всего диалектическую
природу75[24]. Именно в этих случаях литературоведение необходимо — пожалуй, даже
больше, чем история науки или теория науки.
Пер. с нем. Александра Слободкина
Опубликовано
в журнале:
Константин А. Богданов
«НЛО» 2012,
Заносы на поворотах
№113
версия для печати (89794)
«‹–›»
69[18]
Ср.: VoglJ. Kalkul und Leidenschaft. Poetik des okonomis- chen Menschen. Munchen, 2002.
70[19]
См.: Stiening G. Am «Ungrund». Was sind und zu welchem Ende studiert man «Poetologien des
Wissens»? // KulturPoe- tik. 2007. Vol. 2. S. 234—248.
71[20]
Ср.: VellemanJ.D. Narrative Explanation // The Philosophical Review. 2003. Vol. 112/1. P. 1—25.
72[21]
См.: Кун Т. Структура научных революций. 2-е изд. М.: Прогресс, 1977. — Примеч. перев.
73[22]
См.: BrendelE. Intuition Pumps and the Proper Use of Thought Experiments // Dialectica. Vol.
58/1. 2004. P. 89—108.
74[23]
Дарвин сам охарактеризовал свой трактат как «один веский аргумент». О Дарвине как
ораторе см., в частности: Depew D. J. The Rhetoric of the «Origin of Species» // The Cambridge Companion to the
«Origins of Species» / Ed. by M. Ruse, R.J. Richards. Cambridge, 2009. P. 237—255; Campbell J.A. Scientific
Discovery and Rhetorical Invention: The Path to Darwin's «Origin» // The Rhetorical Turn. Invention and Persuasion
in the Conduct of Inquiry / Ed. by H.W. Simons. Chicago; London, 1990. P. 58—90.
75[24]
Gross A.G. The Rhetoric of Science. Cambridge, MA; London, 1990.
Константин А. Богданов
ЗАНОСЫ НА ПОВОРОТАХ
Размышления над вопросами, с которых начинает свою статью Николай Поселягин,
видятся самому автору принципиальными, но остаются, по его собственному признанию,
преимущественно гадательными. Автор честно признается, что он «не знает», «для чего
российским гуманитарным наукам нужен антропологический поворот», не знает, «как
антропологический поворот может оказаться востребован людьми, системой координат
которых является академизм», и с ходу оговаривается, что его работа есть «не утверждение догматов и не описание явления», а всего лишь «субъективная попытка прогноза на
будущее — настолько же условная и необязательная, насколько вообще условны и
необязательны бывают подобные прогнозы». Честность автора подкупает, но признание в
необязательности настораживает: если понятие «антропологического поворота» остается
уже на протяжении более чем пятнадцати лет востребованным на страницах энного
количества журнальных и монографических работ, то зачем гадать о том, какими
обстоятельствами определяется его актуальность? Автор ограничивает свой разбор этого
понятия беглым упоминанием статей в сборнике 1996 года «The Anthropological Turn in
Literary Studies», вышедшем по итогам одноименного коллоквиума, состоявшегося годом
ранее в Констанцском университете, а затем — не упоминая ничего из обширнейшей
литературы на ту же тему (при том, что, например, в том же Констанце начиная с 1993
года на протяжении пяти лет осуществлялась работа в рамках большого
межкафедрального проекта «Literatur und Anthropologie», финансировавшегося
авторитетным научным сообществом Германии — Sonderforschungsbereich76[1]; я уже не
говорю о дезориентирующих читателя ссылках на сравнительно случайные англоязычные
работы, в названии которых встречается словосочетание Anthropological Turn, при
наличии
многочисленных
исследований,
целенаправленно
посвященных
«антропологизации» гуманитарных дисциплин77[2]) — переходит к сравнительно
недавним дискуссиям на ту же тему в журнале «НЛО». Я не призываю автора к
составлению библиографически содержательного обзора уже имеющихся зарубежных
работ на тему «антропологического поворота», но не могу считать такой обзор
бесполезным. Будь он сделан, он по меньшей мере скорректировал бы хронологию
проблемы (обсуждение которой ведется начиная не с середины 1990-х, как полагает
автор, а с середины 1980-х годов). Но и это не самое главное. Руководствуясь пафосом
осложнения «моноло- гизма» традиционных академических дисциплин «диалогизмом»
исследовательских поисков в сфере гуманитарного знания, автор — при всех своих
оговорках в уважении к академизму — связывает такие поиски с плодотворностью
«общей эпистемологической системы координат», «которую можно обозначить как
субъективистскую». В научно-парадигмальной перспективе «антропологический
поворот», таким образом, предсказуемо предвещает (или уже и реализует) разрушение
«дисциплинарных границ», оправдываемое здесь же тем, что его целью и «финальным
76[1] Graevenitz G. v., Seebafi G. Literatur und Anthropologie. For- schungsprogramm des
Sonderforschungsbereichs 511 // http: // www.uni-konstanz.de/FuF/ueberfak/sfb511/forschung. html.
77[2] См., например, давние, но важные англоязычные публикации, посвященные экспансии
антропологической тематики в гуманитарные исследования: Levine K. The social context of literacy.
London, 1986; Literary Anthropology: A New Interdisciplinary Approach to People, Signs and Literature /
Ed. Fernando Poyatos. Amsterdam, 1988; Literature and Anthropology / Ed. Philip Dennis and Wendell
Aycock. Lubbock, 1989; Loriggio F. Anthropology, Literary Theory, and the Traditions of Modernism //
Modernist Anthropology. From Fieldwork to Text / Ed. Marc Manganaro. Princeton, 1990. P. 215—265;
Layton R. The Anthropology of Art. Cambridge, 1991; Lee K. Literary Anthropology: Culturology of Literary
Text // The Journal of English Language and Literature. 1991. № 37/3. P. 651—666; Collins J. Literacy and
Literacies // Annual Review of Anthropology. 1995. № 24, P. 75—93; Cross-Cultural Approaches to Literacy
/ Ed. Brian V. Street // Cambridge Studies in Oral and Literate Culture 23. Cambridge, 1993; Pecora V.P.
The Sorcerer's Apprentices: Romance, Anthropology, and Literary Theory // Modern Language Quarterly.
1994. Vol. 55. № 4. P. 345—382; Barba E. The Paper Canoe. A Guide to Theatre Anthropology.
London, 1995; DanielE.V., PeckJ.M. Culture/Contexture — Explorations in Anthropology and Literature
Studies. Berkeley; Los Angeles; London, 1996.
объектом» является «именно человек», а «не факты как таковые и не научные
дисциплины с их границами, отделяющими одни факты от других и одни аспекты объекта
от других».
Призыв изучать человека, «исследовать других, но сквозь себя, преодолевать
субъективность восприятия с помощью субъективности же, но слегка иного рода: и "я", и
"другие" — одинаково "человек в его (субъективной) социально ориентированной
знаковой деятельности"» — звучит, конечно, и пылко, и политкорректно, но, на мой
взгляд, несколько утопично уже потому, что найдется тьма-тьмущая исследователей (и я
из их числа), которых волнует не «человек», а то, что имеет к нему какое-либо косвенное
отношение. В этом интересе, по моему убеждению, условность и относительность научного познания не предполагают необязательности дисциплинарных границ, а
подразумевают всего лишь понимание того обстоятельства, что любая из таких
дисциплин может мыслиться как дополнительная к другим наукам о человеке.
Академическая традиция в этих случаях является не обузой, а опорой в исследовании,
обеспечивая посильную экспертизу исследуемого объекта на территории взаимно
верифицируемых и преемственных по отношению друг к другу методов и «фактов», —
пусть мы и осознаем, что факт, по давнему замечанию Сьюзен Лангер, есть не более (но и
не менее) чем «интеллектуально сформулированное событие». Наглядности ради здесь
можно было бы привести такой пример: вероятно, всякий из нас согласится с тем, что
«человек производит и воспринимает ("потребляет") некоторые тексты». Но как данное
правило может быть методически приложимо к работе филолога, психолога, социолога и,
например, физиолога? Я полагаю, что плодотворность тех исследовательских
амплификаций, которые в этих случаях могут быть извлечены из этого правила,
заключаются в той мере обязательности, которые диктуют академические методики в
возможностях преимущественной фокусировки внимания на разных аспектах
человеческой активности — физическом состоянии человека, производящего и/или воспринимающего текст, психологических, экономических и медиальных обстоятельствах
отношения человека к тексту и собственно дискурсивной организации текста. Нужно ли в
этих случаях ждать, чтобы филолог сказал также и то, что должен сказать знаток
физиологии? Думаю, что нет, но вот указать, что здесь есть также и то, что входит в
компетенцию специалиста- физиолога и психолога, — он вполне может.
Явные или подразумеваемые похвалы по адресу пресловутого «смешения границ», по
моему мнению, лишают и само понятие «антропологического поворота» эвристического
смысла. В качестве теоретически значимого понятия «повороты» в науке обозначают
некие движения в сторону тематических или методологических ориентиров, указывая на
интерес гуманитариев к тем или иным новациям научной теории и практики — к
изучению поведенческих, социальных, медиальных, пространственных, эмоциональных
особенностей культурного потребления и человеческого взаимодействия. Это не
суматошное метание в разные стороны. В данном же случае «антропологический
поворот» подразумевает интерес к инодисциплинарным и разноконтексту- альным
аспектам изучаемых явлений и событий, условно объединяемых названием
«антропология» (которое не имеет в этих случаях строгой привязки к какой-либо одной
из многих наук антропологического именования, вероятно, потому же и не нашедших
себе дисциплинарно значимого места в прогнозируемых Поселягиным «рамках
поворота»). Поэтому и видеть в таком «повороте», как это делает автор обсуждаемой
статьи, знамение «методологии нарождающегося интеллектуального движения» —
значит, на мой взгляд, воскрешать пафос постперестроечной культурологии — научного
«тренда», объединившего различные направления и методы герменевтического
истолкования исторического и культурного опыта, но в конечном счете ставшего свалкой
дилетантских сочинений «на тему культуры».
Поиски ретроспективных оснований для такой методологии и того рискованнее: в
своей статье автор называет многих и многих зарубежных и отечественных гуманитариев,
которые только тем и едины, что они делали свое дело лучше других, детализуя и
разнообразя известное, приводя доводы и высказывая гипотезы, обновившие методики
традиционных научных дисциплин изнутри самих этих дисциплин. То же самое можно
сказать и о многих других авторитетных исследователях — филологах, историках,
социологах, антропологах, философах, упоминаемых и не упоминаемых Поселягиным в
качестве предшественников якобы наметившегося в России «антропологического
поворота». Могу представить, что сказал бы, например, покойный А.И. Зайцев (которого
Поселягин сравнивает с В.Э. Вацуро в их общем тяготении к истории), если бы услышал,
что его историко-культурные и филологические исследования характеризуются
«неопределенностью» «дисциплинарного статуса». Если такой статус кому и кажется
неопределенным, то лишь тем, кто полагает, что традиционные научные дисциплины
исключают какое-либо внутреннее развитие.
Не берясь судить о методологическом инструментарии, которым может обрасти
«антропологический поворот» в России (соображения Поселягина выглядят на этот счет
тем убедительнее, чем они неопределеннее), и о том, в чем он может выразиться в
организационно-академическом и педагогическом плане, я, во всяком случае, не хочу
расстаться с надеждой, что он не избавит филологов, историков и т.д. от необходимости
изучать основы и следовать правилам их собственных наук.
Опубликовано
в журнале:
Ханс Гюнтер
«НЛО» 2012,
Андрей Платонов sub specie anthropologiae
№113
версия для печати (89795)
«‹–›»
Ханс Гюнтер
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ SUB SPECIE ANTHROPOLOGIAE
Дискуссия об антропологическом повороте, представленном на страницах журнала
«Новое литератрное обозрение» в виде «мощного интеллектуального тренда в
гуманитарном мире ХХ века»78[1], а также «вызова» и многообещающего, но
«рискованного мышления»79[2], пока носит общий стратегический характер. Обсуждаются
общие линии развития разных гуманитарных наук, которые могут участвовать в
антропологическом проекте, их взаимоотношения и вопросы институционального
характера. Статья Н. Поселягина ставит более конкретный вопрос, какие современные
научные течения могут оказаться полезными с точки зрения антропологического подхода.
Речь идет об этнологии, семиотике, антропологии, истории и психологии, социологии,
нарратологии, анализе дискурсов и идеологий. Поскольку у антропологического подхода
нет своей специфической методологии, здесь часто заимствуются и комбинируются
методы других наук. Поэтому антропологический поворот определяется автором статьи
78[1] Прохорова И.Д. Новая антропология культуры: Вступление на правах манифеста // НЛО. 2009. №
100. С. 15.
79[2] Гумбрехт Х.У. Брать на себя риск (вместо становления «научным») // НЛО. 2010. № 106. С. 59.
не как «течение», а как «движение», то есть «комплекс взаимосвязанных течений с
некоторыми общими эпистемологическими установками».
Упоминаемый в статье констанцский сборник «The Anthropological Turn in Literary
Studies»80[3] состоит большей частью из case studies и не открывает особенных
теоретических перспектив. С этой точки зрения скорее представляют интерес
программные работы Вольфганга Изера, известного представителя так называемой
Констанцской школы рецепции, который, по-моему, первым заговорил о перспективе
антропологического поворота в Германии. Продолжая линию функционального анализа
литературы и воздействия на читателя, Изер видит главную задачу художественных
текстов в том, что они обогащают и формируют человеческое воображение,
приспосабливая его к практике повседневной жизни. Эту задачу литературные тексты
могут выполнять благодаря выключению практических принуждений вследствие доминантности эстетической функции. Изер считает, что «взаимодействие фикции и
воображения оказывается основой эвристики литературной ант- ропологии»81[4].
Размышления Изера о роли фикциональных текстов, без сомнения, представляют
теоретический интерес с точки зрения антропологической ориентации, однако возникает
вопрос, как философский дискурс можно транслировать в литературоведческую
практику.
Мне кажется, что в данной ситуации, когда мы приближаемся ощупью к вопросу
антропологического поворота, возможен подход к проблеме и с другой стороны. В
отличие от конструкций новой антропологической парадигмы, идущих «top to bottom», то
есть от общего к частному, я предлагаю попробовать противоположный индуктивный,
эмпирический путь, «bottom to top». Не претендуя на научную строгость и полноту, я в
дальнейшем перечислю лишь ряд работ об Андрее Платонове, которые по мотивике более
или менее соответствуют моему представлению об антропологическом направлении. Тем
самым, оставаясь в рамках настоящей дискуссии, мы сможем пролить дополнительный
свет на антропологические аспекты творчества Платонова и дать конкретный пример
возможного антропологического подхода.
Начну с вопроса экзистенциальных категорий, которые занимают видное место в
любом антропологическом дискурсе. С этой точки зрения особенный интерес
представляет статья Ю. Левина 1990 года82[5], в которой автор в эскизной форме
описывает
экзистенциальный
словарь
«Котлована».
Согласно
Левину,
экзистенциалистское мироощущение возникает в катастрофические моменты истории. В
статье упоминается Ж.-П. Сартр, но, без сомнения, имеется в виду и философия М.
Хайдеггера, чья книга «Бытие и время» вышла в свет в 1927 году, когда Платонов работал
над «Чевенгуром». В списке ключевых экзистенциальных категорий «Котлована»
фигурируют такие понятия, как смысл жизни, сиротство, забвение, истощение, слабость,
мучение, скука, тоска, горе, пустота, смерть и др. Не следует обязательно разделять
взгляды экзистенциалистской философии, чтобы понять, что с точки зрения
антропологического анализа таким ключевым понятиям в этом контексте отведено особое
значение.
Примечательно и то, что исследователи Платонова в течение двадцати лет уделяли
немало внимания именно этим категориям. Неудивительно поэтому, что имя Хайдеггера
не раз упоминается в научной литературе о Платонове. Например, Н. Григорьева
указывает на некоторые параллели в «маршрутах существования»83[6] Хайдеггера и
80[3] The Anthropological Turn in Literary Studies / Jurgen Schlae- ger (Ed.). REAL. Yearbook of Research in
English and American Literature. Vol. 12. Tubingen, 1996.
81[4] Iser W. Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1989. C. 273. (Перевод мой. — Х.Г.) К изложению теории автора в сжатой форме см.:
Towards a Literary Anthropology // The Future of Literary Theory / Ed. Ralph Cohen. New York; London,
1989. Р. 208—228.
82[5] Левин Ю. От синтаксиса к смыслу и далее («Котлован» А. Платонова) // Семиотика и
информатика. Вып. 30. М., 1990.
83[6] Григорьева Н. Маршруты существования у Мартина Хайдеггера и Андрея Платонова // Die Welt
der Slaven 52. 2007. H. 2. S. 261—280.
Платонова, а Т. Лане изучает в связи с «Котлованом» мотив «беспочвенности», общий для
обоих авторов84[7].
Любой из платоновских экзистенциалов обладает более или менее широким
диапазоном коннотаций, близких и далеких. Так, мотив сиротства у Платонова
рассматривается И. Спиридоновой в свете христианской культуры85[8], в то время как Н.
Полтавцева изучает сиротство у Платонова и Джойса в сравнительном ключе86[9]. Для Н.
Корниенко сиротство — «знак-символ разрушенной целостности национальной жизни и
обезбоженного мира»87[10]. Многогранное понятие сиротства является категорией русской
культуры, близкой безотцовщине, но в то же самое время означает общую
«вброшенность» (Хай- деггер) человека в мир, его бездомность и беззащитность в мире,
то, что Д. Лу- кач называет «трансцендентальной бесприютностью».
В произведениях Платонова часто прослеживается мотив тоски. Вспомним хотя бы
размышления Саши Дванова о вечере революции в «Чевенгуре». Теме революционной
меланхолии и тоски посвящена глава из книги Д. Флэтли88[11]. Как считает автор,
меланхолия выполняет роль «антидепрессивного механизма» в кризисном процессе
модерна. Меланхолическое настроение возникает на основе болезненного разрыва между
обещаниями модерной цивилизации и опытом разочарования. В «Чевенгуре» тоска и
скука многих героев, связанные с неудавшейся революцией, выражаются в стремлении к
дружбе чевенгурских товарищей.
Танатологическая тематика занимает у Платонова исключительно важное место. С
точки зрения антропологического дискурса здесь интересна не столько федоровская
проблематика бессмертия, сколько роль смерти в экзистенциальном и «онтологическом»
смысле. Именно последний аспект анализирует К. Баршт, который пишет, что у
персонажей Платонова нет страха перед смертью, потому что смерть считается
«возвращением умирающего в минеральное состояние»89[12]. На мифологические и
фольклорные корни концепции смерти у Платонова указывает А. Кулагина 90[13]. Вопрос
жертвенной смерти в «Котловане» рассматривается в статье Ю. Пастушенко 91[14].
Эволюция взглядов Платонова на смерть исследуется в книге О. Меерсон «Свободная
вещь»92[15].
Центральное место у Платонова занимают разные аспекты телесности. К. Баршт
рассматривает тему телесности как «явление вещественно-существенного мира»93[16], в
то время как автор этих строк обращает внимание на социальный аспект проблематики —
на вопрос целостности и увечности тела в условиях тоталитарного общества на материале
романа «Счастливая Москва» и рассказа «Мусорный ветер»94[17]. В другом ракурсе взгляд
Платонова на человеческое тело рассматривает К. Ливерс95[18], который прослеживает
эволюцию платоновской антропологии на протяжении 1920—1930-х годов. Его интересует переход от утопического аскетизма и ущемления телесности ради революционных
84[7] Лане Т. Беспочвенность как основа // НЛО. 2011. № 111. С. 106—112.
85[8] Спиридонова И. Мотив сиротства в «Чевенгуре» А. Платонова в свете христианской традиции //
Евангельский текст в русской литературе ХVШ—ХХ веков. Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 514—536.
86[9] Полтавцева Н. Мотив сиротства как проблема культуры у Платонова и Джойса (Саша Дванов и
Стивен Деда- лус) // Творчество Андрея Платонова. Кн. 3. СПб., 2004. С. 263—280.
87[10] Корниенко Н. История текста и биография А. П. Платонова (1926—1946) // Здесь и теперь. Т. 1. М.,
1993. С. 120.
88[11] FlatleyJ. Andrei Platonov's Revolutionary Melancholia. Friendship and Toska in «Chevengur» // Flatley
J. Affective Mapping. Melancholia and the Politics of Modernism. Cambridge, Mass.; London, England:
Harvard University Press, 2008. P. 158—190.
89[12] Баршт К. Поэтика прозы А. Платонова. СПб., 2000. С. 32.
90[13] Кулагина А. Тема смерти в фольклоре и прозе А. Платонова // «Страна философов» Андрея
Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М., 2000. С. 345—357.
91[14] Пастушенко Ю. Поэтика смерти в повести «Котлован» // «Страна философов» Андрея
Платонова: Проблемы творчества. Вып. 2. М., 1995. С. 191 — 197.
92[15] Меерсон О. Свободная вещь. Поэтика неостранения у А. Платонова. Berkeley, 1997. С. 102—126.
93[16] Баршт К. Мотив телесности в прозе Андрея Платонова // Русская литература. 2001. № 3. С. 61.
94[17] Гюнтер Х. По обе стороны от утопии. Контексты творчества Андрея Платонова. М., 2011. Глава:
Время увечных инвалидов. С. 162—169.
95[18] Livers K. Scatology and Eschatology: The Discovery of the Flesh in Andrei Platonov's «Happy Moscow»
// Slavic Review. Vol. 59. 2000. № 1. P. 154—182; Idem. Constructing the Stalinist Body. Fictional
Representations of Corporeality in the Stalinist 1930s. Lankam; Boulder; New York; Toronto; Oxford, 2004.
Chapter 1: Turning Men into Women: Andrei Platonov in the 1930s.
установок к принятию биологической основы человеческой жизни. Этот переход у
Платонова связан с гендерным сдвигом, с переходом от мизогинии 1920-х годов к
«биофильскому» отношению к жизни, которое, по Платонову, связано с женским полом.
Подобным образом Ф. Буллок в своей книге «The Feminine in the Prose of Andrei Platonov»
исследует разные этапы употребления женской образности, которые отражают отношение
автора к советской культуре и к утопическому мышлению96[19].
Развитие Платонова от утопического отрицания полового влечения к его принятию в
таких повестях, как «Река Потудань» или «Фро», описывается Э. Найманом с точки
зрения сексуальности97[20]. О «реабилитации семейной любви» в повести «Фро» пишет А.
Жолковский98[21]. Изменению взглядов Платонова на половой вопрос посвящена и статья
С. Семеновой99[22], в которой она — обойдя фрейдистскую терминологию американских
исследователей — исследует претворение половой эротики в дружество и товарищество в
«Чевенгуре» и дальнейший сдвиг авторского отношения к любви и полу в повестях
«Джан» и «Река Потудань».
Другой аспект сексуальности в текстах Платонова находится в центре внимания работ
А. Ханзен-Лёве, в которых отрицание телесной любви рассматривается на фоне
сектантского — и федоровского — аскетизма100[23]. Ханзен- Лёве включает
«антигенеративиный» принцип Платонова в теоретическую концепцию, в которой
противопоставляются две линии в развитии романа — генеративный, семейный роман (по
образцу «Войны и мира») и антигенеративный тип творчества в диапазоне от Стерна
(«Тристрам Шенди») до Достоевского («Подросток»). Автор развертывает свою
аргументацию на материале платоновской повести «Антисексус» и романа
«Чевенгур»101[24].
С телесностью связаны мотивы пустоты и пищи, которым Платонов уделяет немало
внимания. Л. Карасев анализирует оппозиции вещества и пустоты и верха и вниза102[25], то
есть головы и живота, в сравнительном анализе Платонова и Достоевского. Н. Злыднева
указывает на тесную связь мотива пустоты с животом, который, по мнению автора,
представляет у Платонова «центральный орган человеческого организма»103[26]. Н.
Друбек-Майер рассматривает «пустоту в кишках»104[27] в «Счастливой Москве» на фоне
мифологической традиции софийности. На материале того же романа М. Дмитровская
показывает, что рассуждения Платонова об отношении тела и души представляют
травестийное изложение мысли Платона о сходстве между душой и животом, которые
одинаково нуждаются в постоянном заполнении105[28].
Мотиву пищи посвятила несколько статей Э. Рудаковская. Она считает, что пища
является «медиатором между физиологическим и духовным»106[29], поскольку
соответственное слово церковнославянского происхождения обладает одновременно
абстрактным и конкретным значениями, в результате чего можно говорить как о сытости
96[19] Bullock Ph. The Feminine in the Prose of Andrey Platonov. Oxford, 2005.
97[20] Andrei Platonov and the inadmissibility of desire // Russian Literature. Vol. 23. 1988. № 4. Р. 319—365.
98[21] Жолковский А. Душа, даль и технология чуда (Пять прочтений «Фро») // Лндрей Платонов. Мир
творчества. М., 1994. С. 373—396.
99[22] Семенова С. «Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и пол) // Андрей Платонов. Мир
творчества. C. 122—153.
100[23] Следует отметить, что сектантский аскетизм примыкает к аскетизму революционного типа,
который требует направления сексуальной энергии на общественно полезные задачи. О негации
физической близости между полами в романе «Чевенгур» см.: Гюнтер Х. Указ. соч. С. 133—144.
101[24] Hansen-Love A.A. «Антисексус» Платонова и антигенеративная поэтика // Wiener Slawistischer
Almanach. Vol. 63. 2009. S. 167—190; Idem. Platonov's «Chevengur» Between Estrangement and
Compassion // Ulbandus. The Slavic Review of Columbia University. Vol. 14. 2011. № 12 (в печати).
102[25] Карасев Л.В. Движение по склону. О сочинениях А. Платонова. М., 2003. С. 43—50, 78—103.
103[26] Злыднева Н. Мотивика прозы Андрея Платонова. М., 2006. С. 65.
104[27] Друбек-Майер Н. Россия — «пустота в кишках мира». «Счастливая Москва» (1932—1936 гг.) А.
Платонова как аллегория // НЛО. 1994. № 9. С. 253—268.
105[28] Дмитровская М. Философский контекст романа А. Платонова «Счастливая Москва» (Платон,
Аристотель, О. Шпенглер) // Russian Literature. Vol. 46. 1999. № 2. С. 140—142.
106[29] Рудаковская Э. К семантике пищи в рассказах Платонова второй половины 1930—1940-х гг. //
«Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5. М., 2003. С. 242. О том же см.
и другие статьи автора: «Сытость души». Тема «пищи» в романе А. Платонова «Чевенгур» //
Структура текста и семантика языковых единиц. Калининград: Изд-во Калининградского гос.
университета, 2001. С. 42—57; Семантика пищи в повести А. Платонова «Котлован» // Балтийский
филологический курьер (Калининград). 2003. № 3. С. 58—69.
тела, так и о сытости души. Исходя из результатов этих работ, я рассматриваю оппозицию
голода и сытости как структурообразующий принцип, который в своих семантических
разветвлениях скрепляет каркас «Чевенгура»107[30].
Особенное внимание Платонов уделял отношению человека к «братьям нашим
меньшим» — детям и животным. Начиная с раннего «Рассказа о многих интересных
вещах», Платонов высказывает убеждение, что изнутри каждого животного «выглядывает
человек, ум и счастье которого заперты в темнице жестокой природы»108[31]. Он даже
выражает утопическую мысль, что эволюция животных при социализме достигнет
человеческого уровня. О. Тимофеева подвергает критике преобладающее в европейской
философской традиции учение о том, что между миром животных и миром человека
лежит непреодолимая пропасть109[32]. О родственных отношениях между животными и
людьми пишет и К. Баршт, подчеркивающий, что у Платонова переходы между
человеком, животным, растением и минеральным веществом — лишь градуальные110[33].
Платонов придерживается в этом вопросе позиции, которую занимали также художники
Франц Марк и Павел Филонов или такие поэты, как Хлебников и Заболоцкий. На этом
фоне у Платонова возникают разные виды антропоморфности и метаморфоз —
прогрессивные, в которых речь идет о приближении животных к человеку, и
регрессивные, в которых происходит обратная эволюция человека на уровень животного
(например, в «Мусорном ветре»)111[34].
Не удивительно, что Платонов уделяет большое внимание ребенку как существу,
близкому животному. Анализируя детскую интонацию в поздних рассказах Платонова
для детей, Т. Зейфрид подчеркивает одну черту, которая характерна для образа ребенка у
Платонова, — незащищенность и как результат виктимизация ребенка112[35]. Л. Карасев
обращает внимание на детское поведение и мироощущение многих героев Платонова и на
тот факт, что они часто мысленно возвращаются в детство 113[36]. Столь распространенные
мотивы детскости у Платонова указывают на остраняющую функцию непосредственного,
невежественного взгляда на реальность114[37]. Отношение Платонова к «презренной
твари» и ко всем, кто смотрит на мир глазами «нищих духом», является существенной
чертой его мировоззрения. Если говорить о примитивизме Платонова в стилевом
отношении, то можно было бы с полным правом констатировать и известный
примитивизм в сфере его антропологических воззрений. Во многих его произведениях
культура примитива и невежества противопоставляется культуре ума, письма и
государственности.
В свете антропологического фокуса определенные черты платоновского творчества
выступают еще более рельефно115[38]. Наряду с образом утописта, критика утопии и
писателя, подвергающего язык и опыт советской эпохи художественной обработке, перед
нами предстают контуры автора, притягивающего к себе интерес исследователей общих
вопросов человеческого существования и основных экзистенциалов. Антропологический
подход может открыть новые горизонты в анализе платоновского творчества, поскольку
он обращает наше внимание на тот факт, что Платонов не только писатель «русской»
тематики, но художник, входящий в широкий контекст мировой литературы и культуры
ХХ века.
107[30] См.: Гюнтер Х. Указ. соч. С. 123—132. Глава: Голод и сытость в «Чевенгуре».
108[31] Тимофеева О. Бедная жизнь: зоотехник Високовский против философа Хайдеггера // НЛО. 2010.
№ 106. С. 103.
109[32] Тимофеева О. Зверинец духа // НЛО. 2011. № 107. С. 164— 175.
110[33] Баршт К. Человек, животное, растение, минерал. Антропологическая коцепция А. Платонова //
Europa orientalis. Vol. 19. 2000. C. 97—168.
111[34] Гюнтер Х. Указ. соч. С. 145—161. Глава: «Смешение живых существ» — человек и животное у А.
Платонова. Ср. аналогичную концепцию дегрессии в стихотворении О. Мандельштама «Ламарк».
112[35] Seifrid Th. Literature for the Masochist: «Childish» Intonation in Platonov's Later Works // Wiener
Slawistischer Almanack Sonderband. Vol. 31. 1992. S. 463—480.
113[36] Карасев Л. Указ. соч. С. 9—37. Глава: Знаки покинутого детства.
114[37] Гюнтер Х. Указ. соч. С. 105—120. Глава: Мир глазами нищих духом.
115[38] Среди недавних работ в контексте антропологии литературы, посвященных Платонову, особого
внимания заслуживает также философский анализ В. Подороги «Евнух души: "Революционные
машины" и литература А. Платонова» из книги: Подорога В. Мимесис: Материалы по аналитической
антропологии литературы. М.: Культурная революция, 2011. С. 239—422. — Примеч. ред.
Опубликовано
в журнале:
Николай Поселягин
«НЛО» 2012,
Re
№113
версия для печати (89796)
«‹–›»
Николай Поселягин
RE
Прежде всего мне хотелось бы поблагодарить всех участников этой горячей дискуссии —
продемонстрировавшей большую концептуальную насыщенность, затронувшей целый
ряд проблемных точек современной гуманитари- стики и, на мой взгляд, получившейся
гораздо интереснее и богаче, чем статья, которая послужила формальным поводом для ее
возникновения. Решив выступить в популярном сейчас жанре «вместоманифеста», я знал,
что совершаю, по сути, авантюру: мне ли, еще полтора года назад участвовавшему только
в молодежных конференциях, провоцировать научную общественность на большие
диспуты? Однако мне повезло — провокация удалась.
Довольно трудно писать общий ответ на все двенадцать отзывов — если бы это было
возможно, логичнее было бы представить двенадцать ответов (а точнее — реплик в
диалоге, потому что жанр «ответа», вообще говоря, предполагает определенную
завершенность коммуникации, подведение итоговой черты, что в данном случае было бы
немного неуместно: настолько разными оказались эти отклики). И не только по
тональности, но, главное, по затронутой проблематике. Отчасти в этом повинен и мой
«вместоманифест», который начался, собственно, текстом манифестарного характера,
продолжался разрозненными футурологическими заметками, а закончился патетической
проповедью личностной субъективности (не будучи уверенным, какой из этих жанров
скорее инициирует дискуссию, я разом выбрал все). Однако, к счастью, разность отзывов
— иного рода: не разностильность, а разнообразие; здесь и рассуждения о формах
взаимоперевода гуманитарных и социальных наук (и о необходимости такого
взаимоперевода в принципе), и ревизия интеллектуального наследия, и поэтика +
политика культуры, и просто политика, и критический анализ «научного быта» (включая
способы саморепрезентации гуманитариев в современном мире), и наблюдения над
идеологическим субстратом любой деятельности (социальной, научной или даже моей
собственной), и дискурсивный и отчасти психологический портрет научного провинциала
и провинциализма (опять-таки — социальный/российский, научный/славистический и
т.д.), и прочерчивание дальнейших перспектив развития науки... Среди участников — не
только филологи (хотя филология в дискуссии, по справедливому замечанию Ильи
Калинина, «выступает как синекдоха, возможно, наиболее репрезентативная для гуманитарного знания в целом»), но и философы, историки, социологи, антропологи. Поэтому
все, что мне остается в моей реплике, — это ограничиться отдельными разрозненными
наблюдениями наподобие заметок на полях. Обо всем в одних стихах не скажешь.
Во-первых, бросается в глаза, что практически никто из участников не подверг
сомнению правомерность самого поворота — как бы его ни называли и что бы под ним
ни подразумевали. В самом деле, был предложен целый спектр вариантов дальнейших
действий — от фронтальной переквалификации гуманитарных дисциплин в социальные в
прагматистском ключе (Кевин Платт) до смены исследовательской оптики: с
рассмотрения ригидных абстрактных схем к анализу конкретных непосредственных
действий, языковых и поведенческих (Борис Гаспаров). Спектр столь широкий, что в
рамках единой эпистемологической модели их объединить, вероятно, невозможно, да
вряд ли и нужно. Однако все их оказалось возможно проговаривать под общей маркой
«антропологического поворота». Получается, что уже сейчас можно сделать вывод, что
эта марка обладает определенной эвристической ценностью и потенциалом.
Единственным исключением здесь выглядит, кажется, комментарий Дины Гусейновой,
однако и он, скорее, направлен против «антропологического поворота» как
идеологического конструкта, навязываемого в качестве знамени, — а не против этого
движения как такового. Предположу, что, если поворот будет развиваться не по «моей»
нормативной модели, а по «стихийной» модели, близкой к тем, о которых говорят Сергей
Ушакин и Ханс Гюнтер, — это вряд ли вызовет отторжение у любого участника
дискуссии, да и у большинства читателей, скорее всего, тоже. Ведь достаточно
показательно, что Константин Богданов и Александр Панченко в своих
бескомпромиссных, но весьма справедливых статьях даже считают нужным «защитить»
антропологический поворот от меня. В свою очередь, в этой реплике мне меньше всего
хотелось бы настаивать на самоценности моего прогноза. В конце концов, если
антропологический поворот состоится не в таком виде, в каком я его изобразил, — это
будет только лучше: нормативное прописывание канонов и директивное распределение
ролей, которое оказалось эвристически исключительно удобным для манифеста-провокации, задевающего разом целый ряд болевых точек гуманитарных наук, приобрело бы
зловещий оттенок, если бы было принято на вооружение как прямая программа действий.
Здесь я с опасениями Александра Панченко вполне солидарен.
Второй момент, который меня заинтересовал при чтении дискуссии, — это то, что
практически все участники готовы признать, что гуманитарные науки сейчас находятся в
глубоком системном кризисе. Разумеется, за последние лет тридцать этот факт перестал
быть новостью, однако то, что в последние три года он вновь стал остро актуален, очень
показательно. Для примера, в «НЛО» за последние тринадцать номеров появилось сразу
три открытых выступления о судьбах филологии и гуманитарных наук в целом — Ирины
Прохоровой, Кевина Платта и Сергея Козлова (а также дискуссии, вызванные ими); даже
для «НЛО», которое всегда было богато на высказывания методологического и теоретикопрогностического характера, это весьма высокий процент (манифест каждые полгода). И
дело здесь, по всей видимости, не только и не столько в падении статуса гуманитарных
наук и, как следствие, их финансирования.
В качестве иллюстрации приведу один частный пример. С 2008 года немецкий судья
Кристоф Мангельсдорф выступает с инициативой, чтобы малолетних преступников,
совершивших нетяжкие преступления, наказывали чтением: виновные в воровстве и
драках должны не заборы красить, а покупать и читать художественную литературу,
делая подробные конспекты; после этого они также обязаны пройти собеседование со
специалистом, который проверит степень «усвоения материала». Казалось бы, для
филолога в эпоху (внешнего) кризиса — работа вполне подходящая: можно продолжать
работать с текстами и одновременно оставаться полезным для общества, да и статус
какой-никакой останется — пусть не жреца в Храме Науки, но по крайней мере инженера
малолетних человеческих душ (а там и до формирования нового литературного канона, в
общем, недалеко). Однако я сильно сомневаюсь, чтобы участников и подавляющее
большинство читателей эта инициатива вдохновила. И дело здесь, я подозреваю, не
только в сомнительной этической подоплеке проекта, когда словесность превращается в
изящный репрессивный аппарат.
Однако ощущение кризиса все-таки присутствует на журнальных страницах, причем в
последние несколько лет — все более эксплицитно, и дело именно в «кризисе жанра», во
внутреннем identity crisis — когда у пациента и умереть, и выздороветь не получается.
Здесь не место ставить диагнозы, к тому же мне не хочется конкурировать с тонкими и, на
мой взгляд, весьма точными интерпретациями ситуации, предложенными Максимом
Вальд- штейном, Ильей Калининым и Сергеем Ушакиным — равно как и участниками
предыдущих подборок. Что меня заинтересовало (и вызвало эту «заметку на полях») —
так это мелькающие вскользь наблюдения о политической составляющей дискуссии; как
замечает Борис Гаспаров, «начинает казаться, что само общество стоит на пороге
"антропологического поворота"».
Возможно, с этим же связано и то, что одним из лейтмотивов настоящей подборки
является «идеология» — от замечаний, что в моей «аллее звезд» полностью пропал
марксизм, до подозрительного отношения к моему тексту как к идеологическому
конструкту (особенно у Дины Гусейновой и Кирилла Кобрина). Разумеется, никто не
станет отрицать у меня определенной идеологии в широком смысле — то есть некоторого
набора представлений, обусловливающих мое поведение и мировосприятие, — и
отражения такой идеологии в тексте (собственно, в любом); однако у Гусейновой и
Кобрина идеология понимается в более узком, но более привычном политическом измерении. При этом, насколько я могу восстановить в памяти дискуссии рубежа 1990—
2000-х, тогда даже самые горячие бои шли в пределах научного поля, политика
оставалась политикой, не обладая для гуманитариев достаточным весом, чтобы быть
включенной на равных во внутрикорпоративные дела. Сейчас что-то меняется. Что
именно это такое и к чему оно приведет, рассуждать не берусь, однако отмечаю симптом
как весьма любопытный.
Еще одно любопытное наблюдение — то, как мой текст встраивается участниками
дискуссии в проблемное поле российской филологии. Вообще говоря, на то он и был
написан; однако интересно то, к каким именно фазам отсылают авторы откликов. Здесь и
аморфная предформалистская история литературы (Марк Липовецкий), и формальная
школа (Калинин), и догматический и иерархизированный официальный советский
марксизм (фактически — Панченко), и структуралистский Sturm und Drang 1970—1980-х
годов (вновь Липовецкий), и постперестроечная культурология (Богданов), не говоря уже
об академической традиции и о филологических спорах о научности последних
пятнадцати лет (большинство участников). Не во всех случаях мой текст является
эпифеноменом той или иной фазы; не всегда та или иная фаза оценивается отрицательно;
наконец, не всегда я выступаю как единственный или ключевой трикстер (закономерно
цитируются Платт и Козлов, которые, собственно, и вывели разговор об
антропологическом повороте на уровень большой дискуссии, где я являюсь только
продолжателем, причем, подозреваю, не последним). Однако само обращение участников
дискуссии сразу ко всей филологической традиции в России весьма показательно, равно
как и призывы к ревизии этого наследия — причем, в отличие от 1990-х, к ревизии не
«вообще», а с определенных конкретных позиций. Не менее знаковым может являться и
то, что эта традиция предстает в виде дискретной последовательности узлов, или, если
угодно, болевых точек, одни из которых представляют собой до сих пор
недоосмысленное и недоусвоенное, а другие — наоборот, недопреодоленное наследство.
Сходным образом выглядят и указания, на какие научные школы и направления
сторонникам антропологического поворота стоило бы обратить внимание. Безусловно, я
сам своей «галереей замечательных людей» и вызвал отчасти такой способ организации
ответных повествований; однако достаточно показательной может быть та легкость, с
которой «статичный» принцип был подхвачен. Особенно это становится заметным на
фоне описания эволюции немецкой историографии (Гусейнова) и современного
состояния гуманитарных наук в Германии (Ни- колози) как динамических процессов, а
также двух «кластеров», исконно индийского постколониализма и советского
конструктивизма, которые — также в виде наблюдаемого становления — рассматривает
Ушакин. Таким образом, намеченная Гаспаровым инверсия между генерализующими
схемами и непосредственными действиями как базовыми vs. вторичными финальными
объектами до сих пор дает сбой, когда мы говорим о российской филологии — но не о
российском архитектурном авангарде, к примеру.
(Впрочем, делать широкомасштабные выводы на материале двенадцати тематически
связанных статей — дело зыбкое. Вполне вероятно, что эта экстраполяция больше
говорит обо мне, чем о той ситуации, которую я пытаюсь прочесть «за текстом».)
Вышесказанное, конечно, не должно означать, что я не согласен с теми, кто предлагает
скорректировать вектор поворота, не забыть одни теоретические комплексы и посерьезнее
задуматься над употреблением других. Наоборот — я благодарен всем, кто предложил
свои версии и корректировки, и понимаю, что все неточности и «заносы на поворотах»
остаются всецело на моей совести.
Вместе с тем у меня сложилось впечатление, что в части откликов эта моя недоделка
трактуется также как символическая иллюстрация положения дел в отечественной
филологии. О провинциализме русской гуманитарной сферы в течение дискуссии
говорили много, и с большинством наблюдений и выводов я согласен. Единственное, что
хотелось бы уточнить, — это примечание в начале статьи, где я говорю о том, что
ограничиваю себя рамками только российской гуманитаристики. Это примечание (и само
ограничение) вызвано было исключительно страхом разговора о тех традициях (культурных, но совпавших в данном случае с национальными), о которых я имею слишком
фрагментарное представление, так что даже на провокативный вызов моих знаний вряд ли
бы хватило. Тем не менее это было воспринято (Кевином Платтом) как пафос
утверждения инсайдерской позиции как единственно правильной. Сожалею, что мои
формулировки позволили сделать такой вывод, вообще-то противоположный моим
интенциям. Для меня замкнутое в себе инсайдерское сообщество — это прямая дорога к
тому самому провинциализму и изоляционизму, самодостаточному застою, против которого в конечном счете был направлен мой пафос и с которым я по мере сил пытаюсь
бороться в себе самом. Наоборот, теоретически оснащенный аутсайдер, на мой взгляд, —
одна из наиболее продуктивных моделей поведения ученого-гуманитария (а может быть,
и ученого вообще), и если ставить целью преодоление дисциплинарных границ, то
начинать надо именно с коррекции его исследовательской оптики. А отнюдь не с подрыва
основ гуманитарных наук — иначе, действительно, подрывник так и останется внутри
колеса, вращение которого происходит на одном месте с неясной целью и сопровождается
бессмысленными растратами любых видов капитала — и символического, и финансового.
Заканчивать эти разрозненные субъективные заметки на минорной ноте мне бы, однако,
не хотелось. К счастью, как я уже говорил, — мой текст оказался не причиной, а поводом
для дискуссии, на которой был предложен целый ряд позитивных программ, от
глобальной переориентации на текучесть действительности у Бориса Гаспарова до
организации сети научных семинаров у Кирилла Кобрина. Будут ли они объединяться под
именем антропологического поворота или какого-либо другого — мне кажется, вопрос
сейчас хотя и весьма важный, но все-таки второй. А первостепенным, на мой взгляд, в
данный момент является призыв Максима Вальдштейна — «засучить рукава и пахать»,
или, по заимствованной у Виктора Шкловского формулировке Сергея Ушакина, «время
вбрасывать мяч».
Тогда, я надеюсь, поворот уже более не будет казаться схематизированной
идеологемой, столь же таинственной, сколь и подозрительной, но в то же время не
сделается и безальтернативной «большой парадигмой», — а предстанет как... Нет. Стоп.
Для того чтобы дискуссия продолжалась и дальше, сейчас уместнее всего будет поставить
многоточие на этом примечании к прогнозам научной погоды.