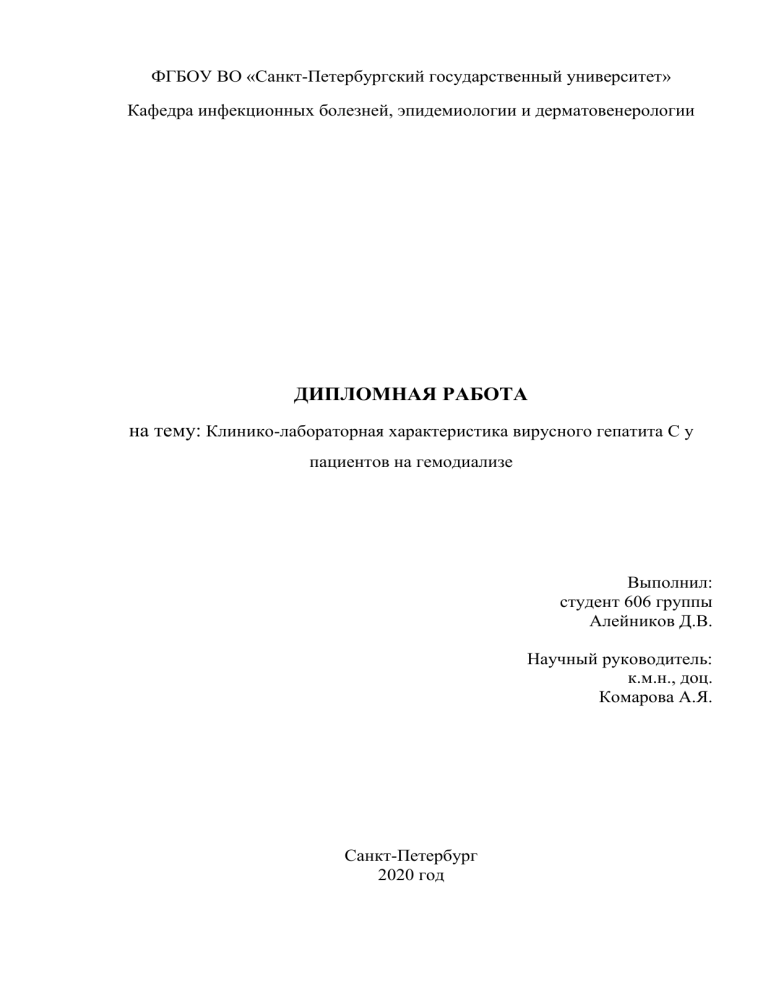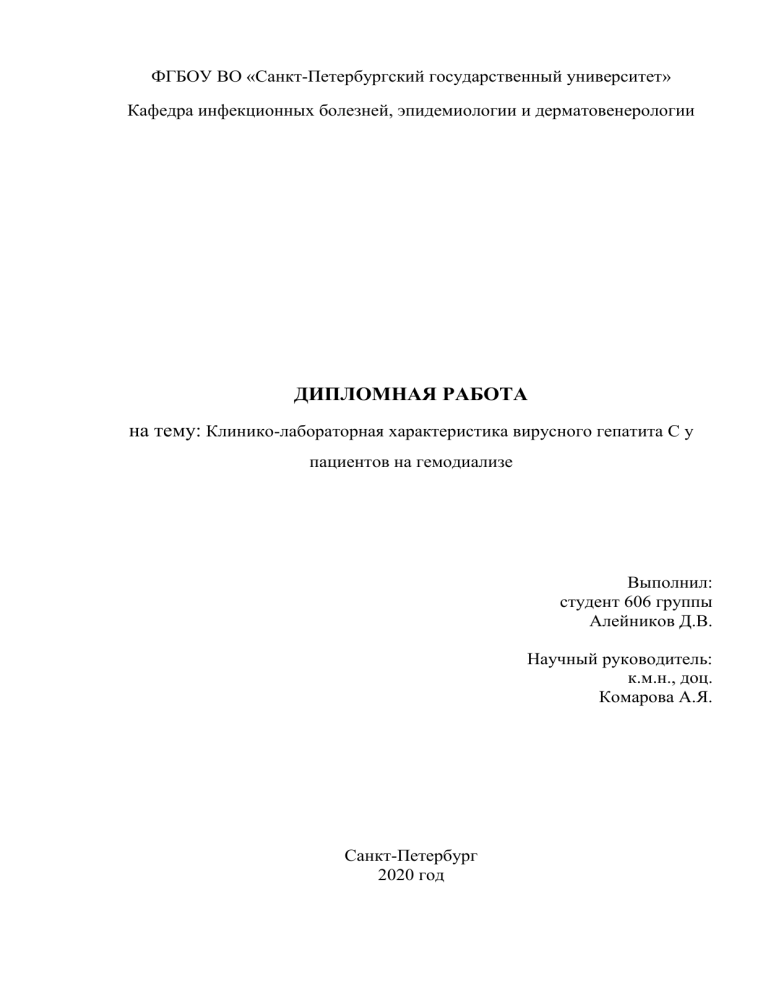
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
на тему: Клинико-лабораторная характеристика вирусного гепатита С у
пациентов на гемодиализе
Выполнил:
студент 606 группы
Алейников Д.В.
Научный руководитель:
к.м.н., доц.
Комарова А.Я.
Санкт-Петербург
2020 год
Оглавление
Список сокращений................................................................................................3
Введение..............................................................................................................4
1.Этиология вирусного гепатита С........................................................................7
1.1. Строение вируса гепатита С, его гены и их функции...................................7
1.2. Генотипы и подтипы ВГС, их клиническое значение................................11
2. Эпидемиология вирусного гепатита С..........................................................13
2.1. Пути инфицирования вирусным гепатитом С, группы риска и
скрининга...............................................................................................................17
3. Методы диагностики вирусного гепатита С................................................20
4. Клиническое течение вирусного гепатита С................................................25
4.1. Острый вирусный гепатит С......................................................................26
4.2. Хронический вирусный гепатит С.............................................................28
5. Общая характеристика больных гепатитом С в России...............................31
6. Современная противовирусная терапия гепатита С.....................................34
6.1. Лечение острого вирусного гепатита С......................................................35
6.2. Лечение хронического гепатита С..............................................................36
7. Особенности гепатита С у пациентов на гемодиализе................................38
Заключение.......................................................................................................40
Выводы.............................................................................................................44
Список литературы...........................................................................................45
Приложения......................................................................................................56
2
Список сокращений
АЛТ — аланинаминотрансфераза
АСТ — аспартатаминотрансфераза
ВГВ – вирус гепатита В
ВГС – вирус гепатита С
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ГГТП – гамма-глутамилтранспептидаза
ГЦК – гепатоцеллюлярная карцинома
ИФА – иммуноферментный анализ
ОГС – острый гепатит С
ПБП – пункционная биопсия печени
ПВТ – противовирусная терапия
ПППД – пангенотипные препараты прямого противовирусного действия
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РНК – рибонуклеиновая кислота
СВО – стойкий вирусологический ответ
УЗДГ – ультразвуковая допплерография
УЗИ – ультразвуковое исследование
ХГВ – хронический гепатит В
ХГС – хронический гепатит С
ЦП – цирроз печени
3
Введение
Вирусный гепатит С – одно из самых распространенных заболеваний
печени, как в Российской Федерации, так и во всём мире. Он характеризуется
широкой распространённостью, длительным латентным течением и высокой
частотой развития неблагоприятных исходов – таких, как цирроз печени и
гепатоцеллюлярная карцинома.
В этиологической структуре впервые зарегистрированных случаев
хронических гепатитов преобладает хронический гепатит С. В Российской
Федерации, с 1999 г. по 2018 г. доля ХГС среди заболеваемости
хроническими гепатитами возросла с 54,8 % до 77,6 %, при этом доля ХГВ
снизилась с 38,0 % в 1999 г. до 21,5 % в 2018 г. [1]. Во всём мире, по оценкам
ВОЗ, ежегодно регистрируется 1.75 миллиона новых случаев инфицирования
гепатитом С, 23% случаев инфицирования и 33% смертности связаны с
употреблением инъекционных наркотиков [2].
Латентное течение гепатита С возникает в приблизительно 80% случаев
инфицирования [3], что вызывает проблемы в своевременном выявлении и
лечении таких пациентов. К сожалению, кроме непосредственной угрозы для
самих больных, они становятся источниками инфекции для других лиц.
Также, при латентном течении, происходит морфологическая перестройка
печени, вплоть до фиброзирования, которое у наркопотребителей с ХГС
выражено сильнее, чем у лиц, не употребляющих наркотические препараты
[4]. ХГС является причиной 27% случаев цирроза печени и 25% случаев
возникновения гепатоцеллюлярной карциномы [5]. Среди пациентов до 40
лет, всё большее распространение получает т.н. «микст-инфекция», чаще
всего представляющая собой сочетания ВГС и ВИЧ-инфекции, а также ВГС
и ВГВ. Одним из объяснений этого факта может служить наибольшая
частота таких случаев у лиц, практикующих внутривенное использование
наркотических препаратов. Показано, что сочетание ВГС и ВГВ увеличивает
4
риск возникновения гепатоцеллюлярной карциномы при развивающемся
циррозе печени [6].
Диагностика ВГС на сегодняшний день тоже сопряжена с рядом проблем.
Одним из основных методов, применяющихся при диагностике ВГС является
серодиагностика. Однако, антитела на ранних стадиях заболевания не
определяются (т.н. фаза «серонегативного окна»), причем в некоторых
отдельных случаях этот срок может составлять несколько месяцев. Также,
ложноотрицательным
иммунодефицитом.
может
Кроме
того,
быть
результат
вирус
у
пациентов
с
гепатита С имеет штаммы,
отличающиеся друг от друга, а также способен быстро мутировать. Это не
только
обусловливает
возможность
ложноотрицательных
результатов
диагностики, но и затрудняет создание эффективной вакцины.
На сегодняшний день известно 7 основных генотипов ВГС, которые, в
свою очередь, разделяются на 84 известных подтипа. По нуклеотидной
вариабельности основные генотипы ВГС различаются приблизительно на
30%, подтипы внутри генотипа – на 15% [7]. Каждый из подтипов ВГС
имеет свои особенности патогенеза и путей передачи. Следует отметить, что
инфицирование одним штаммом ВГС не даёт иммунитета против заражения
другим, таким образом возможно заражение двумя или более штаммами ВГС
одновременно. Определение генотипа ВГС имеет большую значимость для
прогнозирования исхода заболевания и разработки оптимальной схемы
лечения у каждого конкретного пациента. Необходимо учитывать, что ВГС
обладает довольно слабой иммуногенностью, в силу чего способен к
повторному инфицированию людей, переболевших им в острой фазе и
выздоровевших. Доказано, что уже через 3 года после выздоровления 60%
переболевших не имеют антител к антигенам ВГС, а титр антител у других
40% имеет тенденцию к неуклонному снижению [8][9].
К сожалению, несмотря на успехи и развитие современной науки, многие
аспекты патогенеза, диагностики и терапии ВГС остаются неясными. До сих
5
пор не создано единой концепции патогенеза ВГС, а также до конца не
определен механизм, повреждающий гепатоциты. Неясными остаются
факторы, в зависимости от которых возникают разные исходы ОГС –
хронизация или выздоровление. Многие учёные полагают, что главным
фактором здесь выступает нарушение Т-клеточного ответа [10]. Неполными
остаются и знания о белках ВГС, что связано с невозможностью
размножения ВГС в клеточных культурах, низкой концентрацией его в
крови,
а
также
липопротеинами
с
его
крови
и
расшифровка белков ВГС
способностью
образовывать
антителами
[8][11].
необходима для
комплексы
Полная
создания
с
структурная
лекарственных
препаратов и средств профилактики в будущем.
ВГС представляет определённую угрозу для пациентов отделений
гемодиализа
в
силу
гемотрансфузиях и
высокой
вероятности
инфицирования
при
подключению к аппарату искусственной почки.
Выполнение санитарно-гигиенических правил особенно необходимо в таких
случаях.
Нельзя не упомянуть и о том, что гепатит С является еще и социально
значимым заболеванием.
Многие больные зачастую сталкиваются с
социальной стигматизацией, дискриминацией, что в дальнейшем приводит к
социальной дезадаптации. Таким образом, гепатит С остаётся одной из
наиболее актуальных проблем современной науки и медицины.
Целью данного исследования стало: представить клинико-лабораторную
характеристику ВГС на современном этапе на основе данных литературы.
Задачи исследования:
– оценить особенности строения и свойств вируса гепатита С;
– на основании эпидемиологических данных оценить актуальность вирусного
гепатита С;
6
– изучить наиболее характерные клинические и лабораторные проявления
вирусного гепатита С;
– определить показания к ПВТ и рассмотреть основные современные схемы
лечения;
– изучить клинические и лабораторные особенности вирусного гепатита С у
пациентов на гемодиализе.
1. Этиология вирусного гепатита С
1.1. Строение вируса, его гены и их функции
Гепатит С
– вирусное антропонозное заболевание, вызываемое РНК-
содержащим вирусом рода Hepacivirus семейства Flaviviridae. Поиск
возбудителя гепатита «ни А ни В» начался во второй половине 1970-х годов,
после выявления случаев гепатита у лиц, которым проводилось ранее
переливание донорской крови, причем маркеры инфицирования гепатитами
А или В у таких людей отсутствовали. В 1978 году были опубликованы
результаты опытов на шимпанзе, в ходе которых обезьянам переливали
сыворотку крови от больных гепатитом «ни А ни В», в результате которых у
всех животных через 13-14 недель развились признаки гепатита. Это
позволило подтвердить существование вируса, способного вызывать гепатит
у человека. На опытах с шимпанзе также были установлены первые физикохимические свойства вируса. С помощью фильтрации вирусного материала
был установлен размер вируса, а при помощи инактивации хлороформом
(который является жирорастворителем) было доказано существование у
вируса липидной оболочки. Наконец, в 1989 году группа исследователей под
руководством Дэниела У.Брэдли и Майкла Хотона идентифицировала
возбудитель – вирус гепатита С.
7
ВГС представляет собой оболочечный вирус диаметром приблизительно
30-60нм, содержащий однонитевую линейную (+)РНК размером около 9600
нуклеотидов. Анализ структуры генома ВГС показал, что он схож с
отдельными участками геномов вирусов геморрагической лихорадки денге
того же семейства Flaviviridae рода Flavivirus, и РНК(+)-содержащего вируса
крапчатости гвоздики семейства Tombusviridae. Некоторые исследователи
полагают, что ВГС может занимать промежуточное место между вирусами
животных и растений.
Нуклеокапсид вируса размером 33-40нм состоит из сердцевинного (core,
C) белка, в состав его липопротеиновой оболочки входят два гликопротеина
Е1 и Е2. На электронной микроскопии эти гликопротеины образуют шипы
размерами до 6-8нм, выступающие над липидной мембраной [12].
Cхематично строение вируса гепатита С показано на рис.1
Рис.1. Строение вируса гепатита С [13]
В организме человека часть вирусных частиц находится в свободном виде,
однако
большинство
вирионов
связано
с
иммуноглобулинами
и
аполипротеинами А1, В, С и Е, а также липопротеинами низкой и очень
низкой плотности.
Во внешней среде вирус относительно малоустойчив [9]. ВГС при
комнатной температуре способен сохранять вирулентность в течение 8 дней,
8
при 37°С – двое суток, при кипячении в воде на 100°С – в течение 2 минут.
40% раствор этилового спирта инактивирует ВГС в течение 5 минут. 0.5%
раствор глутаральдегида инактивирует ВГС в течение одной минуты.
Ультрафиолет также инактивирует ВГС. Кожные антисептики на основе
хлоргексидина биглюконата, повидон-йода также обладают вирулицидными
свойствами.
Геном ВГС состоит из двух несчитываемых областей на 5’- и 3’ -концах
РНК, между которыми находится открытая рамка считывания, которая
кодирует структурные и неструктурные белки. Структурными белками ВГС
являются уже упомянутый core-белок, а также гликопротеины Е1 и Е2.
Гены,
кодирующие
эти
белки,
расположены
с
5’-конца
РНК.
За
структурными генами расположен ген, кодирующий белок р7, который
выполняет функцию ионного канала и необходим для высвобождения
вириона из заражённой клетки [13]. Неструктурная часть РНК кодирует 6
белков: NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A и NS5B. Строение генома указано в
приложении 1.
5′-
и
3′-
некодирующие
регионы
представляют
собой
высококонсервативные области генома ВГС, что делает их возможными
мишенями
для
разработки
лекарственных
препаратов
и
средств
профилактики. С-белок обладает РНК-связывающей активностью, необходим
для транскрипции и трансляции клеточных генов, а также обладает
онкогенными
свойствами.
Гликопротеины
Е1
и
Е2
служат
для
проникновения вируса в клетку [14], взаимодействуя с клеточной мембраной,
а также участвуют в сборке вириона [13]. Взаимодействие гетеродимера Е1Е2 с клеточной мембраной осуществляется через ряд рецепторов, среди
которых основными [15] являются рецептор СD-81 [16] и скэвенджеррецептор класса B тип I (Scavendger Receptor class B type I, SR-BI) [17].
Области генома ВГС, отвечающие за кодирование гликопротеинов Е1 и Е2
наиболее подвержены мутациям, что обеспечивает многовариантность ВГС.
9
Из-за этого происходит ускользание от иммунного ответа, а также
обусловливается
формирование
устойчивости
к
противовирусным
препаратам и хроническая персистенция ВГС в организме человека.
Белок p7 принадлежит к классу вирусных белков – виропоринов [18].
Олигомеризация виропоринов ведет к образованию гидрофильных пор в
мембране поражённой клетки [19].
Большая часть вирусного генома кодирует неструктурные белки: NS2,
NS3, NS4A, NS4B, NS5A и NS5B. Белок NS2
является вирусной цинк-
зависимой протеиназой, отвечающей за протеолиз на стыке участка NS2/NS3
[20]. Основная же его функция на данный момент не вполне ясна. Белок NS3
является вирусной протеазой. Совместно с кофактором NS4A он служит для
процессинга вирусного полипротеина. Также протеаза NS3-4A блокирует
развитие
неспецифического
конформации
клеточного
иммунного
белка
Cardif
ответа,
и
путём
изменения
отсоединению
его
от
митохондриальной мембраны. В норме, при обнаружении в цитоплазме
двухцепочечной РНК, цитозольная РНК-хеликаза через белок Cardif
активирует регуляторный фактор транскрипции интерферона [21]. Белок
NS4B представляет собой гидрофобный полипептид, необходимый для
вирусной репликации [22]. Область NS5 кодирует два белка – NS5A и NS5B.
Белок NS5А обладает РНК-связывающей активностью [23], по данным
некоторых исследований именно NS5А имеет связь с ответом на лечение
INF-α, т.к. имеет специфический регион, участвующий в ингибировании INFα-индуцируемой протеинкиназы. Белок NS5B является РНК-зависимо РНКполимеразо й,
которая
является
ключевой
в
структуре
вирусного
репликативного комплекса, включающего в себя помимо NS5B еще NS3,
NS4A, NS4B и NS5A [24]. Также, как и другие РНК-зависимые РНКполимеразы, NS5B не имеет редактирующей активности, что приводит к
многочисленным ошибкам репликации, особенно для несоответствий
G:U/U:G, таким образом обеспечивая высокую лабильность генома ВГС.
10
1.2. Генотипы и подтипы ВГС, их клиническое значение
ВГС на основании геномной гетерогенности делится на 7 генетических
групп [25], которые в вирусологии принято обозначать термином «генотип».
По нуклеотидной структуре различия между генотипами могут составлять до
30%.
Внутри каждого генотипа выделяют подтипы, отличия между
которыми в нуклеотидной последовательности обычно находятся в пределах
15-20%. Генотипы обозначают цифрой от 1 до 7, подтипы обозначают,
присоединяя строчную букву латинского алфавита к номеру генотипа.
Данные об основных подтвержденных подтипах по данным европейской
базы данных euHSVdb приведены в таб. 1
Таблица 1. Генотипы и подтипы ВГС
Генотип
Подтип (всего)
1
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m (13)
2
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r (18)
3
a,b,c,d,e,f,g,h,i,k (10)
4
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u (21)
5
а (1)
6
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t (20)
7
а (1)
Кроме основных генотипов и подтипов, существуют т.н. «квазивиды» ВГС,
отличающиеся в нуклеотидных последовательностях на 1-14%. Как правило,
они появляются в результате хронической персистенции вируса в организме
человека. Существование многих квазивидов в одном организме объясняет
существование такого явления как антигенное «ускользание» ВГС от
действия антител, индуцируемых самим ВГС.
Филогенетические исследования показывают, что по-видимому, все
современные генотипы ВГС являются потомками генотипа 1. По данным
11
молекулярно-эволюционных исследований установлено, что генотипы 2-6
отпочковались от общего предка около 400-500 лет назад, а дробление их на
подтипы произошло около 200-300 лет назад [26][27].
Изучение разнообразия генетических вариантов ВГС имеет большое
значение для эпидемиологических исследований и тактики терапии у
больных. В эпидемиологии, данные по генетическим вариантам ВГС служат
для определения путей передачи и определения источника заражения. Разные
генотипы
ВГС
имеют
различный
географический
ареал,
и
их
распространение может происходить из различных источников.
Генотип
ВГС
является
одним
из
прогностических
факторов
вирусологического ответа [28]. Cтойкий вирусологический ответ (СВО) –
главная цель терапии ВГС инфекции, его главные критерии – отсутствие
вирусной РНК в крови пациента в конце лечения и через 6 месяцев после
окончания терапии [29]. При лечении пролонгированным интерфероном-α в
сочетании с рибавирином, СВО достигается у 55% пациентов, имеющих 1
генотип ВГС, и до 80% – у пациентов с 2 или 3 генотипом ВГС. Поэтому
логично, что от генотипа ВГС зависит выбор схемы лечения. Так, при ХГС
генотипах 2 и 3 при классической схеме лечения ежедневная доза
рибавирина составляет 800 мг, а продолжительность лечения – 24 недели,
тогда как при генотипе 1 доза рибавирина должна быть увеличена до 10001200 мг в день, а длительность терапии увеличивается до 48 [30] (в
отдельных случаях до 72) недель. Терапия остальных генотипов ВГС
проводится по схеме лечения генотипа 1.
Для минимизации влияния
генотипа на результаты терапии, обновленное руководство ВОЗ 2018 г.
рекомендует проводить терапию на основе пангенотипных препаратов
прямого противовирусного действия (ПППД).
Не до конца исследовано влияние различных генотипов ВГС на тяжесть
протекания патологического процесса. Некоторые исследования показывают,
что подтип 1b имеет связь с более тяжелым течением заболевания, быстрым
12
развитием декомпенсации [31]. Генотип 3 ассоциируется с усиленным
фиброзированием [32]. Генотип 4 связывают с повышенным риском развития
гепатоцеллюлярной карциномы [33].
2. Эпидемиология вирусного гепатита С
Для разработки и осуществления противоэпидемических мероприятий
важную роль играют данные о распространённости и основных факторах
риска передачи ВГС. Мониторинг и анализ эпидемических данных позволяет
судить об успехе существующих противоэпидемических программ.
К
сожалению,
невозможно
определить
со
100%
достоверностью
эпидемиологическую обстановку во всём мире, чему способствует ряд
факторов. Оценка общего числа инфицированных ВГС тоже сопряжена с
рядом проблем. Так, в ряде западных стран, в статистику заболеваемости не
входят
такие
группы
населения,
как
заключенные,
бездомные,
военнослужащие, проживающие в домах престарелых. В некоторых
исследованиях указывается, что включение этих групп населения в
статистику увеличивает встречаемость ВГС на 27% [34]. Математические
модели, описывающие распространение ВГС в разных странах, также не
могут
считаться
полностью
достоверными.
Затрудняют
оценку
заболеваемости и особенности течения ВГС инфекции. Всё это указывает на
то, что реальная распространённость ВГС в популяциях несколько выше, чем
указывается в официальных данных. По оценкам ВОЗ, в мире инфицировано
около 185 миллионов человек, из них большая часть приходится на страны
Азии. По данным ВОЗ, ВГС и его осложнения являются причиной смерти
300-350 тысяч человек ежегодно. В абсолютных числах лидерами по
распространённости ВГС являются Китай, Индия и Египет.
В процентном соотношении уровень распространённости ВГС колеблется
от 0.4% до 5.2% в странах Европы, наиболее благополучными в этом плане
13
являются скандинавские страны. Наибольший процент инфицированных
относительно всего населения в стране – в Египте (15%), Италии (5.2%),
Пакистане (4.7%), причем в отдельных популяциях это число может
увеличиваться до 22%, как в густонаселенных областях долины Нила в
Египте [35] или до 30% в Пенджабе – самой густонаселённой области
Пакистана
[36].
По
данным
Роспотребнадзора,
в
России
число
инфицированных ВГС может достигать 5.8 миллиона человек.
Неоднородность распространения ВГС между странами и внутри одной
страны
объясняется
комплексным
взаимодействием
как
социально-
экономических факторов, так и местных особенностей путей передачи.
Природных резервуаров ВГС на сегодняшний день не обнаружено.
Помимо человека, ВГС удалось заразить только шимпанзе. Источниками
инфицирования выступают больные всеми формами ОГС и ХГС. ВГС
попадает
инъекциях,
в
организм
человека
переливании
вмешательствах,
крови
посещении
при
парентеральных
и
её
стоматолога,
манипуляциях:
компонентов,
оперативных
различных
косметических
процедурах. Главными факторами риска заражения ВГС по-прежнему
являются внутривенное употребление наркотиков и медицинские процедуры.
В странах Европы, Японии и США основную массу инфицированных ВГС
составляют потребители инъекционных наркотиков, обеспечивая в структуре
заболеваемости ВГС пик среди людей в возрастной категории 25-35 лет. В то
же время для стран Азии, Африки, Латинской Америки основным фактором
заражения являются различные медицинские манипуляции, такие как
переливание крови, повторное использование одноразового медицинского
инструментария (чаще всего это шприцы и иглы), гемодиализ. Для многих
областей земного шара существуют специфические факторы заражения,
обусловленные особенностью культуры, например бритьё общими бритвами
в Индии и Пакистане [37], или татуировки и акупунктура в Юго-Восточной
Азии.
14
Различные генотипы ВГС, как показано в исследованиях, имеют
характерные пути передачи. Так, с употреблением наркотиков наиболее
часто связаны подтипы 1а и 3а, подтип 1b связывают с переливанием крови
[38]. Распространение подтипа 4а в Египте связывают с многократным
использованием инфицированных инструментов для инъекций. Легко
прослеживается связь между эпидемией наркомании после распада СССР и
распространением подтипов 1а и 3а в странах Восточной Европы.
С
улучшением социально-экономической ситуации, контроля за оборотом
наркотиков, широким распространением и доступностью одноразовых
шприцов и игл, в странах Западной Европы достоверно снижается
заболеваемость ВГС в возрастных группах 20-59 лет.
К
изменениям
в
генотипической
структуре
заболеваемости
и
распространению ВГС приводит и иммиграция. Так, в Европе в настоящее
время получают распространение генотипы 4 и 5, обычно не характерные для
этих стран, что связывают с наплывом иммигрантов из стран Африки и
Ближнего Востока.
Географическое распространение различных генотипов ВГС на планете
неоднородно. Наиболее широкое распространение имеют генотипы 1,2,3 и 4.
Подтип 1а имеет наибольший процент среди всех подтипов в странах
Северной Америки, Бразилии и Европе. Подтип 1b наиболее часто
встречается в Северной Африке, Юго-Восточной Европе, Латинской
Америке,
Японии,
Австралии.
Как
правило,
распространение имеют и подтипы 1а и 3а.
там
же
значительное
Подтипами-«спутниками» в
странах с наиболее широким распространением 1 генотипа наиболее часто
выступают подтипы 2а, 2b, 2с и 4.
Значительная часть подтипов 2 генотипа встречается в основном в
Западной Африке, что можно объяснить эндемичностью этого генотипа,
15
которая в результате эволюции привела к возникновению большого
количества местных подтипов [39].
Генотип 3 является эндемиком Индии и Юго-Восточной Азии, где
обнаружены основные подтипы этого генотипа [40]. По-видимому, это так
же объясняется появлением общего предка всех изолятов на данной
территории и длительной эволюцией [41]. Распространение местных
подтипов ВГС по миру, особенно подтипа 3а многие исследователи
связывают с распространением из этого региона (Пакистан, Афганистан,
Таиланд) наркотиков для инъекционного употребления.
Генотип 4 наиболее характерен для стран Ближнего Востока (Сирия,
Египет, Саудовская Аравия) [40] и центральной Африки [42]. Генотип 5
является эндемичным для Южной Африки, где он является превалирующим
в генотипической структуре заболеваемостью ВГС. Однако, в связи с
активной миграцией местного населения, 5 генотип ВГС уже выявляют в
странах Западной Европы и других местах [43]. Генотип 6 является
эндемичным для стран Юго-Восточной Азии: Гонконга, Вьетнама, Лаоса,
Филлиппин и Таиланда, за пределами
этих стран он встречается
преимущественно в Австралии и США у иммигрантов азиатского
происхождения [40]. Исследования, проведённые во Вьетнаме, показали что
наиболее активно распространение генотипа 6 пришлось на период с 1955 по
1984 год, что соответствует такому событию, как война во Вьетнаме (19551975).
Генотип
7
был
выявлен
в
исследованиях,
проводимых
в
Демократической Республике Конго [44]. Распространение основных
генотипов на планете показано на рисунке 2.
Рис. 2. Географическое распространение различных генотипов вируса
гепатита С по данным Messina JP, Humphreys I, Flaxman A, 2015.
16
Доминирующим подтипом ВГС в РФ является подтип 1b [45], в
большинстве регионов его доля составляет до 50% и более. В связи с
распространением употребления инъекционных наркотиков растет доля
заболеваемости подтипами 1а и 3а, особенно это проявляется в крупных
агломерациях, таких как Москва и Санкт-Петербург [46].
В 2002 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в мире
межгенотипный рекомбинант ВГС [47].
Межгенотипные рекомбинанты
встречаются среди многих вирусов, обеспечивая генетическую изменчивость
и уменьшая мутационную нагрузку [48]. Идентифицированный российскими
учеными рекомбинант ВГС был образован структурными генами подтипа 2k
и неструктурными генами подтипа 1b. Следом за рекомбинантом 2k/1b в
разных странах мира были выявлены и другие: : 2i/6p (Вьетнам), 2b/1b
(Филиппины), 2/5 (Франция), 2b/1b (Япония), 2b/6w (Тайвань), 3a/1b
(Тайвань), 2a/1a (Тайвань), 2b/1a (США) [49], однако все они значительно
уступают в распространённости рекомбинанту 2k/1b.
2.1. Пути инфицирования вирусным гепатитом С, группы риска и
скрининга
На сегодняшний день первым по значимости путём искуственного
инфицирования ВГС в наиболее экономически развитых странах остаётся
17
употребление инъекционных наркотиков при совместном использовании
шприцов и игл. В развивающихся странах Азии, Латинской Америки,
Африки важную роль в искуственной передаче вируса играют медицинские
манипуляции. К естественным путям передачи ВГС относят заражение при
половых контактах с инфицированным, вертикальная передача от матери к
ребенку и внутрисемейное распространение при бытовых контактах
с
кровью носителя ВГС [50]. Возможность вертикальной передачи ВГС
невелика, однако она возрастает при высокой концентрации вируса в крови
матери, а также при сопутствующем наличии ВИЧ-инфекции.
В России, на 1997 год в структуре путей передачи ВГС заразившиеся при
употреблении инъекционных наркотиков составляли до 40% всех случаев
инфицирования в стране. На долю медицинских манипуляций, приходилось
12.8%, на долю естественных путей заражения – 11%. Невыясненными
остались 36.2% случаев. К 2010 году структура путей передачи существенно
изменилась: доля парентерального заражения при употреблении наркотиков
снизилась до 21.5%, на долю медицинских манипуляций пришлось всего
2.8%, а удельный вес естественных путей передачи возрос почти втрое – до
35.3%. Доля неустановленных путей составила 40.6% [51].
К 2018 году
структура путей передачи выглядела следующим образом: 9.2% пришлось на
долю употребления психотропных препаратов инъекционным способом, доля
медицинских манипуляций составила 0.6%, при выполнении косметических
процедур заразились 4,2%, 36,8% случаев пришлось на естественные пути
передачи, неустановленными оказались 54% (это свидетельствует о
недостаточно эффективном исследовании очагов ОГС) [1]. Полученные
данные хорошо коррелируют с изменением социально-экономической
обстановки в стране, и свидетельствуют о неуклонном повышении роли
естественных путей инфицирования.
Генотипическая структура ВГС по данным Московского областного
регистра больных заболеваниями печени выглядит следующим образом:
18
генотип 1 – 54.1%, генотип 2 – 7.2%, генотип 3 – 38.4%, не определён – 0.3%.
Пик
заболеваемости
приходится
на
возрастную
группу
30-39
лет.
Увеличение заболеваемости ВГС генотипа 3 свидетельствует об улучшении
контроля за качеством переливаемой крови и стерилизацией инструментов
[52]. В целом, нет оснований предполагать, что в других крупных городах
России ситуация будет иметь кардинальные отличия.
В некоторых странах рекомендуется выполнять скрининг отдельных групп
населения, имеющих повышенные риски инфицирования ВГС. К России к
ним относят:
– беременных женщин (I и III триместры беременности);
– реципиентов крови и её компонентов, органов и тканей (при подозрении на
инфицирование ВГС и в течение 6 месяцев после переливания)
– пациентов отделений гемодиализа, пересадки почки, сердечно-сосудистой
и торакальной хирургии, гематологии;
– пациентов перед поступлением на плановые хирургические вмешательства,
перед проведением химиотерапии (не ранее чем за 30 дней);
– пациентов наркологических и кожно-венерических диспансеров, исключая
больных дерматомикозами и чесоткой (при постановке на учёт и далее не
реже 1 раза в год);
– всех лиц, пребывающих в учреждениях с круглосуточным нахождением
детей или взрослых, включая персонал (при поступлении и далее не реже 1
раза в год);
– контактных лиц в очагах ОГС и ХГС (не реже 1 раза в год, через 6 месяцев
после разобщения или выздоровления (смерти) больного ХГС);
– потребителей инъекционных наркотиков, включая лиц, принимавших
наркотики однажды много лет назад;
19
– ВИЧ-инфицированных, пациентов с заболеваниями, передающимися
половым путём;
– лиц, пребывающих в местах лишения свободы (при поступлении в
учреждение);
– работников ЛПУ;
Обязательное обследование на антитела к ВГС и РНК ВГС проводится:
– донорам крови, её компонентов, органов и тканей, спермы (при каждом
взятии донорского материала);
– детям до 12 месяцев, рождённым от инфицированных матерей (в возрасте 2
и 6 мес.);
– больным с иммунодефицитом (онкологические больные, больные на
гемодиализе, пациенты, принимающие иммунодепрессанты и др.);
– лицам с заболеваниями гепатобилиарной системы неясной этиологии;
– пациентам отделений гемодиализа, гематологии и трансплантации,
пребывающим в медицинской организации более 1 мес (через 30 дней после
поступления и далее ежемесячно) [53].
3. Методы диагностики вирусного гепатита С
Для
диагностики
ВГС
используются
два
основных
подхода:
серологические методы, основанные на выделении антител к ВГС, и
молекулярно-биологические, основанные на обнаружение вирусной РНК в
плазме крови. Серологические методы используются как для диагностики,
так и для скрининга ВГС. К ним относят иммуноферментный анализ (ИФА),
иммунохемолюминесцентный
преимуществом
ИФА
анализ,
является
иммуноблоттинг.
сочетание
высокой
Основным
специфичности,
20
невысокой стоимости и простоты выполнения. Главным серологическим
маркером ВГС являются антитела к ВГС, которые по своей природе
представляют собой иммуноглобулины класса IgG. В подтверждающих
тестах выявляются антитела к белковым антигенам ВГС – core-белку,
Необходимо
NS3,NS4,NS5.
помнить
о
возможном
получении
ложноотрицательных результатов, особенно у лиц с иммунодефицитными
состояниями, наличии гипо- или аглобулинемии, а также пациентов на
гемодиализе.
Основным
современным
методом
молекулярно-биологической
диагностики ВГС является полимеразная цепная реакция (ПЦР). С учетом её
высокой чувствительности в режиме реального времени (10–25 МЕ/мл), она
признана оптимальной в оценке эффективности терапии [54]. Существуют
тесты
с
менее
высокой
чувствительностью
(50–300
МЕ/мл),
их
использование целесообразно для подтверждения диагноза в случае
выявления антител к ВГС.
дорогостоящим
методом
ПЦР, в отличие от ИФА, является более
исследования,
требующим
наличия
специализированной лаборатории.
В качестве замены теста на определение РНК ВГС можно использовать
тест на определение core-антигена, о чем пишется в рекомендациях ВОЗ от
2017 года по тестированию на гепатиты В и С.
С 1997 года стандартом измерения вирусной нагрузки является МЕ/мл.
Уровень вирусной нагрузки определяется с помощью количественных
методов и используется для определения прогноза и мониторинга
эффективности проводимой антивирусной терапии.
Определение генотипа ВГС должно производиться всем пациентам с
подтвержденным наличием ВГС, с целью применения наиболее подходящей
схемы противовирусной терапии. Определение подтипа вируса играет
важную роль в выборе оптимальной тактики лечения больного. Для
21
определения подтипа ВГС наиболее часто используют секвенирование. Здесь
также необходимо учитывать существование рекомбинантных вариантов
ВГС, например таких как 2k/1b, который чаще всего определяется тестсистемами как генотип 2, что может привести к неудачному выбору схемы
лечения. Это предъявляет определённые требования к качеству тест-систем,
которые должны определять генотип по как минимум 2 участкам генома
ВГС.
В некоторых случаях целесообразно проводить генотипирование пациентов
по совокупности аллельных вариантов однонуклеотидных полиморфизмов
rs12979860 и rs8099917 в гене ИЛ-28В. Ген ИЛ-28В расположен в 19
хромосоме и отвечает за кодирование λ-интерферона типа 3. У пациентов с
генотипом 1 ВГС доказана значимость полиморфизма ИЛ-28В в ответе на
схемы лечения, в которые входит интерферон-α [53]. Полиморфизм
rs12979860 встречается в России среди больных приблизительно в 30%
случаев [55].
При ПВТ на основе ПППД целесообразно исследование лекарственной
устойчивости ВГС, для чего проводится прямое или массовое параллельное
секвенирование с порогом 15%, целью которого является выявление мутаций
в областях генома ВГС, кодирующих неструктурные белки NS3 и NS5,
которые являются основными мишенями ПППД.
Пункционная биопсия печени (ПБП) считается «золотым стандартом» для
определения морфологических изменений в печени: степени фиброза и
воспалительных
изменений.
ПБП
также
позволяет
оценить
вклад
сопутствующих патологий в протекание и эффективность лечения ХГС. Так
как при ХГС нередко наблюдаются расхождения в данных лабораторных
показателей
крови
и
инструментальной
диагности
с
реальными
морфологическими изменениями, в том числе и из-за позднего появления
клинической симптоматики и нарушения биохимических показателей крови,
ПБП выступает в роли метода раннего диагностирования. Оптимальным на
22
сегодняшний день служит выполнение ПБП под непрерывным УЗИконтролем. К недостаткам ПБП относят риск осложнений после процедуры,
вероятность некачественного забора биоптата, а также зависимость
интерпретации результата от квалификации специалиста-морфолога. Кроме
того, при интерпретировании полученного биоптата всегда есть риск т.н.
ошибки выборочного исследования, в результате которой происходит гипоили гипердиагностика заболеваний печени и степени фиброзирования.
Помимо всего прочего, на проведение ПБП накладывает ограничение ряд
противопоказаний – абсолютных, к которым относят: гемангиому, кисты
печени, коагулопатии, дыхательную недостаточность, выраженный холестаз,
геморрагический
диатез,
гнойно-воспалительные
заболевания
печени,
билиарную и портальную гипертензии, напряжённый асцит, коматозное
состояние, психические заболевания, инфицированное поражение кожи в
месте пункции; и относительных – асцит, нарушения проницаемости
сосудистой
стенки,
анемия,
сердечная
недостаточность
II-III
ст.,
гипертоническая болезнь II-III ст., аллергические реакции на анестетики [56].
Недостатки и ряд ограничений ПБП, а также развитие других методов
диагностики, ставят под сомнение многими практикующими врачами
клиническую значимость данной процедуры, которая является инвазивной и
может вести к осложнениям у пациента. Однако в национальных и
европейских
рекомендациях
необходимость
выполнения
ПБП
перед
назначением ПВТ остаётся.
Современными
неинвазивными
методом
оценки
протекания
фибротического процесса являются эластография, УЗИ, КТ и МРТ печени,
УЗДГ сосудов печени и селезенки, а также определение лабораторных
биомаркеров в сыворотке крови [57][58][59][60].
Эластография
позволяет
неинвазивным путём
получить
данные о
протекании фиброзирования в печени. Её применение возможно на любой
стадии фиброза печени у больных ХГС, в любой возрастной группе.
23
Преимуществами эластографии, помимо её неинвазивности являются
простота применения, немедленный ответ, большой исследуемый объем
печеночной ткани, легкая воспроизводимость результатов. К её недостаткам
можно отнести затруднение интерпретации данных у пациентов с
избыточной массой тела, а также у пациентов с очень высокой активностью
АЛТ/АСТ (от значений до 3 раз выше нормы). Пороговые значения для
выявленного фиброза составляют 9.5кПа для фиброза 3 стадии и 12.5 кПа для
4 стадии (цирроза) [61].
Кратковременная эластография лежит в основе
принципа работы аппарата «Фиброскан» (Echosens, Франция), который
позволяет за короткую процедуру (10-15 минут) определить наличие и
стадию фиброза. Объем печеночной ткани, исследуемый таким образом,
превышает объем биоптата при ПБП.
Оценивать степень выраженности фиброза возможно с помощью
математической обработки таких лабораторных показателей, как: α2макроглобулин, гаптоглобин, аполипопротеин А1, γ-глютамилтрансфераза,
общий билирубин и АЛТ, с помощью дискриминантной функции (т.н.
профиль «ФиброТест»). «ФиброТест» разработан во Франции в 2002 году, и
рекомендован
как
метод
диагностики
Европейской
ассоциацией
по
исследованию печени (EASL) с 2011 года. Следует отметить, что
интерпретация данных «ФиброТеста» может быть затруднена при наличии
таких патологий, как: острые воспалительные процессы, острый гемолиз, рак
поджелудочной железы, холедохолитиаз, а также после трансплантации
печени. Разработан и более сложный алгоритм оценки печеночных
показателей, т.н. тест «ФиброМакс». Он включает в себя 5 расчетных
алгоритмов:
– «Фибротест» – диагностика степени тяжести фиброза печени с переводом
в систему METAVIR;
– «АктиТест» – оценка степени некротически-воспалительного процесса;
24
– «СтеатоТест» – оценка стеатоза печени;
– «АшТест» – диагностика тяжелого алкогольного стеатогепатита у лиц,
злоупотребляющих алкоголем;
– «НашТест» – неалкогольный стеатогепатит
пациентов с избыточной
массой тела, резистентностью к инсулину, гиперлипидемией, а также
больных сахарным диабетом [62].
Биохимические показатели, используемые для расчета тестов «ФиброТест» и
«ФиброМакс» указаны в приложении 2.
При применении «ФиброТеста» для оценки выраженного фиброза
чувствительность составляет – 90%, специфичность – 100%, однако при
стадиях фиброза F0-F1 прогностическая ценность исследования невелика,
поэтому
целесообразно
сочетание
нескольких
неинвазивных
диагностических методов [63].
4. Клиническое течение вирусного гепатита С
Инкубационный период при ВГС инфекции составляет от двух недель до
полугода, в среднем около 40-50 суток. При первичном заражении острая
фаза по большей части не проявляется клинически, у некоторых пациентов
возникает спонтанная элиминация вируса. До 80% ОГС протекает в виде
субклинической безжелтушной формы. В таких случаях инфицированные
могут долго не подозревать о наличии ВГС в организме, становясь таким
образом
источником
заражения
для
других
людей.
Серологическая
диагностика ОГС затруднена периодом «серонегативного окна»,
когда
антитела к ВГС могут не определяться тест-системами в период до 6 месяцев
после первых клинических симптомов заболевания. Многолетнее латентное
течение заболевания с минимумом клинической симптоматики зачастую
25
приводит к тому, что болезнь диагностируется на поздних стадиях, когда уже
развиваются такие патологии, как цирроз печени и ГЦК [64].
4.1.
Острый вирусный гепатит С
При клинически манифестированных формах ОГС характерные симптомы
заболевания зачастую неубедительны. Как правило, больные предъявляют
жалобы на постепенно развивающуюся слабость, быструю утомляемость,
снижение аппетита, диспепсические расстройства. Иногда в преджелтушном
периоде
отмечаются
субфебрилитет,
артралгии,
умеренная
тяжесть
в
гепатомегалия,
правом
подреберье,
существенно
реже
–
спленомегалия. Так, как ОГС часто протекает в латентной субклинической
форме, диагностика его проводится на основании следующих показателей:
– длительности течения (менее 6 месяцев);
– данных эпидемиологического анамнеза (парентеральных медицинских
манипуляциях,
внутривенных
инъекциях
наркотических
препаратов,
половых контактах) в срок, соответствующий инкубационному периоду ВГС;
– клинической картины;
– лабораторных данных.
Среди
лабораторных
показателей
наиболее
характерными
будут:
повышение активности трансаминаз (как правило, более чем в 10 раз выше
уровня нормы), повышение уровня общего билирубина, обнаружение
антител к ВГС (особую ценность имеет обнаружение антител к ВГС в
динамике
заболевания,
спустя
4-6
недель
после
первоначального
отрицательного результата в ранние сроки), наличие РНК ВГС (особенно в
фазе «серологического окна», что является одним из важнейших критериев
постановки диагноза ОГС). Для исключения гепатитов иной природы,
26
проводятся исследования антител на поверхностный антиген ВГВ, при их
наличии – исследования на антитела к вирусу гепатита D класса IgM. Для
исключения острого гепатита А проводят тест на выявление антител к вирусу
гепатита А класса IgM. В случае отсутствия маркеров вирусных гепатитов А,
В, С у больного острым гепатитом проводится исследование на выявление
антител к вирусу гепатита Е класса IgM. Также в обязательном порядке
необходимо сделать тест на ВИЧ-инфекцию [53].
Желтушная форма ОГС встречается приблизительно у 20-25% больных,
преимущественно у лиц с посттрансфузионным заражением. Как правило,
иктеричность кожных покровов быстро исчезает, возвращаясь снова в фазе
обострения, при этом повышается активность трансаминаз. В литературе
также описаны крайне редко (менее 1%) встречающиеся фульминантные
формы, характеризующиеся явлениями острой печеночной недостаточности
и сопровождающейся клиническими признаками печеночной энцефалопатии,
а также развитием полиорганной недостаточности [65].
Известны
случаи
манифестации
ОГС,
сопровождающиеся
аутоиммунными реакциями, такими как: агранулоцитоз, апластическая
анемия, периферическая невропатия. Это связано с тропизмом ВГС не только
к клеткам печени, но и к некоторым другим тканям и органам, в частности
клеткам иммунной системы, дендритным клеткам, клеткам микроглии,
кишечном
эпителии,
остеобластам,
кардиомиоцитам,
В-клеткам
лимфатических узлов. Внепеченочная репликация вируса может стать
причиной гибели больного еще до появления значимого титра антител [66].
Показано, что внепеченочный резервуар может послужить причиной
рецидива болезни после прекращения ПВТ, а также явиться причиной
заболеваний иммунной системы – B-клеточной лимфомы и смешанной
криоглобулинемии [8][11].
27
4.2.
Хронический вирусный гепатит С
Хронический вирусный гепатит С является наиболее частым исходом
острой ВГС инфекции (до 80% случаев). Клинически ХГС может долгое
время никак не проявляться, ведущим синдромом у таких больных как
правило является астеновегетативный. Часто ХГС обнаруживается случайно,
в ходе рутинных медицинских обследований, например при подготовке к
плановому хирургическому вмешательству, или диспансеризации при
приёме на работу. Показатели печеночных ферментов при этом могут быть
нормальными[67]. Исходы ХГС могут колебаться от минимальных, когда
человек живёт с болезнью в течение 20-40 лет, иногда даже не подозревая о
том, что он инфицирован ВГС, а информация об этом выявляется только
посмертно, до тяжелых поражений печени с исходами в цирроз и ГЦК. В
течение 30 лет после инфицирования ВГС вероятность развития цирроза
достигает 30-45% случаев [53][68]. Прогрессирование фиброза нелинейно и
длится в течение 20-40 лет [53]. Отягощающие факторы, к которым относят
алкоголизм, возраст свыше 40 лет на момент заражения, ожирение,
метаболический синдром, коинфекция ВИЧ и др. значительно ускоряют этот
процесс [69].
Установление диагноза ХГС происходит на основании выявления
следующих показателей:
– выявление антител к ВГС в крови (необходимо выполнение как минимум
двух тестов с использованием различных тест-систем);
– определение в плазме и сыворотке крови РНК ВГС качественным и
количественным методами;
– определение генотипа ВГС, с целью выбора тактики лечения.
Диагноз ХГС можно подтвердить при наличии у больного в сыворотке
крови РНК ВГС в течение более 6 месяцев. Если тест на антитела к ВГС
28
положительный, а РНК ВГС в крови не определяются, оснований для
постановки диагноза ХГС недостаточно [53].
Дифференциальная диагностика ОГС и ХГС также необходима. Антитела
к ВГС и РНК ВГС у пациента могут встречаться в разных сочетаниях.
Интерпретация этих показателей приведена в приложении 3.
Клиническая картина ХГС помимо печеночных проявлений может быть
представлена и внепеченочными симптомами, основными из которых
являются артралгии, аутоиммунный тиреоидит, нейропатии, поражения
почек,
кожи
и
других
органов.
Большая
часть
этих
проявлений
обеспечивается такими осложнениями, как криоглобулинемические васкулит
и нефрит [70].
Естественное течение ХГС как правило довольно медленное, при
отсутствии отягощающих факторов. В случае постоянной повышенной
активности трансаминаз, риск развития цирроза печени и других осложнений
становится
выше
[71].
Больные
ХГС,
страдающие
хроническим
алкоголизмом, повышают риск развития цирроза в 100 раз [72]. В
исследованиях было установлено, что злоупотребление алкоголем в
сочетании с микст-инфекцией ВГВ и ВГС приводит у более быстрому
развитию цирроза печени у женщин, нежели у мужчин [73]. Однако ведущую
роль в прогрессировании фиброза играют факторы организма больного,
представленные в таблице 2[74][75] .
Таблица 2. Факторы, регулирующие процесс фиброгенеза при хроническом
гепатите С
Профиброгенные факторы
Трансформирующий
Антифиброгенные факторы
ростовой γ-интерферон
фактор бета-1
Тромбоцитарный фактор роста
Интерлейкин-10
29
Фактор роста фибробластов
Фактор роста гепатоцитов
Эпидермальный фактор роста
Фактор некроза опухоли-α
Сосудисто-эндотелиальный
фактор
роста
Фактор хемотаксиса моноцитов
Интерлейкин-6
Интерлейкин-1
Интерлейкин-2
Тромбин
Инсулиноподобные факторы роста
Как
уже
отмечалось
выше,
данные,
полученные
при
ПБП
или
неинвазивных методиках оценки фиброза, позволяют оценить стадию
развития заболевания.
настоящее
время
Для определения стадии заболевания печени в
наиболее
популярной
является
шкала
METAVIR.
Стадирование фиброза играет важную роль в прогнозе заболевания, выборе
терапии, качестве жизни пациента.
ХГС-ассоциированный цирроз печени на данный момент многие авторы
относят к предраковым состояниям. По статистике, возникновение ГЦК в
большей части случаев приходится на пациентов с имеющимся выраженным
печеночным фиброзом. После развития ХГС-ассоциированного цирроза ГЦК
развивается со скоростью в среднем 8% в год [33].
В
Западной
первопричиной
Европе,
США,
Австралии,
ХГС
является
основной
трансплантации печени. К сожалению, даже такая
радикальная мера не даёт гарантии излечения, во многих случаях происходит
реинфицирование трансплантата, что снова приводит к циррозу печени.
30
5. Общая характеристика больных гепатитом С в России
Активное изучение гепатита С в России началось практически сразу после
открытия возбудителя заболевания в 1989 году. По исследованиям 1991 года,
антитела к ВГС были выявлены у 3.6% доноров крови по всему СССР [76]. В
связи с неблагоприятной социально-экономической ситуацией, связанной с
распадом СССР, заболеваемость ВГС в Российской Федерации значительно
возросла. Основным распространителем инфекции стали потребители
инъекционных наркотиков [77][78], по-прежнему оставался высокий процент
заражений при выполнении медицинских манипуляций [79]. Также,
необходимо отметить, что, по-видимому, свой вклад в увеличение
регистрации заболеваемостью ВГС внесло и улучшение методик и качества
тестирования [50].
В 2000-е годы наметилась тенденция к снижению заболеваемостью ОГС, с
параллельным увеличением доли заболеваемостью ХГС и бессимптомного
носительства. Постепенно сменяется и возрастная структура заболеваемости;
так, пик количества инфицированных (60%) сейчас приходится на людей в
возрастной группе от 20 до 39 лет, с некоторым преобладанием доли мужчин
[51], т.е. на наиболее социально активную, трудоспособную часть населения.
В
то
же
время,
наблюдается
уменьшение
влияния
потребителей
инъекционных наркотиков в структуре передачи ВГС, и существенное
возрастание роли естественных путей инфицирования, среди которых
преобладает половой путь [1][51]. Это может быть связано как с улучшением
социально-экономической ситуации в России в 2010-е годы, так и с
постепенным
истощением
естественного
резервуара
ВГС
в
виде
потребителей инъекционных наркотиков.
Заболеваемость ВГС в России по различным регионам неоднородна. На
пике заболеваемости в 2000 году, наибольшие количества заболевших ОГС
регистрировались в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) (44.5 на
100 тыс. населения) и Уральском федеральном округе (УФО) (36.3 на 100
31
тыс.) [51].
С 2008 года в лидеры вышел УФО, к 2017 году показатель
заболеваемости ОГС в нём составляет 2.2 на 100 тыс., самым благополучным
является Сибирский федеральный округ (СФО) с показателем 1.3 на 100 тыс.
населения. Уровень заболеваемости ХГС также варьирует, имея тенденцию к
увеличению в крупнейших российских агломерациях – Московской и СанктПетербургской. Так, показатели заболеваемости ХГС за 2017 год в СЗФО (с
Санкт-Петербургом) составляют 49.4 на 100 тыс., в Москве – 61 на 100 тыс.,
в Южном федеральном округе – 13.7 на 100 тыс. населения [1]. Стоит
упомянуть, что к таким различиям ведут не только социально-экономические
условия, но и такие факторы как доступность медицинской помощи, полнота
и качество диагностики.
Экономические потери от гепатита С очень существенны и наносят
большой ущерб экономике России. На 2018 год, годовой ущерб от ХГС
составил 1 миллиард 842 миллиона рублей, от ОГС – 273 миллиона рублей,
суммарно выводя гепатит С в десятку важнейших экономически значимых
инфекционных заболеваний в Российской Федерации [1]. Доступ к
эффективной терапии ВГС остаётся затруднённым, в силу высокой
стоимости курса лечения. В США стоимость лечения оригинальными
препаратами может доходить до 70 000 долларов за курс. В России стоимость
терапии по схемам, не включающим препараты интерферона, находится в
пределах от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Результаты генотипирования ВГС на территории России дают следующие
показатели: доля генотипа 1 оценивается в 52.6%, из них 1а – 3.7 %, 1b –
48.9%. На втором месте находится генотип 3 с удельной долей 39,6%,
генотип 2 составляет 7.8% случаев, генотипы 4, 5 и 6 все вместе дают менее
0.01% больных.
Наиболее высокая доля генотипа 3 у мужчин – 45%, у
женщин
генотип
на
3
приходится
33%.
Наиболее
высокая
доля
распространённости 3 генотипа среди людей 20-29 и 30-39 лет – 48.2% и
49.1% соответственно. Доля рекомбинанта 2k/1b составила 3.2% [80][81]. В
32
связи с возможностью диагностических ошибок, необходимо всем пациентам
с выявленным 2 генотипом ВГС проводить дополнительное тестирование с
помощью тестов, способных распознавать рекомбинант 2k/1b.
Данные клинических исследований показывают, что основная масса
гепатитов С в России проходит бессимптомно. Среди жалоб, предъявляемых
больными преобладают астеновегетативный и диспепсический синдромы.
Выраженность жалоб больше среди пациентов с развившимся циррозом
печени: так, жалобы на слабость, утомляемость предъявляли 71.7% больных
с циррозом, и только 19% больных с нормальными показателями
биохимических маркеров. Жалобы на тошноту, рвоту предъявляли 27.3%
больных с ЦП и 9.5% больных с нормальной активностью АЛТ. Снижение
аппетита отметили 38.7% больных с высокой активностью гепатита и 3.6%
больных с низкой [82][83]. Жалобы на кровоточивость дёсен и желтуху
предъявляли 79% и 31% больных с ЦП соответственно.
Среди лабораторных показателей можно отметить гипербилирубинемию,
наблюдающуюся в 70.4% случаев больных с циррозом печени, 44.6% – с
умеренной активностью трансаминаз, 29.8% – с нормальным уровнем
АЛТ/АСТ. Повышение тимоловой пробы наблюдается у большинства
больных с ЦП (82,8% против 25% у больных с нормальной активностью
АЛТ) [82][83]. Статистические показатели активности АЛТ и ГГТП выше у
мужчин, что объяснимо употреблением алкоголя среди значительной доли
обледованных. Рапределение активности АЛТ и ГГТП в среднем одинаково у
1 и 3 генотипа ВГС, тогда как дополнительно при 1 генотипе выявляются
повышенные значения общего билирубина. Средние показатели фиброза и
результаты фиброэластометрии выше среди больных 1 генотипом ВГС [56].
При обследовании на УЗИ до 33.3% больных с нормальными показателями
биохимических маркеров не имели никаких признаков патологии. Среди
пациентов с умеренной активностью гепатита таких было всего 3.4% [84].
Всего же, среди больных ХГС пациенты с отсутствием (F0) или
33
минимальной выраженностью (F1) фиброза составляют около 58%.
Умеренный фиброз (F2) выявляется у 17% больных, выраженный фиброз
(F3) – у 10%, и еще у 15% пациентов выявляется цирроз печени (F4) [85].
Cреди сопутствующих патологий у больных с ВГС инфекцией наиболее
часто выявлялись заболевания желчевыводящих путей. У больных циррозом
хронические холециститы наблюдались у 21.2% пациента по данным УЗИ,
желчекаменная
болезнь
выявлена в
минимальной
активностью
гепатита
10.1%
случаев.
хронические
У
больных
холециститы
с
были
выявлены у 14.5% больных, желчекаменная болезнь – у 3.4%. Диффузные
изменения поджелудочной железы выявляются у 22% больных с ЦП, тогда
как у пациентов с нормальной активностью АЛТ таких наблюдалось всего
3.3%. Также у больных циррозом печени наиболее часто выявляется
хронический пиелонефрит (16.2% случаев) [86].
6. Современная противовирусная терапия гепатита С
Еще буквально несколько лет назад, в 2011 году, основными
лекарственными
препаратами
для
терапии
гепатита
С
оставались
комбинации интерферона и рибавирина. Лечение этими препаратами
позволяло добиться выздоровления 70-80% больных со 2 и 3 генотипами
ВГС, и 45-70% больных с генотипами 1 и 4 [87]. По мере накопления знаний
о структуре вирусного генома и кодируемых им белков, были созданы
принципиально
новые
препараты,
так
называемые
противовирусные
препараты прямого действия (ПППД). Мишенями воздействия современных
ПППД являются неструктурные белки ВГС: NS3, NS5A и NS5B. Глобальная
стратегия ВОЗ, принятая в 2016 году, предусматривает обеспечение ПВТ
80% больных на планете к 2030 году [2].
К сожалению, на практике
выполнение этого положения видится недостижимым.
Выбор рекомендуемой схемы лечения ВГС-инфекции зависит от многих
факторов. К ним относят генотип ВГС, характер протекания болезни, степень
34
выраженности поражения печени, состояние иммунной системы больного,
лекарственная устойчивость ВГС у конкретного пациента. Целесообразнее
всего проводить ПВТ по пангенотипным схемам с высоким барьером к
резистентности.
6.1.
Лечение острого вирусного гепатита С
Показанием для ПВТ при ОГС является подтверждённая виремия.
Своевременно начатая ПВТ позволяет добиться СВО в 90% случаев.
Оптимальной
схемой
лечения
интерферона
курсом
в
24
является
недели:
назначение
при
лечении
пегилированного
пегилированным
интерфероном-α2a доза составляет 180 мкг 1 раз в неделю, пегилированным
интерфероном-α2b — 1,5 мкг/кг 1 раз в неделю, цепегинтерфероном α-2b —
1,5 мкг/кг 1 раз в неделю (назначение off-lable), препараты вводятся
подкожно [53]. Стандартные интерфероны вводятся по следующей схеме: 4
недели по 5 млн. МЕ ежедневно, далее 20 недель до конца терапии через
день; либо по 3 млн МЕ через день в течение 24 недель. Добавление
рибавирина при лечении ОГС не рекомендуется, так как статистически не
улучшает результаты лечения. Для всех генотипов ВГС подходит лечение
комбинацией
возможно
софосбувира и даклатасвира в течение 8 нед [53]. Также
лечение
комбинациями
софосбувир/велпатасвир
или
глекапревир/пибрентасвир в течение 8 нед [61]. В случае наличии у больного
дополнительной ВИЧ-инфекции, курс лечения может быть продлён до 12
недель. Во избежание поздних рецидивов, СВО оценивается спустя 12 и 24
недели после окончания лечения.
В случае отсутствия эффекта от ПВТ, курс лечения проводится по
стандарту лечения ХГС. В целом, начало лечения в течение первых 6 месяцев
от начала болезни является более эффективным.
35
6.2.
Лечение хронического вирусного гепатита С
Главная цель терапии ХГС – достижение СВО, в 99% случаях означающее
излечение пациента. СВО оценивается по отсутствию вирусной РНК в
сыворотке крови через 12 и 24 недели после окончания курса терапии.
Перед началом ПВТ, пациенту должен быть проведён ряд обследований, с
целью оценки стадии заболевания и вирусологических параметров (генотип и
субтип ВГС, уровень вирусной нагрузки), т.к. это имеет прямое влияние на
подбор терапии. Особое внимание необходимо уделить стадированию
заболевания, т.к. цирроз печени очень сильно влияет на прогноз и ответ на
ПВТ. При планировании
лечения ВГС 1 генотипа перепаратами
пегилированного интерферона в комбинации с рибавирином, необходимо
произвести генетическое исследование на полиморфизм ИЛ-28В. При
включении в схему лечения ингибиторов NS5A, целесообразно исследование
мутации резистентности. Сроки начала терапии современные существующие
рекомендации определяют от степени выраженности морфологических
изменений печени: так, при фиброзе F3 по METAVIR, циррозе печени (F4),
пред-
и
посттрансплантационном
периоде,
клинически
значимыми
внепеченочными проявлениями, микст-инфекцией с ВГВ и/или ВИЧ,
пациентам на гемодиализе, людям из групп риска ПВТ должна проводиться
незамедлительно
[53].
Не
рекомендовано
лечение
пациентам
с
прогностически низкой продолжительностью жизни из-за сопутствующих
непеченочных заболеваний.
Помимо
стадирования
исследований,
перед
поражения
началом
ПВТ
печени
и
вирусологических
пациенту
необходимо
полное
соматическое обследование с целью исключения сопутствующих патологий.
Как уже было указано выше, до 2011 года основными препаратами для
проведения ПВТ оставались интерфероны в сочетании с рибавирином. С
помощью включения в схемы терапии ПППД, эффективность ПВТ
36
существенно возросла. Современные схемы лечения ХГС включают в себя
различные схемы – как интерфероновые, так и с применением только ПППД.
Основные схемы ПВТ представлены в приложении 4.
Главное проблемой широкого внедрения ПППД остаётся их высокая
стоимость.
В связи с этим, актуальными остаются схемы ПВТ с
пегилированным интерфероном, как наиболее доступные. К сожалению,
препараты интерферона имеют ряд медицинских противопоказаний: тяжелая
депрессия,
эпилепсия,
неконтролируемые
аутоиммунные
заболевания;
признаки декомпенсации функции печени (количество баллов по Чайлд–Пью
>7); беременность; отсутствие возможности у партнеров придерживаться
контрацепции в период ПВТ и последующего наблюдения в течение 24 нед;
тяжелые сопутствующие заболевания (плохо контролируемая артериальная
гипертензия,
декомпенсированный
сахарный
диабет,
сердечная
недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких) [53].
Различные схемы ПВТ с применением ПППД также имеют свои
особенности. При тяжелой почечной недостаточности выбором будет
комбинация глекапревир/пибрентасвир у пациентов без ЦП в течение 8 нед.
и в течение 12 нед. у пациентов с компенсированным ЦП [61]. Необходимо
помнить о высокой нефротоксичности рибавирина и софосбувира. Для
пациентов с декомпенсированным ЦП исключается применение ингибиторов
NS3 в силу их высокой гепатотоксичностью. Схемой выбора здесь выступает
комбинация софосбувир/велпатасвир и рибавирин в течение 12 недель[61]. В
целом эта схема (иногда туда включают воксилапревир) позволяет добиться
СВО в 99% случаев.
Самым
высоким
порогом
к
резистентности
обладает
схема
глекапревир/пибрентасвир+софосбувир. Зачастую она является терапией
«последнего шанса», при неэффективности других схем или рецидива [61].
37
7. Особенности гепатита С у больных на гемодиализе
Вирус
гепатита
С
особенно
легко
способен
передаваться
при
гемодиализе, так как при лечении основного заболевания регулярно
проводятся манипуляции, связанные с нарушением целостности кожных
покровов, а также гемотрансфузии. Кроме того, заражение ВГС у пациентов
программного гемодиализа может происходить посредством контакта с
аппаратом
искусственной
почки,
если
к
нему
подключаются
как
неинфицированные, так и инфицированные больные.
Эпидемиологические
исследования
доказали
возможность
инфицирования ВГС во время проведения гемодиализа при отсутствии
типичных парентеральных факторов риска, что указывает на передачу вируса
в результате самой процедуры. Гепатит C сокращает продолжительность
жизни больных, находящихся на программном гемодиализе, и уменьшает
долговременную выживаемость реципиентов почки и приживаемость
трансплантата [88]. Наиболее часто при таких случаях выявляется генотип 1
ВГС
как
правило
это
исследователей,
уровень
заболеваемости
[89],
подтип
1b.
По
среди
данным
зарубежных
пациентов
отделений
гемодиализа может составлять до 8-10% [90]. Разумеется, в разных странах,
эта доля больных может варьировать, но нельзя не принимать в расчет то, что
в любом случае это довольно значительное количество пациентов.
Внедряемые жёсткие меры контроля позволяют сократить количество
случаев выявляемой инфекции в отделениях гемодиализа.
Одним из наиболее распространённых внепеченочных проявлений ВГС
является криоглобулинемия, что зачастую приводит к мезангиокапиллярному
гломерулонефриту. Тяжелые формы хронической почечной недостаточности
приводят к ухудшению прогноза лечения.
Наиболее
важным
лабораторным
показателем
у
пациентов
на
гемодиализе является ПЦР с вирусной нагрузкой в режиме реального
времени. Показано, что определение уровня АЛТ в динамике слабо
информативно, так как не коррелирует с данными гистологических
38
изменений и вирусной нагрузки у диализных больных. У пациентов на
гемодиализе систематически происходит регулярное удаление вирусов и
продуктов их жизнедеятельности из кровеносного русла, а следовательно
снижается уровень виремии [90].
При инструментальном обследовании необходимо помнить о высоком
риске кровотечений при проведении ПБП. Таким образом, следует отдать
предпочтение неинвазивным методам оценки состояния печени, таким как
фиброэластография. Данные исследователей показывают, что в основном,
ХГС на фоне терминальной стадии хронической почечной недостаточности
протекает
преимущественно
патологического
процесса
при
[89].
минимально
Наиболее
низкой
активности
выраженные
клинические
проявления наблюдаются у больных микст-инфекцией ВГС и ВГВ и
характеризуются слабостью, артралгиями, гепатомегалией, кожным зудом,
геморрагическим синдромом, субиктеричностью кожи и слизистых [90].
У приблизительно трети больных болезнь протекает в виде скоротечной
формы хронической почечно-печеночной недостаточности с развитием
неблагоприятных исходов, причем в таких случаях у большинства больных
развивается прогрессирующая анемия [89]. Частыми являются упорные
полисерозиты в виде гидроторакса, асцита и перикардита, что отражает
отягощающее влияние ХГС на протекание основного заболевания.
Лечение
гепатита
C
облегчает
течение
мезангиокапиллярного
гломерулонефрита, о чем свидетельствует снижение уровня криоглобулина,
ревматоидного фактора и креатинина, но течение заболевания нередко
сопровождается
ежемесячный
рецидивами
ВГС-инфекции.
контроль уровней
При
этом
необходим
криоглобулинемии
для
мониторинга
прогрессирования гломерулонефрита [88].
У
больных
на
гемодиализе
препаратом
выбора
может
стать
пегилированный интерферон α-2a в дозе 180 мкг 1 раз в неделю подкожно. В
случае выраженных побочных эффектов дозу препарата следует уменьшить
до 135 мкг 1 раз в неделю. Применение рибавирина ограничивается его
39
нефротоксичностью, и не может превышать дозировку 200 мг/сутки [61].
Необходимо помнить о тератогенном действии рибавирина, для этого всем
женщинам детородного возраста нужно пользоваться надёжными методами
контрацепции на протяжении всего курса лечения, а также в течение 6
месяцев после его отмены [88]. Интерферонотерапия не рекомендуется после
трансплантации
почки,
учитывая
очень
высокий
риск
отторжения
трансплантата.
Среди ПППД у пациентов с тяжелой формой хронической почечной
недостаточности и СКФ<30 мл/мин рекомендуется лечение комбинацией
глекапревир/пибрентасвир. Применение софосбувира не рекомендуется
вследствие его высокой нефротоксичности [61].
Заключение
Распространённость и значительный социально-экономический ущерб от
ВГС-инфекции делают её одной из самых важнейших проблем современного
здравоохранения. Несмотря на то, что за более чем 30 лет с момента
идентификации ВГС был накоплен достаточно большой пласт информации о
нём, человечеству пока так и не удалось найти эффективную вакцину от
ВГС, в силу различных причин, в первую очередь связанных с
особенностями строения самого ВГС. Лечение ВГС-инфекции создаёт
значительные экономические трудности, в силу высокой стоимости курсовой
терапии. Исход гепатита С в виде ЦП или ГЦК ежегодно является причиной
смерти более 350 000 (по подсчетам некоторых авторов – более 700 000
[91][92])
человек
в
мире.
Усугубляют
ситуацию
и
особенности
распространения и диагностики ВГС, когда инфицированный долгое время
не подозревает о своём диагнозе, становясь источником инфекции для
большого количества населения.
В Российской Федерации лечения требуют около 2175000 больных с ХГС
[93], что является серьезным экономическим бременем для бюджета страны,
40
т.к. затраты на лечение 1 случая хронического гепатита являются одними из
самых больших среди всех видов инфекционных заболеваний. Ранняя
диагностика ВГС и своевременная ПВТ влияют на снижение заболеваемости
и риск хронизации и осложнений ВГС-инфекции.
За период с 1994 по 2017 год заболеваемость в России ОГС снизилась с 3.1
до 1.2 на 100 тысяч человек, с пиком наибольшей заболеваемости в 2000 году
в 21.1 случай на 100 тыс. В то же время заболеваемость ХГС хоть и идёт на
убыль, но всё ещё остаётся на высоком уровне, спрогрессировав от 12.9
случаев на 100 тысяч в 1999 году до 34.6 на 100 тыс. в 2017 году, с пиком в
2009 году в 40.9 случаев на 100 тыс. человек.
Динамика распространения ВГС в России до середины 00-х годов тесно
связывалась
с
исследователями
динамикой
было
распространения
установлено,
что
наркомании,
потребители
поскольку
инъекционных
наркотиков являлись носителями ВГС в 80% случаев [79], тем самым внося
основной вклад в инфицирование населения. Высокая заболеваемость ОГС в
90-е годы предопределила картину заболеваемости ХГС в наше время. В то
же время наблюдается уменьшение доли передачи ВГС инъекционным
способом, что прямо коррелирует с улучшением экономической обстановки в
стране по сравнению с 90-ми годами.
Основным генотипическим вариантом ВГС в России остаётся подтип 1b,
наиболее тяжелый для терапии и связанный с высоким риском развития
неблагоприятных исходов, таких как цирроз печени и ГЦК. Вместе с тем, в
структуре генотипической заболеваемости неуклонно возрастает
доля
подтипа 3а, основной путь передачи которого – инъекции наркотических
препаратов. Необходимо также помнить о значимости рекомбинантного
варианта ВГС 2k/1b, который создаёт затруднения в генотипической
диагностике и является довольно широко распространённым на нашей
территории.
В
планировании
схемы
лечения
также
играет
роль
41
полиморфизм гена ИЛ-28В rs12979860 , который снижает эффективность
интерферонотерапии при ВГС 1 генотипа.
Долгое время основными препаратами лечения ВГС-инфекции оставалась
комбинированная терапия пегилированным интерфероном в сочетании с
рибавирином, эффективность которой у больных с 1 генотипом ВГС
значительно ниже, чем при других вариантах [94]. Появление в последние
годы ПППД и значительный прогресс в этом направлении значительно
повысило эффективность терапии и расширило показания к её применению
[95][96]. С накоплением практического опыта, ПППД получают всё более
широкое распространение, к сожалению, осложняющееся остающейся весьма
высокой стоимостью данных препаратов. Основные современные классы
ПППД указаны в приложении 5. Эффективность современных схем лечения
позволяет добиться выздоровления до 80% случаев заболевания ВГСинфекцией.
Вакцина от ВГС в настоящее время всё еще находится на стадии
разработки. Генетическая изменчивость ВГС создаёт большие проблемы при
создании вакцины, многие ученые заявляют о том, что её появления не
предвидится в ближайшие 15-20 лет. Расшифровка структур вирусных
белков может помочь ускорить этот процесс, и некоторые успехи на этом
пути уже достигнуты. Так, в 2013 году была расшифрована подробная
структура гликопротеина Е2, участвующего в проникновение в клетки
печени [97]. Однако, полная расшифровка вирусных белков и создание
детальной модели патогенетического механизма остаётся делом будущего.
Сегодня же, самым действенным методом профилактики остаётся следование
санитарно-гигиеническим правилам и повышение медицинской грамотности
населения.
Особенно актуальной профилактика гепатита С является для отделений
гемодиализа. В силу особенностей распространения ВГС, пациенты и
медицинский персонал находятся в группе риска. Для выявления случаев
42
ВГС-инфекции
необходимо
проводить
диагностику,
основанную
на
выявлении РНК ВГС в сыворотке крови (ПЦР в режиме реального времени),
так как другие исследования могут быть малоинформативными.
Современные методы и средства диагностики далеко шагнули вперед по
сравнению с методами тридцатилетней давности. Появление и внедрение в
широкую практику быстрых и безопасных методик оценки степени
выраженности
морфологических
изменений
печени
на
основе
фиброэластографии и биохимических показателей крови, в ряде случаев
позволяет отказаться от выполнения ПБП. Появились и получили широкое
распространение высокочувствительные методы определения РНК ВГС в
сыворотке крови.
43
Выводы
1. Главной особенностью строения вируса гепатита С является его
высокая
мутационная
изменчивость,
обусловленная
ошибками
репликации. Второй особенностью ВГС является сравнительно слабая
устойчивость к воздействиям внешней среды.
2. Гепатит С – одно из наиболее социально значимых заболеваний,
влияющее на жизнь десятков миллионов людей на планете, и
приносящее значительный экономический ущерб.
3. Клинические проявления ВГС-инфекции очень разнообразны
и
зачастую не являются специфичными. Большая часть инфицированных
людей может годами не подозревать о своём диагнозе. Лабораторная
диагностика должна строиться на раннем обнаружении антител к ВГС
и вирусной РНК в сыворотке крови. Другие лабораторные показатели
при латентном хроническом течении инфекции могут быть в пределах
нормы.
4. Наиболее современными средствами терапии ВГС-инфекции являются
ПППД. Основным препятствием к массовому внедрению их в
клиническую практику является их высокая стоимость, поэтому нельзя
сбрасывать со счетов классическую схему лечения гепатита С с
помощью препаратов интерферона и рибавирина.
5. Основной особенностью протекания гепатита С у больных на
гемодиализе является нормальный у большинства пациентов уровень
лабораторных показателей, таких как АЛТ, и слабая выраженность
клинической симптоматики. Самым распространённым генотипом
вируса у таких больных является 1b. Хроническая почечная
недостаточность
накладывает
определённые
ограничения
для
применения некоторых препаратов, применяющихся в ПВТ.
44
Список литературы
1. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад.–
М.:Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, 2019.–254 с
2. Гепатит
C.
Всемирная
организация
здравоохранения.
Информационный бюллетень. Июль 2019 г.
3. Nelson P. K., Mathers B. M., Cowie B., Hagan H., Des Jarlais D., Horyniak
D., Degenhardt L. Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in
people who inject drugs: results of systematic reviews. // Lancet (London,
England). — 2011. — Vol. 378, no. 9791. — P. 571—583.
4. Комарова Д.В., Цинзерлинг В.А. Морфологическая диагностика
инфекционных поражений печени. — СПб., 1999. — 120с.
5. Alter M. J. Epidemiology of hepatitis C virus infection. // World journal of
gastroenterology. — 2007. — Vol. 13, no. 17. — P. 2436—2441.
6. Fattovich G., Stroffolini T., Zagni I., Donato F. Hepatocellular carcinoma in
cirrhosis: incidence and risk factors.// Gastroenterology. — 2004. — Vol.
127, no. 5 Suppl 1. — P. 35—50.
7. Identification of Novel HCV Genotype and Subtypes in Patients Treated
with Sofosbuvir-Based Regimens. AASLD: The Liver Meeting® 2017,
October 20-24, 2017, Washington, DC
8. Л.И. Николаева. Вирус гепатита С: антигены вируса и реакция на них
иммунной системы макроорганизма: информационно-методическое
пособие. — Новосибирск: Вектор-Бест, 2009. — 78 с.
9. А.И. Зинченко, Д.А. Паруль. Основы молекулярной биологии вирусов
и антивирусной терапии. — Минск: Вышэйшая школа, 2005. — С. 164.
— 214 с.
45
10. Albeldawi M., Ruiz-Rodriguez E., Carey W.D. Hepatitis C virus:
Prevention, screening, and interpretation of assays.//Cleve Clin. J. Med.
2010. -V. 77. - №9.-P.616-626.
11. Сологуб Т.В. Вирусные гепатиты. Современные аспекты терапии и
фармакоэкономики. Пособие для врачей / Под ред. Сологуб Т.В.,
Романцов М.Г.,Кетлинская О.С. и др. Издательство "Академия
Естествознания", 2008.
12. Shimizu Y.K., Feinstone S.M., Kohara M., и др. Hepatitis C virus:detection
of intracellular virus particles by electron microscopy. // Hepatology. 1996.
№ 23. С. 205–209.
13. Dubuisson J. Hepatitis C virus proteins. // World J. Gastroenterol. 2007. №
13. С. 2406–2415.
14. Cocquerel L., Voisset C., Dubuisson J. Hepatitis C virus entry: potential
receptors and their biological functions. // J. Gen. Virol. 2006. № 87. С.
1075–1084.
15. Del Campo J.A., Rojas A., Romero-Gómez M. Entry of hepatitis C virus
into the cell: A therapeutic target. // World J. Gastroenterol. 2012. № 18. С.
4481–4485.
16. Pileri P., Uematsu Y., Campagnoli S., и др. Binding of hepatitis C virus to
CD81. // Science. 1998. № 282. С. 938–941.
17. Scarselli E., Ansuini H., Cerino R., и др. The human scavenger receptor
class B type I is a novel candidate receptor for the hepatitis C virus. //
EMBO J. 2002. № 21. С. 5017–5025
18.Sharma S.D. Hepatitis C virus: molecular biology & current therapeutic
options. // Indian J. Med. Res. 2010. № 131. С. 17–34.
19. Gonzalez M.E., Carrasco L. Viroporins. // FEBS Lett. 2003. № 552. С. 28–
34.
20.Yamaga A.K., Ou J.-H. Membrane topology of the hepatitis C virus NS2
protein. // J. Biol. Chem. 2002. № 277. С. 33228–33234.
46
21.Morikawa K., Lange C.M., Gouttenoire J., и др. Nonstructural protein 3-4A:
the Swiss army knife of hepatitis C virus. // J. Viral Hepat. 2011. № 18. С.
305–315.
22. Yu G.-Y., Lee K.-J., Gao L., и др. Palmitoylation and polymerization of
hepatitis C virus NS4B protein. // J. Virol. 2006. № 80. С. 6013–6023.
23.Huang L., Hwang J., Sharma S.D., и др. Hepatitis C virus nonstructural
protein 5A (NS5A) is an RNA-binding protein. // J. Biol. Chem. 2005. №
280. С.36417–36428.
24.Bartenschlager R., Frese M., Pietschmann T. Novel insights into hepatitis C
virus replication and persistence. // Adv. Virus Res. 2004. № 63. С. 71–180.
25.Smith DB, Bukh J, Kuiken C, Muerhoff AS, Rice CM, Stapleton JT,
Simmonds P (2014). "Expanded classification of hepatitis C virus into 7
genotypes and 67 subtypes: updated criteria and genotype assignment web
resource". Hepatology. 59 (1): 318–27.
26.Muhammad T Sarwar, Humera Kausar, Bushra Ijaz, Waqar Ahmad,
Muhammad Ansar. NS4A protein as a marker of HCV history suggests that
different HCV genotypes originally evolved from genotype 1b // Virology
Journal. — 2011-06-23. — Т. 8. — С. 317.
27.Marco Salemi, Anne-Mieke Vandamme. Hepatitis C Virus Evolutionary
Patterns Studied Through Analysis of Full-Genome Sequences // Journal of
Molecular Evolution. — 2002-01-01. — Vol. 54, iss. 1. — P. 62—70.
28.Munir S., Saleem S., Idrees M., и др. Hepatitis C Treatment: current and
future perspectives. // Virol J. 2010. № 7. С. 296.
29.Poordad F., Dieterich D. Treating hepatitis C: current standard of careand
emerging direct-acting antiviral agents. // J. Viral Hepat. 2012. № 19. С.
449–464.
30.Poynard T., Marcellin P., Lee S.S., и др. Randomised trial of interferon
alpha2b plus ribavirin for 48 weeks or for 24 weeks versus interferon
alpha2b plus placebo for 48 weeks for treatment of chronic infection with
47
hepatitis C virus. International Hepatitis Interventional Therapy Group
(IHIT). // Lancet. 1998. № 352. С. 1426–1432.
31.Zein N.N. Clinical significance of hepatitis C virus genotypes. // Clin.
Microbiol. Rev. 2000. № 13. С. 223–235.
32.Probst A., Dang T., Bochud M., и др. Role of hepatitis C virus genotype 3 in
liver fibrosis progression - a systematic review and meta-analysis. // J. Viral
Hepat. 2011. № 18. С. 745–759.
33.El-Serag H.B. Epidemiology of viral hepatitis and hepatocellular carcinoma.
// Gastroenterology. 2012. № 142. С. 1264–1273.e1.
34.Chak E., Talal A.H., Sherman K.E., и др. Hepatitis C virus infection in
USA: an estimate of true prevalence. // Liver Int. 2011. № 31. С. 1090–
1101.
35. El-Zanaty, Fatma and Ann Way. 2009. Egypt Demographic and Health
Survey 2008. Cairo, Egypt: Ministry of Health, El-Zanaty and Associates,
and Macro International.
36.Ali S.A., Donahue R.M.J., Qureshi H., и др. Hepatitis B and hepatitis C in
Pakistan: prevalence and risk factors. // Int J Infect Dis. 2009. № 13. С. 9–
19.
37.Jokhio A.H., Bhatti T.A., Memon S. Knowledge, attitudes and practices of
barbers about hepatitis B and C transmission in Hyderabad, Pakistan. //
East.Mediterr. Health J. 2010. № 16. С. 1079–1084.
38.Esteban J.I., Sauleda S., Quer J. The changing epidemiology of hepatitis C
virus infection in Europe. // J. Hepatol. 2008. № 48. С. 148–162
39.Candotti D., Temple J., Sarkodie F., и др. Frequent recovery and broad
genotype 2 diversity characterize hepatitis C virus infection in Ghana, West
Africa. // J. Virol. 2003. № 77. С. 7914–7923.
40.Sievert W., Altraif I., Razavi H.A., и др. A systematic review of hepatitis C
virus epidemiology in Asia, Australia and Egypt. // Liver Int. 2011. № 31
Suppl 2. С. 61–80.
48
41.Mellor J., Holmes E.C., Jarvis L.M., и др. Investigation of the pattern of
hepatitis C virus sequence diversity in different geographical regions:
implications for virus classification. The International HCV Collaborative
Study Group. // J. Gen. Virol. 1995. № 76 ( Pt 10). С. 2493–2507.
42.Njouom R., Pasquier C., Ayouba A., и др. High rate of hepatitis C virus
infection and predominance of genotype 4 among elderly inhabitants of a
remote village of the rain forest of South Cameroon. // J. Med. Virol. 2003.
№ 71. С. 219–225.
43.Antaki N., Craxi A., Kamal S., и др. The neglected hepatitis C virus
genotypes 4, 5 and 6: an international consensus report. // Liver Int. 2010. №
30. С. 342–355.
44.Kalinina O., Norder H., Vetrov T., Zhdanov K., Barzunova M., Plotnikova
V. et al. Shift in predominating subtype of HCV from 1b to 3a in
St.Petersburg mediated by increase in injecting drug use. J. Med. Virol.
2001; 65: 517–524.
45.Donald G. Murphy, Erwin Sablon, Jasmine Chamberland, Eric Fournier,
Raymond Dandavino. Hepatitis C Virus Genotype 7, a New Genotype
Originating from Central Africa // Journal of Clinical Microbiology. —
2015-03-01. — Vol. 53, iss. 3. — P. 967—972.
46.Кузин С.Н., Самохвалов Е.И., Заботина Е.Е. и др. Структура генотипов
вируса гепатита у пациентов с хроническим гепатитом С. Журн.
микробиол. 2011, 3: 33-38.
47.Kalinina, O. A natural intergenotypic recombinant of hepatitis C virus
identified in St. Petersburg / O. Kalinina, H. Norder, S. Mukomolov, L.O.
Magnius // Journal of virology. – 2002. – Vol. 76, № 8. – P. 4034–4043.
48.Worobey, M. Evolutionary aspects of recombination in RNA viruses / M.
Worobey, E.C. Holmes // The Journal of general virology. – 1999. – Vol. 80
(Pt 10). – P.2535–2543.
49
49.González-Candelas, F. Recombination in hepatitis C virus / F.
GonzálezCandelas, F.X. López-Labrador, M.A. Bracho // Viruses. – 2011. –
Vol. 3, № 10. – P.2006–2024
50. Шахгильдян
И.
В.
Парентеральные
вирусные
гепатиты
(эпидемиология, диагностика, профилактика) / И. В. Шахгильдян, М.
И. Михайлов, Г. Г. Онищенко.— М., 2003.
51. Вирусные гепатиты в Российской Федерации. Аналитический обзор. 8
выпуск / Под. ред. В.И. Покровского, А.Б. Жебруна. – СПб.:ФБУН
НИИЭМ имени Пастера, 2011. – 116с.
52. Богомолов П.О., Буеверов А.О., Мациевич М.В., Петраченкова М.Ю.,
Воронкова Н.В., Коблов С.В., Кокина К.Ю., Безносенко В.Д., Федосова
Е.В. Эпидемиология гепатита C в Московской области: данные
регионального регистра и скрининга на антитела к HCV / Альманах
клинической медицины. 2016 Август-сентябрь; 44 (6): 689–696
53. Ющук Н.Д. и др. Рекомендации по диагностике и лечению взрослых
больных гепатитом С. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 96с.
54.Shiftman M.L. Relationship between biochemical, viro-logical and
histological response during interferon treatment of chronic hepatitis C /
Shiftman M.L., Hofmann C.M., Thompson L.B. [et al.] // Hepatology. —
1997. — Vol. 26, № 3. — P. 780-785.
55.Маевская М.В., Знойко О.О. и др. Лечение больных хроническим
гепатитом С препаратом цепегинтерферон альфа-2b в сочетании с
рибавирином
(итоговые
результаты
рандомизированного
сравнительного клинического исследования) // РЖГГК. — 2014. — №
2. — С. 53–64
56.Патлусов
Е.П.
Сравнительная
характеристика
инвазивных
и
неинвазивных методов диагностики стадии фиброза печени у
пациентов с хроническими вирусными гепатитами / Е.П. Патлусов,
В.М. Борзунов, П.Л.Кузнецов, В.С. Чернов //Медицинский вестник
МВД. – 2014. – № 3 (том LXX). – С.53–56.
50
57.Павлов Ч.С., Глушенков Д.В. и др. Современные возможности
эластометрии, фибро- и актитеста в диагностике фиброза печени // Рос.
журн. гастроэнтерол.,гепатол., колопроктол. — 2008. — Т. XVIII. — №
4. — С. 43–52.
58.Павлов Ч.С., Коновалова О.Н. и др. Сфера клинического применения
неинвазивных
методов
оценки
фиброза
печени:
результаты
собственных исследований в многопрофильном стационаре // Клин.
мед. — 2009. — Т. 87. — № 11. — С. 40–44.
59.Zarski J.P., Sturm N., Guechot J. et al. Comparison of nine blood tests and
transient elastography for liver fibrosis in chronic hepatitis C: the ANRS
HCEP-23 study //J. Hepatol. — 2012. — Vol. 56. — N 1. — P. 55–62
60. Boursier J., de Ledinghen V., Zarski J.P. et al. Comparison of eight
diagnostic algorithms for liver fibrosis in hepatitis C: new algorithms are
more precise and entirely noninvasive // Hepatology. — 2012. — Vol. 55.
— N 1. — P. 58–67.
61.EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016: European
Association for the Study of the Liver // J. Hepatol. — 2016 Sep 12. — pii:
S0168-8278(16)30489-5.doi:10.1016/j.jhep.2016.09.001.
62.Селиверстов П.В., Джадхав С.Н., Цурцумия Д.Б. и др. Неалкогольная
жировая болезнь печени: возможности диагностики. РМЖ. 2019;5:3640.
63.Fitzpatrick E. Noninvasive biomarkers in non–alcoholic fatty liver disease:
Current status and a glimpse of the future. / E. Fitzpatrick, A. Dhawan //
World Journal of Gastroenterology 2014. – Vol. 20(31). – P. 10851–10863
64.Гураль А.Л. Гепатит С: проблемы эпидемиологии // Вирусные
гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителей и их
исходы. — К., 2001. — С. 21-24.
65. Карпов И.А., Яговдик-Тележная Е.Н. Фульминантный гепатит //
Медицинские новости. – 2003. – №7. – С. 64-66.
51
66.Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей:
Практическое руководство: Пер. с англ. под ред. З.Г. Апросиной, Н.А.
Мухина. — М.: Гэотар Медицина, 1999. — 864 с.
67.Nicot, F. Chapter 19. Liver biopsy in modern medicine. // Occult hepatitis C
virus infection: Where are we now? — 2004.
68.Rosen H. R. Clinical practice. Chronic hepatitis C infection.// The New
England journal of medicine. — 2011. — Vol. 364, no. 25. — P. 2429—
2438.
69.Вирусные гепатиты / К.В. Жданов, Ю.В. Лобзин, Д.А.Гусев, К.В.
Козлов. — СПб.: Фолиант, 2012. — 304с.
70.Рекомендации по лечению внепеченочных проявлений хронического
гепатита C на основе доказательных исследований // Journal of
Hepatology EASL. Русское издание. – 2017. – Т.3, №4. – С. 80-88.
71.EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016: European
Association for the Study of the Liver // J. Hepatol. — 2016 Sep 12.
72.Mueller S., Millonig G., Seitz H. K. Alcoholic liver disease and hepatitis C:
a
frequently
underestimated
combination.
//
World
journal
of
gastroenterology. — 2009. — Vol. 15, no. 28. — P. 3462—3471.
73.Stroffolini, T. Sex difference in the interaction of alcohol intake, hepatitis B
virus, and hepatitis C virus on the risk of cirrhosis / T. Stroffolini, E.
Sagnelli, A. Andriulli, G. Colloredo, C. Furlan, G.B. Gaeta, F. Morisco, M.
Pirisi, F. Rosina, C. Sagnelli, A. Smedile, P.L. Almasio // PloS one. – 2017.
– Vol. 12, № 11.
74.Голованова Е. В. Фиброз при хронических заболеваниях печени.
Возможности
антифибротической
терапии:
учебно–методическое
пособие для врачей /Е.В. Голованова, А.Ф. Логинов. – М.: ФГУ НМХЦ
им. Н.И. Пирогова, 2012. – 30 с.
75.Непомнящих
Г.И.
Морфогенез
хронического
гепатита
С
и
инфекционно-вирусного цирроза печени / Г.И. Непомнящих, С.В.
52
Айдагулова, О.А. Постникова [и др.] // Клинические перспективы
гастроэнтерологии, гепатологии. – 2012. – №2.– С.13–21.
76.Вязов, С.О. Частота выявления антител к вирусу гепатита С у
различных групп населения СССР / С.О. Вязов, С.Н. Кузин, Н.Г.
Орлова, И.В. Шахгильдян, К.А. Андриуца, Н.Е. Палади, Н.С.
Асфандиярова,
А.Я.
Буриев,
Е.А.
Савин,
С.П.Брызгалов,
Р.С.
Телнкопачев // Вопросы вирусологии. – 1991. – Т. 36, № 5. – C.366–368.
77.Баранов,
А.В.
Распространение
вирусного
гепатита
С
среди
потребителей инъекционных наркотиков / А.В. Баранов, Л.В. Мишкина
// Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2008. – № 13. –
C. 97–100.
78.Кожевникова, Г.М. Факторы риска заражения вирусными гепатитами
лиц, употребляющих наркотики / Г.М. Кожевникова, Г.К. Аликеева,
А.С. Шамов, Н.Д. Ющук // Эпидемиология и инфекционные болезни. –
1998. – № 3. – C. 47–48.
79.Мукомолов, С.Л. Современная эпидемиология гепатита С в России /
С.Л. Мукомолов, И.А. Левакова, Л.Г. Сулягина, Е.В. Синайская, Д.Д.
Болсун, Н.В. Иванова // Эпидемиология и инфекционные болезни.
Актуальные вопросы. – 2012. – № 6. – C. 21–25.
80.Пименов, Н.Н. Гепатит С и
его исходы
заболеваемости,распространенности
и
в России:
смертности
до
анализ
начала
программы элиминации инфекции / Н.Н.Пименов, С.В. Комарова, И.В.
Карандашова,
Н.Н.
Цапкова,
Е.В.
Волчкова,
В.П.
Чуланов
//Инфекционные болезни. – 2018. – Т. 16, № 3. – С. 37–45.
81.Современная
эпидемиологическая
характеристика
хронического
гепатита С и его исходов в Российской Федерации / Пименов Н.Н.,
Чуланов В.П. // Материалы IX Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора
«Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены»
(Иркутск, 5–7 декабря 2017 г.). – 2017. – С. 100–101.
53
82.Красавцев,
Е.Л.
Структура
больных
хроническими
вирусными
поражениями печени и лиц с выявленными маркерами парентеральных
вирусных гепатитов, состоящих на диспансерном учёте / Е.Л.
Красавцев, В.М. Мицура // Медицинские новости. – 2004. – № 1. – С.
87–88.
83.Структура госпитализированных больных различными формами HCVинфекции и их клиническая характеристика / Е.Л. Красавцев, С.В.
Жаворонок,
И.Л.
Павлович,
Л.М.
Красавцева,
В.М.
Мицура
//Медицинские новости. – 2004. – № 9(111). – С. 93–96.
84.Красавцев,
Е.Л.
Сонографическая
характеристика
хронических
диффузных заболеваний печени / Е.Л. Красавцев, Н.М. Ермолицкий,
М.Н. Перминова // Проблемы здоровья и экологии. – 2004. – № 1. – С.
103–107.
85.Патлусов Е.П., Понежева Ж.Б., Маннанова И.В. Роль метаболических и
иммунологических нарушений в прогрессировании хронического
гепатита С // Регулярные выпуски «РМЖ». – 2019. – №10. – С. 7–11.
86.Красавцев, Е.Л. Сопутствующие изменения желчевыводящих путей и
поджелудочной железы при хроническом гепатите С (по данным
сонографического исследования) / Е.Л. Красавцев, Н.М. Ермолицкий
//Медицинская панорама – 2004. – № 3(38). – С. 34–36.
87.Liang T. J., Ghany M. G. Current and future therapies for hepatitis C virus
infection. // The New England journal of medicine. — 2013. — Vol. 368,
no. 20. — P. 1907—1917
88. О.А. Калачик, М.Г. Козаченко. Алгоритм диагностики и лечения
хронического вирусного гепатита С у пациентов, находящихся на
программном гемодиализе. — Минск, 2009. — 8 с.
89.Акалаев Р.Н., Арипходжаева Г.З., Рашидова С.А., Абдуллаев А.Н.,
Хашимов Х.А. Клинико-эпидемиологические и патогенетические
особенности вирусного гепатита С в отделениях гемодиализа.
Трансплантология. 2019;11(4):282–289.
54
90.Morikawa T., Nakata K., Hamasaki K. et al. Prevalenct and characterization
of hepatitis C virus in hemodialysis patients // Intern. Med. — 1999. —
Vol.38. — № 8. — P.626-631.
91.Hanafinah K. Global epidemiology of hepatitis C virus Infection: new
estimates of age– specific antibody to HCV seroprevalence / K. Hanafinah,
J. Groeger, A. Flaxman, S. Wiersma // Hepatology. – 2013. – Vol. 57. – P.
33 – 42.
92.WHO. Global hepatitis report, 2017; 27 июля 2017 год.
93.Никитин И.Г. Экономическое бремя хронического гепатита С в России
/И.Г. Никитин, Л.Д. Попович, Е.Г. Потапчик // Эпидемиология и
инфекционные болезни. – 2015. – №6 – С. 1–5.
94.Ющук Н. Д., Климова Е. А., Знойко О. О. и др. Вирусные гепатиты.
Клиника, диагностика, лечение. 2-е изд. М.: Гэотар-Медиа, 2015. – 302
с.
95.Rong L., Dahari H., Ribeiro R. M., Perelson A. S. Rapid emergence of
protease inhibitor resistance in hepatitis C virus // Sci. Transl. Med. 2010; 2
(30): 30–32.
96.Meredith L. W., Zitzmann N., McKeating J. A. Differential effect of p7
inhibitors on hepatitis C virus cell-to-cell transmission // Antiviral Res.
2013; 100: 636–639.
97.Kong L., Giang E., Nieusma T., Kadam R. U., Cogburn K. E., Hua Y., Dai
X., Stanfield R. L., Burton D. R., Ward A. B., Wilson I. A., Law M.
Hepatitis C virus E2 envelope glycoprotein core structure. (англ.) // Science
(New York, N.Y.). — 2013. — Vol. 342, no. 6162. — P. 1090—1094.
98.Drug‐drug interactions in hepatitis C virus treatment: Do they really matter?
Clinical Liver Diseases. American Association for the Study of Liver
Diseases. 30 November 2017
55
Приложения
Приложение 1. Структура генома вируса гепатита С [8].
Приложение 2. Биохимические показатели, используемые в тестах
«ФиброТест» и «ФиброМакс» [62]
56
Приложение 3. Интерпретация различных сочетаний маркеров
вирусного гепатита С [53]
Приложение 4. Основные схемы ПВТ, применяющиеся при лечении
ХГС в Российской Федерации [53]
57
Приложение 5. Основные классы современных ПППД [98]
58