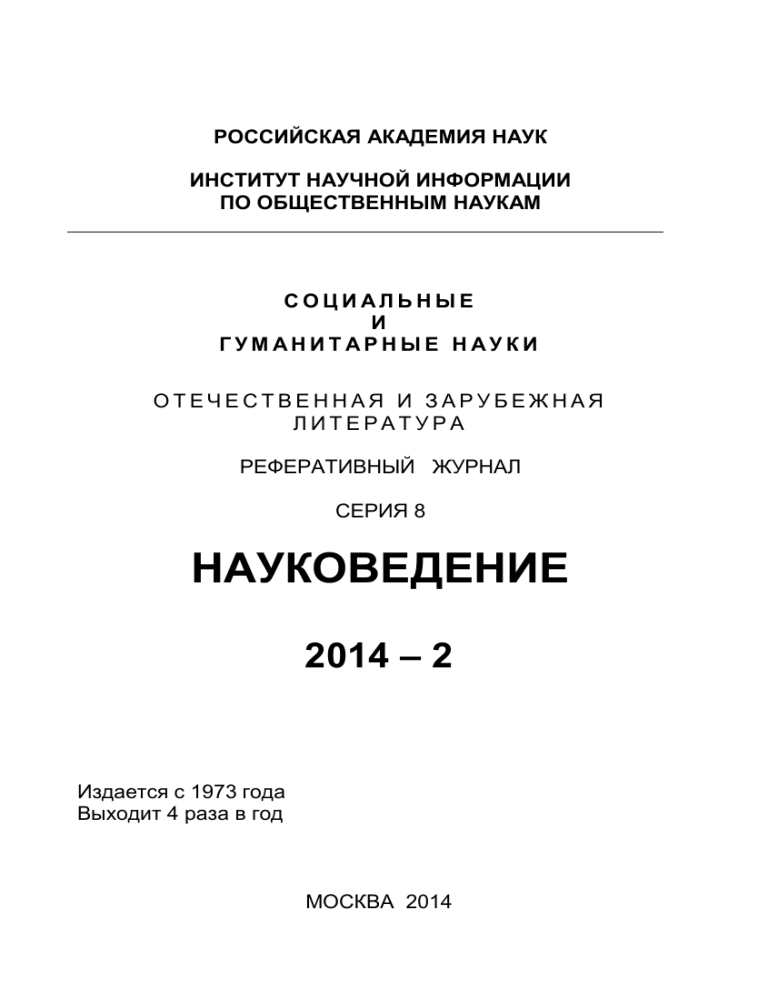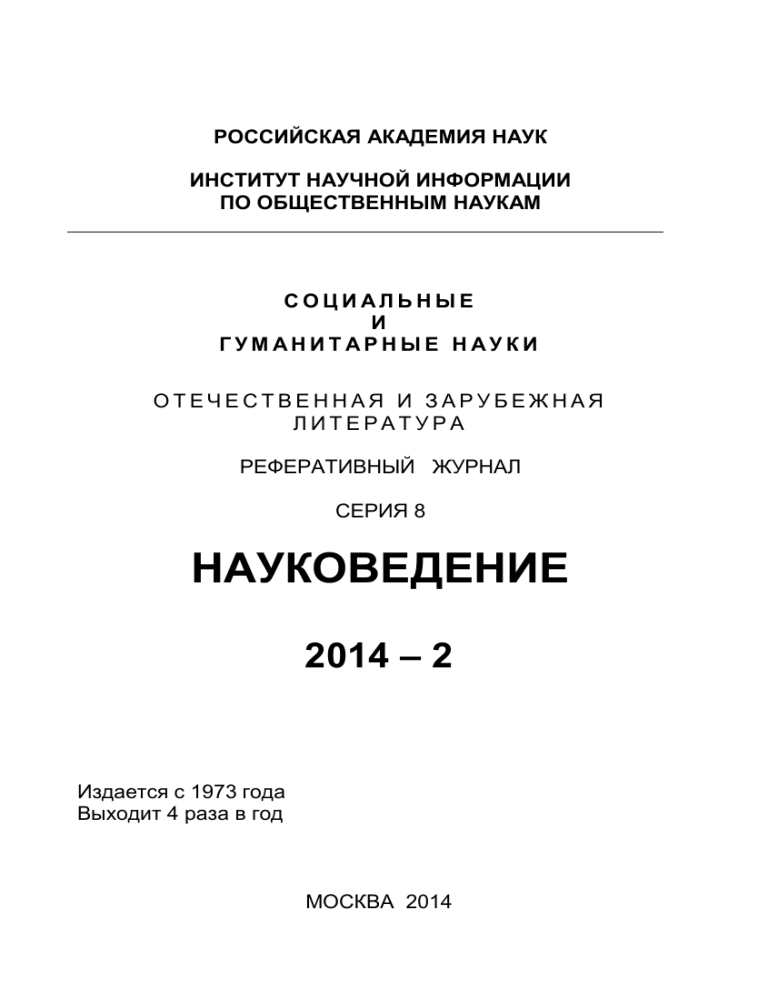
2014.02.001
1
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
СОЦИ АЛЬНЫЕ
И
ГУМ АНИТ АРНЫЕ НАУКИ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ
ЛИТЕРАТУРА
РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ
СЕРИЯ 8
НАУКОВЕДЕНИЕ
2014 – 2
Издается с 1973 года
Выходит 4 раза в год
МОСКВА 2014
2014.02.001
2
ББК 72
С 69
Центр научно-информационных исследований
по науке, образованию и технологиям
Редакционная коллегия серии «Науковедение»:
А.М. Кулькин – д-р филос. наук, главный редактор,
М.П. Булавинова – ответственный секретарь, Т.В. Виноградова – канд. психол. наук, С.М. Пястолов – д-р эконом.
наук, А.И. Ракитов – д-р филос. наук, А.И. Селиванов – д-р
филос. наук, В.С. Стёпин – академик РАН, Б.Г. Юдин –
член-корреспондент РАН.
Социальные и гуманитарные науки. ОтечественС 69 ная и зарубежная литература. Сер. 8. Науковедение: РЖ /
РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям. – М., 2014. – № 2. – 188 с.
Журнал «Науковедение» включает реферативные материалы,
посвященные проблемам науки и общества, методологии и теории развития науки, социальных и психологических факторов развития науки,
организации научной деятельности и управления наукой, экономики
науки и подготовки научных и инженерных кадров.
ББК 72
ISSN 2219-8814
© ИНИОН РАН, 2014
2014.02.001
3
СОДЕРЖАНИЕ
НАУКА И ОБЩЕСТВО
2014.02.001. Наука в обществе: Забота о нашем будущем в
бурные времена ............................................................................... 6
2014.02.002. Пресс У.Х. Что такого особенного в науке (и как
много надо на нее тратить)? ......................................................... 10
2014.02.003. Мастер З., Резник Д.Б. Шумиха и доверие общества науке ....................................................................................... 15
2014.02.004. Бёрд С.Дж. Безопасность и частная жизнь: Почему
необходимо защищать частную жизнь ....................................... 20
2014.02.005. Ценностные предрасположенности как фильтры
восприятия: Сравнение отношения общественности к нанотехнологиям в США и Сингапуре / Лянь Ч., Хо Ш.C., Броссар Д., Ксенос М.A., Шеуфеле Д.A., Андерсон Э., Хао С., Хе С. ... 23
МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ
2014.02.006. О механизации: Учет многомерности когнитивных
ресурсов человека в создании механизированных систем /
Тэйлор Г., Рейнеман-Джоунс Л., Цалма Дж., Мулуа М.,
Хэнкок П. ....................................................................................... 29
2014.02.007. Гутцвиллер Р., Клегг Б. Роль рабочей памяти на
разных уровнях осознания ситуации .......................................... 35
2014.02.008. Клуге А., Буркольтер Д. Углубляя исследование в
области обучения навыкам когнитивной готовности: Проблемы исследования и идеи эксперимента ................................... 41
2014.02.009. Предсказывая поведение команды в динамичной
среде: Психофизический подход к измерению когнитивной
готовности команды / Уокер А., Мут Э., Суитзер Ф., Росопа П. .... 45
2014.02.001
4
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ НАУКИ. ЛИЧНОСТЬ УЧЕНОГО
2014.02.010. Де Бон Р. Манера ведения научных диспутов в
Великобритании и немецких землях в XIX в. ............................ 49
2014.02.011. Ессен А., Варландер С.У. Взаимное конструирование телесного и дискурсивного понимания в научной практике: Аутоэтнографический взгляд на академические тексты ... 57
2014.02.012. Эндрюс Дж.Т. Меняющаяся сфера научной популяризации: Государственное научное просвещение, коммуникативный дискурс и публицистическая культура от
царской России до хрущёвских времен ...................................... 63
2014.02.013. Говони П. Сила слабых конкурентов: Женщиныученые, «популярная наука» и создание научного сообщества в Италии, (1860–1930-е годы) ......................................... 69
2014.02.014. Дамодаран В. Гендер, раса и наука в Индии XX в.:
Е.К. Джанаки Аммал и история науки ........................................ 77
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ НАУКИ.
УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
2014.02.015. Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации ..................................................... 84
2014.02.016. Проуберт Дж., Коннел Д., Мина А. Сервисные фирмы ИР: Скрытый двигатель экономики на основе высоких
технологий? ................................................................................... 90
2014.02.017. Глобальный индекс инноваций 2013: Локальная
динамика инноваций ..................................................................... 97
2014.02.018. Махрум С., Аль-Салех Я. К функциональной парадигме измерения эффективности национальных инноваций ............................................................................................ 106
2014.02.019. Шапер-Ринкель П. Роль анализа технологий, ориентированных на будущее, в сфере технологической политики: Пример нанотехнологий ................................................... 112
ЭКОНОМИКА НАУКИ
2014.02.020. Борлёуг С.Б., Якоб М. Кто коммерциализирует результаты научных исследований в Швеции и почему? ........... 118
2014.02.001
5
2014.02.021. Инновационные посредники: Процессный взгляд
на координацию открытых инноваций / Каци Б., Тургут Э.,
Холцман Т., Сайлер К. ................................................................ 122
2014.02.022. Гилмор О., Гэлбрайт Б., Мулвенна М. Воспринимаемые барьеры на пути участия в программах исследований и разработок для малых и средних предприятий в
Европейском союзе ..................................................................... 126
2014.02.023. Бродаг К. Исследовательские университеты, трансфер технологий и создание рабочих мест: Какая инфраструктура, для чего подготовка? ................................................. 129
2014.02.024. Сокол М. Силиконовая долина в Восточной Словакии? Неолиберализм, постсоциализм и экономика знаний .. 136
2014.02.025. Шён А., Бюнсторф Г. Когда университеты будут
иметь собственные патенты? Обзор определяющих характеристик патентной системы в Германии .................................... 141
2014.02.026. Беверюнген А., Бём С., Ланд С. Нищета журнальных публикаций .......................................................................... 146
НАУЧНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ.
ПРОБЛЕМЫ ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВА
2014.02.027. Дружилов С.А. Реформа высшего образования в
России: Отрицательный вектор ................................................. 151
2014.02.028. Фрумин И., Кузьминов Я., Семенов Д. Незавершенный переход – от Госплана к мастер-плану ........................ 154
2014.02.029. Хантер К.П. Изменение тематики в обзорах высшего образования по странам ОЭСР ......................................... 157
2014.02.030. Финкельштейн М.Дж., Уокер Э., Чен Р. Американские преподаватели в эпоху глобализации: Предсказатели интернационализации содержания научных исследований и профессиональные интернет-сети ............................... 164
2014.02.031. Кобояши Й. Европа versus Азия: Обучение иностранному (не английскому) языку в японских вузах ............. 169
2014.02.032. Ху Гуанвэй, Лэй Цзюнь. Английский как средство
обучения (программа EMI) в китайском высшем образовании: Кейс-стади ....................................................................... 174
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЙ
РАБОТ, ОПИСАННЫХ НЕ НА АВТОРА ................................ 181
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ........................................................ 183
2014.02.001
6
НАУКА И ОБЩЕСТВО
2014.02.001. НАУКА В ОБЩЕСТВЕ: ЗАБОТА О НАШЕМ БУДУЩЕМ В БУРНЫЕ ВРЕМЕНА.
Science in society: Caring for our futures in turbulent times // European
science foundation. Science policy breifing #50. – 2013. – June. – 36 p. –
Mode of access: http://www.esf.org/uploads/media/spb50_ScienceInSo
ciety.pdf
Ключевые слова: исследования; инновации; взаимоотношения
науки и общества; управление наукой; понимание науки обществом; вовлеченность общества в исследования и инновации.
Документ подготовлен Постоянным комитетом по социальным наукам Европейского научного фонда (European Science Foundation – ESF). Его авторы – рабочая группа во главе с профессором
Венского университета (Австрия) Ульрике Фельт (Ulrike Felt). Это
уже 50-й информационный документ (брифинг), подготовленный
ESF. В каждом брифинге, адресованном членам ESF, правительствам, Европейской комиссии, другим международным агентствам,
промышленным и научным кругам, формулируется позиция по той
или иной проблеме политики в области науки и высказываются
соответствующие рекомендации.
Сама по себе проблематика «науки в обществе» не является
новой. Однако данный доклад написан в то время, когда обозначились два новых, связанных между собой вызова. Во-первых, наука
и технологии все в большей мере управляются из множества мест,
разными акторами и совершенно различными способами. Во-вторых, кризис в Европе и связанная с ним необходимость жесткой
экономии имеют важные последствия для управления наукой и
технологиями. Все это происходит в то время, когда инновации
рассматриваются в качестве пути для выхода из кризиса и основа-
2014.02.001
7
ния для будущего процветания и стимулируются более решительно, чем когда-либо ранее.
Эти вызовы имеют большие последствия для взаимоотношений между наукой и обществом. Они порождают и новые угрозы, и
новые возможности. Поэтому необходимо искать новые подходы к
решению вопросов о взаимоотношениях науки и общества, с тем
чтобы обеспечить их сбалансированную коэволюцию.
Продолжающиеся в течение нескольких десятилетий «исследования науки и технологий» (Science and Technology Studies – STS)
позволили понять, что наука и общество находятся в постоянной
коэволюции, которая, однако, требует заботы и пристального внимания к вопросам управления. Большой объем исследований, посвященных вызовам и пределам, неизбежным при демократическом
управлении наукой и технологиями (или того, что называют «участие общества в науке»), показал, что «наука» и «общество» никоим
образом не являются четко очерченными или предзаданными сущностями. Эти понятия гибки и принимают гетерогенные, зависящие
от контекста формы. Поэтому «участие» и «управление» – это те
пространства, где договариваются относительно ценностей и норм,
а следовательно, и об отношениях между властью и наукой. Но и
сам процесс инноваций, который играет ключевую роль в преобразующей себя Европе, требует более тщательного изучения и широкой трактовки. Управление наукой и инновациями осуществляется
из множества мест акторами, имеющими разнообразные интересы,
ценности и ожидания. Однако структуры, которые были созданы
для того, чтобы поддерживать и направлять инновации, часто опираются на очень узкий набор индикаторов, не позволяющий сколько-нибудь полно отражать сложности той среды, в которой осуществляются инновации. Это ставит в центр внимания проблему
расхождения между более широкими ценностными системами социетальных акторов, воспринимающих науку как общественное
благо, и зачастую узкими оценочными критериями, которые используются применительно к исследованиям, инновациям и образовательной политике. Именно эти узкие интересы и представления
в настоящее время оказывают наиболее сильное влияние на формирование будущего человечества.
За последние два десятилетия в европейской политике по вопросам взаимодействия науки и общества оформились два важных
8
2014.02.001
дискурсивных и программных сдвига. В ставшей классической
фразе «понимание науки обществом» произошел сдвиг в трактовке
понятия «понимание», которое расширилось и наряду с такими
значениями, как «восприятие и установка», стало включать также
«диалог, участие (participation) и управление (governance)». Еще
более существенным стало акцентирование интегративного характера взаимоотношений науки и общества, выраженное в переходе
от формулировки «наука и общество» к формулировке «наука в
обществе». А произошедший совсем недавно сдвиг в направлении
«ответственных исследований и инноваций» еще более расширил
проблемную сферу «наука-в-обществе». Эти последовательные
сдвиги не следует понимать как линейный процесс постепенного
движения в сторону большей социальной интеграции. Скорее можно, используя метафору из стратиграфии, говорить о процессе седиментации (т.е. отложения осадков), в котором при сохранении
старых слоев добавляются новые. Но поскольку система исследований и инноваций оказывается под давлением, становится более
заметным трение между слоями, под действием которого некоторые из предыдущих слоев могут снова становиться доминирующими. Это обстоятельство особенно существенно, когда к вопросам о
взаимоотношениях науки и общества приходится обращаться в период господства риторики кризиса и необходимости жесткой экономии.
Важно обратить внимание на само значение понятий «наука»
и «общество», как они артикулируются в многочисленных программах, мероприятиях и политических построениях. Понимается
наука как «институт, производящий объективное / истинное знание» или как «социальная деятельность, осуществляемая в некотором контексте»? В первом варианте сама наука редко ставится под
вопрос, а главными проблемами становятся соответствующая
оценка науки, поддержка производства научного знания и обеспечение качественной научной экспертизы. Во втором варианте наука
понимается как практика видения и созидания мира, концептуализации проблем, которые так или иначе формируются обществом и в
свою очередь сами формируют общество. Аналогичные рефлексивные вопросы можно поставить и относительно общества. Как
воспринимать общество – как «когерентную и стабильную сущность» или исходить из того, что общество всегда находится в про-
2014.02.001
9
цессе непрерывного преобразования, проявляющегося, в зависимости от проблематики и контекста, с помощью разнообразных и
сложных способов? Эти различия значимы, поскольку они задают
рамки того, как вопросы взаимоотношений науки и общества
должны и могут трактоваться в данных конкретных обстоятельствах. Сегодня можно выявить три зоны трения между сосуществующими слоями.
1. В большинстве случаев политические меры, касающиеся
исследований и инноваций в их взаимоотношениях с обществом,
основываются на понимании этих взаимоотношений в терминах
управления, осуществляемого с помощью менеджмента и контроля, хотя было бы лучше понимать исследования и инновации в
их тесной связи с более широкими социетальными процессами. В
результате будущее воспринимается как то, чего можно достичь
чисто инструментальными способами, общество же воспринимается в узких рамках формального участия, а ценностные различия не
получают достаточного внимания.
2. При рассмотрении изменяющихся условий, в которых
осуществляются исследования и инновации, принято обращать
внимание прежде всего на академическую среду. Возникающие в
связи с этим трения находят выражение в том, что общество ценит
науку как общественное благо, в то время как в исследовательских
институтах нередко ограничиваются узкими, основанными на индикаторах средствами оценки. Еще один источник потенциальных
трений – это расхождение между подотчетностью как набором
формализованных процедур, с одной стороны, и ответственностью
как озабоченностью развитием науки и общества – с другой.
3. Хотя политики часто подчеркивают необходимость «диалога», для того чтобы учитывать обеспокоенность общества теми
или иными вопросами, связанными с развитием науки и технологий, в то же время налицо стремление контролировать исходы такого диалога между наукой и обществом. Это выражается, к примеру, в том, что политики настаивают на необходимости
обеспечить высокие темпы инноваций, пытаясь выстраивать диалог
в соответствии с этим требованием; в результате из-за нехватки
времени сама возможность продуктивного диалога существенно
ограничивается. Кроме того, в последние годы возрастает разнообразие форм контакта между наукой и обществом, но подчас такое
10
2014.02.002
взаимодействие «ритуализируется», выполняется «строго по правилам», вследствие чего не уделяется должного внимания контекстуальным различиям, характерным для разных европейских стран
и разных ситуаций.
В заключение авторы доклада формулируют свои рекомендации. Однако они не предлагают четких и конкретных действий, а
лишь обозначают проблемы и рамки их рассмотрения. Доклад
обосновывает необходимость сдвига от логики выбора, основывающегося на допущении наличия четко очерченных альтернатив, к
такому подходу, который признает процессуальный и часто запутанный характер путей коэволюции современной науки в ее взаимодействии с обществом.
Б.Г. Юдин
2014.02.002. ПРЕСС У.Х. ЧТО ТАКОГО ОСОБЕННОГО В НАУКЕ
(И КАК МНОГО НАДО НА НЕЕ ТРАТИТЬ)?
PRESS W.H. What’s so special about science (And how much should
we spend on it?) // Science. – 2013. – 15 November, Vol. 342, N 6160. –
P. 817–822. – DOI:10.1126/science. 342.6160.817.
Ключевые слова: фундаментальные исследования; исследования и разработки (ИР); инвестиции в исследования; окупаемость инвестиций в исследования; присваиваемость результатов
исследований.
У.Х. Пресс – профессор Университета штата Техас в Остине
(США). С февраля 2012 г. по февраль 2013 г. был президентом
Американской ассоциации содействия развитию науки (American
Association for the Advancement of Science – AAAS). Статья основана
на обращении к президенту, с которым он выступил на ежегодном
заседании ассоциации.
Научные исследования раскрывают глубочайшие тайны Вселенной и живых существ, они порождают приложения и технологии, которые несут пользу человечеству и создают богатство. Существует, однако, и особая тайна, связанная с исследованиями. Она
заключается в следующем: почему общество склонно поддерживать устремления столь абстрактные и альтруистические, как фундаментальные научные исследования, и предприятие столь крупное
и практическое, как исследования и разработки в целом. Иными
2014.02.002
11
словами, тайна в том, что единое научное предприятие может быть
одновременно и «посевным зерном» для экономического роста, и
«сладким сиропом» чистого, движимого любопытством научного
открытия.
Точка зрения, согласно которой поддержка науки может быть
вкладом в интеллектуальное обогащение мира, имеет немало весьма достойных приверженцев. Так, в 1969 г. участник Манхэттенского проекта физик Роберт Уилсон на вопрос, что даст лаборатория им. Э. Ферми для страны, ответил: «Непосредственно для
обороны страны она не даст ничего, кроме одного: она сделает
страну достойной того, чтобы ее защищать» (цит. по: с. 817).
В какой-то мере американские налогоплательщики готовы
платить за то, что обогащает социальный и культурный капитал
нации, не давая прямой экономической выгоды. До сих пор Конгресс выделял около 150 млн долл. в год для поддержки искусства и
около 170 млн долл. – для поддержки гуманитарных наук. На фундаментальные исследования он ежегодно выделяет около 40 млрд
долл. (с. 817). Если разместить эти три числа на одной диаграмме,
первые два числа на фоне третьего будут едва отличны от нуля.
Очевидно, общество готово платить намного больше за исследования в науке, движимые любопытством, чем за аналогичные усилия
в области искусства и гуманитарного знания. Причина проста: существует связь, иногда едва заметная, но постоянно обнаруживающаяся в течение времени, между вложениями в фундаментальные
исследования и макроэкономическим ростом.
В нынешние времена строгой экономии ученые должны снова и снова напоминать об этом. Однако не стоит ограничиваться
повторением. В сложных условиях необходимо отстаивать интересы науки более интенсивно и умело, чем в периоды процветания.
«Настроенный скептически, находящийся под давлением Конгресс
вправе задаться вопросом, являются ли ученые курами, несущими
золотые яйца, или всего лишь группой откормленных дармоедов»
(с. 817). Автор приводит данные, согласно которым в течение последних 130 лет годовой национальный доход на душу населения
возрастает (за исключением нескольких периодов депрессий) почти
по экспоненте.
Вообще говоря, причиной экспоненциального роста является
та или иная положительная обратная связь, когда какое-либо про-
12
2014.02.002
изводство дает возможность производить еще больше. Это значит,
что экспоненциальный рост экономики США обусловлен тем, что
нечто из производимого само выступает в качестве фактора производства. В классической экономической науке факторами производства считались земля, труд и капитал. В дальнейшем к этому
перечню были добавлены различные формы человеческого капитала, такие как вложения в образование. Сегодня не менее важным
фактором производства считается также выступающая в качестве
капитала интеллектуальная собственность.
Относительно фиксированные факторы производства, такие
как земля (и все природные ресурсы), не могут порождать положительную обратную связь, необходимую для экспоненциального роста. Также и рост труда сам по себе не может увеличивать производство дохода на душу населения. Следовательно, из
классических факторов производства один лишь капитал (но понятый в широком смысле, включая человеческий капитал, интеллектуальный капитал и капитал, получаемый за счет окружающей среды) может обеспечивать экспоненциальный рост экономики.
Нобелевский лауреат по экономике 1987 г. Р. Солоу (R. Solow) и его последователи попытались понять, какую долю роста
обеспечивает каждый из факторов производства. Они показали, что
известными факторами можно объяснить почти половину роста.
Впрочем, не поддающаяся объяснению часть, которую назвали
остатком Р. Солоу, иногда оценивается в 85%. В дальнейшем было
показано, что значительную часть этого остатка можно объяснить
новым фактором производства, а именно технологическим прогрессом. Строго говоря, технология не является формой капитала
(хотя она и связана с человеческим и интеллектуальным капиталом), поскольку нет какого-то отдельного лица, владеющего технологией. Тем не менее она способна порождать положительную обратную связь и, будучи одним из факторов производства,
увеличивать богатство и стимулировать еще больший прогресс
технологий, обеспечивая эффективный цикл экспоненциального
роста.
После того как был выявлен этот фактор, начиная с 1970-х
годов было проведено немало исследований, в ходе которых вычленялись небольшие элементы экономического роста, чтобы оценить ежегодные темпы окупаемости инвестиций в фундаменталь-
2014.02.002
13
ные исследования. Почти все такие исследования обнаруживали
высокие темпы окупаемости: если обычно приемлемым считается
5%-ный уровень окупаемости, то окупаемость инвестиций в фундаментальные исследования, по разным оценкам, составляет от 20
до 60% в год (с. 819). При таком уровне окупаемости можно было
бы ожидать, что чуть ли не все инвестиции будут направляться в
сферу фундаментальных исследований. Но этого не происходит изза проблемы «присваиваемости» (appropriability). Эта проблема
заключается в следующем: в какой мере вознаграждение за риск и
вложенные деньги возвращается к инвестору? Доход от вложений в
фундаментальные исследования высок, но присвоить его не так-то
просто. Природа фундаментальных исследований такова, что их
результаты расходятся по всему миру. Хотя результаты этих исследований могут переходить на прикладной уровень, превращаясь в
патенты, продукты и в конечном счете обеспечивая экономический
рост, все это необязательно происходит в лаборатории, где первоначально проводилось исследование, и даже в той же самой стране.
Характерная черта фундаментальных исследований – низкая присваиваемость, т.е., как правило, инвестор не получает адекватной
прибыли. Таким образом, фундаментальные исследования, ведущие к научным открытиям, являются общественным благом: они
приносят пользу всем. Но поскольку в силу этого обстоятельства
стимул платить за фундаментальные исследования ослаблен, частный сектор не особенно заинтересован в такого рода инвестициях.
Поэтому для реализации социального потенциала этого общественного блага инвестиции должны идти от правительства. И действительно, правительство США поддерживает львиную долю
национальных фундаментальных исследований.
Далее автор развивает тезис о том, что проблема присваиваемости значима и на международном уровне. В 1945 г. в США производилось 50% всей мировой продукции. Поэтому на 50% федеральные вложения в ИР почти гарантированно присваивались
внутри страны, порождая прибыль для американской экономики.
Фактически присваиваемость была даже выше, поскольку вплоть
до 60-х годов потенциальные конкуренты США – Япония и Европа –
были не в состоянии абсорбировать результаты финансируемых в
США фундаментальных исследований. Американские научные результаты экспортировались со скоростью писем, пересылаемых
14
2014.02.002
океанскими судами, или международных аспирантских программ,
тогда как сегодня они распространяются со скоростью Интернета.
Сегодня информация передается столь быстро, что каждый человек
в любой стране потенциально может стать предпринимателем, распознающим экономический потенциал научных открытий.
В 1990-е годы индустриальный мир становится значительно
более конкурентным. В США заканчивается эра регулируемых монополий (таких, как «Bell Labs», которая финансировала собственные высокопродуктивные лаборатории). Начинают доминировать
большие международные корпорации. Возрастают инвестиции
промышленности в ИР, поскольку эта сфера становится привлекательной в инвестиционном плане. Однако оправдать инвестиции
промышленности в неприсваемые ИР, такие как фундаментальные
исследования, становится все труднее. Причины – более долгий
временной горизонт и риск того, что результаты будут присвоены
другими.
Наряду с этим начиная с 2003 г. стагнируют и федеральные
расходы на фундаментальные исследования на уровне 37 млрд
долл. в ценах 2005 г. (с. 820). Это создает крайне опасную ситуацию. Во-первых, после десяти лет действия такой тенденции федеральный бюджет столкнулся с периодом беспрецедентной экономии. Фундаментальные исследования должны расти по крайней
мере такими же темпами, как и экономика, поскольку они являются
частью петли обратной связи, обеспечивающей рост экономики.
Кроме того, традиционная двухпартийная поддержка федеральных
расходов на фундаментальные исследования всегда основывалась
на том, что эти исследования являются общим благом, пользу от
которого получают американские налогоплательщики. Поэтому
любое уменьшение присваиваемости этих инвестиций – теперь уже
на уровне нации, а не отдельных корпораций – уменьшает их привлекательность. Опасность заключается в том, что, как и США,
другие государства могут принимать такие же решения, какие принимались отдельными корпорациями в 1990-е годы, и уменьшить
инвестиции в фундаментальные исследования. Фактически США
уже встали на этот путь начиная с 2003 г. Если по этому пути пойдут и другие страны, то может возникнуть ситуация, когда финансирование исследований прекратится вообще: каждая страна будет
пытаться извлечь пользу из исследований, финансируемых други-
2014.02.003
15
ми, но ни одна не захочет инвестировать сама. В результате все
«передерутся» в конкуренции за уменьшающиеся прибыли от прошлых инвестиций.
В связи с этим автор предлагает принять такую политику, которая поддерживала бы присваиваемость прибыли от фундаментальных исследований, проводимых в США, американской экономикой. Это потребует определенной деликатности, поскольку
политика, ограничивающая открытость науки, неизбежно будет
контрпродуктивной. Однако даже в век Интернета можно использовать стратегии, которые обеспечивали бы географическую привязку трансформации исследовательских открытий в экономический рост. Один из таких феноменов – это рост исследовательских
центров вокруг ведущих американских университетов. Наиболее
известный пример здесь – Силиконовая долина. Такие исследовательские университеты – это географически укорененные сообщества, которые нелегко экспортировать. Можно представить себе
корпорацию, которая перемещает свои ИР за границей, но трудно
вообразить, чтобы Стэнфордский университет или Массачусетский
технологический институт вдруг приняли решение переехать в
другое место. Повседневные социальные контакты в такого рода
местах обеспечивают более эффективный трансфер технологий.
Б.Г. Юдин
2014.02.003. МАСТЕР З., РЕЗНИК Д.Б. ШУМИХА И ДОВЕРИЕ
ОБЩЕСТВА НАУКЕ.
MASTER Z., RESNIK D.B. Hype and public trust in science // Science
and engineering ethics. – 2013. – Vol. 19, N 2. – P. 321–335. –
DOI:10.1007/s11948–011–9327–6.
Ключевые слова: доверие общества; шумиха; биотехнология;
поддержка / энтузиазм общества; ответственное проведение исследований.
З. Мастер работает в Университете провинции Альберта в
Эдмонтоне (Канада). Д.Б. Резник – сотрудник Исследовательского
центра «Research Triangle Park» (штат Северная Каролина, США).
Ряд авторов выражают беспокойство по поводу связанной с
биотехнологиями шумихи, т.е. громких публичных кампаний, сопровождающихся благими обещаниями. Одна из главных этиче-
16
2014.02.003
ских проблем состоит в том, что шумиха может завышать ожидания публики и, если обещания остаются неудовлетворенными, вести к потере общественного доверия к биотехнологиям, включая
исследования в области генетики и геномики, стволовых клеток,
биобанков и персонализированной медицины, нанотехнологий и
нейротомографии. Некоторые идут дальше и полагают, что потеря
общественного доверия ведет и к потере общественного энтузиазма
или поддержки биотехнологии.
Хотя этот аргумент кажется интуитивно очевидным, авторы
данной статьи не смогли найти опубликованных эмпирических
данных о каузальных связях между шумихой, общественным доверием, энтузиазмом и поддержкой общества, хотя и обнаружили одно исследование, показывающее, что публика может быть не такой
уж податливой по отношению к шумихе. Эмпирические исследования по этой тематике необходимы по нескольким причинам: для
улучшения коммуникации между учеными, журналистами, пишущими о науке, и публикой; для углубления образования и подготовки ученых в том, что касается ответственного проведения исследований; для того чтобы расширить проблематику публикаций,
связанных с пониманием науки обществом.
Информация о науке и биотехнологиях распространяется в
обществе с помощью разных способов – через печатные СМИ, телевидение, видеоигры и пр. В ее распространении участвуют ученые, журналисты, редакторы новостей, правительственные пресссекретари, представители общественности, профессиональных обществ, организации пациентов и защитников пациентов. Оксфордский словарь современного английского языка определяет шумиху
как «продвижение некоторого продукта посредством экстравагантной рекламы». В случае шумихи вокруг биотехнологий речь обычно
идет об их позитивном изображении, включая обещания разработки клинических продуктов и услуг, экономического процветания,
коммерческой пользы и решения главных медицинских проблем.
В ходе одного исследования, посвященного шумихе вокруг стволовых клеток в прессе и новостных программах телевидения Великобритании, было обнаружено использование таких броских выражений, как «мир, свободный от недугов и болезней», или утверждение
о том, что «исследования стволовых клеток могут стать провоз-
2014.02.003
17
вестником революции в медицине»1. Аналогичным образом оценка
генетики в печатных СМИ дается в позитивном свете за счет использования привлекающих внимание названий, цитирования экспертов, ссылок на статьи из рецензируемых научных журналов и
преувеличенного акцента на генетическом детерминизме. При этом
принижается роль негенетических факторов в этиологии заболеваний2. Шумиха относительно биотехнологий в новостных СМИ может порождаться также неточным отражением науки со стороны
исследователей и других экспертов, на которых полагается пресса.
Вообще-то шумиха – это нормальная стадия развития технологии3. В определенной мере она является составной частью коммуникации ученых с обществом, поскольку помогает привлечь
публичный интерес и политическую поддержку, обезопасить первоначальные инвестиции в данную технологию и поощрить студентов к тому, чтобы они выстраивали свою карьеру в сфере науки
и технологий. Однако необходимо выдерживать баланс, чтобы избежать разнообразных этических и политических проблем, порождаемых технологией, которая вызывает шумиху. В этом смысле
многие исследователи неодобрительно отзываются о шумихе, относя
ее к сфере спорных или неэтичных исследовательских практик.
Одна из проблем, связанных с шумихой вокруг науки в популярной прессе, состоит в том, что она может искажать понимание
науки обществом, поскольку именно СМИ являются основным
средством коммуникации науки с обществом. Кроме того, исследования, порождающие шумиху за счет преувеличения их пользы,
недооценки рисков и грандиозных обещаний, вызывают у людей
надежды и ожидания. Когда же шумиха стихает, а обещания оказываются невыполненными, это может вести к потере как общественного доверия к науке, так и энтузиазма в отношении биотехнологий, а также к снижению поддержки науки в целом.
1
Kitzinger J., Williams C. Forecasting science futures: Legitimising hope and
calming fears in the embryo stem cell debate // Social science and medicine. – 2005. –
Vol. 61, N 3. – P. 731–740.
2
Petersen A. Biofantasies: Genetics and medicine in the print news media // Social science and medicine. – 2001. – Vol. 52, N 8. – P. 1255–1268.
3
Gartner hype cycle. – Mode of access: http://www.gartner.com/technology/
research/methodologies/hype-cycle.jsp# (Accessed January 22, 2011).
18
2014.02.003
Другая проблема – это то, что шумиха может влиять на ученых, правительственных чиновников и политиков, побуждая их
концентрировать усилия и ресурсы на выбранных направлениях
исследований и отвлекая тем самым финансы и поддержку от других достойных областей исследований. Исследователи нередко
склонны перебегать на сторону побеждающей партии, чтобы оказаться среди первых, кто вкушает плоды новых технологий. Так
было с технологиями переноса генов, генного нокаута, исследованиями по геномике и протеомике, с технологиями использования
эмбриональных стволовых клеток человека и с индуцированными
плюрипотентными стволовыми клетками1, которые не так давно
привлекли огромный интерес общества.
Третья причина беспокойства по поводу шумихи состоит в
том, что она может привести либо к поспешному переходу от фундаментального исследования к приложениям, либо подтолкнуть
рынок к предоставлению пациентам непроверенного или потенциально мошеннического лечения. Например, чрезмерная шумиха
вокруг исследований в области стволовых клеток порождает проблему с эффективностью коммуникации относительно того, что
исследования стволовых клеток находятся на стадии эксперимента,
а не на стадии доказанной терапии. Шумиха вокруг стволовых клеток порождает также особый вид медицинского туризма2, когда
пациенты путешествуют за границу в клиники, которые предлагают недостаточно проверенную терапию на основе стволовых клеток для тяжелых изнурительных болезней. В связи с этим некоторые ученые предлагают разработать международные стандарты
или нормы, а также ввести образовательные программы и профессиональный контроль в качестве потенциальных стратегий для
борьбы с клиниками, предлагающими недостаточно проверенное
лечение с применением стволовых клеток.
Четвертая проблема заключается в том, что чересчур назойливые утверждения бывают как минимум неточными, обманчивыми, а потенциально также нечестными и во многом игнорируют те
1
Liu H., Priest S. Understanding public support for stem cell research: Media
communication, interpersonal communication and trust in key actors // Public understanding of science. – 2009. – Vol. 18, N 6. – P. 704–718.
2
Tracking the rise of stem cell tourism / Ryan K.A., Sanders A.M., Wang D.D.,
Levine A.D. // Regenerative medicine. – 2010. – Vol. 5, N 1. – P. 27–33.
2014.02.003
19
этические и профессиональные обязательства, выполнения которых принято ожидать от ученых и профессионалов. От ученых
ожидается честное и правдивое поведение во всех аспектах исследовательской деятельности; их этической обязанностью является
образование и информирование общественности о проводимых
ими исследованиях и их приложениях. Обязательством ученых является также точное отображение того, что они делают. Учитывая
ответственность за образование публики, особенно трудно делать
точные предсказания того, что произойдет в науке в будущем. Шумиха может выражаться в переоценке значимости нового открытия,
изобретения или приложения науки, когда в фокусе оказывается
польза, а не возможные риски. К рекламе и раскрутке авторы
настроены в целом позитивно, они отличают их от шумихи и даже
противопоставляют ей. Реклама помогает завоевывать публичную
поддержку исследований и их финансирование, делает ученых ответственными перед обществом и уделяет внимание тем или иным
беспокойствам и опасениям общественности по поводу науки и
технологий. Иногда бывает трудно отличить рекламирование и
раскрутку от шумихи, поскольку до тех пор, пока раскручиваемая
область науки не добьется (или покажет, что не в состоянии добиться) обещаемых целей, неизвестно, является ли эта раскрутка
чрезмерной. Авторы напоминают, что для начала 1990-х годов были характерны преувеличенные ожидания от возможностей генной
терапии в сфере здравоохранения, но когда область только зарождалась, невозможно было предсказать все возможные направления
ее применения и знать то, что известно сегодня. Часто лучшим судьей того, является ли данная публичная коммуникация шумихой
или подобающей раскруткой и рекламой, оказывается история. Но,
даже учитывая все эти трудности, важно отметить следующее.
Назойливые утверждения, делаемые преднамеренно с целью получить более щедрое финансирование исследований или повлиять на
политику, с тем чтобы инициировать поддержку для тех областей
исследований, в которых можно рассчитывать на получение личной выгоды, нарушают этические принципы и обязательства многих профессионалов. Публика верит профессионалам в том, что
они ставят ее интересы выше своих собственных.
Все сказанное позволяет дополнить приведенное ранее определение шумихи из Оксфордского словаря элементами, относящи-
20
2014.02.004
мися к интерпретации фактов и данных, а также интенцией. Шумиху отличает от подобающей рекламы и раскрутки то, что она основывается на неточных предсказаниях относительно будущего и
преувеличивает доступные факты либо вообще на них не опирается.
Основываясь на проведенном анализе, авторы предлагают
проекты возможных исследований, которые позволили бы дать количественные оценки шумихи в области биотехнологий. Важно
ответить на вопросы: приводит ли она к утрате доверия к науке
разных слоев общественности; выражается ли утрата доверия у
этих слоев в потере энтузиазма или поддержки в отношении некоторой конкретной биотехнологии или же в отношении науки и технологий как таковых?
С тех пор как в 1971 г. президент США Р. Никсон, объявив
«войну против рака», выступил в поддержку исследований, в этой
области были сделаны серьезные достижения. Последующие президенты тоже активно поддерживали эту область исследований.
Но несмотря на успехи, для большинства видов рака до сих пор нет
эффективного лечения. Однако публичная поддержка исследований рака не уменьшилась, хотя шумиха и продолжается. С помощью дальнейших социальных исследований ученые могут лучше
понять, как шумиха воздействует на общественное доверие, и разработать более совершенные средства для привлечения общественности и установления большей открытости в коммуникации между
наукой и обществом.
Б.Г. Юдин
2014.02.004. БЁРД С.Дж. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ:
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ЗАЩИЩАТЬ ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ.
BIRD S.J. Security and privacy: Why privacy matters // Science and
engineering ethics. – 2013. – Vol. 19, N 3. – P. 669–671. – DOI:
10.1007/s11948–013–9458-z.
Ключевые слова: частная жизнь; безопасность; защита информации; база данных.
Редакционная статья написана одним из главных редакторов
журнала «Science and engineering ethics» Стефанией Бёрд. Автор
специализируется в области изучения влияния психоактивных субстанций на функции мозга. Наряду с этим она занимается пробле-
2014.02.004
21
мами нейроэтики, а также этическими, юридическими и социальными последствиями развития технологий в целом.
Давно назревшая дискуссия о соотношении безопасности и
частной жизни развернулась в США, а также среди их партнеров
по всей планете. В значительной мере она началась благодаря разоблачениям Эдварда Сноудена, работавшего по контракту с правительством США и распространившего секретную информацию о
том, что правительство собирает множество данных о телефонных
звонках жителей США. Защиту частной жизни часто противопоставляют безопасности, хотя эта дихотомия является ложной. Если,
однако, принять тот факт, что безопасность и частная жизнь находятся в противоположных концах континуума, то возникает вопрос
о том, где находится точка равновесия, в которой «достаточная
безопасность» уравновешивается «достаточной защищенностью
частной жизни». Те, кто обеспокоен безопасностью, утверждают,
что трагедии людей, которые подвергаются атакам со стороны террористов или других преступников, требуют немедленного и решительного рассмотрения этих проблем, что подразумевает важность
обеспечения безопасности. Но действительно ли безопасность
должна перевешивать защиту частной жизни?
Часто приходится слышать упрощенный ответ на этот вопрос: «Частная жизнь меня не беспокоит. Мне нечего скрывать».
Но при всей значимости открытости и прозрачности их не следует
переоценивать, к тому же они часто порождают сложности. Почти
каждый знает кого-то, с кем ему не хотелось бы делиться секретами относительно себя или третьего лица, и не только потому, что
они могут пойти дальше, причинив в результате вред этому третьему или вызвав его отчуждение. Более того, этот вред может быть
причинен намеренно. Но самое существенное состоит в том, что по
крайней мере отчасти секреты не следует раскрывать постольку,
поскольку любая информация может подвергаться различным интерпретациям, в том числе искажениям, под действием осознаваемых и неосознаваемых предпосылок и предвзятостей в уме каждого, кому она становится доступной. Этому учат уроки сплетен и
слухов. Люди обычно склонны к некоторым заблуждениям, таким
как поспешное обобщение, действиям по принципу «имею возможность – значит, имею право», смешению корреляции с причинностью, такому стереотипу мышления, в соответствии с которым
22
2014.02.004
если нечто может быть объяснено, то оно может быть и предсказано, разделению мира на «нас» и «их» и т.п.
На недавней конференции Еврокомиссии по биометрической
идентификации с использованием таких биологических маркеров,
как отпечатки пальцев и сканы радужной оболочки глаза, широко
обсуждались проблемы, связанные с безопасностью. Самой большой проблемой является то, что большие объемы данных, которые
люди могут сдавать для одних целей (например, для банков, медицинских документов или кредитных карт), могут быть связаны,
намеренно или ненамеренно, с другими большими базами данных
и с разрешения либо даже без разрешения использоваться совсем
для других целей. Сегодня создаются огромные базы данных для
множества потенциально вполне оправданных целей: генетический
профиль индивидов, списки голосующих, покупки по кредитным
картам и т.д. За каждым алгоритмом и составляемым компьютером
списком стоит разум человека или группы людей. Списки составляются людьми и для людей, часто исходя из необоснованного допущения, что будут приняты меры предосторожности, гарантирующие,
что списки будут использоваться только кем-то незаинтересованным для совершенно оправданных целей. Но каковы эти меры
предосторожности? Кто их разрабатывает? И кто будет их интерпретировать и вводить в действие? Как будет определяться «незаинтересованность» индивидов, имеющих допуск к данным? Как
будет контролироваться их деятельность? Какие цели приемлемы?
Кто будет решать? Как частный сектор, так и правительственные
органы могут иметь немало поводов, благих и не очень, чтобы интересоваться мыслями, планами и действиями граждан, жителей и
потребителей, от продажи какого-либо продукта до предотвращения акта насилия. В то же время крупные базы данных представляют собой сырье, которое можно использовать для создания монстров типа Франкенштейна в уме каждого, кто в этом
заинтересован и имеет доступ к этим данным. Для демократического общества, которое уважает своих граждан и в котором правительство создается народом, из народа и для народа, открытость и
прозрачность относительно того, кем и для какой цели собирается
информация об индивидах, является критической характеристикой.
Сегодня публичное пространство все больше пронизывается
сетями телевидения и камер видеонаблюдения. Уже существуют
2014.02.005
23
гаджеты, способные осуществлять мониторинг движений глаз
пользователя и останавливать свою работу, когда глаза отворачиваются, а новые телевизоры снабжаются камерами и сенсорами,
которые могут различать, кто смотрит на экран, меняется ли пульс
у смотрящего, кто и когда выходит из комнаты, даже если телевизор выключен. Читали ли изобретатели или потенциальные покупатели и пользователи этих гаджетов роман Дж. Оруэлла «1984»?
Определенно, пришло время перечитать его и выступить в защиту
частной жизни.
Б.Г. Юдин
2014.02.005. ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ КАК
ФИЛЬТРЫ ВОСПРИЯТИЯ: СРАВНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К НАНОТЕХНОЛОГИЯМ В США И СИНГАПУРЕ / ЛЯНЬ Ч., ХО Ш.C., БРОССАР Д., КСЕНОС М.A., ШЕУФЕЛЕ
Д.A., АНДЕРСОН Э., ХАО С., ХЕ С.
Value predispositions as perceptual filters: Comparing of public attitudes toward nanotechnology in the United States and Singapore /
Liang X., Ho S., Brossard D., Xenos M., Scheufele D., Anderson A.,
Hao X., He X. // Public understanding of science. – 2013. – 28 November. – P. 1–19. –DOI:10.1177/0963662513510858. – Mode of access:
http://pus.sagepub.com/content/early/2013/11/28/0963662513510858
Ключевые слова: установки; кросскультурный анализ; нанотехнологии; фильтр восприятия; восприятие риска; США; Сингапур.
Авторы представляют Университет штата Висконсин в Мэдисоне (Ч. Лянь, Д. Броссар, М. Ксенос, Д. Шеуфеле), Наньянский
технологический университет в Сингапуре (Ш. Хо, С. Хао, С. Хе),
Университет штата Аризона (Д. Шеуфеле) и Университет штата
Колорадо (Э. Андерсон). Они проводят исследования по проблемам освещения в СМИ научно-технологических достижений и существующих в обществе представлений относительно преимуществ и рисков, связанных с новейшими технологиями.
В США, как и во многих других странах, нанотехнологии –
значимая в социально-экономическом отношении область. За
предыдущую декаду в мире более 67,5 млрд долл. США было потрачено на ИР в этой области (с. 1–2). Политики и ученые считают,
24
2014.02.005
что нанотехнологии позволят решить многие проблемы, с которыми сегодня сталкивается человечество в таких областях, как здравоохранение, защита окружающей среды, национальная оборона.
После того как в США в 2000 г. стартовала Национальная нанотехнологическая инициатива, правительства разных стран тратят на
нанотехнологии ежегодно 10 млрд долл., при этом ожидается, что в
2014 г. расходы достигнут 12 млрд долл. В свою очередь, нанотехнологии уже применяются в более чем 1500 потребительских продуктах. От 5 до 10% бюджета Национальной нанотехнологической
инициативы США выделяется для изучения социетальных аспектов
с целью минимизировать потенциальные социальные, политические, экономические и моральные конфликты относительно этих
новых технологий (с. 2). Во многом эти исследования фокусируются на изучении общественного мнения по поводу нанотехнологий,
поскольку во многих странах оно играет ключевую роль в формировании политики правительств в этой области. Учитывая это, было бы целесообразно как в теоретическом, так и практическом
плане провести исследования, в которых сравнивалось бы восприятие обществом этих новых технологий в различных культурах.
Между тем сравнительных исследований общественного мнения, в
которых сопоставляются Северная Америка и азиатские страны,
проводится крайне мало, несмотря на то что многие из этих государств являются лидерами в технологических инновациях.
Целью исследования, проведенного авторами статьи, стало
кросскультурное сравнение отношения общественности к нанотехнологиям в США и одной из развитых стран Азии – Сингапуре.
Особое внимание при этом было уделено следующим вопросам:
действительно ли использование фильтров восприятия как интерпретативных рамок для формирования установок превосходит
культурные границы; используют ли представители разных культур различные фильтры восприятия в своих попытках осмыслить
сложную научную информацию?
Сингапур был выбран для сравнения с США по трем причинам. Во-первых, для обеих стран характерны высокоразвитая рыночная экономика с большим валовым национальным продуктом
на душу населения по паритету покупательной способности, богатая полиэтничность, выдвижение правительством науки и технологий как ключевого национального приоритета и сильная прави-
2014.02.005
25
тельственная поддержка развития нанотехнологий. Во-вторых, эти
страны существенно различаются по своему религиозному составу.
Наиболее распространенная религия среди резидентного населения
Сингапура – буддизм, в то время как в США большинство (73%)
составляют христиане. Кроме того, Сингапур – один из главных
конкурентов США в международной гонке в сфере новейших технологий. Тот факт, что многие ведущие исследователи стволовых
клеток из США переезжают в Сингапур, является хорошей иллюстрацией конкурентоспособности его, которая поощряется либеральной политикой и растущим правительственным финансированием исследований в этой стране. Федеральный бюджет
Национальной нанотехнологической инициативы США в 2013 г.
составил 1,8 млрд долл.; правительственное финансирование исследований и людских ресурсов в области нанотехнологий в Сингапуре в период с 2003 по 2007 г. достигло 300 млн долл. США
(с. 3). Это, конечно, намного меньше, чем в США, тем не менее такие расходы свидетельствуют о значительных усилиях страны в
развитии новейших технологий.
Американская публика в целом все еще мало информирована
в том, что касается нанотехнологий. 77% американцев «что-то
слышали» или вообще «ничего не слышали» об этих новейших
технологиях. Около 45% не имеют никакого мнения о балансе
между рисками и пользой от нанотехнологий, а 37% думают, что
польза перевешивает риск, и только 9% считают, что риски перевешивают пользу (с. 3).
В Сингапуре подобные исследования не проводились, но есть
указания на то, что жители страны в целом хорошо осведомлены
относительно науки и технологий и что общественный климат в
этом отношении позитивный. Общепризнано, что сингапурцы
имеют достаточно знаний в вопросах естествознания и математики.
В то время как в некоторых европейских странах отношение к генетически модифицированной пище остается негативным, а в США –
сложным, сингапурцы вполне приемлют генно-инженерные технологии во многом благодаря тому, что очень доверяют своим властям и с уважением относятся к тому, чем занимаются ученые.
Исходя из этого, авторы выдвигают следующие гипотезы:
1) по сравнению с американцами сингапурцы более склонны видеть
пользу от нанотехнологий; 2) по сравнению с американцами синга-
2014.02.005
26
пурцы менее склонны видеть риск в нанотехнологиях; 3) в целом
сингапурцы демонстрируют более высокий уровень доверия к правительственной финансовой поддержке нанотехнологий, чем американцы.
Как показывают проведенные ранее исследования, на общественную поддержку финансирования нанотехнологий могут влиять такие факторы, как ценностные предрасположенности людей,
информационные сводки, создаваемые СМИ, специфические ориентации в отношении нанотехнологий и восприятие рисков и пользы.
Что касается ценностных предрасположенностей, то, как было показано1, в США религиозность людей оказывает влияние на
их отношение к нанотехологиям. Более религиозные американцы
(главным образом христиане) менее склонны выражать поддержку
федеральному финансированию нанотехнологий. Объяснить это
можно тем, что христиане могут воспринимать науку и технологии
как вмешательство в природу и в естественные процессы, что противоречит их религиозным убеждениям. В США имеет место
углубляющийся социальный и моральный конфликт между религией и наукой2. Верующие считают, что противоестественные и сомнительные технологии «заходят слишком далеко» или что ученые
могут манипулировать с природой и «играть в бога», а все это противоречит морали и христианскому вероучению.
Другая ценностная предрасположенность – почтение к авторитету науки – развивается главным образом через посредство
формальных систем образования и тоже играет важную роль в объяснении поддержки новейших технологий. Американцы с более
высоким уровнем доверия к науке и более сильной верой в ученых
чаще поддерживают такие спорные технологии, как генно-инженерные продукты питания, исследования эмбриональных стволовых клеток и нанотехнологии.
Среди факторов, влияющих на поддержку нанотехнологий,
авторы называют также СМИ. В США обнаружена позитивная ас1
Religiosity as a perceptual filter: Examining processes of opinion formation
about nanotechnology / Brossard D., Scheufele D.A., Kim E., Lewenstein B.V. // Public
understanding of science. – 2009. – Vol. 18. – P. 546–558.
2
Evans J.H. The growing social and moral conflict between conservative Protestantism and science // Journal for the scientific study of religion. – 2013. – Vol. 52, N 2. –
P. 368–385.
2014.02.005
27
социация между использованием СМИ для информирования о
науке и поддержкой нанотехнологий, поскольку в СМИ преобладает позитивное освещение относящихся к ним сюжетов. Кроме того,
важной для позитивного восприятия публикой информации о нанотехнологиях является рефлексивная интеграция: новая информация
понимается более глубоко, когда она интегрируется в сознании
людей с уже существующими у них знаниями.
Было показано, что сильные религиозные чувства могут подавлять позитивный эффект от знаний, когда речь идет о поддержке нанотехнологий. Сильная и позитивная связь между знаниями в
этой области и поддержкой финансирования нанотехнологий обнаруживается только у менее религиозных людей.
В противоположность этому для Сингапура как страны с
преобладающей буддистской религией не характерны такого рода
противоречия относительно аморальности или зла, исходящего от
новейших технологий. Например, большинство религиозных групп
в Сингапуре не выступают против исследований с использованием
эмбриональных стволовых клеток, полученных от эмбрионов в
возрасте до 14 дней, если эти исследования могут принести пользу
человечеству. Даже глубоко верующие люди в этой стране не бывают столь обеспокоены этическими последствиями применения
нанотехнологий, в том числе и тем, как эти технологии могут сказаться на человеке и других биологических видах. Исходя из этого,
авторы допускают, что степень религиозности может выступать в
качестве фильтра восприятия, различающегося в сравниваемых
странах, и формулируют такой исследовательский вопрос: действительно ли религиозность в США и Сингапуре оказывает различное влияние на связь между осведомленностью в области нанотехнологий и ее поддержкой?
Само исследование проводилось в США в период с 9 по
23 июля 2010 г. на основе опроса выборки из 585 респондентов, с
которыми контактировали через Интернет, а в Сингапуре – с 14 по
25 февраля 2011 г. с помощью телефонных интервью (719 респондентов).
В целом сингапурцы более склонны видеть пользу от нанотехнологий и менее склонны замечать связанные с ними риски, так
что они более склонны поддерживать финансирование этой области, чем американцы. Кроме того, сингапурцы больше знают о
28
2014.02.005
нанотехнологиях. Выяснилось также, что люди в США и Сингапуре при интерпретации нанотехнологических знаний и представлений прибегают к разным фильтрам восприятия. Американцы опираются на свою религиозность, когда воспринимают пользу от
новейших технологий, тогда как сингапурцы – когда речь идет о
восприятии рисков. В сингапурской выборке были представлены
буддизм и даосизм (30,3%), ислам (11,6%) и индуизм (8,3%) (с. 13).
Все эти религии рассматривают человека в тесной связи с природой, с окружающей средой, поэтому акцент ставится на защите, а
не на модификации окружающей среды. Возможно, это объясняет,
почему религиозность в Сингапуре направлена скорее на риски для
окружающей среды, которые могут нести с собой нанотехнологии,
чем на полезные эффекты.
В США, где респонденты в основном христиане, меньше
беспокойства проявляется в отношении окружающей среды, зато
больше – относительно моральных и этических аспектов самих
технологий.
Б.Г. Юдин
2014.02.006
29
МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ
РАЗВИТИЯ НАУКИ
2014.02.006. О МЕХАНИЗАЦИИ: УЧЕТ МНОГОМЕРНОСТИ КОГНИТИВНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛОВЕКА В СОЗДАНИИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ / ТЭЙЛОР Г., РЕЙНЕМАН-ДЖОУНС Л.,
ЦАЛМА Дж., МУЛУА М., ХЭНКОК П.
What to automate: Addressing the multidimensionality of cognitive resources through system design / Taylor G., Reinerman-Jones L., Szalma J., Mouloua M., Hancock P. // Journal of cognitive engineering and
decision making. – 2013. – Vol. 7, N 4. – P. 311–329. – DOI:10.1177/1
555343413495396. – Mode of access: http://edm.sagepub.com/content/
7/4/311
Ключевые слова: механизация; адаптивная механизация; тип
механизации; взаимодействие человека и механизированных систем; когнитивные ресурсы; когнитивные задачи; информационно-когнитивный процесс; рабочая нагрузка оператора.
Авторы из США экспериментально обосновывают необходимость учитывать при конструировании механизированных систем
когнитивные ресурсы человека, которые затребованы операцией,
подвергающейся механизации. Если, доказывают они, разработка
механизированной системы учитывает уровень когнитивной задачи, которую решает человек, выполняя действие, подвергнутое механизации, то такая механизированная система, определяемая как
адаптивная механизация (adaptive automation), будет эффективно
снижать рабочую нагрузку (workload) и стресс оператора. Таким
образом, авторы подчеркивают важность с точки зрения когнитивных наук понятия не самой механизации, а типа механизации – запрашивающего соответствующий когнитивный ресурс оператора
данной механизированной системы (с. 311).
30
2014.02.006
С технологическим прогрессом, пишут авторы, растет ответственность людей за взаимодействие со сложными, многофункциональными механизированными системами в самых разных областях – контроля воздушных перевозок, установок ядерной энергии,
медицинской практики, беспилотных механизмов и т.д. Операторы
подобных сложных систем часто ответственны за одновременное
выполнение множества сходных задач. Несмотря на высокую рабочую эффективность этих сложных систем, они повышают требовательность выполняемых задач и риски выполнения, вынуждая операторов работать на пределе их когнитивных возможностей. Но
если рабочая нагрузка операторов предельна для их когнитивных
ресурсов, тогда следует пересмотреть механизированную систему
таким образом, чтобы разгрузить ее в отношении ее требований к
когнитивным возможностям операторов. Пример подобной разгрузки – установка ядерной энергии (nuclear power plant), которая
автоматически сигнализирует о своем вхождении в опасные ситуации, тем самым облегчая работу операторов по поддержанию нормального состояния установки через отслеживание показаний многочисленных измерительных приборов. Этот пример иллюстрирует
относительно простое разделение ответственности между человеком и механизированной системой. Однако подобное простое решение проблемы операторской ответственности не всегда возможно, что ставит конструкторов механизированных систем перед
необходимостью оценивать когнитивные требования конкретных
конструкторских задач к операторам осуществленных конструкторских проектов. Механизация, разрабатываемая с учетом когнитивных ресурсов человека, требуемых для осуществления специфических механизированных действий, собственно, и будет
выполнять ожидаемую от технологического прогресса главную его
функцию – облегчения рабочей нагрузки и снижения рисков работы операторов сложных систем. Поэтому в противоположность
многочисленным исследованиям феномена механизации, в которых
этот феномен анализируется как некая отчужденная от человека
данность, с которой человек взаимодействует, получая какие-то
выгоды и терпя какие-то убытки, необходимо исследовать механизацию в ее отношении к когнитивным ресурсам человека – механизацию со встроенным в нее когнитивным измерением.
2014.02.006
31
В научной литературе механизация определяется как «исполнение машиной функции, исполняемой прежде человеком»
(с. 312). Человек стремится к повышению точности и скорости своих
действий. Это стремление и является устойчивым мотивом развития механизации. Вместе с тем исследования механизации неоднократно демонстрировали ее неожидаемые негативные результаты, в
том числе неэффективность и небезопасность. Обычно эти нежелательные результаты – следствие традиционного конструирования
механизированных систем, когда их конструкторы определяют тип
и уровень механизации на неких фиксированных, статических
уровнях. Между тем очевидно, что «тип механизации (automation
type) должен определяться в качестве компонента человеческого
сознания как информационного (когнитивного) процесса, который
и призвана поддерживать механизация (механизация процесса восприятия, принятия решений и т.д.)» (с. 312). Так сконструированы
некоторые механизированные системы, например система автопилотирования в самолетах, позволяющая оператору регулировать
уровень механизации в любое время и тем самым выступающая
системой адаптивной механизации (adaptive automation). «Ключевое понятие адаптивной механизации – “адаптация” в смысле адаптации механизированной системы к меняющимся потребностям
оператора путем соответствующего автоматического изменения
уровня механизации» (с. 312).
Цель адаптивной механизации – избежать проблем, обычно
возникающих в условиях статической механизации. Адаптивная
модель удерживает более низкий уровень механизации в рутинные
рабочие периоды, позволяя оператору сохранять контроль над механизированной системой без риска сбоя работы системы в целом.
При возрастании требований к оператору адаптивная механизированная система будет реагировать повышением уровня механизации. Цель такого поведения системы – ослабление рабочей нагрузки оператора, чтобы освободить его когнитивные ресурсы для их
сосредоточения на критических в эти периоды элементах выполняемой задачи. Чтобы механизированная система была способна
адаптировать уровень своей механизации к потребностям оператора, конструкторы системы должны руководствоваться теорией когнитивного процесса (theory of cognitive processing), позволяющей
им сохранять точное представление о ментальном состоянии опе-
32
2014.02.006
ратора. «Опора на теорию когнитивного процесса при конструировании механизированных систем – критически важный компонент
систем адаптивной механизации, поскольку изменение уровня механизации несет с собой риски снижения в эти моменты способности
оператора управлять системой. Во избежание таких рисков механизированная система обязана быть адаптивной – запрограммированной на сохранение точного представления о когнитивном состоянии оператора» (с. 312).
Ранние исследователи когнитивного процесса рассматривали
ментальные (когнитивные) ресурсы как отдельный «пул» способностей человека. Теперь есть все основания видеть составную
(множественную) природу человеческих ресурсных способностей,
из них когнитивные ресурсы лишь условно могут быть выделены в
отдельный «пул». Современные исследования показывают, что для
выполнения различных операций человек использует разные (соответствующие) когнитивные ресурсы, и механизация обязана это
учитывать, иначе механизированные системы станут плохо управляемыми и в таком виде бесполезными и даже вредными. Тем не
менее конструкторы механизированных систем, даже систем с
адаптивным замыслом, продолжают рассматривать рабочую
нагрузку оператора как обеспечиваемую одномерными (недифференцированными) когнитивными ресурсами для всех типов задач
управления механизированными системами. Соответственно и
операторская рабочая нагрузка описывается недифференцированным образом – просто как «высокая» или «низкая».
Конструкторы систем адаптивной механизации должны пересмотреть этот подход в пользу подхода, согласно которому тип
механизации подбирается под пару когнитивному ресурсу, обеспечивающему выполнение оператором задачи управления данной
механизированной системой. Например, показано, что механизация
различного рода физических действий, например механического
движения (driving automation), мало помогает выполнению задачи
идентификации визуальной цели или задачи слухового восприятия,
между тем как выполнение двух последних задач улучшается при
механизации, поддерживающей перцепцию оператора.
Исследователи влияния механизации на оператора механизированных систем склонны сосредоточиваться на уровне механизации, уделяя мало внимания типу механизации. Однако важно по-
2014.02.006
33
нимать, что при конструировании механизированных систем следует устанавливать их пригодность в данном операционном контексте – именно контексте информационно-когнитивного процесса
(ИКП), происходящего в голове оператора. Подобное понимание
чрезвычайно редко и еще меньше соответствующих эмпирических
исследований. Имеющиеся исследования, как правило, пользуются
упрощенными моделями ИКП, представляя ИКП в виде цикла из
четырех стадий: 1) приобретение информации; 2) анализ информации; 3) принятие решения; 4) осуществление действия. Приводится
основание, что операторы получают наибольшую выгоду от адаптивной механизации на стадиях 1 и 4 ИКП, и утверждается, что это –
для любых типов задач. Однако подобное обобщение неправомерно, поскольку оно упускает из виду именно то обстоятельство, что
наибольшая выгода для оператора обеспечивается только тогда,
когда он испытывает повышенные требования задачи на конкретных стадиях (1 и 4) ИКП. То есть важен тип задачи, который активизирует вполне определенные (соответствующие) когнитивные
ресурсы оператора. Поэтому «тип механизации, который наилучшим образом поддерживает выполняемую задачу, варьируется со
степенью, в какой задача требует использования определенных когнитивных ресурсов» (с. 313).
Для обоснования этой теории, полагают авторы, необходимо
продвинуть научное понимание взаимодействия человека и адаптивных механизированных систем путем установления зависимости между изменениями типа и уровня механизации и изменениями
уровня требований выполняемых задач. С этой целью авторы
предприняли эмпирическое исследование, заключающееся для респондентов в выполнении множества одновременных задач с использованием системы беспилотного механизированного контроля
(unmanned robot control system). В этих условиях респонденты испытывали требования задач множеством когнитивных ресурсов,
что позволяло сравнить тип механизации, поддерживающий данный когнитивный ресурс, с механизацией, разобщенной с данным
когнитивным ресурсом. Была использована модель множественных
ресурсов (multiple resource model) для классификации требований
задачи и форм механизации в соответствии с когнитивным измерением, на которое формы механизации влияют. Эта модель описывает
когнитивные ресурсы в четырех отдельных измерениях: 1) стадий
34
2014.02.006
процесса (stages of processing) с разграничением между когнитивными, в том числе восприятия, процессами и осуществлением действий; 2) кодов процесса (codes of processing) с разграничением между пространственным процессом и словесным его сопровождением;
3) модальностей (modalities) только внутри когнитивного, в том числе восприятия, процесса с разграничением между зрительным и слуховым восприятием; 4) визуальных каналов (visual channels) внутри
модальности зрительного восприятия с разграничением между центральным и рассеянным (focal and ambient) видением. Отдельная
задача могла определяться внутри многих когнитивных измерений.
Например, задача могла активизировать восприятие в пространственном коде, востребовать зрительную модальность с центральным зрительным каналом.
Была выдвинута гипотеза о том, что механизация, которая
поддерживает когнитивный ресурс, испытующий наибольшее
«давление» выполняемой задачи, улучшает выполнение оператором задачи в сравнении с механизацией, поддерживающей иной (на
который слабо «давит» выполняемая задача) когнитивный ресурс.
Кроме того, была доказана выгода адаптивно регулируемого уровня каждого типа механизации под пару с уровнем требований выполняемой задачи – выгода адаптивной механизации – в противоположность постоянно высокому уровню механизации –
статической механизации. Было также сделано предположение о
том, что адаптация уровня механизации к уровню требований выполняемой задачи улучшает выполнение задачи только тогда, когда
тип механизации составляет пару с типом требований задачи.
В случае же рассогласования между обоими типами не следует
ожидать пользы от подобной механизации – управление такой механизированной системой будет ущербным.
Эти гипотезы подверглись проверке в специальном эмпирическом исследовании, где респондентами выступили 60 университетских студентов (31 женщина и 29 мужчин). Респонденты должны были выполнить три экспериментальные задачи по управлению
беспилотным наземным механизмом (БНМ) с удаленной станции
операторского контроля – задачу вождения БНП, задачу обнаружения угроз для БНП и задачу обнаружения изменений среды движения БНП. Исследование показало, что тип механизации, адаптированный к требованиям рабочей среды, имеет большое влияние на
2014.02.007
35
выполнение оператором задачи и его (оператора) когнитивное /
эмоциональное состояние. Этот экспериментальный результат
опровергает прежнее теоретическое предположение о том, что люди наилучшим образом поддерживаются механизацией таких фаз
информационно-когнитивного процесса, как приобретение информации и осуществление действия. Выяснилось, что указанное теоретическое предположение неверно для любых типов задач и что,
скорее, тип механизации, наилучшим образом поддерживающий
оператора, – тип, который поддерживает когнитивные ресурсы
оператора, наиболее активизируемые выполняемой задачей. Механизация же, не поддерживающая актуальные когнитивные ресурсы,
несет с собой множество потенциальных проблем.
В заключение авторы отмечают, что проведенное ими исследование «способно обеспечить конструкторов механизированных
систем ценным материалом для лучшего понимания когнитивных
требований к конструируемым системам. С позиций идентификации таких когнитивных требований серьезному рассмотрению
должно подвергнуться осуществление механизации, если от механизации вообще ожидается какая-либо польза. Игнорирование этой
проблемы ставит под вопрос способность оператора механизированных систем выполнять свою работу» (с. 324).
А.А. Али-заде
2014.02.007. ГУТЦВИЛЛЕР Р., КЛЕГГ Б. РОЛЬ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОСОЗНАНИЯ СИТУАЦИИ.
GUTZWILLER R., CLEGG B. The role of working memory in levels
of situation awareness // Journal of cognitive engineering and decision
making. – 2013. – Vol. 7, N 2. – P. 141–154. – DOI:10.1177/15553434
12451749. – Mode of access: http://edm.sagepub.com/content/7/2/141
Ключевые слова: рабочая память; осознание ситуации; индивидуальные различия; когнитивные процессы; решение задач;
когнитивные конструкты.
Авторы из США (Университет штата Колорадо) исследуют
взаимосвязь таких ключевых элементов когнитивного процесса
решения задач в динамичных средах, как осознание ситуации и рабочая память.
36
2014.02.007
Ключевым аспектом успешной ориентации человека в сложных динамичных средах, пишут авторы, является его способность
не только собирать информацию, но и понимать ее значение в более широком контексте выполняемой целевой задачи. Более широкий контекст – это также способность предвосхищать события в
этих средах и таким образом формировать понимание будущих их
состояний. На когнитивных компонентах таких процессов вот уже
более двух десятилетий сосредоточены исследования когнитивного
состояния человека, определяемого как осознание ситуации (ОС).
«Понятие ОС описывает человеческое восприятие, знание и понимание в контексте решения динамических задач и, согласно общепринятому определению ОС, представляет структурированное восприятие среды в данное время и данном месте, понимание смысла
средовой структуры и проектирование ее состояния на близкое будущее» (с. 141). Эти три момента – восприятие, понимание и проектирование – составляют исследуемые уровни когнитивного процесса, формирующего ОС.
Важный компонент когнитивного процесса формирования
ОС – индивидуальные различия людей во внимании и памяти, что
обусловливает необходимость понятия рабочей памяти (РП) и
установления связи между понятиями РП и ОС. В прикладных исследованиях когнитивных процессов полагается, что РП функционирует в качестве «сита» для ОС, формируя ОС по опытной информации. Влияние РП на ОС особенно очевидно в таких сферах
решения динамичных задач, как, например, авиация. Обычно РП –
важный прогнозист ОС, но эта связь ослабляется с ростом опыта
оператора: опытный оператор уже обучен (собственным опытом
РП) эффективно действовать в непредсказуемо динамичных средах, и ему не так уж нужен «учебник» РП. Точнее говоря, для
опытного оператора влияние РП на ОС не исчезает, оно просто
иное, чем для оператора с небольшим опытом. Оно преобразуется в
умение правильно осознать ситуацию и принять правильное по ней
решение. В частности, экспериментально показано, что РП определяет успешное распределение визуального внимания, отфильтровывая средовые помехи.
Однако, несмотря на установленные основания влияния РП
на ОС, специфическая роль РП в формировании ОС слабо исследована. Между тем существуют три очевидных аспекта исследования
2014.02.007
37
этой роли. Один из них – тенденция трактовать ОС как отдельное,
самостоятельное, общее понятие, а не в качестве тестируемого звена, уровня когнитивного процесса. Другой аспект связан с индексацией РП на основе отдельной задачи, что не позволяет проявить
общий конструкт РП. Наконец, третий аспект связи РП с ОС открывается практикой запутывания этой связи, когда эта связь фиксируется исключительно как вызов данной ситуацией памяти определенных типов информации или состояний системы, что, конечно,
мало проясняет роль сложного конструкта РП в сложном конструкте ОС.
Необходимо «отсортировывать» когнитивные процессы на
уровни РП и ОС, а каждый из этих уровней – на подуровни, и только тогда можно будет выявить разные аспекты ОС, выявить ОС как
структурированный феномен и понять механизм, по которому РП
детерминирует ОС. Например, наблюдение использует когнитивный ресурс внимания, а следующего уровня процессы анализа и
интеграции информации или проектирования будущего состояния
среды зависят уже в большой мере от памяти. Структурирование
ОС на компоненты позволяет повысить понимание того, как операторы выстраивают ОС. Также показано, что различные уровни ОС
способны обеспечить детальную информацию, касающуюся эффектов событий, и каждый уровень дает свою перспективу в отношении влияния на ОС, например, нового замысла или нового тренинга. Иллюстрацией-критерием здесь представляется оценка ОС в
общих сообщениях авиационных инцидентов, где заключение в
целом об ошибочном осознании ситуации формулируется на основе выявления уровней ОС, на которых произошли разнородные
ошибки, т.е. на основе структурирования ошибочности ОС.
Некоторые теоретические интерпретации РП почти идеальны
для исследования влияния РП на ОС. Так, это относится к идее о
том, что РП представляет отдельный конструкт, составленный из
множества отложенных в РП «задач, сохраняющихся во времени»
(span tasks). Эти задачи и загружают РП как конструкт «длинной
памяти», в отличие от задач, которые представляют «короткую память», не оказывающую влияния на ОС. В некоторых фундаментальных исследованиях связи между РП и ОС исследователи предварительно проводят только отдельный тест РП или комбинацию
такого теста с другой метрикой. Но чтобы прийти от этого предва-
38
2014.02.007
рительного конструкта к финальному конструкту, лучше представляющему РП, требуется протестировать множество уместных вариантов. Такое тестирование осуществляется методами факторного
анализа, который обязательно показывает связную структуру РП,
т.е. выявляет РП как фактор формирования ОС.
Что же касается измерения ОС, то существуют два широко
используемых метода: глобальная техника оценки осознания ситуации (ГТООС) (situation awareness global assessment technique) и
современный метод оценки ситуации (СМОС) (situation present assessment method) (с. 143). ГТООС – метод, основанный на технике
перерывов (interruptions), во время которых оператору задаются
вопросы о критических компонентах выполняемой задачи. Сам
этот метод, хотя как будто и прерывающий работу памяти оператора и выполнение им задачи, тестирует операторскую память. Действительно, используют участники эксперимента (респондентыоператоры) РП для ответов на подобные вопросы или не используют, ГТООС в любом случае обозначает связь между ОС и РП, поскольку измерение ОС в принципе основывается на памяти. По методологии СМОС операторы отвечают на вопросы о критических
компонентах выполняемой задачи без каких-либо пауз в ходе эксперимента. В этом случае тестирование ОС учитывает не только
ответы на вопросы, но и время реакции на вопросы. Однако на
СМОС возможно влияние возрастания рабочей нагрузки оператора,
связанное с самим экспериментом – необходимостью респондентов
отвечать на вопросы.
Тем не менее оценка ОС по ГТООС и СМОС остается проблематичной, если иметь в виду фундаментальный вопрос о связи
ОС с памятью. Поэтому наряду с ГТООС и СМОС существуют методы неявного измерения ОС, использующие для оценки ОС ситуацию непрямого (indirect) выполнения задачи. Выгода таких методов заключается в том, что они не отделяют процессы памяти от
процесса выполнения задачи. Эти методы используются для фиксации ОС оператором при мониторинге его поведения, реагирующего на опасность, которая требует от оператора немедленного
действия, например когда пилот самолета неожиданно для себя попадает в ситуацию возможной быстрой катастрофы и у него на решение задачи есть считанные секунды. Временной интервал между
вторжением опасности и соответствующим действием оператора,
2014.02.007
39
собственно, и есть мера ОС в отличие от самого действия, которое
не может быть такой мерой, поскольку, даже если успешным действием и удалось избежать опасности, именно задержка действия –
свидетельство пониженного, пока длится эта задержка, осознания
ситуации.
Неявное измерение ОС представляется плодотворным подходом к оценке влияния РП на ОС, поскольку такое влияние может
быть небольшим и меняющимся из-за роста когнитивной нагрузки
или помех от наложения других измерительных техник, особенно в
случае новичков, которые заведомо теряются перед незнакомыми
ситуациями и задачами.
Авторы для собственного исследования влияния РП на ОС
использовали модель сетевой работы пожарного руководителя
(СРПР) (networked fire chief) (с. 143). Это – динамическая модель
борьбы с пожаром, моделирующая область задач для исследования
ОС. В модели СРПР операторы управляют множеством пожарных
механизмов с функцией устройства на каких-то участках суши пожаров, после чего пожарные машины должны двигаться в эти районы и по достижению их развернуть противопожарную систему.
Задача операторов – контролировать убыль воды в пожарных машинах, восполняя эту убыль из близлежащих водоемов, устанавливаемых по карте. «Пожарный руководитель» отмечает поведение
исполнителей задачи по карте областей, занятых пожаром, и отметки руководителя варьируются от высшей оценки в 100 баллов,
если на данном участке ни один важный объект (дома) не сгорел,
до низшей оценки в 0 баллов, если весь участок выгорел.
Модель СРПР подходит для оценки ОС отчасти из-за присущей ей динамики, которая состоит в постоянном требовании отслеживания и обновления знания: районов пожара; направления
ветра, которое всегда может измениться, изменив картину пожара;
расхода воды; близлежащих водных ресурсов. Модель требует все
время удерживать общую цель ограничения распространения пожара и выполнения всех задач своевременно и эффективно.
Предыдущие исследования дают понять, что динамичное выполнение задачи принятия решений так, как это предполагает модель
СРПР, позитивно связано с РП и динамичным интеллектом. Было
также обнаружено, что в модели СРПР визуальные задачи рабочей
памяти имеют высокой степени корреляцию с выполняемой зада-
40
2014.02.007
чей в целом. Все это говорит о том, что модель СРПР подходит для
исследования связи между ОС и РП.
Авторы провели собственный эксперимент по оценке взаимосвязи РП и ОС, а также двух уровней ОС. Эти два уровня,
условно названные уровнем 1 и уровнем 3, были выбраны как
крайности (extremes) в континууме ОС для максимизации вероятности обнаружения различий между уровнями ОС, если эти различия вообще существуют. Авторы сознательно обошли вниманием
уровень 2 ОС, во-первых, из-за сложности выполнения такой задачи и, во-вторых, из-за тесного переплетения уровней 2 и 3. Связь
между этими уровнями ОС, а также между ОС и РП может быть
исследована через оценку корреляций между измерениями РП и
неявными измерениями ОС оператора, действующего в моделированных условиях. Используя неявное измерение ОС при вариации
требований ОС в экспериментальных условиях, авторы зондировали уровни 1 и 3 осознания ситуации респондентами-новичками.
Это позволило исследовать ОС, избегая помех со стороны операторских выходов из основной задачи, происходящих от пауз в работе или от каких-либо дополнительных задач.
В ходе этого авторского исследования, респондентами которого стали 118 студентов, было проверено несколько гипотез. Рабочая память проверялась как позитивный прогнозист в экспериментальных пробах, сфокусированных на уровне 1 ОС, а также в
сложных экспериментальных пробах, задуманных для неявной
оценки уровня 3 ОС. Поскольку предыдущие исследования показали, что взаимосвязь РП и ОС ослабевает с ростом опыта решения
задач, этот эффект также был исследован. Наконец, подверглась
изучению взаимосвязь РП и ОС в рамках модели СРПР.
Исследование показало, что существует значимая связь между уровнем 1 ОС и решением задач по модели СРПР. Кроме того,
уровень 1 ОС оказался значимо связанным с аспектами неявного
измерения ОС в экспериментальных пробах по задачам предсказания. Хотя и не была установлена связь между РП и уровнем 1 ОС,
гипотеза о значимых связях между неявными измерениями уровня
3 ОС и подвергнутыми факторному анализу компонентами РП подтвердилась. Некоторые неявные измерения ОС найдены значимыми коррелятами конструкта РП. При использованном методе оценки уровня 3 ОС эти результаты в целом поддерживают вывод о
2014.02.008
41
когнитивном влиянии РП на ОС скорее, чем представление об РП
как артефакте оценок, основанных на памяти, хотя следует заметить, что эта корреляция относительно низкая. Вместе с тем важным вопросом для будущего исследования остается вопрос об изменении взаимосвязи РП и ОС как функции экспертизы.
«Уникальный методологический вклад предлагаемого исследования, – пишут авторы в заключение, – состоит в соединении
подхода, вовлекающего факторный анализ в отношении конструкта
РП, с анализом уровней ОС. Объединение множества задач РП в
один конструкт гарантировало, что конструкт хорошо представлен, и
это является достижением в сравнении с прежними исследовательскими усилиями. В исследовании индивидуальных различий людей
в отношении их когнитивных процессов эта проблема обнаружения
единства, связности определенно критическая, и она особенно важна, когда нужно утвердить в теории когнитивные компоненты ОС.
Достижение большей обоснованности конструктов, используемых
для создания каталога индивидуальных различий, – шаг в правильном направлении для прикладной психологии, особенно когда средовая сложность и вариантность затемняют взаимосвязи» (с. 152).
А.А. Али-заде
2014.02.008. КЛУГЕ А., БУРКОЛЬТЕР Д. УГЛУБЛЯЯ ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ КОГНИТИВНОЙ
ГОТОВНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИДЕИ ЭКСПЕРИМЕНТА.
KLUGE A., BURKOLTER D. Enhancing research on training for cognitive readiness: Research issues and experimental designs // Journal of
cognitive engineering and decision making. – 2013. – Vol. 7, N 1. –
P. 96–118. – DOI:10.1177/1555343412446483. – Mode of access:
http://edm.sagepub.com/content/7/1/96
Ключевые слова: когнитивная готовность; тренинг когнитивной готовности; исследования в области тренинга когнитивной готовности; обучение; компоненты когнитивной готовности;
измерение когнитивной готовности; связанные с человеком переменные.
Авторы из Германии «ставят цель исследовать возможности
повышения эффективности обучения навыкам когнитивной готов-
42
2014.02.008
ности (cognitive readiness), полагая, что такое исследование будет
способствовать росту компетентности поведения человека в сложных и стрессовых условиях» (с. 96).
Когнитивную готовность (КГ), пишут авторы, можно было
бы определить как «психологическое и социологическое знание, а
также умения и позиции отдельных людей и членов команд, необходимые для формирования и поддержания компетентного профессионального поведения и ментального благополучия (mental
well-being) в динамичных, сложных и непредсказуемых условиях,
например условиях военных операций» (с. 96). Разумеется, КГ –
потребность, актуальная не только в военных, но в любых условиях, где выполнение задач обязывает человека к высокой мобилизации умений и знания. До сих пор исследования КГ в большинстве
своем фокусировались на измерениях КГ для оценки этого феномена. При всей важности таких исследований они требуют своего
дополнения исследованиями методов тренинга КГ, способных повысить когнитивную готовность. Подобные исследования должны
вобрать в себя достижения изучения тренинга в таких областях, как
эргономика, когнитивная психология, психология обучения.
Исследования в области тренинга КГ предпочтительны по
следующим основаниям. Во-первых, большинство компонентов
КГ, таких как теоретическое мышление, обеспечивающее когнитивный процесс, решение проблем, принятие решений, представляют умения, которым можно обучить и которые могут быть эффективно развиты. Во-торых, исследования в этой области
способны дать показатели объема обучения, требуемого для достижения отдельными людьми или группами необходимого уровня
КГ. Наконец, компетентно проведенное исследование в области
тренинга КГ способно дать ответ на вопрос, как может быть выстроена сложная структура КГ. Можно ли построить обучение так,
чтобы развить все компоненты КГ? В какой степени переменные
способностей человека предсказывают успех обучения?
Главный вопрос – как должен быть выстроен эксперимент,
чтобы можно было вывести обоснованные заключения в отношении ценности обучения для КГ. Исследование в области тренинга
КГ призвано выявить плодотворные направления изучения проблемы, как проводить исследование тренинга КГ с акцентом на перенос компонентов КГ в динамичные, стрессовые, непредсказуе-
2014.02.008
43
мые условия, поскольку такой перенос собственно и устанавливает
средства достижения КГ. Подобный перенос – корневой элемент,
связывающий требования компетентной реализации КГ в сложной
и непредсказуемой среде с требованиями тренинга и практики КГ.
Этот тренинг нацелен на ментальную подготовку человека (сообщая ему определенные знания, умения и позиции) к выполнению
сложных динамичных задач.
Исследование в области тренинга КГ начинается «с конца» –
определения конкретных целей тренинга. Определяются: сфера
применения обученной когнитивной готовности; род решаемых
задач; условия применения КГ. Выяснение целей тренинга – основа
определения, каким знаниям, умениям и позициям нужно обучить,
чтобы получить когнитивную готовность, необходимую для решения данных задач, в данной сфере и данных условиях. «В целом,
исследование в области тренинга КГ требует:
а) определения и переведения в операционный контекст целей тренинга в терминах знаний и умений, которые должны быть
заложены в обученную когнитивную готовность;
б) использования теоретических рамок, например модели когнитивной готовности команды (team cognitive readiness model), для
выяснения принципов компетентного поведения в динамичных,
сложных и непредсказуемых условиях;
в) использования определения целей тренинга для (1) получения критерия измерения эффективности заложенных в КГ знаний
и умений, (2) выяснения условий применения этих знаний и умений,
(3) отбора когнитивных требований, исходящих от способностей
человека, которые могут предсказать успех тренинга» (с. 99–100).
Кроме того, должны быть рассмотрены и измерены связанные с человеком переменные (person-related variables), которые
предположительно могут прямо или косвенно влиять на исследование. Несомненно, такое рассмотрение усилит исследование в области тренинга КГ – обеспечит лучшее понимание взаимодействия
черт и состояний в отношении их возможностей предсказывать поведение КГ в сложных и непредсказуемых условиях. Хотя это соображение представляется очевидным, до сих пор большинство
исследований в области тренинга КГ часто даже не берет в расчет
такую, казалось бы, простую вещь, как индивидуальные различия
людей. Например, в принципе индивидуализированное умение
44
2014.02.008
толкования, понимания (reading skill) может взаимодействовать с
замыслом, идеей тренинга и контекстуальными факторами, и это –
большая исследовательская проблема.
Связанные с человеком переменные группируются в пяти
общих категориях. Этими категориями выступают: способности,
личные свойства, демографические переменные (например, возраст, пол), стиль обучения (предпочтительный для индивида путь
обучения) и когнитивный стиль. Уместные в отношении КГ способности включают:
– базовые способности, такие как общие ментальные способности и способность рабочей памяти, относящиеся к метакогнитивной сфере, сферам решения проблем и принятия решений;
– более специфические способности: ощущение времени
(time sensitivity), выполнение комплексной работы (multitasking),
раздельное (divided) внимание, управление пространством (spatial
manipulation), быстрое принятие решений, ручной контроль (manual control).
Считается, что базовые ментальные способности более важны на старте тренинга КГ, а специфические способности – на последующих этапах тренинга.
Теоретическое и практическое значение исследований в области тренинга КГ для лучшего понимания КГ и роста эффективности реализации КГ в сложных и динамичных условиях состоит в
следующем. Во-первых, необходимо придерживаться того базового
положения, что КГ не есть некая отдельная черта или характеристика человека, которую можно было бы «тренировать» отдельно
от других человеческих черт или характеристик. КГ – составной
феномен, включающий множество компонентов, большинство из
которых поддается формированию и тренажу, но в какой степени –
до сих пор не ясно. Поэтому первая исследовательская забота состоит в понимании уровня КГ, которого реально можно достичь
соответствующим тренингом определенных компонентов КГ определенными методами. Во-вторых, исследование в области тренинга
КГ в экспериментах, где в их ходе КГ подвергается предварительному тестированию и последующим тестам, способно повысить
понимание взаимодействия переменных, связанных с человеком, и
переменных, связанных с тренингом, что наилучшим образом может предсказать предпосылки компетентного поведения в сложных
2014.02.009
45
и стрессовых условиях. Пока очень мало известно о таком взаимодействии. Тем более оно должно исследоваться для углубления понимания того, как связанные с человеком переменные – личные
свойства, когнитивные аспекты – влияют на КГ сами по себе и во
взаимодействии с идеями тренинга. В-третьих, использование экспериментальной идеи многих тестов (предварительного теста и последующих тестирований) КГ в ходе исследования тренинга КГ
позволяет достигнуть устойчивости измерений КГ, что открывает
путь более полному пониманию устойчивости и пластичности способностей, ответственных за КГ. В-четвертых, измерения КГ могут
различаться в их отношении к двум видам переноса обученного КГ
в динамичные, стрессовые, непредсказуемые условия – временного
(temporal) и адаптивного переноса. Временной перенос – когда
тренинг КГ осуществляется для фиксированных ситуаций решения
задач, а адаптивный перенос – когда тренинг КГ происходит с прицелом на когнитивную готовность человека действовать в неожиданных сложных ситуациях. При этом в случае адаптивного переноса остается неясным фактический вклад каждого компонента
обученной когнитивной готовности в целом в адаптивную готовность.
В заключение авторы надеются, что их исследование в области тренинга КГ «поможет лабораторному и полевому изучению
важного феномена когнитивной готовности, что теоретики и практики из разных областей, связанных с КГ, будут стимулированы
внести вклад в эту проблемную и чрезвычайно интересную сферу
психологического исследования» (с. 115).
А.А. Али-заде
2014.02.009. ПРЕДСКАЗЫВАЯ ПОВЕДЕНИЕ КОМАНДЫ В ДИНАМИЧНОЙ СРЕДЕ: ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ КОГНИТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ КОМАНДЫ / УОКЕР А.,
МУТ Э., СУИТЗЕР Ф., РОСОПА П.
Predicting team performance in a dynamic environment: A team psychophysiological approach to measuring cognitive readiness / Walker A., Muth E., Switzer F., Rosopa P. // Journal of cognitive engineering and decision making. – 2013. – Vol. 7, N 1. – P. 69–82. – DOI:10.
1177/1555343412444733. – Mode of access: http://edm. sagepub.
com/content/7/1/69
46
2014.02.009
Ключевые слова: психофизика команды; поведение команды;
когнитивная готовность; психофизические измерения; согласие.
Авторы из США в попытке с опорой на понятие когнитивной
готовности (cognitive readiness) установить меру психофизического
состояния команды, способного предсказать поведение команды
при решении сложных и динамичных задач, предполагают, что
«правильный путь определения эффективности показателя когнитивной готовности состоял бы в измерении способности такого индекса предсказывать поведение» (с. 69).
Команды, действующие в сложных и динамичных средах,
пишут авторы, должны среди всех своих членов поддерживать
определенный уровень когнитивной готовности, чтобы обеспечить
соответствующее поведение в неопределенных и изменчивых ситуациях. Существуют разные определения когнитивной готовности,
из которых следует, что «когнитивная готовность – это знания,
умения и способности (ЗУС), требуемые для формирования и поддержания компетентного поведения при решении непредсказуемых
сложных задач» (с. 69). Некоторые исследователи уточняют определение, добавляя психофизические состояния (например, стресса,
утомления), и/или внешние факторы, которые могут иметь влияние
на достижение личностью определенного уровня когнитивной готовности. Такой компонент когнитивной готовности, как ЗУС, относительно стабилен во времени, но иное дело – психофизические
состояния и внешние факторы, которые могут постоянно меняться,
делая столь же изменчивой и когнитивную готовность. Поэтому
измерение индивидуальных или командных психофизических состояний могло бы помочь оценить когнитивную готовность в реальном времени. То есть нужен психофизический подход к измерению когнитивной готовности команды, состоящей по крайней мере
из двух человек, призванный выяснить, можно ли с помощью измерения автономной нервной активности членов команды предсказать поведение команды в условиях, когда она должна решать динамичные задачи.
Исследования командной работы и командного тренинга
время от времени используют психофизические измерения для
анализа индивидуальных характеристик членов команды, но лишь
в очень немногих работах изучается психофизика команды в целом. В своем исследовании психофизического состояния команды
2014.02.009
47
в целом авторы осуществляли измерение согласия (compliance),
которое определили как «психофизические изменения одинаковой
природы в двух или более людях» (с. 70). Психофизическое состояние согласия может быть также определено как корреляция психофизических измерений членов команды. Члены команды, чьи
психофизические сигналы показывают более высокую степень соответствующих изменений, демонстрируют больший настрой на
согласие. Остается добавить, что в настоящее время психофизический феномен согласия – единственная мера психофизической активности команды, изучаемая в научной литературе. Предыдущие
исследования использовали разнообразные измерения физиологических состояний людей для оценки активности команды: электродермическую активность, дыхание, электромиографию, изменение
сердечных ритмов. Из них изменение сердечных ритмов – наиболее
обещающая мера психофизического состояния согласия.
Поставленная авторами цель – экспериментальное изучение
связей между психофизической активностью и поведением команды, чтобы определить, может ли психофизическое состояние команды быть приемлемым показателем ее когнитивной готовности.
Участниками эксперимента стали 86 студентов колледжей, разделенных на 43 команды по два человека в каждой. Из этих 43 команд 34 (12 мужских, 11 женских и 11 смешанных команд) обеспечили полные данные психофизической активности. Все участники
прошли проверку на хорошее здоровье, и из эксперимента были
исключены те, кто имел проблемы с сердцем. Всем участникам было сказано отказаться от алкоголя, табака, лекарств и энергичных
упражнений как минимум за 8 часов до начала эксперимента.
В эксперименте изучалось влияние парасимпатической и симпатической нервной системы (ПНС и СНС) участников на поведение
команды.
Анализ результатов показал ожидаемую связь между активностью СНС и поведением команды – рост активности СНС оказался связанным с ростом ошибок команды. То есть более высокие
уровни «физиологического возбуждения» команды сопровождались
более низкими уровнями ее поведения. Были отмечены различия
между операторами одной команды. Оператор Б всегда испытывал
сбалансированный уровень сложности между своей индивидуальной рабочей нагрузкой и рабочей нагрузкой команды. Например,
48
2014.02.009
когда командная рабочая нагрузка была низкой, рабочая нагрузка
оператора Б также оказывалась низкой. Так же в унисон команде
реагировал оператор Б в случае высокой рабочей нагрузки. Что же
касается оператора А, то он испытал две несбалансированные
(между индивидуальной и командной рабочей нагрузкой) ситуации: в одном случае рабочая нагрузка оператора показала низкий
уровень при высокой рабочей нагрузке команды, в другом – при
высокой рабочей нагрузке оператора А рабочая нагрузка команды
была низкой. Одно из возможных объяснений – различное распределение ответственности между операторами: один отвечает за всю
команду, другой – только за себя. Но в таком случае оператор, отвечающий за работу всей команды, должен контролировать другого оператора и тем самым не позволять сбоя работы команды.
Следовало бы ожидать, пишут авторы в заключение, что для
данных уровней ЗУС (знаний, умений и способностей) членов команды их когнитивная готовность может в основном определяться
изменениями их коллективных когнитивных, аффективных и физиологических состояний. Эта гипотеза предполагает, что когнитивная готовность членов команды могла бы оцениваться во времени, близком к реальному, в помощь принятию решений в
динамичных и сложных условиях. Необходимо дальнейшее исследование, во-первых, для определения, воспроизводимы ли результаты предлагаемого (авторского) исследования и, во-вторых, для
специальной проверки того, что психофизическое состояние команды может при данных ЗУС команды быть фактором компетентного командного поведения (с. 80).
А.А. Али-заде
2014.02.010
49
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ.
ЛИЧНОСТЬ УЧЕНОГО
2014.02.010. ДЕ БОН Р. МАНЕРА ВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ДИСПУТОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И НЕМЕЦКИХ ЗЕМЛЯХ В
XIX в.
DE BONT R. «Writing in letters of blood»: Manners in scientific dispute in nineteenth-century Britain and the German lands // History of
science. – Cambridge, 2013. – Vol. 51, Pt. 3. – P. 309–335.
Ключевые слова: научные споры; религия; научный этикет;
Великобритания; Германия.
Автор, сотрудник Университета Маастрихта (Нидерланды),
анализирует то, как изменился стиль ведения научных споров в
XIX в. Появление новых дисциплин, превращение научных исследований в профессию, развитие секулярной культуры и проникновение либеральных ценностей в науку – это характеристики, обычно упоминающиеся при описании социального контекста развития
науки в XIX в. Как отмечает Дж. Пикстоун (J. Pickstone, 2005),
«наука в XIX в. была игрой по правилам, которые радикально отличались от натурфилософии предшествующих лет» (цит. по:
с. 310).
«Суть научного духа, – писал английский морфолог
Т. Гексли в 1880 г., – это критичность» (цит. по: с. 309). Сейчас это
положение кажется само собой разумеющимся. Однако в разные
времена дискуссии и споры получали как положительную, так и
негативную оценку ученых, что зависело от исторически и географически обусловленных ценностей. В 1660-е годы Р. Бойль разработал набор правил, которые регулировали поведение натурфилософов в случае разногласий. Главное, на что были направлены
50
2014.02.010
правила Р. Бойля, – это сохранение уравновешенной и благопристойной атмосферы в научном сообществе, что обеспечило бы экспериментальным философам доверие в обществе, и без того раздраженном первой (1642–1646) и второй (1648) гражданскими
войнами.
Научный этикет в XIX в. не был четко прописан. В 1816 г.
гарвардский профессор философии Л. Хейдж (L. Hedge) опубликовал руководство «Элементы логики», которое включало главу
«Правила ведения споров». Эти правила сильно напоминали те, что
были сформулированы Р. Бойлем 150 лет назад. Как и Р. Бойль,
Л. Хейдж опасался, что «неуправляемые страсти» в дискуссии
нарушат «гармонию» и «покой» в обществе, которое не так давно
пережило войну. Для того чтобы избежать этого, конфликтующие
стороны должны признавать интеллектуальное равенство соперника, избегать проявлений «самонадеянности, уверенности в своей
безусловной правоте и высокомерия» (цит. по: с. 311), не говоря
уже о том, что полностью запрещается переходить на личности;
целью спора должна быть истина, а не победа.
Другие авторы проявляли еще большую осторожность. Так,
Д. Стюарт (D. Stewart, 1828), профессор Эдинбургского университета, полагал, что споры «возбуждают чувства зависти и злобы»,
которые мешают проводить честные и незаинтересованные исследования. Кембриджский профессор этики У. Палей (W. Paley, 1825)
давал советы, как избежать дискуссий. Другой профессор из Кембриджа, Дж. Хей (J. Hey, 1822), был настроен более оптимистично.
Он полагал, что в идеале споры могут приносить пользу, и прописал правила, которые должны управлять подобной идеальной дискуссией. Но в целом такие разные философы, как Д. Стюарт,
У. Палей и Л. Хей, сходились во мнении, что споры несут опасность разлада, сектантства и враждебности и по этой причине их в
лучшем случае можно считать рискованным мероприятием.
Подобную осторожность британских философов, по крайней
мере частично, можно объяснить силой эмпирических традиций в
Британии. «В этом смысле можно сказать, что этикет Р. Бойля продолжал жить, потому что была жива его эпистемология» (с. 312).
Кроме того, сильный антиякобинский дух, который захватил Британию в 1790-е годы, проявлялся в том числе и в критическом отношении к спекулятивным абстракциям и агрессивности французов.
2014.02.010
51
В начале XIX в. немецкие философы в отличие от британских в целом с большим оптимизмом смотрели на открытое проявление разногласий. И. Кант включил идею интеллектуального конфликта в свою эпистемологию и этику. Немецкие философы также
занимались разработкой правил ведения споров, дабы они были
«честными, прямыми, достойными и миролюбивыми», но ни один
из них не сомневался в полезности открытого обсуждения конфликтующих идей. Более того, великие мыслители того времени
(от И.Г. Фихте к Г.В. Гегелю и Ф. Шеллингу) известны своим полемическим, а часто и оскорбительным тоном (с. 313). Смелость
немецких романтических философов автор частично объясняет их
положительным отношением к роли спекулятивных рассуждений.
Более того, немецкие романтики продолжали традиции Просвещения в своем презрении к догматизму и уважении ценностей критицизма.
Восприятие взаимоотношений между политикой и философией немцев также отличалось от восприятия британцев. Кроме
того, немцы в отличие от французов, которые, по словам
Г.В. Гегеля, стремятся нравиться любой ценой, даже ценой истины,
считали себя глубокомыслящими, духовными и смелыми (с. 313).
Хотя Французская революция как таковая и критиковалась многими немцами, это не привело к более осторожному отношению к
дискуссиям. Этот романтический стереотип укрепился с появлением немецкого исследовательского университета. Свойственные ему
атмосфера конкуренции, сосредоточенность на публикациях и
культура диспутов и семинаров способствовали укреплению образа
«оригинального и харизматического профессора».
Термины «спор», «дискуссия», «полемика» и в Германии, и в
Британии в начале XIX в. ассоциировались с догматической теологией и, следовательно, с вопросами религиозной ортодоксии. Поэтому для многих они были связаны скорее со сверхъестественным,
чем с природным миром. Этот факт следует учитывать, рассматривая отношение людей науки к полемике и спорам. Не случайно
многие из них пытались доказать, что в отличие от догматической
теологии или спекулятивной метафизики научное предприятие не
создает поля для раздоров. «Здесь опять можно услышать эхо стратегий их предшественников, живших в XVII в., которые, подобно
Р. Бойлю и Ф. Бэкону, пытались показать, что их научный этос не
52
2014.02.010
имеет ничего общего с воинственными методами схоластических
диспутов» (с. 314).
В начале XIX в. внутренние беспорядки и зарубежные революции заставляли джентльменов-естествоиспытателей опасаться
проникновения политических раздоров в их среду. Поэтому собрания Лондонского королевского общества, Линнеевского общества
и Королевского астрономического общества проходили в спокойной и бесконфликтной обстановке. Однако эта позиция разделялась
не всеми. Так, Ч. Баббэйдж (Ch. Babbage, 1830) даже указал на
сверхосторожность интеллектуальной элиты Англии как на одну из
причин регресса ее науки. Критикуя работу Лондонского королевского общества, Ч. Баббэйдж подчеркивал, что наука может развиваться лишь через критику работ других ученых.
В 1831 г. не без участия Ч. Баббэйджа была учреждена Британская ассоциация содействия развитию науки. Ассоциация создавалась как для продвижения интересов науки во внешней (политической) сфере, так и в качестве пространства для ведения
внутренних научных дискуссий. Тем не менее на собраниях ассоциации ее члены по-прежнему старались избегать открытых столкновений, продолжая традиции бэконовской лояльности.
В Германии институциональная и культурная структуры
науки в начале XIX в. сильно отличались от британской. Как и сама
Германия, ее научные общества тоже были раздроблены, и их размеры были гораздо меньше, чем, например, размер Лондонского
геологического общества. Единственной институцией, которая пересекала границы отдельных земель, стала Германская академия
естествоиспытателей «Леопольдина» в Берлине. Однако она функционировала в основном как корреспондентская сеть, и в отличие
от Лондонского королевского общества или Парижской академии
наук ее члены не встречались лично на общих заседаниях. Только с
1822 г. благодаря ежегодным собраниям Общества немецких естествоиспытателей и врачей люди науки смогли лично беседовать
друг с другом.
Инициатором создания этого общества стал первый его президент и ведущий защитник натурфилософии Л. Окен. В качестве
причины проведения этих ежегодных собраний Л. Окен назвал
плачевное состояние немецкой науки. В отличие от французов и
англичан, утверждал он, немцы, критикуя работы других ученых,
2014.02.010
53
бывают несдержанными. Объяснение французского и английского
превосходства, по его мнению, следует искать в централизации их
научной жизни, позволяющей ведущим ученым непосредственно
общаться друг с другом. Сплотив немецкое научное сообщество,
Л. Окен надеялся сгладить его грубость и внедрить «уважительный
и умеренный тон при обсуждении чужих мнений», что укрепляло
бы чувство товарищества среди ученых.
В дальнейшем идеи Л. Окена неоднократно повторяли последующие президенты Общества немецких естествоиспытателей и
врачей, включая А. Гумбольдта. В своей знаменитой лекции 1828 г.
А. Гумбольдт защищал важность устного обмена мнениями между
учеными, одновременно подчеркивая необходимость соблюдать
правила хорошего тона. Но главным его посылом была мысль
И. Канта о том, что обнаружить истину без расхождения во мнениях невозможно. Именно эта идея и в Великобритании, и в Германии в середине XIX в. нашла широкий отклик.
В 1840-е годы отношение британцев к научным дебатам
сильно изменилось. Наряду с другими факторами развитие новых
издательских технологий (и массовой культуры, ими порожденной)
привело к тому, что стало трудно удержать споры внутри кружка
ученых джентльменов. Автор показывает, насколько далеко научные споры, выплеснувшись на страницы газет, отошли от провозглашавшихся принципов ведения дискуссий (с. 318).
Но несмотря на это, джентльменские манеры оставались желаемой моделью. В 1849 г. английский борец с религией
Дж. Хольоэйк (G. Holyoake) опубликовал руководство (90 страниц),
полностью посвященное правилам поведения ученых в споре. Эти
правила сильно напоминали те, которые были опубликованы
Л. Хейджем полвека назад. Однако Дж. Хольоэйк имел в виду не те
споры, которые ведут между собой ученые, а публичные диспуты,
рассчитанные на широкую публику. Он сам активно участвовал в
подобных диспутах со священниками в разных концах страны, тем
самым продолжая традиции теологической полемики.
Позднее (в 1852 г.) Дж. Хольоэйк объявил свободную дискуссию главным орудием для сторонников рационализма. Он
назвал науку «проведением человека» и объявил ее противницей
религии – стратегия, которая в последующие десятилетия станет
54
2014.02.010
все более популярной среди профессиональных ученых из среднего
класса (с. 319).
В Германии манера ведения научных споров в середине XIX в.
тоже стала актуальной темой. Этому способствовали меняющиеся
отношения между наукой, религией и философией в паре с наметившимся подъемом научной популяризации и профессионализацией науки. Все это вылилось в острейшую «словесную войну»,
которая началась после выступления немецкого физиолога и антрополога Рудольфа Вагнера на собрании Общества немецких
естествоиспытателей и врачей в 1854 г., где он раскритиковал материалистические воззрения двух ведущих немецких физиологов
К. Фогта и Я. Молешотта.
Последние открыто отрицали существование Бога и бессмертной души. Их материалистический монизм предполагал, что
космос следует интерпретировать как простое движение материи.
Эти идеи, ассоциировавшиеся с политическим радикализмом, вылились на страницы газет, вызвав большой скандал. Выступление
Р. Вагнера было попыткой защитить традиционные ценности.
Он критиковал материалистическое мировоззрение, связывая его с
безнравственностью и политическим хаосом. Его главной мишенью стал К. Фогт.
Карл Фогт придерживался антиклерикальных и «левых»
убеждений. Он принял участие в революции 1848 г. и после ее неудачи уехал в Женеву, где занял пост профессора геологии и
увлекся популяризацией науки. Очевидно, что среда, в которой он
работал, сильно отличалась от той, в которой работали его коллеги
в Германии. Себя он позиционировал как космополита, проводника
свободы и борца с истеблишментом, что и обусловило его стиль
ведения дискуссии с Р. Вагнером.
В своих публикациях К. Фогт порвал с правилами хорошего
тона, которым неукоснительно следовал Р. Вагнер. Он перестал
каждую свою фразу начинать со слов «Вы, конечно, правы, но...».
Он также нарушил краеугольное правило не переходить на личности, всячески критикуя и высмеивая характер и персональные качества Р. Вагнера. Главными он считал не законы вежливости и хорошего тона, а искренность и честность. Он подавал себя в
качестве «свободного борца», для которого не существует авторитетов.
2014.02.010
55
Многие ученые присоединились к Р. Вагнеру. В своих газетных статьях и памфлетах они доказывали, что материализм вульгарен не только с точки зрения своей философии, но и с точки зрения
своего языка и манер. В то же время, резко критикуя содержание и
стиль публикаций К. Фогта и Я. Молешотта, их оппоненты явно
перенимали их конфронтационные стратегии.
Растущий в 1860-е и 1870-е годы класс британских профессиональных ученых во многих отношениях стал наследником
Дж. Хольоэйка и К. Фогта. Ученые подхватили идею секуляристов
о том, что дискуссия – это главное орудие рационализма в борьбе с
догматическим мышлением, а также в определенной степени переняли резкий и прямой стиль К. Фогта. «Все большую популярность
получали положения, согласно которым вежливость стоит на пути
истины; в постаристократическом мире главное не формальности, а
содержание; честность важнее стилистической пышности» (с. 322).
Этот сдвиг был постепенным и затронул не только научный дискурс, но и викторианскую культуру в целом.
Ярким примером культивации честности и искренности в
науке может служить известный обеденный клуб – Х-клуб, созданный по инициативе Т. Гексли для укрепления связей между учеными. Ряд членов Х-клуба активно участвовали в дебатах, которые
последовали за публикацией «Происхождения видов». Стиль, которого они придерживались, защищая теорию Ч. Дарвина, не всегда устраивал ее автора. Биографы Ч. Дарвина описывали его как
«самого благородного джентльмена, которого только можно встретить». Он осуждал полемический пыл Т. Гексли, хотя и признавал
его правоту. Точно так же в письме 1867 г. он объяснял своему самому страстному немецкому последователю Э. Геккелю, что к
научным оппонентам следует относиться как к интеллектуально
равным себе и, таким образом, как к возможным носителям истины.
Э. Геккель придерживался иного мнения, полагая, что
скромность Ч. Дарвина его оппонентами будет воспринята как слабость и неуверенность. Поэтому он считал, что ему следует взять
на себя роль «смелого борца» – термин, который перекликается с
риторикой его друга К. Фогта. Эту стратегию он активно использовал в своем столкновении с ведущим немецким биологом Р. Вирховым, считавшим дарвинизм эпистемологически сомнительным и
56
2014.02.010
политически опасным. Э. Геккель очень остро воспринял эту критику и начал контратаку на Р. Вирхова, легко переходя на личности
и критикуя его политические взгляды.
В стиле ведения споров между двумя главными проповедниками дарвинизма – англичанином Т. Гексли и немцем Э. Геккелем –
было много общего, но были и различия. На протяжении всей своей карьеры Т. Гексли подчеркивал нейтральность ученого, его независимость и честность. В отличие от политиков, которые используют любые средства для достижения своих целей, Т. Гексли
преподносил ученого как человека, для которого истина превыше
всего.
Хотя Э. Геккель также подчеркивал, что он «вовсе не политик», тем не менее он не скрывал, что, по его мнению, дарвинизм
может быть использован в идеологической борьбе с реакционными
политическими и религиозными силами Германии. «Для Т. Гексли
вербальная агрессия была хорошим инструментом на первой фазе
демонстрации своей честности и искренности; для Э. Геккеля она
была постоянно используемым оружием в борьбе за истину»
(с. 326).
На первый взгляд различия в стиле Т. Гексли и Э. Геккеля
можно объяснить различиями между немецкой грубоватостью и
английской пристойностью. Однако, по мнению автора, в большей
степени, чем национальную специфику, манера дискутирования
Т. Гексли и Э. Геккеля отражает разные варианты риторики, принятой среди профессиональных ученых конца XIX в. Они оба
изображали ученого как смелого и неангажированного, но придавали разный вес этим двум ценностям. «Т. Гексли довольно быстро
смыл с себя боевую раскраску, чтобы усилить образ неидеологизированной и независимой науки, тогда как Э. Геккель защищал свою
истину с романтической энергией, которая перевешивала все претензии на нейтральность» (с. 327).
Вопрос о том, как справляться с разногласиями в науке, имеет много слоев. «Хотя почтенный Т. Гексли доказывал, что редкие
литературные блюда менее аппетитны, чем холодный спор, историкам было бы полезно вновь вернуться к нему» (с. 328).
Т.В. Виноградова
2014.02.011
57
2014.02.011. ЕССЕН А., ВАРЛАНДЕР С.У. ВЗАИМНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕЛЕСНОГО И ДИСКУРСИВНОГО ПОНИМАНИЯ В НАУЧНОЙ ПРАКТИКЕ: АУТОЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ВЗГЛЯД НА АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ.
ESSEN A., VARLANDER S.W. The mutual constitution of sensuous
and discursive understanding in scientific practice: An autoethnographic
lens on academic writing // Management learning. – L.; New Delhi,
2013. – Vol. 44/4. – P. 395–423.
Ключевые слова: академические тексты; аутоэтнография;
телесность; практика; чувственное и дискурсивное понимание.
Исследовательский процесс, по словам авторов – специалистов в области социологии науки, традиционно интерпретируется
как базирующийся скорее на абстрактном анализе и интеллектуальных способностях, чем на материальных и эмоциональных ресурсах. Тем самым пропагандируется понимание научной практики
как беспристрастной, неэмоциональной и объективной деятельности. Авторы намерены устранить этот пробел, занявшись изучением того, как при написании академических текстов телесные аспекты переплетаются с артикуляцией идей.
Социальные, идеологические и политические факторы в развитии науки получили признание благодаря трудам Т. Куна и
П.К. Фейерабенда. В дальнейшем социология науки еще больше
подчеркнула их значимость и занялась непосредственным их изучением. Ну а как же роль осязаемых, недискурсивных аспектов,
связанных с человеческим телом и его материальным окружением?
В самое последнее время были сделаны некоторые усилия,
чтобы проанализировать эту сторону научной деятельности. Социологи обратились к той функции, которую выполняют артефакты (разного рода устройства, зонды и детекторы) в структурировании научных исследований. Однако эти работы фокусируются
скорее на том, как знание распределяется и вписывается в эти материальные объекты, чем на роли человеческого тела в качестве
субъекта, реализующего научную деятельность.
С помощью феминистского подхода были предприняты попытки заполнить этот пробел и выяснить, как недискурсивные или
телесные цели и гендер повлияли на практику науки и научное
описание мира. Недавние исследования продолжили эту тенден-
58
2014.02.011
цию. В частности, было показано, что телесные навыки и жесты
помогают ученому во время публичных выступлений продемонстрировать свою объективность и научную компетентность. Кроме
этого, была выявлена позитивная роль доверительных и эмпатических отношений между социологом и респондентами при сборе
данных и их анализе.
Развивая свою мысль дальше, авторы обращаются к новой
области, изучающей манеру написания и композицию текстов.
В этой области произошел сдвиг от лингвистического анализа текстов к этнографическим исследованиям практик, сопряженных с их
написанием. Некоторые работы были посвящены социальному и
политическому контекстам, в которых создаются академические
тексты.
В основном в рамках этого направления написание текстов
рассматривается в культурном и дискурсивном контекстах. Исключением может служить исследование К. Хааса (C. Haas, 1996), который анализировал воздействие «материальных и культурных
орудий», в частности компьютеров, на мыслительные процессы.
Но в целом ученые, работающие в этой области, не слишком задумываются о связях между материальной и нематериальной сторонами этой деятельности.
Широкое признание получил тезис о том, что практика предлагает способ, позволяющий связать язык с тем, что индивиды как
социальные существа делают «на уровне контекста ситуации» и
«на уровне контекста культуры». Однако лишь в немногих работах
содержатся описания того, как идеационные и материальные параметры написания текстов переплетаются между собой и особенно
как человеческое тело участвует в этом процессе.
Авторы определяют практику «как телесные, материально
опосредованные сферы человеческой деятельности, центрально
организованные вокруг общего практического понимания» (с. 399).
Отсюда следует, что мысль – это не продукт трансцендентального
сознания; она рождается в процессе целенаправленной телесной
деятельности. «Знания, имеющие практическое значение, могут
быть получены лишь посредством взаимодействия с машинами,
клавиатурой компьютера, путем проб и ошибок. Следовательно,
целенаправленные действия представляют собой главный элемент
практики» (с. 400). Авторы объединяют эти идеи с феноменологи-
2014.02.011
59
ческим подходом М. Хайдеггера, Э. Гуссерля и М. Мерло-Понти,
чтобы далее развить представление о теле как об акторе, связывающем идеальные и материальные аспекты написания академических текстов.
М. Мерло-Понти подчеркивал, что «феноменальное тело»
(в его терминологии) выступает посредником в любых видах и
формах восприятия. Отсюда следует, что «только благодаря феноменальному телу и его постоянному диалогу с миром мы воспринимаем и постигаем вещи, природу и поведение другого как культурные объекты» (с. 401). Это значит, что сознание – это не вопрос
«Я думаю», а вопрос «Я могу». Восприятие и действие тесно переплетены, поскольку человек воспринимает то, чем он может манипулировать. И следовательно, телесные, равно как и аффективные,
состояния – это не просто эпифеномены, но активные участники, без
которых невозможно структурировать опыт.
Действие и восприятие способны функционировать в тандеме
без обязательного посредничества «рефлексирующего» разума. Тем
не менее между ними существует опосредование, но на другом
уровне. Тот смысл, который человек вкладывает в свои действия, а
соответственно в то, что он ощущает, видит и слышит, зависит от
его прошлого опыта и его включенности в определенный культурный контекст, т.е., по терминологии П. Бурдье, от его habitus.
Позднее М. Мерло-Понти ссылался на восприятие как на открытие смысла мира «в и через бытие», которое само по себе есть
часть мира, плоть от плоти его (с. 401). М. Мерло-Понти предполагал, что смысл рождается из движений между значениями, «не выраженными словами», и языковыми значениями. С этой точки зрения, язык – это не самореферентная система, отчужденная от тела,
труда и практики (как это происходит, например, в лингвистике
Ф. Соссюра и постструктурализме). Как писал М. Хайдеггер, язык –
это часть поведенческого комплекса, имеющего свою историю;
язык неидентичен сознанию или знанию, он опирается и предполагает существование вне лингвистических форм понимания. Таким
образом, язык зависит от других видов телесных и практических
знаний (с. 402).
Понятие практики позволяет описать связь между такими видами деятельности, как чтение и письмо, и социальными структурами, в которые они включены и которые они помогают формиро-
60
2014.02.011
вать. Взгляд на составление текста как на физическое действие
представляет собой альтернативу представлению о науке и научном тексте как о продукте бесстрастного логического мышления.
Исходя из вышеописанных допущений, авторы провели эмпирическое исследование того, как в процессе написания академического текста материальные и нематериальные аспекты переплетаются между собой. Они использовали аутоэтнографический
метод, который характеризуется тем, что социолог: 1) сам выступает
в качестве полноправного члена исследуемой группы; 2) обозначается в качестве такового в тексте статьи; 3) не ограничиваясь самоанализом, дает более широкое объяснение изучаемому феномену.
Авторы не только опирались на собственный опыт, но и провели
подробные интервью с 18 социальными учеными, работающими на
различных отделениях в трех университетах Швеции и США
(с. 403).
Поскольку специфика этнографического метода состоит в
том, чтобы дать максимально правдивое и детальное описание своего опыта, перед авторами возник резонный вопрос, насколько переживаемую ими реальность можно отразить в тексте. Принадлежность к «ученому племени» обязывает подчиняться стандартам
написания текста, который должен отвечать строгому формату.
Наличие последнего, по мнению авторов, делает академические
тексты все более обезличенными и скучными. Такой «механический сциентизм» заставляет смотреть на написание текста как на
нечто, что ученые делают после того, как исследование уже проведено и выводы сделаны, т.е. составление текста репрезентируется
как запись ранее возникших мыслей и открытий, а не как креативный и динамический процесс.
Авторов удивляет этот «механический сциентизм» и исключение исследователя, обладающего плотью и кровью, из публикаций, особенно учитывая последние данные о важной роли эмоциональных отношений в работе социальных ученых. По их словам,
они попытались преодолеть эти недостатки и поняли, насколько
глубоко увязли в академическом дискурсе и как трудно освободиться от ограничений и норм, усвоенных в ходе социализации в
качестве ученых.
Как показал собственный опыт авторов и беседы с коллегами, дискурсивное мышление осуществляется в процессе работы с
2014.02.011
61
материальными орудиями, записями и итоговым текстом; это вовсе
не идеи, которые ждут своего воплощения на бумаге. Авторы приводят выдержки из исследовательских протоколов, которые показывают, как идеи возникают и постепенно оформляются в ходе
практических действий. Один из респондентов утверждал: «У меня
редко в голове есть четкие формулировки до того, как я напишу
статью. Я не могу кого-то попросить “записать мои мысли”, поскольку большинство выводов возникают через телесные усилия
по их написанию...» (цит. по: с. 408).
Идеи появляются в ходе физического манипулирования с
текстом. Этот процесс может включать использование разных материальных орудий. «Новые идеи возникают тогда, – говорил другой респондент, – когда я сижу перед компьютером и держу руки
на клавиатуре, а на экране появляются слова. Идеи не возникнут,
если я буду лежать на диване и думать» (цит. по: с. 409).
Определенные физические условия могут делать человека
более восприимчивым и креативным, а другие, напротив, угнетать
его. Одна респондентка говорила, что ей лучше работается дома,
другая сообщила, что предпочитает заниматься написанием статьи
в своем саду, когда рядом бродят две ее собаки. Некоторые интервьюируемые рассказывали, что определенные моменты окружающей среды, например запахи или шум, негативно влияют на их креативность. Сообщалось также, что физические упражнения и
занятия йогой способствуют ясности мысли и творческому подъему, а чувство голода, напротив, мешает (с. 410).
Взаимодействие между телом, орудиями и текстом носит
непосредственный и спонтанный характер, но одновременно оно
зависит от истории отдельного индивида, которая в свою очередь
сопряжена с данным видом культурной практики. Эта практика
диктует, на что следует обратить внимание и что следует сделать,
чтобы написанный текст отвечал принятым канонам. А для этого
необходимо физически поработать с ним, обнаружить пробелы и
противоречия.
Один из респондентов рассказывал: «Я открываю последнюю
версию своей рукописи. Смогу ли я превратить ее в публикацию?
Прежде чем я это узнаю, я должен поработать с текстом, который
состоит из смеси выдержек из прежних публикаций, резюме прочитанных статей и нового эмпирического материала. Я кладу руки
62
2014.02.011
на клавиатуру и с помощью мышки структурирую материал, надеясь, что непоследовательности и пробелы станут видимыми…»
(цит. по: с. 411).
В ряде бесед с коллегами авторы замечали, что они воспринимают практику написания академических текстов как стирание
границ между телесным исследователем и объектом изучения, а
также между «воспринимаемыми» значениями и эксплицируемыми
значениями. Такое видение включает определенный чувственный
опыт, или телесное состояние, которое авторы называют состоянием «открытости» тем возможностям, которые стоят «за» текстом, а
именно к эмоциональному подъему и к своим собственным несформулированным мыслям.
Одна из коллег описала, как определенное телесное и эмоциональное состояние позволяет ей ухватить суть, еще не выраженную словами. «Когда я чувствую свободу и уверенность в своих
творческих способностях, я реагирую на те моменты в тексте, которые в другое время я бы не заметила. Я вижу пробелы, которые
мне следует ликвидировать... и тогда ко мне начинают приходить
неожиданные идеи» (цит. по: с. 411).
Чувственные и эмоциональные состояния способны ускорять
движение от значений, не выраженных словами, к языковым значениям, создавая ситуацию, в которой предмет исследования или
текст «поглощают» ученого. И поэтому он все больше вовлекается
в работу, а впоследствии ему легче анализировать полученные
данные. Это подтверждают слова одного коллеги: «Проводя исследование, я увлекаюсь человеком, которого интервьюирую. Тесные
и личные отношения с респондентами помогают мне впоследствии
интерпретировать мои записи» (цит. по: с. 412). Коллеги также рассказывали авторам, как социоматериальный контекст влияет на их
способность испытывать творческую увлеченность, описанную
выше. Многие из них упоминали влияние таких факторов, как запахи, зрительные ощущения, звуки, свет и температура.
В результате выявился конфликт между потребностями тела
(пройтись, перекусить, изменить позу и т.д.), с одной стороны, и
устройством офиса и университетской культурой – с другой. Невозможность перекусить, не отходя от письменного стола, требование находиться на рабочем месте, шум и пр. мешают сосредоточиться. Если старшие исследователи имеют свои кабинеты и могут
2014.02.012
63
уединиться, то более молодые сотрудники должны сидеть все вместе, а нередко вообще искать свободный компьютер, чтобы поработать. Многие респонденты признавали работу дома более продуктивной, но подобное поведение не приветствуется
руководством. Поэтому, по их словам, они вынуждены заниматься
написанием статей во время летних каникул.
Таким образом, проведенное исследование, заключают авторы, «позволяет рассматривать написание текста как физическое
действие, которое вовлекает в этот процесс все тело, а не только
глаза, читающие текст, и разум, размышляющий и анализирующий
данные» (с. 415).
Т.В. Виноградова
2014.02.012. ЭНДРЮС Дж.Т. МЕНЯЮЩАЯСЯ СФЕРА НАУЧНОЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ, КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИСКУРС И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОТ ЦАРСКОЙ РОССИИ ДО
ХРУЩЁВСКИХ ВРЕМЕН.
ANDREWS J.T. An evolving scientific public sphere: State science enlightenment, communicative discourse, and public culture from imperial
Russia to Khrushchev’s // Science in context. – Cambridge etc., 2013. –
Vol. 26, N 3. – P. 509–526.
Ключевые слова: научная популяризация; царская Россия;
октябрьская революция; «великий перелом»; хрущёвский период.
Автор, сотрудник Университета штата Айова (США), представил анализ дискурса научной популяризации в России начиная с
дореволюционных времен и кончая правлением Н.С. Хрущёва.
В конце XVIII – начале XIX в. царская Россия пережила революцию в области книгоиздания; в этот период появились и стали
бурно развиваться частные типографии и журналы. Передовые люди типа издателя, писателя и журналиста Н.И. Новикова (1744–
1818), побуждаемые идеями просвещения, активно занялись публикацией научно-популярных брошюр и учебников. В определенной степени эти частные издательства вступали в конкуренцию с
прежде существовавшей монополией государства и его институтов
(особенно Российской академии наук).
64
2014.02.012
В 1783 г. Екатерина Великая подписала указ, который разрешал создание издательских домов без специального разрешения от
правительства. Благодаря этому появилось большое количество
научно-популярных журналов, книг и брошюр. Самым известным
стал журнал о науке, выпускавшийся Н.И. Новиковым в 1780-е годы, который назывался «Журнал естественной истории, физики и
химии». В 1783–1792 гг. примерно 10% всех частных изданий были
посвящены науке, технике и математике (с. 512).
На протяжении XIX в. и издатели, и сами ученые охотно
публиковали работы, цель которых состояла в просвещении населения и популяризации научных достижений. В конце XIX в. научные общества, Российская академия наук, издатели и педагоги объединились в широкое движение по популяризации научных знаний
в Российской империи. Это движение занималось как распространением знаний, так и изучением методов его подачи широкой
аудитории.
Ряд просветителей, таких как петербургский книговед, библиограф и писатель Н. Рубакин (1862–1946), занимались разработкой программ обучения естественным наукам, нацеленных на работающих людей. Н. Рубакин и его последователи читали научнопопулярные лекции на фабриках и заводах в Петербурге и его пригородах. В 1891 г. они учредили Комитет по борьбе с неграмотностью и создали передвижную библиотеку, в которой были собраны
книги по всем естественным наукам (с. 513).
Помимо этого, важным механизмом для популяризации
науки стали провинциальные научные общества; то же самое происходило и в Западной Европе, только веком раньше. После создания земств в 1860-е годы городская бюрократия помогала финансировать научно-просветительские лекции, музеи и проекты в
отдельных губерниях. Российские научные общества во многом
копировали западные образцы, хотя их миссия была более сложной
– просвещение менее образованного, но большего по размеру сегмента общества.
После большевистской революции 1917 г. ситуация в области научной популяризации изменилась не столь драматически, как
можно было бы ожидать. Многие просветители увидели в марксистском государстве союзника в деле распространения научных
знаний среди необразованных масс. И действительно, вплоть до
2014.02.012
65
1928 г. государство оказывало финансовую помощь журналам, музеям, научным обществам, возникшим еще до революции, и даже
отдельным публицистам, которые, как предполагалось, должны
были помочь в проведении заявленной «культурной революции».
Таким образом, дореволюционные научные общества, научнопопулярные журналы и лекторы имели возможность продолжать
свою деятельность вплоть до сталинского «великого перелома»,
произошедшего в 1928 г. (с. 514).
Можно сказать, что в период с 1861 по 1928 г., несмотря на
революцию 1917 г., существовала общая коммуникативная «публичная сфера» в отношении науки, хотя и в контексте разных государственных структур. Ю. Хабермас объяснял, что в Европе, по
мере того как периодика вытесняла частную переписку в качестве
ключевого дискурсивного посредника (а музеи и общества институционализировали мнение непрофессионалов по вопросам искусства и науки), начала возникать так называемая «публичная сфера».
В итоге она вытеснила старые аристократические и монархические сферы, где шел основной поток информации. Ю. Хабермас
выделил буржуазию и средний класс в качестве силы, которая стала проводником и регулятором этой новой «публичной сферы» в
Европе. Он подчеркивал, что частный европейский рынок, сохранившийся и в XX в., имел существенное значение для поддержания
этой «публичной сферы» и упрочения ее влияния (с. 515).
Однако для стран, расположенных на границе Европы, где
образованные слои составляли относительно малую часть народа
(в России в 1914 г. только 18% населения жили в городах), модель
Ю. Хабермаса, считает автор, не совсем подходит. Это особенно
верно для России, где лишь небольшая когорта добровольных филантропов, просветителей и издателей должна была распространять
научные знания среди огромного неграмотного населения, жившего за пределами крупных городов.
В ходе сталинской индустриализации городское население
резко увеличилось, и возникла острая потребность в повышении
образовательного уровня новых рабочих. Поэтому в 1930-е годы
государство должно было предпринять огромные усилия по распространению технических знаний среди большой массы необразованных людей. Это породило тонкий симбиоз между коммуни-
66
2014.02.012
стическим государством и новым классом рабочих (устремившихся
из деревень в город).
Перед научными популяризаторами возникала серьезная дилемма, поскольку они должны были работать в сфере, где теперь, в
отличие от 1920-х годов, полностью доминировало государство.
Кроме того, научная популяризация стала синонимом начального
технического обучения, что выразилось в создании технических
руководств, фильмов, брошюр и технических вечерних курсов для
рабочих.
После 1928 г. произошли драматические изменения в научной популяризации. Советские официальные лица исходили из того, что распространение научных и технических знаний должно
отвечать утилитарным целям Коммунистической партии. Это выразилось в новой сталинской пропагандистской кампании, которая
подчеркивала и восхваляла советские технологические достижения
в противовес Западу. «Просветительский, творческий взгляд на
публичную науку, который сохранялся вопреки разлому 1917 г.,
после 1928 г. трансформировался в прикладную науку и технику
для масс» (с. 517). В конечном итоге активисты, заинтересованные
в научно-техническом образовании населения, объединились в
добровольное общество «ТехМасс» («Техника в массы»).
В 1930–1940-е годы в Советской России произошел культурный сдвиг, который русский социолог и правовед Н.С. Тимашев
назвал «великим отступлением» (с. 517). После 1932 г. и по крайней мере до смерти Сталина в 1953 г. сталинизм отошел от революционных культурных норм, на смену которым пришла идея Великой России и ее превосходства по сравнению с западными
странами. Это выразилось, в частности, в борьбе с космополитизмом и в популяризации научных и технических достижений Советского Союза. 1930-е годы стали временем широкого освещения
триумфа «социалистической авиации» и восхищения героямилетчиками. На эту тему публиковали статьи, снимали фильмы, сочиняли песни и писали картины.
Во время Второй мировой войны и последующей послевоенной разрухи стране было не до популяризации науки. Однако после
запуска первого спутника Земли в 1957 г. (а до этого взрыва первой
атомной бомбы в 1949 г.) советские политические лидеры еще
больше уверовали в конкурентные возможности советской техни-
2014.02.012
67
ки. Была начата широкая кампания по популяризации советских
достижений как внутри страны, так и за рубежом. Конкуренция в
научно-технической сфере стала важным компонентом в холодной
войне, начавшейся между двумя сверхдержавами.
Помимо «влюбленности» постсталинского режима в ракетную технику, воздушные полеты и космические исследования важным элементом пропаганды стало подчеркивание советских достижений в использовании «мирного атома». В советских газетах и
журналах печатались статьи, в которых говорилось, что в отличие
от СССР в США нефтяные компании и военно-промышленный
комплекс препятствуют использованию ядерной энергии в мирных
целях. Аналогичные процессы происходили и в США: американское правительство пыталось доказать преимущества ядерных технологий без объяснения их потенциальной опасности.
Акцентирование советского режима на достижениях большой науки и технологических прорывах не мешало широкой кампании по популяризации научно-технических знаний среди населения. Главным каналом для распространения политических и
научных знаний стало созданное в 1947 г. Всесоюзное общество
«Знание». Важную роль в его организации сыграл известный советский физик С.И. Вавилов.
За период с 1953 г. и до прихода к власти М.С. Горбачева в
1985 г. общество «Знание» издавало половину всей научно-популярной литературы в стране. И даже позднее, в 1986–1987 гг., им
было опубликовано 663 научно-популярных книг, брошюр и журналов общим тиражом в 60 млн экз. (с. 520). Как и его предшественник «ТехМасс», общество «Знание» руководило сетью
«народных технических университетов». Более того, Коммунистическая партия передала обществу государственные научные и технические музеи, включая знаменитый Московский политехнический музей; позднее под его управление попало 32 планетария в
различных городах страны (с. 520). Общество «Знание», по словам
автора, это яркое свидетельство сверхцентрализации и обюрокрачивания научной популяризации в Советском Союзе.
Советское государство также было заинтересовано в техническом образовании молодежи и вовлечении ее в науку. На это была направлена деятельность таких организаций, как Московский
68
2014.02.012
планетарий, кружки, фестивали молодых изобретателей и конкурсы технических моделей.
В конце 1950-х и начале 1960-х годов коммунистическое руководство активно пропагандировало достижения страны в ракетостроении, изучении космоса и в ядерных технологиях. Популярные
журналы распространяли информацию о заслугах советской техники; проводились массовые парады, подобные тому, который прошел в апреле 1961 г. в связи с полетом Ю. Гагарина. Но это не было просто пропагандой; советские люди действительно гордились
полетом Ю. Гагарина, как американцы гордились высадкой своих
астронавтов на Луну.
Российская культурная элита, в отличие от Советского государства и основной массы населения, представляла собой единственную социальную страту, способную просеивать советскую
пропаганду и видеть реальные достижения советской науки и последствия этих достижений. Более того, после отставки
Н.С. Хрущёва в 1964 г. направление и «накал» научных исследований в СССР изменились. Молодежь стала меньше интересоваться
успехами советской космонавтики и науки в целом. А в обществе
возникла озабоченность экологическими последствиями масштабной индустриализации.
«Таким образом, – пишет автор в заключение, – концепция
научной популяризации в советский период укладывается в парадигматическую рубрику массового образования, массового просвещения и пропаганды, осуществляемых сверху, и одновременно
общественных интересов, увлеченности и деконструкции, осуществляемых снизу, которые приобретали разные формы на протяжении XX в. История научной популяризации в России, уходящая корнями в XVIII в., как в царскую, так и в советскую эпохи
подпитывалась постоянными сложными отношениями между режимом и людьми; эти отношения иногда были симбиотическими, а
иногда конфликтными» (с. 525).
Т.В. Виноградова
2014.02.013
69
2014.02.013. ГОВОНИ П. СИЛА СЛАБЫХ КОНКУРЕНТОВ:
ЖЕНЩИНЫ-УЧЕНЫЕ, «ПОПУЛЯРНАЯ НАУКА» И СОЗДАНИЕ
НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В ИТАЛИИ, (1860–1930-е годы).
GOVONI P. The power of weak competitors: Women scholars, «popular science» and the building of scientific community in Italy, (1860–
1930s) // Science in context. – Cambridge etc., 2013. – Vol. 26, N 3. –
P. 405–436.
Ключевые слова: «наука для всех»; британская модель; создание научного сообщества в Италии; женщины-ученые.
Автор, сотрудница Болонского университета (Италия), анализирует историю итальянской «популярной науки» с 1860 по 1930 г.
Эта история служит для автора контекстом, который позволяет ей
обратиться к трем феноменам: созданию научного сообщества в
Италии; вхождению женщин в систему высшего образования; реакции мужчин-ученых на появление женщин в науке.
В XVIII в. европейские ученые стали активно популяризировать натурфилософию. При этом они использовали различные способы, которые становились все более сложными. Благодаря успехам промышленной революции к середине XIX в. появилась
литература, которая на разных языках обозначалась как «наука для
всех» и которая сыграла решающую роль в формировании публичного образа современного ученого.
После создания единого национального итальянского государства в 1861 г. на протяжении примерно 30 лет ученые успешно
занимались распространением научных знаний среди населения.
Однако в ходе мирового экономического кризиса, произошедшего
в 1880-е годы, пострадал и итальянский издательский сектор. Количество книг, посвященных науке, технике и медицине, ежегодно
снижалось более высокими темпами, чем в остальных областях
(с. 406). Падение числа научных публикаций на рубеже веков автор
частично относит за счет изменений во вкусах публики, по мере
того как на смену позитивизму стал приходить новый идеализм.
Успехи «науки для всех», имевшие место с 1860 по 1900 г.,
оказали серьезное влияние на разные категории читателей, и в
первую очередь на самих ученых. Популяризаторы науки позитивистской ориентации пытались достучаться до бедных слоев населения, чтобы помочь им избавиться от нищеты и от многовекового
70
2014.02.013
«обскурантизма», т.е. от влияния католической церкви. Католические ученые, наоборот, пытались «защитить» их от атак «священников от науки», политически близких либеральным кругам
(с. 407).
После объединения страны немногочисленные итальянские
ученые стали видеть в себе героев или проповедников «современности». Одновременно они учились воспринимать себя как членов
одного сообщества, отражающего их общие интересы. Буржуазия и
средний класс также выиграли благодаря успехам «науки для
всех», поскольку последняя широко пропагандировала идею о том,
что наука и технологии служат двигателем как экономического, так
и социального «прогресса».
«Наука для всех» принесла пользу еще одной группе, которая, подобно «ученым» и «предпринимателям», в это время выходила на экономическую и общественную сцену. Это «новые женщины» – представительницы среднего класса, которые хотели
стать профессионалами, и для этого им нужно было высшее образование. В Италии это была ограниченная группа из нескольких сот
женщин, которые не были адресной аудиторией для авторов и издателей научно-популярной литературы.
В XIX в. усилия по популяризации науки в Италии, как и в
остальных странах, предпринимались учеными не только с целью
просвещения и экономического прогресса, но и для того, чтобы
облегчить диалог с коллегами из других научных областей. Поскольку Италия отставала от передовых стран, она при создании
собственных институтов использовала чужой опыт.
Первыми за популяризацию научных достижений и развитие
естественнонаучного образования взялись британские ученые, которые раньше других объединились в единое национальное сообщество. «Образ, который благодаря научно-популярной литературе
сложился у британцев о человеке науки, был образом нового типа
“просвещенного” профессионала, героической фигуры, чьи интеллектуальные усилия находят немедленное применение и способствуют “прогрессу”. Это был подслащенный и упрощенный образ,
который вышел за пределы Британии и в итоге достиг Италии»
(с. 411).
Социальные реформаторы и популяризаторы науки использовали модель Великобритании с ее выдающимися личностями ти-
2014.02.013
71
па М. Фарадея, достигшими больших успехов и в экспериментальной, и в популяризаторской деятельности; ее экспертами, политиками, реформаторами и популяризаторами типа Т. Гексли; ее научным рынком, издававшим большое количество журналов; ее
институтами типа Лондонского королевского общества и Британской ассоциации содействия развитию науки (БАСРН). Недаром
языком науки с середины XIX в., после публикации в 1859 г. «Происхождения видов», становится английский.
Автор на конкретных примерах показывает, как британская
модель повлияла на построение взаимоотношений между наукой и
обществом в Италии (с. 411). В частности, БАСРН была взята за
основу, когда в Италии была предпринята попытка создать Конгресс итальянских ученых (1839), и она же использовалась, когда в
1906 г. создавалось Итальянское общество содействия развитию
науки.
Точно так же британский научный рынок послужил образцом
для итальянских издателей. В 1883 г. крупный итальянский издатель Э. Тревес (E. Treves) собрал самых известных ученых и инженеров, занимавшихся популяризацией, с намерением основать еженедельный журнал, который, как он надеялся, станет итальянским
вариантом журнала «Nature». В 1875 г. другие издатели братья
Дюмолард (Dumolard) запустили серию «Библиотека мировой
науки». Примеры можно продолжить (с. 412).
Успеху научной популяризации в Италии в 1860–1900 гг.
наряду с общими для других стран экономическими и социальными факторами способствовали также политика и риторика объединения. Властные элиты поддерживали эти усилия, видя в науке
движущую силу прогресса, которая поможет преодолеть отсталость Италии.
Однако сообщество итальянских ученых, в отличие от британских, было хрупким и слабым. К югу от Альпийских гор не было институций, сравнимых с Лондонским королевским обществом
или БАСРН: проект по созданию Конгресса итальянских ученых
потерпел неудачу, равно как и первая попытка, предпринятая в
1862 г., основать Итальянское общество содействия развитию
науки. Кроме того, в 1871–1900 гг. итальянские ученые были еще
явно не готовы к длительному сотрудничеству. Так, в 1871 г. только 69 из 765 официально зарегистрированных журналов были
72
2014.02.013
научными, т.е. около 9%, а аналог итальянского журнала «Nature»
потерпел неудачу через два года после выхода первого номера
(с. 413).
Активная популяризаторская деятельность ученых в 1870–
1880-е годы негативно сказывалась на экспериментальных исследованиях. Поэтому следующее поколение ученых увидело свою
задачу в срочном повышении качества научной продукции и создании новых институтов. В 1906 г. они поддержали вторую попытку
сформировать Итальянское общество содействия развитию науки, а
затем в 1923 г. – Национальный исследовательский совет (National
research council). За период c 1906 по 1923 г. была проведена серьезная работа по формированию национального сообщества ученых
в Италии, которое окончательно сложилось во время Первой мировой войны, когда ученые активно сотрудничали с правительством и
промышленностью.
Одновременно изменилось отношение ученых нового поколения к популяризации: производство научно-популярной литературы низкого качества упало, тогда как издание специальных руководств и публикаций более высокого уровня возросло. Показателем
консолидации научного сообщества служит рост количества выпускаемых журналов: в 1939 г. в Италии выходило 637 научных
журналов разного уровня (с. 414). Именно этот новый тип профессиональных ученых, осознавших после Первой мировой войны
общность своих интересов, растущие престиж и власть, поняли, что
женщины в науке могут быть конкурентами.
В последние десятилетия XIX в. ученые достигли экономически, институционально и политически значимого положения.
И одновременно женщины получили доступ к высшему образованию и к научной деятельности. В этом отношении Великобритания
обгоняла другие страны. Хорошо известно, что присутствие женщин в таких институтах, как БАСРН, приветствовалось ученымимужчинами, но одновременно они же препятствовали появлению
женщин в большинстве научных обществ и в университетах.
Большой популярностью пользовалось мнение Т. Гексли, согласно
которому большинство женщин застряло на начальных этапах человеческой эволюции, поэтому они по своему интеллектуальному
развитию заметно отстают от мужчин. Следовательно, их появление в науке может затормозить ее развитие (с. 414).
2014.02.013
73
Если женщины были допущены в Лондонское зоологическое
общество в 1829 г., а в 1839 г. – в Энтомологическое общество, то
Линнеевское общество открыло свои двери для женщин лишь в
1905 г., а Лондонское королевское общество – в 1945 г. Оксфордский и Кембриджский университеты стали присуждать ученые степени женщинам только в 1920 и в 1946 гг. соответственно. «Это
было поведение сообщества с древними монашескими и соответственно женоненавистническими традициями» (с. 415).
Британский пример помогает понять, почему в те же самые
десятилетия итальянские ученые, хотя и разделяли мнение
Т. Гексли о месте женщин в человеческой эволюции, тем не менее
не закрыли для них двери университетов и профессиональных сообществ. В XIX в. на смену натурфилософам, как правило, имевшим независимые источники доходов, стали приходить профессиональные ученые-мужчины из среднего или нижнего слоя среднего
класса.
Первые женщины, получившие университетскую степень в
естественных науках в 1880-е годы, также принадлежали к нижнему слою среднего класса. Они поступали в университет по тем же
причинам, что и мужчины: приобретение профессии позволяло им
подняться по социальной лестнице. На первых этапах мужчиныученые поощряли усилия их коллег-женщин. Причинами такого
отношения автор считает ничтожно малое количество женщин в
науке и либеральную ментальность ряда ученых в послеобъединительный период.
Право на поступление в университеты итальянские женщины
получили в 1876 г. С 1877 по 1900 г. 224 женщины получили университетские дипломы, в то время как женская неграмотность в
1870 г. составляла примерно 80%, а в начале XX в. – 60%. 72 из
этих первых женщин – выпускниц университета специализировались в области естественных наук или медицины (с. 416). Научная
продуктивность женщин-ученых начиная с 1880-х годов постоянно
нарастала, и, как показывают данные, большинство первых женщин с университетским дипломом сделали успешную научную карьеру.
Однако после Первой мировой войны женщины-ученые
столкнулись с серьезными трудностями. Причиной автор считает
увеличение количества женщин, получивших высшее естественно-
74
2014.02.013
научное образование. В 1923/24 академическом году таковых было
330 человек, а в 1926/27 академическом году доля женщин среди
обладателей дипломов в области естественных наук достигла 37%
(с. 417). Четверо из первых 72 женщин, получивших естественнонаучное образование в 1881–1900 гг., стали полными профессорами. С 1916 по 1931 г. в среднем более 200 женщин ежегодно получали диплом в области медицины, фармакологии и естественных
наук. Тем не менее в 1931 г. только 14 женщин имели постоянную
работу различного уровня в академическом секторе из общего числа в 1614 университетских преподавателей (с. 417).
Отношения между мужчинами и женщинами в науке заметно
изменились в 1920–1930-е годы, что хорошо видно на примере карьеры двух женщин-ученых Е. Боттеро (E. Bottero) и К. Маджистерро (C. Magisterro).
Е. Боттеро и К. Маджистерро родились в провинции и принадлежали к среднему классу. Они встретились во Флоренции, где
в 1875–1878 гг. посещали Нормальную школу, в которой обучались
будущие школьные учителя. В 1878 г. обе женщины перебрались в
Рим, чтобы посещать университетские лекции по естественным
наукам, для чего им пришлось пройти сложную бюрократическую
процедуру. В это время там работало много интересных ученых,
которые поддерживали Е. Боттеро, К. Маджистерро и других очень
немногочисленных женщин-студентов. В июне 1881 г. они стали
первыми женщинами в Италии, кто получил университетский диплом в области естественных наук (с. 418).
В 1883 г. они в соавторстве опубликовали книгу, посвященную телефону, и в этом же году благодаря помощи своего научного
руководителя получили работу в Королевских институтах высшего
образования для женщин (Royal institutes of female higher
education), который назывался Маджистеро (Magistero). Если
Е. Боттеро забросила написание книг, то из-под пера К. Маджистерро в 1888–1891 гг. вышли четыре книги, которые должны были
стать учебниками для женских вузов.
Наибольший интерес, по словам автора, представляла ее книга по зоологии. Одной из главных тем в этой монографии стало
сравнение родительской заботы в природе и в человеческом обществе; особое внимание она уделила материнскому поведению ряда
видов, часто сравнивая его с материнским поведением женщин.
2014.02.013
75
В этой книге, так же как и на страницах своей брошюры, посвященной женской эмансипации, К. Маджистерро вопреки расхожему мнению о ведущей роли мужчин в эволюции человека подчеркивала основополагающую роль женщин (с. 419).
И Е. Боттеро, и К. Маджистерро сделали блестящую карьеру:
в 1890 г., когда первой был 31 год, а второй – 32 года, они получили звания полного профессора. Более того, К. Маджистерро несколько раз становилась деканом Маджистеро. Обе женщины
успешно работали уже на протяжении 40 лет, когда в октябре 1922
г. М. Муссолини стал премьер-министром и назначил
Дж. Джентиле (G. Gentile) министром образования.
Спустя два месяца он направил Е. Боттеро письмо, в котором
предупреждал, что кафедра физики, которую та занимала на протяжении 40 лет, будет упразднена, что и было сделано 11 января
1923 г. (с. 420). В марте 1923 г. Дж. Джентиле подписал другой
приказ, превращавший Маджистеро в полноценный университет с
совместным обучением мужчин и женщин. Одновременно он изменил правила приема на работу преподавателей. Новые правила
позволили ему уволить и К. Маджистерро. Женщинам было предложено перейти на преподавательскую работу в среднюю школу,
но они предпочли уйти в отставку (с. 420).
По словам автора, нет никаких свидетельств, что кто-либо из
коллег выступил в защиту Е. Боттеро или К. Маджистерро. И это
вопреки тому, что Е. Боттеро была членом Итальянского физического общества с момента его основания в 1897 г., а К. Маджистерро – членом Общества итальянских естествоиспытателей; она также принимала участие в создании и была членом Итальянского
общества содействия развитию науки.
На протяжении четырех десятилетий, когда успешно развивалась научная карьера этих двух женщин, поколение ученых, которые в целом доброжелательно относились к женщинам – студенткам и выпускницам университета, ушло в отставку. Слабость и
отсутствие осознания общности своих целей проявились, в частности, в их неспособности увидеть в женщинах-ученых возможных
конкурентов. Опасность, которую ученые из других стран, прежде
всего в США и Великобритании, уже почувствовали.
Ситуация изменилась, когда во время Первой мировой войны
сформировалось и окрепло профессиональное сообщество итальян-
76
2014.02.013
ских ученых, которое с 1915 г. постоянно росло. В послевоенный
период количество академических позиций увеличилось, но еще
больше возросло число женщин-студентов.
В конце Первой мировой войны Дж. Джентиле жаловался,
что университеты «буквально оккупированы женщинами» (цит. по:
с. 421). Тем самым, по мнению автора, он выразил мнение академического сообщества, почувствовавшего угрозу со стороны женщин, желающих выйти на научный рынок. Вытеснение женщин
шло по двум направлениям. С одной стороны, возник молчаливый
уговор не пускать в университеты женщин, желающих сделать карьеру в науке. С другой стороны, началась политическая и медийная кампании, которые были направлены на подчеркивание традиционной роли женщины-матери.
Феминизм рядом авторов объявлялся главным врагом женщин, поскольку он отвлекал от ее главной задачи – материнства.
Параллельно происходила фрагментация феминистского движения,
а затем пришел фашизм. И вновь зазвучал старый тезис: «Женщины в интеллектуальном отношении всегда отставали и будут отставать от мужчин. На протяжении долгой истории эволюции они так
далеко и не ушли от старта» (цит. по: с. 423). В послевоенные годы
экономического кризиса подобные идеи были полезны для снижения профессиональных амбиций женщин, не говоря уже о периоде
фашизма, когда женщин прямо «приглашали вернуться домой».
Эффективность мер, предпринятых мужским академическим
сообществом по исключению из него женщин, подтверждается статистическими данными. В 1921 г. женщины составляли 10,4% университетских студентов. В 1923–1924 гг. число женщин – выпускников в области естественных наук достигло рекордного для
первой половины XX в. числа – 330 человек, а в 1931 г. доля женщин с научным дипломом из общего числа его обладателей дошла
до 34%. Но в это же время женщины составили лишь 0,87% университетских преподавателей в области естественных наук и медицины (с. 424).
«Диспропорция между числом женщин – выпускниц университета и женщин, ставших профессиональными учеными, это результат борьбы между конкурентами, мужчинами и женщинами,
которая продлится на протяжении всего XX в., и сегодня она еще
не окончена как в Италии, так и в других странах» (с. 424–425).
Т.В. Виноградова
2014.02.014
77
2014.02.014. ДАМОДАРАН В. ГЕНДЕР, РАСА И НАУКА В ИНДИИ XX в.: Е.К. ДЖАНАКИ АММАЛ И ИСТОРИЯ НАУКИ.
DAMODARAN V. Gender, race and science in twentieth-century India:
E.K. Janaki Ammal and the history of science // History of science. –
Cambridge, 2103. – Vol. 51, Pt. 3. – P. 283–307.
Ключевые слова: Е.К. Джанаки Аммал; колониализм; наука в
Индии; женщины-ученые.
Статья сотрудницы Сассекского университета (Великобритания) посвящена Е.К. Джанаки Аммал (1897–1984), выдающейся
индийской женщине, генетику и специалисту в области географии
растений, профессору ботаники Мадрасского университета. В
настоящее время ее имя почти забыто, что автор считает несправедливым, поскольку она внесла существенный вклад в развитие
индийской науки и как исследователь, и как организатор.
История науки и история колониализма изучались независимо друг от друга вплоть до 1970-х годов, когда возникла социальная история науки. Историки, первыми занявшиеся изучением
науки времен английского владычества в Индии, постарались исправить портрет колониальной науки, которая изображалась в качестве служанки науки метрополии. Во многом их исследования
были направлены на то, чтобы показать вклад колониальных ученых, большинство из которых составляли белые поселенцы и их
потомки. Как оказалось, многое, что воспринимается в качестве
западной науки, создавалось в колониях, а не было экспортировано
в них (с. 284). В то же время, безусловно, колониальная экспансия
имела решающее значение для развития науки в Индии.
Позднее были проведены различия между учеными из числа
белых поселенцев и учеными-индусами; последние подвергались
жесткой дискриминации в конце XIX – начале XX в. со стороны
колониального итстеблишмента. В 1920 г. П.К. Рэй (P.C. Ray), основатель индийской химической школы, насчитал всего 18 индусов
среди 213 научных сотрудников в 11 колониальных научных организациях (с. 284). Не далее как в 1890-е годы все еще бытовало
мнение о том, что индусы неспособны к оригинальной работе в
естественных науках.
В основном историографы сосредоточились на вкладе местных ученых-мужчин в развитие колониальной науки, роль ученых-
78
2014.02.014
женщин их занимала мало. Автор намерена восполнить этот пробел, сосредоточившись на жизни и научном вкладе Е.К. Джанаки
Аммал.
Аммал родилась 5 ноября 1897 г. в Северном Малабаре в семье, принадлежащей к низкой касте Тия. Она имела сложную родословную. Ее мать была незаконнорожденной дочерью английского государственного служащего Дж. Хэннингтона (J. Hannyngton), принадлежащего к известной семье, которая на протяжении
нескольких поколений жила в Индии. Ее отец был выходцем из
образованной индусской семьи из касты Тия и работал под началом
Дж. Хэннингтона (с. 286).
Е.К. Джанаки Аммал была десятым ребенком. Она росла в
большом доме на берегу моря. Семья была небогатой, но вела вестернизированный образ жизни, поэтому девочки получали английское образование. Кастовой депривации были противопоставлены западные нормы и ценности, и многие малабарские члены
касты Тия смогли благодаря британской системе образования подняться наверх. Е.К. Джанаки Аммал училась в местной школе для
девочек, а затем получила степень бакалавра по ботанике в Колледже королевы Марии (Queen Mary’s college) в Мадрасе.
Союз между мужчиной-индусом и женщиной-полукровкой
воспринимался c неодобрением по обе стороны расового деления.
Родившиеся у них девочки имели европейский цвет кожи и смешанные черты, поэтому им трудно было найти пару. Аммал выбрала жизнь ученого, а не замужество, что дало ей свободу передвижения и возможность вырваться из среды, где она подвергалась
дискриминации по признакам расы, касты и гендера. Так началась
ее карьера ученого. Возможно, полагает автор, именно ее маргинальный статус как женщины и смешанное расовое происхождение
помогли ей выйти за пределы тех ограничений, которые накладывали раса, каста и гендер (с. 288).
Работая преподавателем в Женском христианском колледже
(Women’s christian college) в Мадрасе, она получила стипендию от
Мичиганского университета, где в 1931 г. защитила докторскую
диссертацию по естественным наукам. В Индии, как и в других
странах, высшее образование было закрыто для женщин. Социальным
реформаторам в начале XX в. удалось добиться определенных успехов в этом направлении в крупнейших городах типа Бомбея, Мад-
2014.02.014
79
раса и Калькутты. Но это никак не меняло того факта, что грамотных
среди женщин в 1913 г. было менее 1%, а общее число женщин,
учившихся в колледжах, составляло около 1 тыс. человек (с. 288).
Тот факт, что Аммал в условиях расовой, кастовой и гендерной дискриминации удалось добиться успехов в науке, свидетельствует о ее
незаурядных способностях, упорстве и силе характера.
Профессионализация науки, произошедшая в конце XIX –
начале XX в., никак не способствовала вхождению в нее женщин.
Тем не менее Аммал смогла бросить вызов принятым конвенциям
и стать профессиональным ученым. Она работала в таких признанных научных организациях, как британский Институт Джона Иннеса, Королевское садоводческое общество, а также в Ботанической службе Индии, каждая из которых были чисто мужской
епархией. Но так было не всегда.
Первоначально женщин допускали до проведения исследований в ботанике и садоводстве. На протяжении почти всего XIX в.
Королевское ботаническое общество и Королевское садоводческое
общество были единственными научными ассоциациями, которые
принимали женщин. И лишь позднее профессионализация ботаники привела к их маргинализации. В результате женщины, которые
хотели заниматься изучением растений, должны были иметь
наставника-мужчину. Аммал не была исключением.
В Мичигане Аммал работала под руководством Х.Х. Бартлетта (H.H. Bartlett), профессора ботаники, который имел широкие
интересы от ботаники до истории науки и который позднее вдохновил ее на исследования в области этноботаники. На обратном
пути из США в Индию Аммал провела год (1931–1932) в Институте
Джона Иннеса, лидировавшего в области генетических исследований. Там она познакомилась с К.Д. Дарлингтоном (C.D.
Darlington), что положило начало их многолетней переписке и сотрудничеству. К.Д. Дарлингтон (1903–1981), по словам его биографов, «принадлежал к великой школе генетиков, эволюционистов и
биологических статистиков, основы которой были заложены знаменитыми викторианцами – Чарльзом Дарвином и Фрэнсисом
Гальтоном» (цит. по: с. 289). Аммал работала в отделе цитологии,
возглавляемом К.Д. Дарлингтоном.
В 1932 г. Аммал вернулась в Индию, где в 1934 г. стала сотрудником Имперского института сахарного тростника (Imperial
80
2014.02.014
sugar cane institution). Она писала К.Д. Дарлингтону, что намерена
заняться цитологией Saccharum. Она активно работала в этом
направлении, но встретила сопротивление со стороны индийского
мужского истеблишмента, препятствовавшего публикации ее работ.
Она неоднократно жаловалась на трудности с публикациями
К.Д. Дарлигтону. Но и он не был лишен предрассудков. В целом
высоко оценивая работу Аммал, он утверждал, что «ряды ученыхцитологов в Индии достаточно многочисленны, но цитологические
работы, представляющие серьезный интерес, ему неизвестны...»
(цит. по: с. 291). Слова К.Д. Дарлингтона отражают типичное для
того времени отношение англичан к индийским ученым, которые,
как считалось, были неспособны к творческим и новаторским исследованиям. Аммал, в свою очередь, критиковала раболепное отношение индийских ученых, работавших в одном с ней институте,
особенно его директора, к ученым-британцам. Эта критика сопровождалась ее разочарованием в собственном зависимом положении.
В это время она начала работу над получением новых гибридов Saccharum-Bambusa, которая была успешно закончена и опубликована в журнале «Nature» в 1938 г. Вслед за этим она перешла к
работе над гибридом Saccharum-Zea, о чем хотела доложить на
предстоящем Генетическом конгрессе в Эдинбурге. Аммал обратилась к К.Д. Дарлингтону с просьбой прислать ей индивидуальное
приглашение, опасаясь, что в противном случае ей на конгресс не
попасть. В своих письмах она по-прежнему жаловалась на трудности, связанные с публикацией ее работ. По мнению автора, «ревнивое отношение коллег-мужчин к ее успехам было обусловлено не
только ее гендерной, но и кастовой принадлежностью, поскольку
подавляющее большинство индийских ученых составляли брахманы» (с. 291).
Седьмой международный генетический конгресс должен был
состояться с 23 по 30 августа 1939 г. Шестьсот генетиков из 55
стран собрались в Эдинбурге и в их числе Е.К. Джанаки Аммал.
Однако конгресс был вынужден закрыться досрочно в связи с
началом Второй мировой войны. Все военные годы Аммал прожила в Великобритании.
Почти все это время Аммал работала вместе с К.Д. Дарлингтоном в Институте Джона Иннеса, ставшим его директором в 1939 г.
В 1945 г. вышла в свет их совместная работа «Хромосомный атлас
2014.02.014
81
культивируемых растений» (Chromosome atlas of cultivated plants),
который получил широкое признание. В 1946 г. Аммал покинула
Институт Джона Иннеса и перешла на работу в Королевское садоводческое общество, став, таким образом, первой женщиной, которая вошла в штат этой организации и получала зарплату.
После Второй мировой войны Индия получила независимость. 1950-е годы были очень важным десятилетием для индийской науки. Ряд патриотически настроенных ученых полагали, что
автономия от прямого правительственного вмешательства и проведение фундаментальных исследований очень важны для прогресса
индийской науки. Но победила другая точка зрения. На первое место были поставлены потребности государства в развитии собственного производства и замещении импорта. Был разработан
план по созданию системы национальных лабораторий, включая
Центральную ботаническую лабораторию.
Альянс между индийским политическим руководством и
научной элитой привел к торжеству утилитаризма. Некоторые ученые, в том числе и Аммал, критиковали такой подход, полагая, что
отказ от поддержки университетов губителен для будущего индийской науки.
В 1948 г. Джанаки Аммал вернулась в Индию и включилась в
работу. Она стала инициатором исследований по цитологии и выращиванию определенных видов деревьев. В первые годы она активно работала в Продовольственной комиссии (Commission for
food production), но высказывала недовольство по поводу проектов
в духе Д.Т. Лысенко и появления псевдонауки в новой независимой
Индии.
В 1955 г. Аммал возглавила вновь созданную Центральную
ботаническую лабораторию и в этом же году стала профессором
Мадрасского университета. В качестве советника правительства
она также руководила реорганизацией Ботанической службы Индии. Постепенно, как показывают ее публикации и письма, ее все
больше одолевало беспокойство в связи с политикой государства.
Она подчеркивала важность изучения ботанических знаний туземных сообществ Индии и их охраны. Ее также очень волновала массовая вырубка лесов в Индии в 1950-е годы, которая оправдывалась экономическими соображениями.
82
2014.02.014
В 1955 г. правительство приняло ее план по реорганизации
Ботанической службы Индии. Много усилий она приложила также
для создания в 1957 г. Центрального национального гербария. Институциональная реорганизация, проводившаяся Аммал, была важна для усиления ботанической науки и стимулирования исследований. Таким образом, она выступила в качестве эффективного
организатора науки, что скорее следует считать мужской чертой.
В то же время она по-прежнему в формальной иерархии занимала
подчиненное положение и должна была выполнять указания мужчин-руководителей.
Аммал уволилась из Ботанической службы в ноябре 1959 г.
Совет по научным и промышленным исследованиям обратился к
ней с просьбой помочь в организации новых региональных лабораторий. Она успешно справилась с этой задачей, после чего возглавила ботанический отдел Региональной исследовательской лаборатории (Regional research laboratory) в штате Кашмир, став ведущей
фигурой в индийской науке.
В 1960–1970-е годы она работала над большим количеством
исследовательских проектов и статей, руководила аспирантами.
В своих письмах к К.Д. Дарлингтону она подробно рассказывала о
своих исследованиях, включая работы по этноботанике. Но одновременно она часто жаловалась, что «за редким исключением индийская наука – это просто копирование того, что было сделано на
Западе», и что она «очень разочарована той работой, которая ведется в университетах» (цит. по: с. 296).
В 1960-е годы Д.К. Дарлингтон перешел от изучения хромосом к социальной генетике и к интерпретации языка, класса, расы и
общества в биологических терминах. Он всегда интересовался связями между человеком, культурой и биологией. В 1927 г. Д.К. Дарлингтон вступил в «Общество евгеники». В 1947 г. вместе с биологом Р.А. Фишером он основал журнал «Наследственность», в
котором публиковалась и Аммал (с. 296). В этих его интересах не
было ничего необычного; на протяжении первых сорока лет генетика была синонимом евгеники.
У.К. Джанаки Аммал также испытывала интерес к евгенике,
вступив еще в 1931 г. в «Общество евгеники». Она снабжала
Д.К. Дарлингтона этнографическим материалом, касающимся племен и каст в Южной Индии. Эта тематика ее заинтересовала, когда
2014.02.014
83
она взялась за изучение лекарственных растений. Однако она не
разделяла и не пропагандировала идей К.Д. Дарлингтона о социальной генетике, ограничиваясь публикацией своих биологических
работ (с. 297).
Последние десятилетия своей жизни Аммал продолжала активно заниматься научными исследованиями. Она работала над
созданием новых гибридов, а также над проектом по цитогеографии цветковых растений и над хромосомным атласом лекарственных растений. Но ее деятельность приобрела и новое направление –
защиту реликтовых лесов Индии (с. 300).
Уйдя в 1978 г. в отставку из Мадрасского университета, она
продолжала проводить опыты в университетской ботанической лаборатории; ее страсть к науке не ослабла. Ее последнее письмо к
К.Д. Дарлингтону датируется 4 июля 1980 г. В этом же году он
умер. На этом закончилась переписка, которая длилась полвека.
Е.К. Джамала Аммал умерла 8 февраля 1984 г., работая в своей лаборатории. Ей было 87 лет.
Была ли Аммал феминистской? Она предпочла одинокую
жизнь, полностью посвященную науке. Она не связывала свои проблемы с тем, что она была женщиной в мире мужчин, или с тем,
что она не была «белой» в почти исключительно «белом» научном
истеблишменте. По крайней мере, она об этом не говорила и не писала. «Она скорее практиковала, а не проповедовала феминизм на
протяжении своей жизни и продемонстрировала личным примером, что преданность науке вполне совместима с принадлежностью
к женскому полу» (с. 302).
Т.В. Виноградова
84
2014.02.015
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ НАУКИ.
УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
2014.02.015. ПИЛОТНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Под ред.
Гохберг Л.М., Шадрин А.Е. – М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2013. – 108 с. –
ISBN 978-5-9904002-4-5.
Ключевые слова: Российская Федерация; инновационное развитие; государственная программа поддержки кластеров.
Подготовленный совместно Министерством экономического
развития РФ и НИУ «Высшая школа экономики» доклад представляет собой анализ итогов первого этапа программы поддержки кластеров, стартовавшей в Российской Федерации в 2012 г.
Современная инновационная политика, считают авторы, подразумевает учет региональной специфики, активное вовлечение
регионов в процессы формирования и реализации механизмов стимулирования инновационной деятельности, а территориальные
кластеры выступают в роли инструмента «сборки» и структуризации «местных» игроков (с. 6). Развитие кластеров служит оптимизации позиций отечественных предприятий в производственных
цепочках, содействуя повышению степени переработки добываемого сырья, импортозамещению, локализации сборочных производств и в конечном счете – росту уровня неценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг.
Анализируя «Зарубежный опыт реализации кластерной политики» (первый раздел), авторы напоминают, что еще в 1970–
1980-е годы в отдельных регионах Европы – провинциях ЭмилияРоманья и Венето (Италия), землях Баден-Вюртемберг и Северный
Рейн-Вестфалия (Германия), регионе Штирия (Австрия) – началась
реализация локальных программ, предвосхищающих национальные
2014.02.015
85
программы кластерного развития. Со второй половины 1990-х годов
постепенно стали формироваться национальные программы кластерного развития, и к концу 2000-х годов они осуществлялись в
26 государствах – членах ЕС. Даже в наиболее развитых государствах более 60% таких проектов были запущены лишь после 1999 г.,
а кластерные инициативы в развивающихся и транзитивных странах стали появляться совсем недавно: в 2003 г. их насчитывалось
более 500 по всему миру, прежде всего в Европе, Северной Америке,
Новой Зеландии и Австралии, в 2005 г. их было уже около 1400
(с. 11).
Хронология нового этапа кластерной политики ведется с
2008 г., когда был принят Европейский меморандум о кластерной
политике (The High Level Advisory Group on Clusters, 2008). В нем
декларировался переход к политике развития наиболее перспективных европейских кластеров до уровня лидеров в глобальном
контексте.
Авторы доклада выделяют главные характеристики этого
этапа: 1) в ЕС регулярно проводятся межстрановые исследования,
регулярно актуализируется база данных кластерных организаций
(специализированных органов управления кластеров) Европейской
кластерной обсерватории; 2) активно используется база данных
ERAWATCH-INNO-Policy TrendChart, которая охватывает более
130 национальных программ, связанных с кластерной политикой, в
31 стране Европы; 3) прошло три волны глобального обследования
кластеров; 4) в 2006 г. опубликован аналитический доклад, посвященный изучению роли кластеров в инновационных процессах (Innobarometer, 2006); 5) изданы: Белая книга кластерных политик,
доклад исследовательской организации «Oxford Research AS», в
котором содержится подробный анализ кластерных политик, кластерных программ и особенностей государственного управления на
национальном и региональном уровнях в странах ЕС (Oxford Research, 2008).
Результаты реализации программ оцениваются как положительные: в частности, итогом исполнения программы «BioRegio»
(Германия) стало четырехкратное увеличение числа компаний и
создание более 9 тыс. рабочих мест в секторе биотехнологий, что
позволило существенно сократить разрыв с традиционным лидером
в этой сфере – Великобританией. Регионы – участники программы
86
2014.02.015
демонстрировали более заметные успехи по сравнению с другими
федеральными землями. Сегодня Германия выступает в качестве
европейского лидера в области биотехнологий, локализуя на своей
территории 552 биотехнологических предприятия. По состоянию
на 2011 г., их оборот достигал 2,6 млрд евро (темп прироста – 30%
за период 2005–2008 гг.), а численность занятых составила
16,3 тыс. человек (с. 11).
Особенностью европейских программ развития кластеров является направленность на поддержку высокотехнологичных секторов (биотехнологий, информационных технологий и т.д.). Традиционные отрасли промышленности и сельское хозяйство также
попадают в сферу ее деятельности, хотя и несколько реже. Власти
самостоятельно не определяют наиболее перспективные кластеры
(хотя и могут устанавливать приоритетные направления поддержки), а организуют конкурс коллективных заявок, при этом поддержку получают далеко не все (в Германии доля отклоненных заявок достигает 95%). Основными бенефициарами государственных
программ выступают малые и средние предприятия. В случае
французской программы «Les pôles de compétitivité» удельный вес
малых и средних предприятий составил 80%, на их долю было выделено в общей сложности 54% ее бюджета.
При анализе европейских программ эксперты отмечают достаточно длительные сроки подготовки заявок, несколько этапов
конкурсного отбора, а также то, что за реализацию кластерной политики, как правило, отвечают сразу несколько национальных ведомств. Многие программы не предполагают формализованную
оценку итогов, а проводимые оценки результативности программ
поддержки кластеров носят фрагментарный, а иногда и противоречивый характер. Так, существует традиция критического отношения к государственному вмешательству в процессы развития кластеров.
Авторы отмечают новые стратегические тенденции в развитии кластерных инициатив и соответствующих государственных
программ: переход к поддержке кластеров мирового уровня; усиление межведомственной координации кластерных программ; стимулирование межкластерного взаимодействия; профессионализация
кластерного менеджмента; вовлечение кластеров в формирование и
реализацию региональных стратегий (smart specialisation).
2014.02.015
87
В России с 2010 г. Минэкономразвития предоставляет субсидии регионам для создания и функционирования центров кластерного развития как одного из инструментов поддержки малого и
среднего предпринимательства. Подобные центры созданы в Самарской, Томской, Калужской, Астраханской, Пензенской, Воронежской, Курганской областях, в республиках Татарстан, Башкортостан, в Алтайском крае и ряде других регионов.
В период с 19 марта по 20 апреля 2012 г. были получены
94 конкурсные заявки, и эксперты Минэкономразвития согласовали проект перечня, в который вошли пилотные программы развития 25 (с учетом объединения) территориальных кластеров. В федеральном бюджете на 2013 г. предусмотрено выделение средств в
объеме 1,3 млрд руб. При этом Минэкономразвития считает целесообразным предоставление субсидий в объеме 5 млрд руб. ежегодно в течение четырех лет начиная с 2014 г. (с. 17). В рамках
этой программы предполагается обеспечить увязку государственных программ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности»,
«Космическая деятельность России», «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности», «Развитие судостроения», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с программами
развития инновационных территориальных кластеров (ИТК).
При отборе заявки были структурированы в шесть отраслевых направлений: «Ядерные и радиационные технологии»; «Производство летательных и космических аппаратов, судостроение»;
«Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность»;
«Новые материалы»; «Химия и нефтехимия»; «Информационные
технологии и электроника». Максимальное число ИТК относится к
направлениям «Информационные технологии и электроника» и
«Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность» –
семь и шесть соответственно (с. 18).
В состав участников ИТК вошли многие ведущие российские
научные организации, университеты и производственные компании, в том числе: институты РАН и РАМН, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», государственные
научные центры, а также ведущие вузы России, включая НИУ
88
2014.02.015
ВШЭ, НИУ МФТИ, НИУ ИТМО, НИТУ МИСиС, НИУ МИЭТ,
ТУСУР, НИУНГУ и др.; крупнейшие отечественные компании в
области машиностроения, информационных технологий, биофармацевтики, топливно-энергетического комплекса и металлургии, в
том числе: ОАО «РКК “Энергия”», ОАО «НПО Энергомаш им.
академика В.П. Глушко», ОАО «“Информационные спутниковые
системы” им. академика М.Ф. Решетнёва», ФГУП ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс», ОАО «ГСКБ Концерна ПВО “Алмаз-Антей” им.
академика А.А. Расплетина», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «Авиа-кор-авиационный завод», ЗАО «Авиастар-СП»,
ОАО «Протон – Пермские моторы», ОАО «Центр судоремонта
“Звездочка”», ОАО «ПО “Севмаш”», ОАО «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ»,
ООО «Форд Соллерс Холдинг», ОАО «ПО ЕлАЗ», ОАО «Ростелеком», ООО «Яндекс», ООО «ПРОМТ», ОАО «Ангстрем», ОАО
«НИИМЭ и Микрон», ЗАО «НПФ “Микран”», ОАО «Валента
Фармацевтика», ОАО «ПРОТЕК», ОАО «Химико-фармацевтический комбинат “Акрихин”», ЗАО «Эвалар», ОАО «Газпром»,
ОАО «Татнефть», ОАО «СИБУР-Нефтехим», ОАО «СУ-ЭК», ОАО
«Корпорация ВСМПО-Ависма», ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО «ТАНЕКО» и др. В развитии кластеров заметную роль играют филиалы и дочерние структуры зарубежных транснациональных корпораций, в их числе: ЗАО «Интел Россия», представительство корпорации «Oracle» в России, ООО «Новартис Фарма»
(«Novartis Pharma»), ЗАО «Берлин Хеми / Менарини» (структурное
подразделение «Berlin-Chemie AG»); ООО «АстраЗенека Индастриз» (структурное подразделение «Astra Zeneca Ind»), ООО СП
«Форд Соллерс Холдинг», СП «Ural Boeing Manufacturing» и др.
Развитию кластеров, для которых характерна ведущая роль
крупного промышленного производства, призваны способствовать
более интенсивный трансфер результатов научных исследований в
деятельность уже существующих промышленных компаний и в
создание новых малых и средних предприятий, встраиваемых в
формируемые крупными фирмами цепочки добавленной стоимости.
В то же время программы развития кластеров городов Пущино, Троицка и Димитровграда, «Физтех-XXI» характеризуются
ориентацией на использование потенциала расположенных на их
территории научных и образовательных организаций мирового
уровня. Это предполагает привлечение крупных российских и за-
2014.02.015
89
рубежных компаний к разворачиванию высокотехнологичных производств на базе имеющихся кадровых ресурсов и исследовательской инфраструктуры кластеров, а также активное развитие малого
и среднего инновационного предпринимательства за счет коммерциализации разрабатываемых технологий.
Оценивая научно-технологический потенциал программы,
авторы отмечают, что совокупный объем расходов на НИОКР за
пять лет (2007–2011), по представленным 25 ИТК сведениям, равнялся 1,1 трлн руб., или в среднем 222 млрд руб. в год. Расходы на
НИОКР, осуществленные участниками кластеров в течение указанного периода, составили примерно 43% от общего объема соответствующих расходов по стране (с. 25).
В 2012–2014 гг. кластерами запланированы расходы на
НИОКР в объеме 968,8 млрд руб., т.е. в среднем 323 млрд руб. ежегодно. Таким образом, на этом этапе программы развития ИТК
предусматривают существенное наращивание – на 145% в среднегодовом исчислении в сравнении с предшествующим периодом
расходов на НИОКР (с. 25).
Наиболее значительные масштабы финансирования научных
исследований и разработок отличали в 2007–2011 гг. ИТК, относящиеся к таким отраслевым направлениям, как «Информационные
технологии и электроника» (418,6 млрд руб., или 59,8 млрд руб. в
среднем в расчете на один кластер) и «Новые материалы» (400,8 и
133,6 млрд руб. соответственно). С большим отрывом от лидеров
по данному показателю следуют ИТК в сегментах «Производство
летательных и космических аппаратов, судостроение» (99,7 и
19,9 млрд руб.), «Ядерные и радиационные технологии» (97,5 и
24,4 млрд руб.), «Химия и нефтехимия» (55,5 и 13,9 млрд руб.),
«Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность»
(37,7 и 6,3 млрд руб.) (с. 25).
По всем отраслевым группам в 2012–2014 гг. ожидается более чем двукратный рост среднегодовых расходов на НИОКР по
сравнению с уровнем 2007–2011 гг. Тон задают кластеры двух блоков «Ядерные и радиационные технологии» (увеличение на 265%)
и «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность» (увеличение на 240%). По отраслевым направлениям «Химия и нефтехимия» аналогичные значения предполагаются на
уровне 188%; «Производство летательных и космических аппара-
90
2014.02.016
тов, судостроение» – 169; «Новые материалы» – 128; «Информационные технологии и электроника» – 114% (с. 25).
Приоритетное значение в программах развития придается созданию высокопроизводительных рабочих мест. В целом по состоянию на 2011 г., в организациях – участницах кластеров общее
число рабочих мест с уровнем заработной платы, вдвое превышающим ее средние значения в регионах базирования ИТК, составило
179,6 тыс. руб. В 2016 г. эта цифра должна увеличиться на 84,7% –
до 331,7 тыс. руб. (с. 31).
Намечается обеспечить серьезный прирост производительности труда в организациях – участницах ИТК, причем в десяти кластерах объем выработки в расчете на одного работника в течение
2011–2016 гг. должен вырасти более чем вдвое (с. 31).
С.М. Пястолов
2014.02.016. ПРОУБЕРТ Дж., КОННЕЛ Д., МИНА А. СЕРВИСНЫЕ ФИРМЫ ИР: СКРЫТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ НА
ОСНОВЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ?
PROBERT J., CONNELL D., MINA А. R&D service firms: The hidden
engine of the high-tech economy? // Research policy. – 2013. – Vol. 42,
N 6–7. – Р. 1274–1285. – Mode of access: http://dx.doi.org/10.1016/j.
respol.2013.03.004
Ключевые слова: деловые услуги; услуги ИР; технологическое
развитие; динамические способности; высокотехнологичные кластеры; инновационная политика.
Авторы, сотрудники Кембриджского университета, анализируют проблемы, связанные с деятельностью компаний, представляющих сектор ИР-услуг, в регионе Кембриджа – ведущего научно-технического кластера Великобритании.
Возрастающая роль деловых услуг, особенно связанных с
производством, поглощением и распространением нового знания,
является неотъемлемой частью процесса экономического роста,
основанного на инновациях. Фирмы, обеспечивающие услуги в
секторе ИР, в соответствующих научных публикациях обычно
упоминаются как KIBS (Knowledge-Intensive Business Services –
KIBS) (с. 1274).
2014.02.016
91
По сравнению с другими предприятиями деловых услуг KIBS
показали необычно высокие темпы роста в последнее время и увеличили свою долю в общем объеме деловых услуг. Их основная
деятельность характеризуется как предоставление промежуточных
ресурсов на входах инновационных процессов, которые включают
научные исследования (ИР), услуги дизайна и технологий, консалтинг, информационные и коммуникационные услуги, управление
персоналом, юридические услуги (включая те, которые касаются
прав на интеллектуальную собственность), бухгалтерский учет,
финансирование, маркетинг.
Объектом исследования стал технологический кластер,
сформировавшийся в конце 1970-х годов в окрестностях Кембриджа и достигший лидирующего положения в начале 1980-х годов.
Известный как «Кембриджский феномен», данный кластер сегодня
считается одним из самых значимых в Европе. Неоднократно признавалась важная роль Кембриджского университета в развитии
бизнеса на основе высоких технологий в этом регионе, и теперь
Кембриджский кластер расценивается как один из немногих действительно успешных примеров предпринимательской деловой
группы, сформированной вокруг главного европейского университета.
Эксперты отмечают, что многие компании в Кембридже,
вместо того чтобы развивать стандартные продукты, приняли бизнес-модель, основанную на исполнении контрактов ИР для своих
клиентов. В то же время в Кембридже отмечены и высокие показатели компаний (одни из самых высоких в мире), поддержанных
венчурным капиталом.
Авторы утверждают, что деятельность по предоставлению
услуг ИР к настоящему времени стала фундаментальным механизмом, при помощи которого напрямую или опосредованно развиваются новые технологии. Это положение они обосновывают посредством всестороннего анализа стратегии, практики и воздействия
услуг ИР, предоставляемых компаниями Кембриджского кластера.
Рост рынков технологий и распространение более «открытых» моделей инноваций подразумевал экстернализацию деятельности, включая ИР, которые ранее выполнялись главным образом
внутри предприятий. Эти процессы должны опираться не только на
растущий спрос кодифицированных технологических ноу-хау в
92
2014.02.016
форме, например, патентов и лицензий, но и на растущий спрос на
услуги, разработанные с целью передачи внешнего знания другим
фирмам.
KIBS выполняют двойную функцию в инновационных процессах: они, как утверждают авторы, оказывают и прямое, и косвенное влияние на технические изменения в инновационных системах. Прямое влияние заключается в производстве собственной
высокотехнологичной продукции и формировании человеческого
капитала. Косвенные воздействия состоят, с одной стороны, в том,
что эти фирмы принимают новые технологии и, с другой стороны,
собирают и распространяют новое знание в научно-технических
сетях, т.е. разрабатывают и адаптируют новое, экономически ценное знание.
Анализ данных «Community Innovation Survey» подтверждает,
что KIBS занимают достойное место среди самых инновационных
фирм, но их роль в инновационной деятельности намного шире и
имеет системное значение. Во-первых, они разрабатывают самые
передовые методы, которые позже распространятся в других секторах экономики. Во-вторых, они поддерживают новшества в этих
секторах экономики. В-третьих, они играют роль ключевого посредника, объединяя инновационные идеи, разработанные в различных секторах экономики, и помогают переводить идеи, произведенные наукой, в практическое и коммерциализированное знание
для его использования промышленными компаниями.
KIBS не поддерживают тесных связей с университетами, за
исключением консультирования по вопросам ИР, они выступают
как самостоятельные источники знания и передовой практики для
фирм. Исследования показывают, что фирмы более склонны использовать в качестве источников информации и в качестве партнеров в
совместных инновационных проектах консультантов и исследовательские организации из частного сектора, чем университеты и
государственные научные организации. Однако важная роль этих
организаций часто недооценивается экспертами.
Многие исследователи обнаруживают, что у KIBS есть высокая склонность к географическому объединению в кластеры, особенно на территориях пригородов, хотя это и зависит от природы
базы знаний и контекста рынка. Существенные различия между моделями взаимодействия с KIBS связаны с различиями между регио-
2014.02.016
93
нами в их способности осуществлять инновационную деятельность.
Взаимное месторасположение партнеров, доступность дополнительных факторов (например, человеческого капитала) и опыт предшествующего сотрудничества оказываются важными cопутствующими детерминантами спроса на знаниеинтенсивные услуги.
Авторы отмечают, что поставщики услуг – адвокаты, инвестиционные банкиры, директора независимых компаний – играют
важную роль в качестве существенных элементов «предпринимательской сети поддержки» кластера. Они формируют «социальную
структуру инноваций», которая оказывается результатом не запланированного развития, а результатом социального «bricolage» –
повторяющегося процесса обучения, в котором предприниматели и
институты эволюционируют одновременно, создавая окружающую
среду, благоприятствующую формированию новых фирм (с. 1276).
В качестве методологии исследования авторы применяют качественный анализ с целью выяснить, каким образом предоставление услуг ИР может в течение некоторого времени развиться в механизм производства новых технологий.
Работа осложняется тем, что фирмы, которые не классифицируются как сервисные фирмы в стандартных промышленных
классификациях, могут принимать сервисную бизнес-модель для
некоторой части своих действий. Поэтому авторы явно избегают
формулировать гипотезы, чтобы проверить отношения между переменными. В этом случае хорошо работает стратегия кейс-стади с
последующей обработкой организационных и / или институциональных факторов, которые не могут быть получены только посредством дедуктивных или просто количественных методов исследования (с. 1276).
На основе анализа официальных баз данных (FAME1) и вторичных исторических источников получена информация о развитии Кембриджского кластера и о деятельности наиболее значимых
поставщиков услуг ИР за 30 лет. Были проведены полуструктурированные интервью с основателями или старшими менеджерами
этих фирм; затем выборка была расширена посредством метода
FAME (Financial Analysis Made Easy) – база данных, содержащая подробную информацию об английских государственных и частных компаниях. – Прим.
реф.
1
94
2014.02.016
прослеживания цепи, который позволил найти другие подобные
фирмы, активно действующие в регионе.
К концу фазы полевых исследований (декабрь 2007 г. – март
2009 г.) было проведено 52 зарегистрированных и кодифицированных интервью с представителями фирм из ряда промышленных
секторов, которые оказывают услуги ИР или реализуют контракты
ИР для отдельных клиентов с целью поддержать коммерциализацию технологии и развить стандартные продукты.
Четыре крупнейшие организации выборки – «Cambridge Consultants», «PA Technology Centre» (подразделение «PA Consulting
Group»), «TTP Group» и «Sagentia» – оказывали технологические
услуги постоянным клиентам в разных странах больше 20 лет, а в
случае «Cambridge Consultants» – в течение 50 лет. Численность
персонала организации составляет около 300 человек – уровень,
который, как правило, не превышается. Уровень занятости обычно
регулируется посредством увольнений во время экономических
спадов или люди, которые хотят организовать свой бизнес, уходят
по собственному желанию. Так создаются меньшие по размеру
фирмы, более специализированные в области технологических
консультирований. Таким образом, еще шесть фирм, в которых занято приблизительно 100 человек, попали в выборку (с. 1277).
Все десять фирм успешно работают на мировом рынке, их
операции, как правило, составляют более чем половину продаж во
всех главных регионах мира. Частично глобальное присутствие
этих фирм может быть объяснено снижением выпуска обрабатывающей промышленности Великобритании, что вынуждает знаниеинтенсивные компании искать зарубежных клиентов. Общее
название таких фирм – «Консультанты по развитию технологий»
(Technology Development Consultants – TDC). Крупные TDC имеют
хорошо укомплектованные лаборатории, мастерские, и, работая с
субподрядчиками в странах с конкурентными преимуществами в
стоимости труда, такие компании в состоянии обеспечить выпуск
широкого диапазона продуктов от стадии идеи до стадии масштабного производства. Меньшие TDC, естественно, сосредоточиваются на более сложных заказах промышленности или концентрируются на особых типах проектов, таких как разработка продукта или
промышленный дизайн.
2014.02.016
95
Контракт ИР, как правило, предусматривает развитие и поставку демонстрационной версии, опытного образца с последующими возможностями для малосерийного производства или компонентов, разработанных для решения ответственных задач
производителя. Интеллектуальная собственность, созданная во
время работы по договору, как правило, передается клиенту, если
работа не связана с уже существующей технологией, когда клиент
получает лицензию на коммерческую эксплуатацию результатов
ранее выполненной работы. Бывает трудно предсказать время, требуемое для развития технологии, если вообще возможно получить
желаемый результат. TDC предпочитают не указывать цену заранее, чтобы избежать проектных перерасходов – обычное явление,
особенно в новых областях науки или там, где плохо определен
результат.
Отличительная способность TDC – их компетенции, необходимые для обеспечения инновационного процесса от определения
потребности рынка до получения готового изделия, с использованием новаций, технологий высокого риска и даже в ситуации, когда плохо установлены требования клиента. Даже меньшие по размеру TDC более знакомы с этим процессом, нежели клиенты
крупных компаний или даже фирм Силиконовой долины, где у немногих успешных менеджеров проектов есть возможность управлять всем техническим проектом. Успех контракта ИР зависит от
неявного знания о том, как сбалансировать творческий потенциал с
временными ограничениями, когда быть изобретательными и когда
сосредоточиться на деталях, как разрешать конфликты внутри проектной группы и превратить их в движущую силу.
Рассмотрев ряд характерных примеров, авторы отмечают
важное практическое значение своей работы. Кембриджская модель контракта ИР поощряет долгосрочное накопление навыков и
способностей, позволяя фирмам использовать технологические
возможности на стадии становления и вводить необходимые изменения по мере развития технологий. Это достигается посредством
абсорбирования технологических рисков за счет организации и
разложения задачи на этапы; за счет развития культуры совместной
работы, основанной на быстром формировании команды и своевременных рекомбинациях; за счет использования различных типов организации: гибкого, сетевого и неиерархического. Кроме то-
96
2014.02.016
го, возобновление кадрового потенциала связано с приобретением
и развитием в течение долгого времени диапазона навыков, дополняющих технические навыки, включая маркетинг, управление проектом и принципы финансов, которые не только помогают сотрудникам во всесторонних взаимодействиях с клиентами, но и готовят
команды к самостоятельной проектной работе задолго до того, как
возникают такие возможности.
Согласно стратегической точке зрения технологическая модель консультирования развития может быть очень важной для дизайна промежуточного звена организации исследования (общественного или частно-государственного). Следует отметить и то,
что «кембриджские консультанты» успешно разработали ряд технологических платформ, которые, как правило, требуют долгой и
кропотливой работы. Это представляет большой интерес, поскольку финансирование технологического развития на ранней стадии
признано весьма трудной проблемой во многих странах, включая
США, где фактический вклад венчурного капитала в эту инвестиционную фазу устойчиво снижался за последние несколько лет.
Другое полезное замечание состоит в том, что, несмотря на
то что Кембриджский университет признан фундаментом Кембриджского инновационного кластера (в основном вследствие способности привлекать высококвалифицированные людские ресурсы), процесс появления самых успешных высокотехнологичных
производственных фирм шел независимо от университета, который, однако, отлично выполнял функции отдела трансфера технологий. Ценность этого замечания очевидна из-за возрастающих
ожиданий, связанных с участием учреждений высшего образования
в формировании инновационных кластеров, которые способствуют
коммерциализации их научных и технических достижений. Но, как
замечают авторы, «кембриджский феномен» не связан исключительно с университетом, он намного шире. Поэтому необходимо
понимать и знать, как и почему работает Кембриджский кластер.
Его работа более значительна и разнообразна, чем это принято думать, а услуги в сфере ИР – важная составляющая, хотя иногда и
скрытая, часть его деятельности.
С.М. Пястолов
2014.02.017
97
2014.02.017. ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ИННОВАЦИЙ 2013: ЛОКАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИННОВАЦИЙ.
The Global Innovation Index 2013: The local dynamics of innovation /
Dutta S., Lanvin B. (eds); Johnson Cornell university, INSEAD, WIPO. –
Mode of access: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublica
tions/en/economics/gii/gii_2013.pdf
From content:
BANERJEE C. Foreword: Local solutions to global challenges. – P. IX.
SULTAN O. Foreword: Connectivity as the driver of innovation. – P. XI.
Chapter 1. The Global Innovation Index 2013: Local dynamics keep
innovation strong in the face of crisis / DUTTA S., BENAVENTE D.,
LANVIN В., WUNSCH-VINCENT S. – P. 3–68.
PRIMI А. Chapter 2: The evolving geography of innovation: A territorial perspective. – P. 69–78.
Ключевые слова: глобальный индекс инноваций; параметры
национальных инновационных систем.
Очередной ежегодный обзор «Глобальный индекс инноваций
2013» подготовлен специалистами Корнелльского университета,
INSEAD1 и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) при ООН. Его основная задача – исследование многомерных аспектов инноваций посредством сравнения показателей
развитых и развивающихся экономических систем. В результате
этих сравнений можно выявить различные модели регионального
инновационного развития, которые являются уникальными и определяются особенностями национальной территории, людей и культуры. Изучение местных движущих сил инноваций важно и полезно, поскольку помогает понять способы, при помощи которых
успешные модели инноваций реализуются в различных условиях.
Один из важных аспектов изучения динамики местных инновационных систем связан с отслеживанием движения неявного знания,
которое преобладает в местных условиях и защищено от внешнего
мира. «Эти ограничения инновационной системы не всегда явно
отражены в таких параметрах, как расходы на ИР, патенты или
публикации, они лежат много глубже в душах людей, групп и обINSEAD – название происходит от франц. «Institut Européen
d’administration des affaires», или по-английски: «European Institute of Business
Administration». – Mode of access: http://www.insead.edu – Прим. реф.
1
98
2014.02.017
щества. В Индии, например, мы можем наблюдать, как местные
инновации производятся и приспосабливаются к условиям, в которых есть ограничения доступных ресурсов» (с. ix).
Тема этого года «Локальная динамика инноваций» в
наибольшей степени подходит сегодняшнему моменту, когда ясно
сформулирована потребность в координации совместных усилий
всех заинтересованных стран в формировании будущего. «Мы
находимся в центре эволюции. Это коммуникационная эра, когда
возможность коммуникации стала естественным правом человека.
Возможность соединения делает мир меньше, питая взаимодействия и открывая доступ к информации и знаниям с помощью бесчисленных способов» (с. xi). Это, в свою очередь, поощряет деловую активность посредством инновационного процесса. Например,
социально-экономический импульс создан в Объединенных Арабских Эмиратах, власти которых стремятся превратить страну в
центр инноваций для этой части мира. «Сами инновации – это
больше, чем только процесс. Это – вера, философия, которая становится частью фундаментальных элементов управления, устойчивости, эффективности и конкурентных преимуществ» (с. xi).
Глава 1. Кризис предоставил многим странам и предусмотрительным фирмам новые возможности вводить и продвигать инновации. После существенного снижения инновационной активности в 2009 г. страны и фирмы возобновили инвестиции в ИР.
Во многих развитых и развивающихся экономиках заметны положительные восходящие тенденции по данному показателю с
2010 г.; а такие страны, как Китай, Индия, Индонезия и Малайзия,
демонстрируют его рост, измеряемый двузначными числами.
После 2009 г. отмечен устойчивый рост числа заявок на патенты во всем мире: на 7,5% в 2010 г. и на 7,8% – в 2011 г. Эти показатели заметно выше, чем перед кризисом. Международные показатели применений патентов в рамках Договора о патентной кооперации
(Patent Cooperation Treaty) также выросли на 11% в 2011 г. и на
6,6% в 2012 г. (с. 3).
Расходы на ИР фирм в экономических системах с высокими
доходами, выросшие приблизительно на 4% в 2008 г., уменьшились на 5% в 2009 г. Эффекты кризиса в международном масштабе
привели к снижению ИР бизнеса в 2009 г. почти на 1% по сравнению с 5%-ным ростом, отмеченным в 2008 г. Эти воздействия на
2014.02.017
99
ИР бизнеса в 2009 г. были смягчены правительственной политикой,
в рамках которой увеличилась доля ИР, оплаченных общественными фондами. Однако в странах ОЭСР частные и общественные ИР
уменьшились на 1,4% в 2009 г. Хотя такие страны, как Аргентина,
Китай и Россия, которые не являются членами ОЭСР, не снижали
расходы на ИР, несмотря на кризис, глобальные расходы на ИР
уменьшили рост от ежегодных 4,7% в 2008 г. до 1,8% в 2009 г. (с. 4).
Восстановление началось в 2009 г. Хотя данные являются
неполными, похоже, что только тысяча фирм-лидеров увеличила
свои расходы на ИР в номинальных величинах на 2,3% в 2010 г. и
на 1,2% – в странах с высокими доходами на душу населения. Общий объем расходов на ИР в странах – членах ОЭСР вырос в реальном исчислении на 1,3% в 2010 г. и приблизительно на 1,8% в
2011 г. (с. 4). Но ситуация неоднородна в различных странах. В некоторых государствах расходы на ИР бизнеса и общие расходы на
ИР оказались значительно выше предкризисных уровней, тогда как
в других – они все еще остаются ниже предкризисных уровней. Это
относится главным образом к экономическим системам вне ОЭСР
и в Восточной Европе.
Десятка лучших этого года выглядит следующим образом
(в скобках – место в GII-2012): 1) Швейцария (1); 2) Швеция (2)
3) Великобритания (5); 4) Нидерланды (6); 5) США (10); 6) Финляндия (4); 7) Гонконг (8); 8) Сингапур (3); 9) Дания (7); 10) Ирландия (9) (с. 7). Результаты GII-2013 демонстрируют «поразительный образец стабильности» среди самых инновационных стран
(с. 7). Если взять лучших 10 или 25 инноваторов в мире, рейтинг
GII показывает, что, несмотря на то что отдельные страны меняются местами в пределах этой группы, ни одна другая страна к этой
группе в этом году не приближается.
Эксперты отмечают, что некоторые страны оказываются хорошими учениками и быстро совершенствуют свои инновационные
способности. Согласно данным отчета GII-2013, 18 стран выигрывают у других в соответствующих доходных группах: Армения,
Китай, Коста-Рика, Грузия, Венгрия, Индия, Иордания, Кения, Латвия, Малайзия, Мали, Республика Молдова, Монголия, Черногория, Сенегал, Таджикистан, Уганда и Вьетнам.
Страны из десятки лучших имеют явные преимущества по
сравнению со странами второго ряда. Они имеют лучшие показате-
100
2014.02.017
ли по «уровню развития рынка» (market sophistication): данный параметр включает индикаторы, характеризующие доступ и объем
кредита, инвестиций, качество регулирования товарных рынков;
«уровню развития бизнеса» (business sophistication): включает индикаторы, характеризующие численность работников сферы знаний, распространение инноваций, поглощение знаний; «уровню
продукции знаний и науки» (knowledge and scientific outputs) с индикаторами производства знания, его влияния на внутренние рынки и распространения на мировых рынках.
Интересно отметить, что существует разрыв между экономическими системами с высокими доходами и экономическими системами с меньшими доходами. Такой же разрыв обнаруживается
между вторым и третьим рядом экономических систем с высокими
доходами. Объяснением этого положения может служить то, что
успех в инновационной деятельности, когда однажды критический
порог оказывается преодоленным, приводит к появлению «добродетельного круга». Следовательно, полезным будет определение
величин этих критических параметров и понимание того, когда могут потребоваться изменения в политике и мышлении для решения
стратегической проблемы.
GII-2012 установил, что страны могут развить свои способности и результаты инновационной деятельности в рамках четырехэтапной модели. Стадия 1: критический уровень должен быть
достигнут во всех областях, где создаются ресурсы на входе инновационного процесса. Стадия 2: результаты инновационной деятельности растут за счет небольших, но постоянных усовершенствований институциональной структуры, развития третичного
образования, инфраструктуры, более глубокой интеграции в мировые рынки и комплексные деловые взаимодействия. Некоторые
региональные области, группы и специализированные рынки могут
преобладать и подтягивать остальную часть территории; крайне
важны инновационные связи. Стадия 3: рейтинг ресурсов на входе
улучшается наряду с интеграцией всех социальных сегментов в
экономику: растут производительность и заработная плата, развиваются города, расширяется образование, снижается уровень коррупции, рынки играют большую роль и параллельно с этим развивается гражданское общество; это объясняет крутизну линии
гистерезиса инноваций. Лучшие последователи обнаруживаются на
2014.02.017
101
стадиях 2 и 3. Стадия 4: в странах – лидерах инноваций способности и результаты инновационного развития стабилизируются на
равновесном высоком уровне, что в большей степени является результатом демографии, размеров рынка и сравнительных преимуществ, чем запланированных стратегий (с. 23).
Не все параметры входа и выхода инновационной системы
одинаково хороши по качеству и, следовательно, не все оказывают
одинаковое влияние. Например, количество университетов и величина расходов в третичном образовании не всегда обеспечивают
хорошие качество и эффективность национального высшего образования. То же относится и к числу заявок на патенты, и к некоторым другим индикаторам.
Основываясь на этих рассуждениях, GII-2013 вводит три индикатора с целью устранить недостатки традиционных метрик инноваций. Они включены в параметры «человеческий капитал и исследования», «уровень развития бизнеса», «продукция знаний и
технологий». Это индикаторы: 2.3.3; 5.2.5 и 6.1.5.
Индикатор 2.3.3: средний уровень лучших трех университетов в Мировом университетском рейтинге QS 2012 (QS World
University Ranking of 2012). Он позволяет дать оценку доступности
учреждений образования высшего качества, а не среднего уровня
всех университетов в пределах определенной экономики. Рейтинг
QS 2012 включает шесть индикаторов: академическая репутация
(40%), оценка работодателя (10%), цитируемость публикаций сотрудников (20% из SciVerse Scopus), уровень способностей студентов (20%), доля иностранных студентов (5%), доля иностранных
преподавателей (5%). Индикатор 5.2.5: три показателя патентной
активности – число заявок на патенты, поданных резидентами
страны как минимум в три патентных бюро во всем мире. Этот индикатор служит дополнением к традиционно измеряемому числу
заявок, поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty: 6.1.2). Индикатор 6.1.5: индекс
цитирования (количество статей в научных журналах, опубликованных в данной стране; количество цитат из этих статей служит
хорошим индикатором научной продуктивности в этой стране).
В общей сложности 20 индикаторов были модифицированы,
10 индикаторов были удалены или заменены и 10 подверглись методологическим изменениям (новые методологии вычислений, ис-
102
2014.02.017
точники, изменение весового коэффициента, изменение классификации и т.д.). По названным выше трем показателям в десятку
лучших вошли следующие экономические системы с высоким
уровнем дохода: США, Великобритания, Германия, Япония,
Швейцария, Франция, Канада, Швеция, Нидерланды и Республика
Корея. Великобритания и США повысили свой рейтинг по сравнению с 2012 г. до некоторой степени за счет включения этих новых
индикаторов. Среди стран среднего дохода, помимо прочих, в десятку лучших вошли страны БРИКС: Китай (19-е место по сумме
этих трех переменных и 35-е в общем рейтинге GII-2013), Бразилия
(25/64), Российская Федерация (26/62), Индия (31/66), Южная Африка (36/58), а также Аргентина (34/56), Мексика (35/63), Малайзия
(39/32), Чили (40/46) и Турция (45/68).
В этом году модель GII охватывает 142 страны / экономические системы, что представляет 94,9% мирового населения и 98,7%
мирового валового продукта (в текущих долларах США).
С целью аудита были приглашены эксперты из Отдела эконометрики и прикладной статистики Совместного научноисследовательского центра Европейской комиссии в Испре (Италия) (Econometrics and Applied Statistics Unit at the European
Commission Joint Research Centre in Ispra). Цель аудита GII сосредоточена на двух главных вопросах: концептуальная и статистическая согласованность структуры и воздействия ключевых предположений моделирования на показатели и рейтинг. Весь процесс
следования включал четыре шага. Шаг 1: для доказательства концептуальной согласованности были отобраны индикаторы по их
отношению к определенному параметру оценки инноваций на основе анализа литературы, мнений экспертов, отношения к стране и
своевременности. Шаг 2: для проверки достоверности данных для
каждой страны использовались источники начиная с 2003 г. В выборку были включены только те страны, для которых была доступна информация по крайней мере для расчета 53 из 84 индикаторов
(63%) и по крайней мере два из трех индикаторов для каждого параметра могли быть вычислены. Шаг 3: статистическая когерентность (среди 142 стран, включенных в GII-2013, более 53,5% имели
различия в индикаторах по параметрам GII или семи основным параметрам). Шаг 4: проверка качества результатов. На данном этапе
результаты GII проверялись на согласованность с потоком других
2014.02.017
103
статистических данных, результатами текущих исследований или
преобладающей теории (с. 57).
Оценка надежности результатов GII-2013 была основана на
комбинации экспериментов Монте-Карло и мультимоделирования, в
ходе которых исследователи имели дело с тремя проблемами: весами параметров, недостатком данных и выбором формулы агрегации.
В целом индикаторы GII-2013 и его подиндексов для стран /
экономик оказались достаточно соотнесенными с методологическими предположениями, в том числе в плане оценки недостающих
данных, определения весов и формул агрегации, не будучи избыточными (ввод новых предположений изменил четыре или менее
позиций в рейтинге 88 из 142 стран) (с. 65). Следовательно, выводы
по результатам GII-2013 могут быть полезны для большинства экономических систем.
В главе 2 рассматриваются параметры основных глобальных
«горячих точек» инноваций с использованием ряда различных индикаторов. Эти индикаторы представлены на основе: 1) традиционной методологии с учетом в том числе показателей ИР и патентования; 2) анализа происхождения и управления прямыми
иностранными инвестициями (FDI) в знаниеинтенсивные сектора;
3) рейтингового анализа лучших в мире локальных систем запуска
новых предприятий – стартапов.
Данные, представленные в этой главе, подтверждают следующие факты: 1) «остроконечность» (графиков распределения) инноваций имеет тенденцию сохраняться: немногие территории концентрируют
инновационные
активы,
способности
и
финансирование; 2) новые горячие точки появляются в Китае и в
других развивающихся экономиках; 3) локальные инновационные
системы все в большей степени «интернационализируются», что
означает их растущее взаимодействие с другими областями; города
растут, развивая возможности для сотрудничества в целях инноваций и создания новых организационных структур (это подтверждается новыми тенденциями в целеполагании и происхождении знаниеинтенсивных FDI) (с. 69).
По оценкам ОЭСР, приблизительно 10% регионов ОЭСР выполняют 30% всех расходов на ИР в данной группе стран и обеспечивают более чем 50% применений патентов (с. 70). Ведущий регион ИР в ОЭСР – Нью-Мексико (США): этот штат тратит на ИР
104
2014.02.017
более 7% своего ВВП. Штат Массачусетс (США) инвестирует в ИР
около 7% от ВВП. В 2007 г. средние по странам ОЭСР расходы на
ИР равнялись 2,3% от ВВП. Регионы Pohjois-Suomi (Финляндия),
Hovedstaden (Дания), Sydsverige (Швеция) и Chungcheong (Республика Корея) инвестируют в ИР более 5% от их регионального ВВП
(с. 70).
В целом страны, инвестирующие в ИР более других, демонстрируют довольно высокую региональную разнородность в терминах интенсивности ИР. Эти различия обусловлены географическими, институциональными и экономическими факторами.
В США и в Германии пики инвестирования в ИР приходятся, соответственно, на Калифорнию (21% от всех национальных расходов)
и на землю Баден-Вюртемберг (25% от всех национальных расходов). В Финляндии и Южной Корее регионы Etela-Suomi и Korean
Capital Region производят, соответственно, 55 и 63% от всех национальных расходов на инновации (с. 70).
Неравномерным оказывается и распределение статистики патентов. Новая база патентных данных ОЭСР (OECD Regional Patent
database) позволяет получить информацию о том, что патентование
посредством Договора о патентной кооперации Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property
Organization – WIPO) концентрируется в нескольких регионах мира. Двадцать ведущих инновационных регионов подают более 50%
всех мировых заявок на получение патента. Девять регионов из
этой двадцатки находятся в США, четыре – в Японии, три – в Германии и по одному – во Франции и Нидерландах (с. 70).
Регионы являются также узкоспециализированными относительно того или иного вида инноваций. Например, десять ведущих
по числу заявок на патенты в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) регионов подали более 50% всех
мировых заявок в сфере ИКТ. Три первых места по числу заявок в
сфере ИКТ через PCT занимают регионы: Южный Канто (Япония) –
13%; Калифорния (США) – 11; провинция Гуандун (Китай) – 6%
(с. 70).
В сфере возобновляемых источников энергии патентование
менее сконцентрированно: десять ведущих регионов подали 36%
всех мировых заявок в этом секторе. Три первых места занимают
2014.02.017
105
Калифорния и два японских региона – Южный Канто и Кинки
(с. 70).
Формы научного сотрудничества также различаются по регионам и зависят от сектора и институциональных факторов.
Например, в таких областях, как телекоммуникации, биотехнологии и возобновляемые источники энергии, чаще встречаются формы сотрудничества. В области телекоммуникаций доля патентов,
полученных в кооперации, как минимум, двумя изобретателями,
находящимися в двух различных регионах, увеличилась с 7,9% в
конце 1970-х годов до 16,2% в 2005–2007 гг. В этом секторе лидирует Калифорния, где доля заявок, поданных ее резидентами совместно с изобретателями из других регионов, составляет примерно
24%. Этот регион имеет самую широкую в мире сеть географического размещения партнеров.
Национальные границы играют важную роль. В большинстве
основных областей патентования заметна высокая склонность к
сотрудничеству и cовместному патентованию с коллегами в пределах собственных стран, а не с иностранными коллегами. Это может
быть объяснено или географической близостью, или научной,
лингвистической и культурной близостью. В том, что касается экономических причин, новые формы FDI предпочитают прежде всего
те места, в которых осуществляется политика, направленная на привлечение инвестиций такого типа. К таким местам относятся Бразилия, Китай, Коста-Рика, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.
Эффективность FDI в 2010–2012 гг., измеренная числом рабочих мест, созданных в результате осуществления инвестиционных проектов, отмечена в пяти лучших в этом аспекте городах:
Шэньчжэне (Китай); Эспоо (Финляндия) и Фэрфилде, Пало-Альто
и Сиэтле (США). Сеул (Республика Корея) находится на шестом
месте, он обладает той особенностью, что большая часть ИР выполняется там за счет аутсорсинга (с. 73).
Инновационные «горячие точки» становятся центрами создания стартапов. Израиль называет себя «страной стартапов», но
такие предприятия создаются и в новых местах, включая регионы
Африки, Азии и Латинской Америки. Авторы называют несколько
факторов, чтобы объяснить появление групп стартапов в развивающихся экономических системах: 1) распространение информационно-коммуникационных технологий, открывшее новые возмож-
106
2014.02.018
ности для обмена знаниями и распространения новшеств, а также
создание новых высокотехнологичных компаний в развивающихся
экономиках; 2) высокие темпы роста ВВП в развивающихся экономических системах, которые открывают новые инвестиционные
возможности; 3) повышение мобильности студентов и квалифицированных работников, что помогает людям из развивающихся экономических систем приобретать знания и профессиональные навыки
в зарубежных университетах и компаниях, таким образом способствуя развитию предпринимательской культуры в своих родных
странах.
Индекс идентифицирует 20 экосистем стартапов в мире, локализованных в 12 странах. Среди них пять экосистем появились
на развивающихся рынках, включая Сингапур, Москву (Россия),
Бангалор (Индия), Сан-Паулу (Бразилия) и Сантьяго (Чили). Каждая локальная система имеет свои особенности. Например, СанПаулу занимает место в середине рейтинга по доступности венчурного капитала, но терпит неудачу в сравнении с Силиконовой долиной в оценке навыков и опыта инвесторов, в то время как
Москва, находясь в середине списка по талантам, имеет довольно
низкий балл по доступности финансирования.
Поскольку регионы и города становятся ключевыми единицами анализа тенденций и политики в инновационной сфере, лучшие
индикаторы должны охватывать системное измерение инноваций и
различные особенности, которые формируют инновационную динамику на локальном уровне.
С.М. Пястолов
2014.02.018. МАХРУМ С., АЛЬ-САЛЕХ Я. К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ.
MAHROUM S., AL-SALEH Y. Towards a functional framework for
measuring national innovation efficacy // Technovation. – 2013. – Р. 1–
13. – Mode of access: http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.
2013.03.013 (Article in press)
Ключевые слова: инновации посредством принятия; функции
инновационных систем; индекс инноваций; сводные индикаторы.
2014.02.018
107
Сотрудники международной образовательной организации
INSEAD1 в своей статье представляют теоретическую разработку в
развитие понятия «эффективность инноваций», что в дальнейшем
должно получить воплощение на академических и политических
уровнях.
Эффективность интерпретируется авторами как эффективность всего инновационного цикла: постановки задачи, внедрения,
распространения и эксплуатации инновации. Далее это понятие они
сопоставляют с инструментом измерения, основанным на сводном
индексе, который называется «индекс эффективности инновации».
Наиболее известными среди используемых сегодня индексов,
по всей видимости, являются Европейский рейтинг инноваций
(European Innovation Scoreboard); Обзор ОЭСР науки, технологии и
промышленности (OECD Science, Technology, and Industry Outlook);
Скандинавский монитор инноваций (Nordic Innovation Monitor), а
также индексы, разработанные ООН (например, UNCTAD) и Всемирным банком (с. 1).
До настоящего времени индексы инноваций и, следовательно, политика фокусировались преимущественно на двух главных
аспектах: создании нового знания и эксплуатации нового знания и
инноваций. Реальный интерес высших чиновников и налогоплательщиков в инновациях как инструменте для создания ценностей
и решения социально-экономических проблем во внимание не принимался. Это в значительной степени происходит из-за принятой
концептуальной базы мышления, в основе которой лежит линейная
модель инноваций. В результате традиционно используемые инструменты измерения инноваций не учитывают процессы и продукты промежуточного обращения, т.е. обучение, принятие и адаптация знания, которые имеют место в рамках инновационного
процесса. Эти важные, хотя и несколько «скрытые» элементы инновационного процесса не принимаются во внимание, несмотря на
часто упоминаемые парадоксы стран, делающих скромные инвестиции на входах инноваций, но демонстрирующих высокие показатели на выходе (например, в случаях Австралии, Бельгии, Канады, Норвегии и Великобритании).
Название происходит от франц. «Institut Européen d’administration des affaires», или по-английски: «European Institute of Business Administration». – Mode of
access: http://www.insead.edu – Прим. реф.
1
108
2014.02.018
Отмечается, что высшие чиновники при осуществлении инновационной политики часто ограничиваются одним или двумя
индикаторами, такими как патенты и инвестиции в ИР, которые
используются для достижения определенной стратегической цели.
Многие традиционные индикаторы оценки инноваций, фокусирующиеся в основном на сфере науки и техники, недостаточны для
измерения инноваций, поскольку не отражают многочисленные
аспекты инновационных потенциалов в разных странах. Кроме того, несмотря на некоторые изменения в принятых методологиях,
ранжирование стран оставалось более или менее устойчивым.
Отталкиваясь от тех фактов, когда сравнимые по объему инвестиции на входе инновационных процессов приводят к различным результатам, эксперты делают вывод о том, что «сопоставительный анализ деятельности инновационных систем, которые
явно отличаются, может использоваться не для того, чтобы идентифицировать передовую практику, а скорее как платформу для
сравнений систем в определенных контекстах» (с. 2).
Авторы обращаются к понятию «системы инноваций» (СИ),
которое впервые прозвучало в работах Б.-А. Лундвалла и
К. Фримана в конце 1980-х годов. Они подчеркивали, что инновации – это коллективный и интерактивный процесс. Однако до сих
пор структура СИ не была операционализирована настолько, чтобы
позволить политологам использовать ее инструментарий в развитии соответствующих практических политических директив. В последнее время появляются научные публикации, в которых делаются попытки перейти от статического описания СИ как
фиксированных конструкций к описанию их как динамических
функциональных систем. Соответственно, было предложено несколько наборов функций. Например, развиваются модели описания
региональных инновационных систем (РИС), где базовые системные функции «учатся», «признавая ценность», «приспосабливаясь»
и «создавая новую стоимость» (с. 3). Отмечен также растущий интерес ученых к исследованиям эффективности рабочих мест не
только в производстве новых продуктов и услуг, но и в их способности содействовать развитию связей между локальными и глобальными акторами в целях создания новых ценностей.
«Эффективность системы инноваций» позиционируется как
попытка пройти вне традиционного структурно ориентированного
2014.02.018
109
анализа СИ и исследовать основные процессы, обычно называемые
«функциями систем инноваций». Обзор литературы, представленный авторами, показывает, что «эффективность новшества» – понятие относительно новое. Оно еще не было включено в построение индексов инноваций с некоторыми известными исключениями,
такими как, например, Глобальный индекс инноваций INSEAD
(GII), в структуре которого присутствует индекс эффективности.
В контексте статьи понятие «эффективность инноваций»
определено как объединенный уровень системной эффективности.
Это – отношение инновационного выпуска к потенциалу (т.е. внутренняя эффективность) плюс сравнительная эффективность системы. Авторы считают, что это важное усовершенствование, потому
что нельзя должным образом оценить слабые связи в системе инноваций, если ценность различных связей и системных функций не
понята должным образом. Например, сильные связи университетов
и промышленности могли бы быть очень важными в одной экономике, но менее значимыми в другом контексте регулирования. Изменение в оценке важности различных связей в различных СИ
имеет отношение к типу базы знаний в этой системе.
Раскрывая содержание своей модели, авторы рассматривают
набор из пяти функций (т.е. ключевые процессы систем инноваций), которые представлены в структуре, названной «модель
СП/СР» (способность к поглощению плюс способность к развитию) (model AC/DC: absorptive capacity + development capacity).
Модель тестировалась по выборке из 133 стран на корреляцию по
различным переменным, и результаты были постоянно положительными. Пять функций модели СП/СР: 1) обеспечение доступа к
знаниям; 2) закрепление знаний; 3) локальное распространение
знаний; 4) производство нового знания; 5) эксплуатация всех полученных знаний. Данные функции связывают между собой переменные потенциала и результатов.
Функция 1. Со стороны потенциала выступают: пользователи
Интернета; полная широкополосная сеть на 100 человек; степень
использования Интернета бизнесом; распространенность торговых
барьеров; инфраструктура. Со стороны результатов: наличие цепочек создания ценностей; объем (доступных) мировых рынков; присутствие поставщиков высокотехнологичных услуг.
110
2014.02.018
Функция 2. Со стороны потенциала выступают: количество
дней, необходимых для организации нового дела; число процедур;
политическая стабильность; качество (государственного) регулирования; уровень защиты инвесторов; ограничения для иностранной собственности. Со стороны результатов: распространенность
прямых иностранных инвестиций; наличие кластеров; передача
технологий в рамках прямых иностранных инвестиций; лицензионные платежи и роялти; приток квалифицированной рабочей силы.
Функция 3. Переменные потенциала: уровень грамотности;
качество системы образования; наличие ученых и инженеров; уровень подготовки кадров; индекс электронного участия; локальная
доступность специализированного исследования и образовательных услуг; сертификация Международной организации по стандартизации; структура основных фондов. Переменные результатов:
принятие технологий на уровне фирм; уровень понимания технологий; импорт промышленных продуктов (% импорта производственных товаров); уровень развития производственных процессов;
импорт продукции информационно-коммуникационных технологий.
Функция 4. Переменные потенциала: расходы компаний на
ИР; защита интеллектуальной собственности, включая борьбу с
контрафактом; эффективность научно-исследовательских учреждений; число участников докторских программ (число аспирантов и
докторантов); численность исследователей в ИР (на 1 млн человек
населения). Переменные со стороны результатов: число научных
публикаций на душу населения; число заявок на патенты на душу
населения; число заявок на получение торговой марки; создание
новых предприятий; все выпускники третичного образования; выпускники третичного образования в естественных науках.
Функция 5. Переменные потенциала: уровень доступности
венчурного капитала; качество школ управления; доступ к локальному рынку недвижимости; приобретение высокотехнологичных
продуктов правительством; предпринимательская деятельность в
целом; рейтинги PISA. Переменные результатов: экспорт товаров;
экспорт услуг; продукты творчества; ВВП на душу населения; добавленная ценность промышленности; добавленная ценность сектора услуг.
Используя последние доступные данные из баз данных перечисленных выше индексов, авторы разделяют 133 страны на четы-
2014.02.018
111
ре группы следующим образом: 1) высокий потенциал / высокая
производительность; 2) высокий потенциал / низкая производительность; 3) низкий потенциал / высокая производительность;
4) низкий потенциал / низкая производительность.
Страны группы 1 инвестируют непрерывно в различные факторы входа, поддерживающие инновационную деятельность, и
преуспевают в эксплуатации этих инвестиций. Страны группы 2
щедро вкладывают капитал в различные факторы входа инновационного процесса, но в настоящее время по различным причинам не
демонстрируют высокие уровни инновационной деятельности. Как
показано в статье, страны, принадлежащие к этой категории, включают некоторые развитые экономики, так же как и многие развивающиеся экономические системы, которые, возможно, неэффективно
используют свой потенциал. Страны группы 3 не инвестируют достаточно средств (в относительных терминах) в факторы инноваций,
но выступают удивительно хорошо в производстве инновационной
продукции. Стратегическое значение здесь имеет тот факт, что инновационный выпуск этих стран может быть в дальнейшем повышен за счет увеличения инвестиций в инновационные способности.
Италия, похоже, является единственной страной среди прочих, которая соответствует этому описанию. Как показывает исследование, большая часть выборки рассматриваемых стран относится к
группе 4.
Китай, Италия и Бразилия – единственные страны, эффективность работы которых превышает их потенциал. США и Германия находятся на разделительной линии, и, следовательно, они
ближе к тому, чтобы быть классифицированы как эффективные.
Эти страны, за исключением Бразилии, обычно занимают довольно
высокое место в большинстве рейтингов инноваций и, как полагают эксперты, находятся среди самых инновационных стран в мире.
Бразилия занимает довольно низкие места с точки зрения абсолютных уровней инновационных потенциала и выпуска, особенно в
сравнении с большинством развитых экономик. Однако эта страна
довольно эффективна в превращении своего инновационного потенциала в продукт главным образом благодаря большому внутреннему рынку и интегрированным цепочкам создания ценностей.
Другие страны, которые также принадлежат к категории 4 и классифицированы как относительно эффективные, – это Мексика и
112
2014.02.019
Турция. Они тоже могут служить образцами для развивающихся
экономических систем знаний, стремящихся повысить эффективность инновационной деятельности.
Размер экономики в стране, ее уровень развития и промышленная структура – главные детерминанты приоритетов в принятии
стратегических решений об усилении определенной инновационной способности (факторов на входе инновационного процесса).
Таким образом, чтобы достигнуть высокой производительности и
обеспечить высокий потенциал инновационной системы, администраторы должны выявить слабости в своих инновационных системах на уровне каждого отдельного фактора. Необходимо также составить систему приоритетов для обнаруженных недостатков,
чтобы стратегическим и самым важным провалам придать первостепенное значение.
С.М. Пястолов
2014.02.019. ШАПЕР-РИНКЕЛЬ П. РОЛЬ АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА БУДУЩЕЕ, В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: ПРИМЕР НАНОТЕХНОЛОГИЙ.
SCHAPER-RINKEL P. The role of future-oriented technology analysis
in the governance of emerging technologies: The example of nanotechnology // Technological forecasting & social change. – 2013. – Vol. 80,
N 3. – Р. 444–452. – Mode of access: http://dx.doi.org/10.1016/j.tech
fore.2012.10.007
Ключевые слова: управление; появляющиеся технологии; ключевые технологии с новыми возможностями; нанотехнологии;
общественная вовлеченность; Форсайт; оценка технологий; ответственные исследования и инновации.
Сотрудница Австрийского технологического института в
своей статье описывает метод прогнозирования и управления новыми технологиями и раскрывает различные типы «ориентируемого на будущее технологического анализа» (Future-oriented
technology analysis – FTA), применяемого в США и Германии.
В случае нанотехнологий FTA широко используется в течение последней четверти века с целью структурирования научной области
и ее управления. В статье рассматриваются следующие вопросы:
каким образом FTA включен в национальную инновационную по-
2014.02.019
113
литику; как определенные меры управления связаны с FTA и с
учреждением центральных организаций; каков вклад различных
ориентируемых на будущее подходов в развитие методов управления нанотехнологиями?
История развития нанотехнологий насчитывает около 50 лет.
Впервые термин «нанотехнология» употребил японский физик Норио Танигути в 1974 г. Первыми оценку состояния и будущих тенденций развития этой технологии начали США и Германия. Более
десяти лет назад Национальный совет по науке и технике США (National Science and Technology Council – NSTC) выпустил свой первый
аналитический отчет о научных исследованиях, а Германия приняла
свою программу государственного финансирования в области нанотехнологий.
Появление, финансирование и институционализация нанотехнологий были тесно связаны со способами, при помощи которых различные направления нанонауки и нанотехнологий изучались в общем контексте. Многие эксперты из области исследований
науки и техники (STS) показали, что нанотехнологии – это не только
политическое, но и культурное явление.
Автор различает несколько подходов в прогнозировании долгосрочных тенденций в нанотехнологиях. Ранние и радикальные
прогнозы, сформировавшие область в конце 1980-х годов, были
созданы отдельными мыслителями. К.Э. Дрекслер в своей книге
«Машины созидания: Грядущая эра нанотехнологии»1 развивал
далеко идущие новые идеи относительно технологий в наноразмерном пространстве и связанные с ними риски. Он предвидел будущее, где молекулярные машины с нанокомпьютерами способны
управлять отдельными атомами и создавать спроектированные
объекты. Идеи К.Э. Дрекслера стали ориентиром в дебатах вокруг
нанотехнологий на протяжении 1980-х и 1990-х годов. Второй прогноз был представлен широкой общественности в 2000 г. в рамках
американской программы «Национальная инициатива в области
нанотехнологий» (US National Nanotechnology Initiative) – «Нанотехнология – формирование мира посредством атома» (Nanotechnology – Shaping the World Atom by Atom).
1
Drexler K.E. Engines of creation: The coming era of nanotechnology. – N.Y.:
Anchor press, 1987.
2014.02.019
114
В 1990-х годах исследования, очерчивающие область и формирующие технологическую оценку, подробно анализируют знание,
главным образом в сферах науки и промышленности, и акторов,
участвующих в процессе. После запуска программ государственного финансирования нанотехнологий в некоторых странах и горячих
дискуссий по поводу рисков, связанных с этим феноменом, в деятельность в данной сфере привлекается широкий круг участников из
политики, академической сферы, промышленности и неправительственных организаций, а также из независимых партий. Примеры
этих объединенных и ориентированных на будущее действий включают конференции в США и Германии, создание специализированных организаций, мониторинг и выпуск аналитических отчетов. Были использованы различные способы, чтобы «начать коллективное
изучение и распространение прогнозов, которые воздействуют на
сложное взаимодействие факторов, управляющих траекториями
инноваций» (с. 445).
В конце 1990-х годов американское научное сообщество
сформировало организационную структуру с целью определить
рамки ИР в сфере нанотехнологий. В 1998 г. NSTC, основной исполнительный орган, ответственный за координирование политики в
области науки и техники, формально создал рабочую группу,
названную Межведомственной рабочей группой на нанонауке, разработкам и технологиям (Interagency Working Group on Nanoscience,
Engineering, and Technology – IWGN). В 1999 г. NSTC провел ряд исследований и опубликовал отчеты о положении дел и тенденциях в
нанотехнологиях. Исследования объединяли оценку науки и техники в различных областях, которые позже назовут «наноразмерной
наукой и техникой» (с. 446).
В докладе IWGN1, в частности, говорилось, что «нанотехнология приведет к следующей промышленной революции». Были
даны рекомендации удвоить ежегодные инвестиции федерального
правительства в нанонауку и технологические ИР (в 1999 бюджетном году было потрачено 255 млн долл.).
С 2004 г. основной проблемой, вызывавшей беспокойство политиков и общества, а также предметом анализа стали риски, свя1
Vision for nanotechnology research and development in the next decade. Nanotechnology research directions: IWGN workshop report / National Science and Technology Council. – 1999.
2014.02.019
115
занные с нанотехнологиями. Были широко проанализированы общественное мнение о нанотехнологиях и общественное восприятие соответствующих рисков и будущих выгод, при этом была явно выражена потребность в управлении риском. Агентства Национальной
нанотехнологической инициативы (National Nanotechnology Initiative –
NNI) включили результаты исследований в качестве компонентов области «Этические, юридические и социальные приложения» (Ethical,
Legal and Social Implications – ELSI) в программы нанотехнологических ИР и поддержали центры нанотехнологий.
В 2010 г. отчет «Задачи нанотехнологических исследований в
социальной сфере к 2020» (Nanotechnology Research Directions for
Societal Needs in 2020) объединил ретроспективный анализ событий
в нанотехнологии с 2000 по 2010 г. и представил «прогноз развития
нанотехнологий с 2010 по 2020 г.» (с. 447). В отчете подчеркивалась важность понятия «упреждающее управление нанотехнологиями», которое было введено социологами в Центре нанотехнологий Университета штата Аризона. Это понятие включает FTA в
продолжающиеся социотехнические процессы. Технологическая
оценка программ исследований в реальном времени ведется с целью
объединить естествознание и технические исследования с социологией и стратегическими исследованиями.
Старший советник по нанотехнологиям в Национальном
научном фонде (ННФ) М.С. Роко (M.C. Roco) различает две основополагающие фазы развития нанотехнологической инициативы
«Nano 1» и «Nano 2». Первая фаза (2001–2010), которая имела место
в первом десятилетии после определения долгосрочного прогноза,
сосредоточилась на междисциплинарном исследовании и была «во
власти экосистемной парадигмы». Во второй фазе (2011–2020) предполагается сосредоточить все усилия на интеграции наноразмерной
науки, ИР и массового использования нанотехнологий. В будущем
управление будет формировать «экосистему, ориентированную на
пользователя», которая, как ожидают, будет все более и более объединяться и основываться на техно-, социоэкономическом подходе.
В Германии нанотехнология возникла в стратегической повестке дня Федерального министерства образования и исследований (BMBF) с конца 1990-х годов. BMBF уполномочивает Ассоциацию технологического центра немецких инженеров (VDI-TZ) и
филиал Ассоциации немецких инженеров (VDI) контролировать будущие технологические тенденции, которые могли бы стать пред-
116
2014.02.019
метом финансирования. В 1998 г. по инициативе BMBF созданы
первые шесть национальных центров компетентности в нанотехнологиях с ежегодным бюджетом. В 2003 г. BMBF разработало национальную стратегию финансирования и поддержки нанотехнологий,
нацеленную на цепочки создания ценностей и на совместные проекты в науке и промышленности. Проекты сфокусированы на следующих областях: Nanofab (электроника, нанотехнология для высокоэффективных
компонентов
информационнокоммуникационных технологий); NanoforLife (фармацевтические
препараты, медицинская нанотехнология для новых методов лечения и диагностики); NanoMobil (автомобильный сектор, нанотехнология для ресурсосберегающих автомобилей); NanoLux (промышленность оптики, нанотехнология для энергосберегающего
освещения); NanoChem (производство и оценка безопасности
наноматериалов для промышленного применения).
В 2003 г. департамент технологической оценки в немецком
парламенте провел комплексную технологическую оценку состояния дел в сфере нанотехнологий. В 2006 г. Федеральное министерство охраны окружающей среды и ядерной безопасности (BMU)
сформировало Комиссию по нанотехнологиям (NanoKommission)
как часть федеральной стратегии развития высоких технологий.
Комиссия идентифицировала более 25 примеров диалога (представителей общественности и государства), касавшихся потенциальных выгод и рисков нанотехнологий. Мандат NanoKommission
состоял исключительно в том, чтобы способствовать обмену мнениями среди различных групп интересов в обществе о потенциальных выгодах и рисках нанотехнологий.
В 2007 г. в качестве важной части реализации немецким правительством стратегии на основе высоких технологий появился документ «Наноинициатива – план действий 2010» (Nano-Initiative
Action Plan 2010). Он был оформлен как «межведомственная инициатива». Однако следующий стратегический документ «План действий
Нанотехнология – 2015» (Action Plan Nanotechnology 2015) обращается только к некоторым инициативам других министерств и
агентств (главным образом относительно регулирования, а не будущих стратегий), не упоминая прошлое или будущее сотрудничество
и сотрудничество среди министерств и агентств федерального правительства. Более широкое понятие ответственного развития нанотехнологии вообще не было развито (отмечена только идентифика-
2014.02.019
117
ция рисков «для безопасной и ответственной разработки»). Понятие
будущего управления нанотехнологиями также не входит в план
действий. Таким образом, больше десятилетия руководством разнообразными действиями FTA в Германии занималось главным образом одно министерство – BMBF, усилия которого сосредоточились в
значительной степени на отношениях науки и промышленности.
В США, как и в Германии, ответственные ведомства и акторы,
проводящие FTA, не утверждают, что оказали широкое влияние на
государственную политику, поскольку они намеревались «всего
лишь идентифицировать новые технологии, а не сформировать область» (с. 451). Тем не менее эти действия способствовали формированию области и ожиданий общества. В обеих странах FTA
предполагал развитие инновационных нанотехнологий, но не создавал представления для будущего инновационного управления
или для того, чтобы использовать нанотехнологию для прорывных инноваций, направленных на решение значимых социальных
проблем.
Автор заключает, что в США представлен новый прогноз на
2020 г., в то время как в Германии много различных направлений
исследований были обозначены параллельно без общей стратегии. В
сравнении этих двух стран основное различие обнаружено в существовании головной организации в США, объединяющей гетерогенные интересы, которая гарантирует возможность дальнейшего
накопления и использования опыта и знаний, полученных в рамках
FTA.
Управление нанотехнологиями в США концептуально ориентируется на ответственные исследования, инновации и широкое
участие различных акторов. Это способствует формированию широких сетей с центральной организацией как основание для стратегического прогноза и развития. Немецкая политика в сфере нанотехнологий, напротив, не имеет явного операционно связанного
межорганизационного регулирования, поэтому процессы менее
скоординированы и не учитывают гетерогенные интересы, не используют знания, полученные в различных формах FTA. Межорганизационное регулирование можно считать решающим условием,
для того чтобы влияние, которое объединенный FTA может оказать
на управление нанотехнологиями в будущем, было максимальным.
С.М. Пястолов
2014.02.020
118
ЭКОНОМИКА НАУКИ
2014.02.020. БОРЛЁУГ С.Б., ЯКОБ М. КТО КОММЕРЦИАЛИЗИРУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ШВЕЦИИ
И ПОЧЕМУ?
BORLÄUG S.B., JACOB M. Who commercialises research at Swedish
universities and why? // Prometheus: Critical studies in innovation. –
2013. – P. 1–15. – DOI:10.1080/08109028.2013.832048. – Mode of
access: http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2013.832048
Ключевые слова: инновационная политика; трансфер технологий; коммерциализация результатов научных исследований;
Швеция.
Авторы статьи, сотрудник Университета Осло (Норвегия) и
сотрудник Университета Лунда (Швеция), представляют результаты своего исследования, основанного на интервьюировании сотрудников пяти крупнейших шведских университетов по вопросам
трансфера технологий и коммерциализации результатов научной
деятельности.
Развитие современной науки характеризуется мощным сдвигом в сторону более глубокого и всестороннего сотрудничества
академической сферы с промышленностью и частным сектором.
Это выражается в ускоренном развитии трансфера технологий и
других способов коммерциализации результатов научных исследований. Научный анализ этого процесса развивается главным образом по четырем направлениям: 1) исследование изменений, происходящих в сфере восприятия роли научных исследований в
развитии общества; 2) эмпирическое исследование изменений институционального контекста науки и научных исследований в различных странах; 3) критика влияния коммерциализации на академическое сообщество; 4) эмпирические исследования новой
системы правил поведения в научном сообществе, возникшей в
2014.02.020
119
результате развития коммерциализации. Эта последняя область исследований все в большей степени приобретает самостоятельное
значение и выдвигает на первый план изучение микрооснов университетского предпринимательства. Именно такой подход приняли авторы за основу для проведения своего исследования.
Швеция – одна из европейских стран, где на протяжении
двух последних десятилетий в области законодательства были сделаны наиболее решительные шаги, для того чтобы содействовать
процессу коммерциализации результатов научных исследований и
защиты прав интеллектуальной собственности индивидуальных
исследователей. Большинство шведских университетов государственные, поэтому региональные власти активно стимулируют их
участие в развитии инновационных систем своих регионов. Анализ
шведского опыта интересен с точки зрения понимания того, каким
образом осуществляются трансфер технологий и коммерциализация результатов научных исследований в условиях, когда сами
университеты непосредственно не обладают правами интеллектуальной собственности.
Швеция тратит около 4% своего ВВП на научные исследования. Из них около 65% составляют затраты предприятий национального частного сектора, 28% – государственное финансирование, а остальное – иностранные инвестиции, осуществляемые в
основном фирмами из стран ЕС (с. 2). Университеты получают
большую часть государственных субсидий и являются главным
субъектом научно-исследовательской деятельности в стране. Альтернативные источники финансирования и конкурирующие исследовательские структуры играют меньшую роль, чем в других странах Европы и США. Высшее образование в Швеции представляет
собой монопсонию1, в которой государство играет роль основного
потребителя и главного регулятора. Около 60% финансовых ресурсов, выделяемых на научные исследования, распределяются на
конкурсной основе через систему исследовательских советов между индивидуальными исследователями и исследовательскими
группами. Остальное финансирование выделается в виде неделимой субсидии, размер которой зависит от результатов, достигнутых
1
Монопсония – рынок, на котором господствует единственный покупатель. – Прим. реф.
120
2014.02.020
университетом в коммерциализации результатов научных исследований и количестве научных публикаций. Однако прямого финансирования со стороны государства недостаточно. Поэтому большинство исследователей вынуждены прибегать к альтернативным
источникам финансирования: сотрудничество с частными структурами; создание условий для трансфера технологий и коммерциализации созданного научного продукта. При этом сами государственные структуры выступают в роли главного инициатора процесса
коммерциализации научных исследований, создавая систему стимулов, поощряющих деятельность университетского сообщества в
этом направлении.
С целью анализа процесса коммерциализации научных исследований в шведских университетах авторы статьи проинтервьюировали 88 сотрудников из пяти крупнейших шведских университетов, из них 64 сотрудника занимаются преимущественно
исследовательской деятельностью и 24 – администраторы. Среди
интервьюируемых исследователей 9 – представители биологических наук, 19 – технических наук, 17 – социальных и гуманитарных
наук, 19 – специалисты в области информатики и компьютерных
технологий. Респонденты должны были ответить на два основных
вопроса: «В каких формах осуществляется коммерциализация результатов вашей научной деятельности?»; «Как ваш университет
осуществляет стимулирование коммерциализации результатов
научной деятельности?» (с. 6).
Анализ ответов на первый вопрос позволил авторам систематизировать формы коммерциализации результатов научной деятельности, объединив их в пять групп: 1) трансфер технологий в
виде продуктов, патентов, лицензий и компаний спин-офф; 2) консультационные услуги; 3) трансфер знаний в виде дополнительных
образовательных программ; 4) публикация книг и статей; 5) основная образовательная деятельность. При этом большинство респондентов наибольшее значение придают таким формам, как трансфер
технологий, публикации и трансфер знаний (с. 7).
По второму вопросу большинство респондентов сошлись во
мнении о недостаточности существующих стимулов к осуществлению трансфера технологий. Практически все респонденты имеют
постоянные долгосрочные контакты с представителями неакадемической среды. Большинство представителей социальных и гумани-
2014.02.020
121
тарных наук участвуют в деятельности различных общественных и
государственных организаций и исследовательских советов. Менее
половины респондентов поддерживают регулярные контакты с
представителями промышленности и других структур частного
сектора. Основным мотивом такого сотрудничества является увеличение базы данных для дальнейших исследований и возможность расширить область исследований. Практически все респонденты одобряют сложившуюся в Швеции систему фиксации и
защиты прав интеллектуальной собственности. Исследователи
утверждают, что их приоритет при оформлении прав интеллектуальной собственности служит важнейшим стимулом развития
научных исследований и коммерциализации их результатов. При
этом респонденты, представляющие административные структуры
университетов, выражают мнение о том, что необходимо ограничить право исследователей свободно распоряжаться результатами
научных исследований, которые получены в рамках исследовательской деятельности внутри университета, поскольку это наносит
ущерб процессу коммерциализации. Авторы отмечают глубокое
противоречие между сложившимся режимом фиксации интеллектуальной собственности, отдающей приоритет исследователю как
непосредственному создателю продукта, и стремлением университетских структур играть более активную роль в процессе трансфера
технологий и получать большую долю доходов. При этом преимущество существующего режима заключается в том, что он создает
достаточно сильный стимул для участия исследователей в создании
новых научных продуктов и их коммерциализации. Ослабление
существующего режима прав интеллектуальной собственности
может привести к существенному ослаблению этих стимулов. Поэтому если такое изменение произойдет, необходимо создать новые
стимулы, которые будут способны компенсировать ущерб, нанесенный исследовательской мотивации. Это тем более важно, что процесс коммерциализации сам по себе способен создавать отрицательные стимулы в виде различного рода финансовых и
профессиональных рисков. Такая ситуация порождает необходимость создания сильного противовеса из положительных стимулов,
обеспечивающих вовлечение представителей академического сообщества в процесс трансфера технологий и коммерциализации
результатов научной деятельности. Поэтому любое ослабление по-
122
2014.02.021
ложительных стимулов при отсутствии адекватной замены может
привести к резкому сокращению исследовательской активности в
этой сфере.
М.О. Лихачев
2014.02.021. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОСРЕДНИКИ: ПРОЦЕССНЫЙ ВЗГЛЯД НА КООРДИНАЦИЮ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ /
КАЦИ Б., ТУРГУТ Э., ХОЛЦМАН Т., САЙЛЕР К.
Innovation intermediaries: A process view on open innovation coordination / Katzy B., Turgut E., Holzmann T., Sailer K. // Technology
analysis & strategic management. – 2013. – Vol. 25, N 3. – P. 295–309. –
Mode of access: http://dx.doi.org/10.1080/09537325.2013.764982
Ключевые слова: открытые инновации; сотрудничество;
инновационный процесс; инновационная цепочка создания добавленной стоимости; малые и средние предприятия; инновационная
оценка стоимости.
Авторы из Германии исследуют роль инновационных посредников в совместных проектах сетевых взаимодействий между
различными организациями.
Современная концепция открытых инноваций предусматривает выбор фирмами таких стратегий развития, при которых происходит поиск знаний за пределами компаний и дальнейший обмен
ими с партнерскими организациями. Подобный обмен может приносить выгоду обеим сторонам, так как позволяет осуществлять
внешнюю коммерциализацию невостребованных фирмой объектов
интеллектуальной собственности, а также адаптировать внешние
разработки под потребности развития собственной продукции. Одним из преимуществ подобных стратегий является возможность их
использования малыми и средними предприятиями (МСП), которые обычно обладают недостаточными самостоятельными ресурсами для проведения ИР и извлечения из этого конкурентных преимуществ. В результате складываются рынки технологий, ноу-хау,
патентов и лицензий, и возникает потребность в присутствии посредников, облегчающих взаимодействие между партнерами,
участвующими в инновационном процессе.
Поскольку деятельность инновационных посредников длительное время относили к «провалам рынка», приоритет в осу-
2014.02.021
123
ществлении этих функций в основном брало на себя государство в
форме поддержки создания отделов трансфера технологий, бизнесинкубаторов, предпринимательских центров и иных механизмов,
призванных обеспечить выполнение стратегической задачи по взаимодействию с университетами и исследовательскими центрами,
где возникают стартапы, основанные на создании новых технологий. Данные формы государственной поддержки финансируются
преимущественно из бюджетных средств. Тем не менее новые механизмы, созданные для выполнения схожих задач, имеют иную
коммерческую природу и осуществляют свою деятельность на основе платежей, которые они получают, обеспечивая взаимодействие между продавцом и покупателем технологий. Таким образом,
функция инновационного посредника меняется: тот, кто облегчает
внедрение инноваций, становится самим источником этих инноваций (с. 296).
Подобная модель организации «открытого» инновационного
процесса предусматривает его организацию в сетевой форме,
например, онлайн-проекты «Innocentive» и «NineSigma», которые
заявляют, что ими получено более 20 тыс. инновационных предложений со всего мира и что они заработали более 12 млн долл. в качестве вознаграждения от заключенных контрактов (с. 297). Посредники способствуют осуществлению «сделок», демонстрируя
потенциальным участникам реальные экономические выгоды. При
этом авторы утверждают, что посредники не только сопровождают
сделки, но и участвуют в создании / реализации части инновационного процесса.
Важная функция, которую выполняют данные посредники, –
осуществление руководства инновационным процессом. При этом
используются опыт организации бизнес-процессов и такие инструменты, как менеджмент качества, статистический контроль, управление цепочкой создания добавленной стоимости и т.д. Таким образом, инновационные посредники служат элементом инновационного
процесса, обеспечивающим заполнение разрыва между «существующими технологическими возможностями и потребностями пользователей (зачастую нечетко сформулированными)», координацию
интересов и усилий элементов «тройной спирали»: государства,
промышленности и исследователей в рамках открытых сетей
(с. 299).
124
2014.02.021
Авторы провели исследование управления инновационными
процессами, организованными в сетях, в которых активное участие
принимают ученые. Эмпирической основой исследования послужили данные опросов и интервью, а также анализ документации,
веб-контента и кейсов с участием МСП, входящих в европейский
проект «LivingLab» (с. 300). Были выбраны следующие направления исследования: 1) роль инновационных посредников, перешедших от нейтрального содействия инновационному процессу к деятельности по его управлению; 2) определение дополняющих
ресурсов сетевых партнеров и интеграция их в координируемый
инновационный процесс как важная инновационная способность;
3) оценка инновационных проектов на всех стадиях и управление
портфолио проектов (с. 302).
Обобщенные результаты восприятия от деятельности по координации инновационных процессов представлены в таблице.
Авторы указывают на то, что партнеры, задействованные в
инновационном процессе, воспринимают инновационных посредников как поставщиков услуг, а инновационный процесс может
быть представлен следующей моделью.
На пути превращения идеи в прототип / изобретение участвуют такие посредники, как организации, осуществляющие конкурс бизнес-планов, университетские инкубаторы и исследовательские институты. На этапе развития – доведения изобретения до
инновации – включаются научные парки, коммерческие инкубаторы и такие проекты, как «LivingLabs». К посредникам, действующим на последнем этапе коммерциализации инноваций, относятся
платформы открытых инноваций, консалтинговые фирмы, венчурные капиталисты (с. 304).
Авторы отмечают, что инновационные посредники также
формируют критическую массу инноваций в рамках своего портфолио, обеспечивая возможность доступа к бизнес-идеям и результатам ИР, воздействуя на спрос и предложение инновационных
проектов и позволяя оценить направление развития рынка посредством оценки достигнутых финансовых результатов.
2014.02.021
125
Таблица (с. 303)
Координация инновационного процесса с точки зрения
менеджеров
Стартапы
МСП
Ограниченная при- Умеренная привлевлекательность
кательность для
Услуги коммердля поиска партпоиска решений с
ческого брокера неров из-за недоучетом огранистатка финансоченности финанвых ресурсов
совых ресурсов
Привлекательны,
Очень привлекаособенно как
тельны, особенно
консультационУслуги по упров форме услуг
ные услуги, но
щению сетевых
наставничества,
иногда ограничевзаимодействий
финансируемых
ны объемом фигосударством
нансовых ресурсов
Очень привлекаОчень привлекательны для дальтельны для более
нейшего создания эффективного
стоимости, блаосуществления
Услуги брокера
годаря тому что
инновационных
инновации оцепроцессов пониваются на рансредством достуних этапах
па к сетям
Продвижение доПродвижение конступа к оборудотактов с лицами,
ванию в рамках
принимающими
Услуги по коорсетевого сотрудрешения в больдинации
ничества, испольших фирмах,
зование дополучаствующих в
няющих ресурсов
сети
партнеров
Крупные фирмы
Очень высокая
привлекательность для поиска
решений и полного предоставления услуг
Очень привлекательны в качестве
предоставления
источника внешних идей
Очень привлекательны для более
эффективного
осуществления
инновационных
процессов и
быстрого поиска
партнеров
Эффективная
идентификация
инноваций и пригодность для кооперации партнеров и решений
В заключение авторы отмечают, что для проведенного исследования характерны все ограничения, проистекающие из лимитированного количества анализируемых кейсов. Поэтому возникает
потребность в дальнейшем рассмотрении данной тематики в контексте проведения как количественных, так и качественных исследований и в целях анализа эволюции рассматриваемого явления.
126
2014.02.022
Участие в инновационных процессах посредников нового типа,
оперирующих с позиции «реализации бизнес-моделей» и с позиции
«координирующих продавцов и покупателей инноваций», требует
изменения государственной политики, поскольку эта модель позволяет использовать финансовые схемы, альтернативные прямой
государственной поддержке.
М.Н. Лавров
2014.02.022. ГИЛМОР О., ГЭЛБРАЙТ Б., МУЛВЕННА М. ВОСПРИНИМАЕМЫЕ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММАХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ДЛЯ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ.
GILMORE A., GALBRAITH B., MULVENNA M. Perceived barriers
to participation in R&D programmes for SMEs within the European Union // Technology analysis & strategic management. – 2013. – Vol. 25,
N 3. – P. 329–339. – Mode of access: http://dx.doi.org/10.1080/
09537325.2013.764987
Ключевые слова: инновации; малые и средние предприятия;
исследования и разработки; политика.
Авторы из Великобритании рассматривают различные типы
барьеров, которые стоят на пути участия малых и средних предприятий (МСП) в программах ЕС, связанных с исследованиями и
разработками.
Малый и средний бизнес очень важен для экономического
развития, так как именно в данном секторе создается большее число рабочих мест. Так, в ЕС из 23 млн фирм 99% относятся к категории МСП, т.е. имеют штат менее 250 сотрудников, оборот менее
50 млн евро и максимальный объем вложений от одного инвестора –
25% (с. 332).
В отношении инновационного развития неоднократно подчеркивалась роль МСП как акторов, стимулирующих конкуренцию
и использующих инновационные решения, которые могут быть в
дальнейшем коммерциализируемы крупными компаниями. Вместе
с тем подобные фирмы зачастую обладают рядом специфических
ограничений, в том числе недостаточным объемом ресурсов, ограниченным опытом и доступом к экспертизе, недостаточно развитыми технологиями, невозможностью платить высокие зарплаты и,
2014.02.022
127
соответственно, недостаточно квалифицированным персоналом,
неполной информацией о тенденциях развития рынка и т.д.
В ЕС особое внимание уделяется развитию МСП, связанных
с проведением ИР, в том числе в рамках инициативы «Инновационный союз». Однако даже при наличии большого числа форм и
методов поддержки МСП они сталкиваются со значительным числом барьеров: по данным Евробарометра, за 2007 г. более 37% европейских МСП не имели новых продуктов либо не имели от них
доходов (с. 331).
Первая группа барьеров относится к административным процедурам: участие в большей части программ и проектов требует от
руководства МСП постоянных временных затрат и квалифицированных усилий по заполнению соответствующих бумаг в соответствии с политикой и системами, которые могут быть недружественны МСП.
Вторая группа барьеров относится к финансовой сфере: МСП
обладают ограниченными финансовыми возможностями и не могут
позволить себе финансировать затратные исследовательские проекты. Высокие затраты и риски, связанные с ИР, могут привести к
тому, что фирма не сможет выжить. Еще одним препятствием в
данной сфере может стать отсутствие соответствующих профессиональных компетенций в сфере управления финансами, что ограничивает возможности использования заемного капитала. Как правило, участие МСП в ИР связано с развитием существующих
продуктов и технологий, а коммерциализация новых продуктов
поддерживается в меньшей степени. Поэтому в силу специфики
своей деятельности таким предприятиям сложно получить поддержку венчурных капиталистов, которые настроены на вложения
в более рисковые проекты (с. 332).
Многие МСП часто обладают слабыми внутренними возможностями для проведения ИР, они не могут обеспечить обновление производственных процессов. Сотрудники МСП также не
всегда имеют достаточный уровень экспертизы и компетентности,
для того чтобы развивать, управлять и извлекать доходы от ИРпроектов. Сложности также вызывает сотрудничество с внешними
партнерами, осуществляющими ИР, особенно вследствие отсутствия опыта сетевых взаимодействий у многих МСП, тогда как
именно сетевая организация контактов с партнерами по ИР позво-
128
2014.02.022
ляет преодолеть ряд финансовых, информационных и организационных ограничений и успешно проводить ИР (с. 332–333).
К внешним барьерам, которые ограничивают абсорбирующие способности МСП в сфере ИР, авторы относят уровень технического развития компаний, а также недостаточный уровень коммуникаций с агентствами, учреждениями, принимающими решения
в данной области, недостаточный уровень маркетинговых исследований, позволяющих разглядеть возможные выгоды от участия в
исследовательских проектах (с. 333).
Основой исследования авторов послужили данные о 764 МСП
в 27 странах Евросоюза и Боснии и Герцеговине, полученные в
рамках выполнения Седьмой рамочной программы ЕС в период с
апреля по ноябрь 2010 г. Данные о распределении МСП по странам
и численности персонала представлены в табл. 1. Большая часть
участников относится к промышленному сектору (41%) и ИКТ
(38%), 14% осуществляет деятельность в сфере услуг (с. 334).
Наиболее часто упоминаемыми барьерами для участия в
национальных / региональных и международных программах ИР
стали административные и финансовые препятствия. В частности,
вопросы администрирования были отмечены 422 раза, т.е. более
чем половиной участников опроса. Сложность административных
процессов была отмечена 373 раза, а их длительность – 337 респондентами (с. 334–335).
В отношении внутренних и внешних барьеров представлены
следующие результаты. Наивысший рейтинг получил вариант «нерелевантность целей программ интересам МСП» – 265; ограниченные сетевые связи и взаимодействия с потенциальными партнерами
в качестве барьера отметили 219 раз. Наименьший рейтинг в ответах
респондентов в этой группе получил вариант «МСП не испытывают
потребности в участии в ИР-программах», что отметили 194 респондента. Среди внешних барьеров в порядке убывания представителями МСП воспринимаются: ограниченный маркетинг и информирование о программах (количество ответов – 290) и ограниченные
поддержка и руководство со стороны сотрудников, осуществляющих ИР-программы (247), тогда как наименее значимым барьером
стали неподходящие рыночные и технологические условия (с. 336).
Как показали результаты исследования, многие МСП считают,
что участие в программах ИР не соответствует их организацион-
2014.02.023
129
ным ресурсам и возможностям. Среди рекомендаций, разработанных по результатам исследования, авторы называют «содействие
развитию навыков и всех форм инноваций в МСП; стимулирование
инвестиций в исследования, которые проводят МСП, и их участие
в ИР-программах» (с. 336). Исследовательские проекты также подразумевают работу с большими компаниями и большими коллективами, что нередко вызывает у МСП затруднения, препятствующие
их эффективному участию. В целях стимулирования участия МСП
в ИР-проектах авторы рекомендуют сократить время, затрачиваемое на выплату средств МСП, получивших грант, а также перейти
от ресурсного подхода к подходу, ориентированному на результат,
когда выплата всего объема гранта зависит от степени решения исследовательских задач. Одна из рекомендаций заключается в том,
чтобы повысить степень гибкости рассматриваемых программ с
целью допущения МСП к участию в проектах на последних стадиях разработки. Сокращение временного лага между разработкой и
коммерциализацией позволит снизить финансовые ограничения, с
которыми сталкиваются МСП (с. 337).
Результаты исследования, проведенного авторами статьи,
свидетельствуют о необходимости совершенствования подходов к
реализации стратегии «Инновационный союз-2020» в части привлечения МСП к проведению ИР как на уровне ЕС, так и на национальном уровне.
М.Н. Лавров
2014.02.023. БРОДАГ К. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ
МЕСТ: КАКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ДЛЯ ЧЕГО ПОДГОТОВКА?
BRODHAG C. Research universities, technology transfer, and job creation: What infrastructure, for what training? // Studies in higher education. – 2013. – Vol. 38, N 3. – P. 388–404. – Mode of access:
http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2013.777149
Ключевые слова: исследовательские университеты; инновации; инновационные экосистемы; знание; дизайн институционального анализа; устойчивое развитие.
Автор из Франции описывает концепцию инновационного развития, уделяя особое внимание исследовательским университетам.
130
2014.02.023
Технология – это неотъемлемая часть развития общества.
Однако в настоящее время концепция технологического детерминизма, которая рассматривает технологические изменения в отрыве
от различных общественных факторов, не имеет достаточного
обоснования. В центре общественного обсуждения находятся вопросы коллективного контроля технологических рисков и возможностей. Исследовательские университеты, со своей стороны, не могут рассматриваться только как источник знаний и место их
производства, они являются одной из заинтересованных сторон в
широком процессе создания и использования знаний. Важным аспектом современного развития является трансфер технологий как в
контексте действия рыночных сил, так и с точки зрения его комплексной оценки и принятия обществом. В связи с этим, считает
автор, более подходящей является концепция инновационного развития, более совершенная в сравнении с концепцией технологического детерминизма.
Наиболее широко применяется подход к определению инноваций, разработанный Й.А. Шумпетером в 1934 г. Он разделил
процесс технологических изменений на три составляющие: 1) процесс изобретения, сопровождающийся созданием новых идей или
научного знания; 2) инновационный процесс, в рамках которого
новые идеи развиваются в новые рыночные продукты и процессы;
3) стадия распространения, когда новые процессы и продукты поступают на рынок. Концепция инновационного развития получила
широкое распространение и используется в экономике, менеджменте, социологии, прикладных науках и др. Вместе с тем современные подходы, которые применяют ОЭСР и Евростат, соответствуют идеям Й. Шумпетера, который выделил пять типов
инноваций: 1) внедрение нового продукта; 2) внедрение новых методов производства; 3) открытие новых рынков; 4) развитие новых
ресурсов или нового сырья; 5) создание новых рыночных структур
в промышленности (с. 389).
В настоящее время также выделяют разные степени новизны
инноваций: являются ли они новыми для фирмы, данного рынка
либо для мира в целом. Широкое распространение в литературе
получили такие термины, как «радикальные», или «прорывные»,
инновации, подчеркивающие степень их новизны в целом.
2014.02.023
131
Классифицируя движущие силы, направляющие инновационные и технологические изменения, автор выделяет две их основные группы. С одной стороны, инновационные процессы определяются развитием науки и технологий, которые «толкают»
инновации вперед. С другой стороны, их «тянет» за собой рынок,
предъявляя спрос на новые решения.
Первый подход тесно связан с моделью распространения инноваций. Е. Роджерс предлагал классифицировать участников,
адаптирующих инновации в своей деятельности, по пяти категориям: «инноваторы», «ранние последователи», «раннее большинство», «позднее большинство» и «отстающие». Им же разработан
перечень характеристик, влияющих на процесс адаптации инноваций: относительное преимущество в сравнении с решениями
предыдущего поколения; уровень совместимости с образом жизни
индивида; восприятие сложности / простоты применения; возможность протестировать инновации; наблюдаемость остальных участников в личных сетевых связях (с. 390). Основной проблемой в модели распространения инноваций является определение качеств
инновационных решений и характеристик пользователей, которые
будут их применять. Однако подобный анализ статичен и не учитывает общественные связи.
Анализ инноваций в современных условиях также не включает такие аспекты, как социальная ответственность бизнеса, разделение ценностей и совместный характер многих инноваций. Общество определяет «запрос на инновации», учитывая последствия
их применения, в том числе экологические, соответствие общественным целям, возможность применения инноваций как элемента
устойчивого развития.
Понимание инновационного процесса как процесса взаимодействия множества различных участников, необходимость учета
особенностей их взаимосвязей привели к формированию в конце
1980-х годов концепции инновационных систем, которая позволяет
анализировать подобные системы на различных уровнях и с различных позиций (рис. 1).
2014.02.023
132
Макро
Мезо
Микро
Макроэкономические
условия,
Институциональные
корпоративное
и регулятивные рамки,
управление, деловой
влияющие
климат, иные аспекты
на сотрудничество
регулирования
Взаимосвязи,
основанные
на действии рыночных
сил (в том числе
потоки затрат на ИР)
Инновационная
система
Промышленные
кластеры
Конкуренция
Межфирменное
взаимодействие
Расширенные
государственночастные сети
Рынок
Сети
Система
Рис. 1.
Взаимодействия в инновационных системах (с. 393)
Наличие взаимосвязей между ИР и инновациями привели к
формированию государственной политики, которая влияет на институциональные условия и параметры инновационной системы, в
том числе на: образовательную систему, устанавливая минимальные образовательные стандарты; университетскую систему; систему повышения квалификации; научную и исследовательскую основу; инновационную политику; правовые и макроэкономические
условия (патентное законодательство, налогообложение, тарифы,
конкуренция и пр.); коммуникационную инфраструктуру, в том
числе телекоммуникационные сети. Кроме того, существует ряд
параметров, на которые общество оказывает не такое сильное влияние: общие фонды кодифицированного знания (публикации, технические, управленческие и экологические стандарты); финансовые институты, определяющие, к примеру, доступ к венчурному
капиталу; достижимость рынков, в том числе установление тесных
связей с потребителями; структура промышленности и конкурентное окружение (с. 394). Все это формирует инновационную экоси-
2014.02.023
133
стему, ключевыми элементами которой являются знания и правила,
транслируемые участниками.
Инновационная система может быть также рассмотрена с
точки зрения «бизнес-экосистемы» (рис. 2).
Инфраструктура и институциональная структура
Фирма
Продуктовые
инновации
Рыночные
инновации
Иные фирмы
Инновации
в процессах
Организационные
процессы
Образовательная
и ИР-системы
Инновационная
политика
Спрос
Рис. 2.
Концепция измерения инноваций (с. 395)
«Бизнес-экосистема» находится в центре инновационной системы, определяя ключевых игроков, которые задают либо управляют стандартами и создают ценности, воспринимаемые их партнерами посредством сотрудничества либо конкуренции.
Инновации могут быть рассмотрены как процесс изменения
«правил игры». С этой точки зрения автор выделяет шесть типов
власти, обеспечивающих различные механизмы легитимации правил и знания: 1) традиции, воплощенные в обществе в культурных
практиках и традиционном знании и управляемые традиционными
авторитетами и религиозными / культурными институтами; 2) политика как коллективный процесс и поведение, где харизма руководства играет роль в управлении коллективным выбором; 3) системные
институты, поддерживающие политические, демократические механизмы делегирования власти и обеспечивающие оценку политики; 4) формализованная стандартизация в рамках ИСО или иных
134
2014.02.023
профессиональных организаций; 5) научное сообщество и университетский мир; 6) средства массовой информации (с. 396–397).
Каждый из данных типов власти конкурирует с другим и определяет различные системы легитимации правил и знания, что может
приводить к внутренним противоречиям.
Исследовательские университеты могут быть вовлечены в
инновационную экосистему на трех уровнях: 1) «арена действий»,
где инновационная экосистема обеспечивает трансфер технологий
и происходит трансформация явного и неявного знания; 2) процесс
разработки и внедрения правил и знания в рамках действующих
институтов, а также их оценка; 3) отражение собственной деятельности и практики как с этической, так и с эпистемологической точек зрения (с. 398).
Перед развивающимися странами часто стоит проблема формирования системы «интегрированного полюса качества» (с. 398),
в задачи которой входит создание и распространение знания на
проектной основе. Основываясь на опыте реализации подобного
проекта в области энергетики в странах Западной Африки, автор
выделяет десять видов деятельности, призванных упростить формирование региональной инновационной экосистемы и стимулировать деятельность всех ее участников:
– исследования и разработки: для производства кодифицированного знания, контекстуализированного в рамках выполняемых
проектов;
– членство и руководство в научных сетях: интеграция в сети, где знание носит неявный характер;
– профессиональное обучение и повышение квалификации:
трансляция кодифицированного знания на аудиторию, не имеющую соответствующего опыта, с низким уровнем неявного знания,
в том числе методом погружения;
– повышение квалификации без отрыва от производства:
трансляция знания на аудиторию, обладающую опытом;
– участие в проектах: аккумулирование практического и неявного знания и генерация кодифицированного знания на базисном
уровне;
– наблюдение и оценку результатов проектов: генерирование
явного знания для руководящих органов, разрабатывающих формальные правила в целях их адаптации и изменения;
2014.02.023
135
– сбор информации о слабых сигналах в системе в целях поиска элементов неявного знания;
– распространение знания;
– создание и поддержку профессиональных сетей, позволяющих осуществлять распространение неявного знания на базисном
уровне;
– экспертизу и разработку рекомендаций для органов и лиц,
принимающих решения: формализация кодифицированного знания
для руководящих служб (с. 399).
Исследовательские университеты осуществляют две основные функции в инновационной системе: проведение ИР и распространение знаний; подготовка студентов.
По мнению автора, в рамках разработанной модели исследовательская составляющая деятельности университетов должна
включать в себя:
– производство нового знания и правил функционирования
инновационной экосистемы в рамках логики «технологического
толчка»;
– идентификацию применяемых правил и знаний, используемых участниками инновационных процессов на текущем этапе;
– участие в трансляции опыта и неявного знания широкого
круга участников инновационной экосистемы в формат явного знания, которое может быть передано на уровень лиц и органов, принимающих решения;
– трансфер знания в формате, адаптированном для власти, в
том числе экспертизу и разработку рекомендаций, программу взаимодействия со СМИ, участие в деятельности по стандартизации,
взаимодействие с обладателями традиционного знания;
– исследование вопросов взаимодействия между органами
власти, трансляционных механизмов;
– изучение глобальных процессов, определение моделей поведения участников, переосмысление роли ИР с учетом общественных ожиданий и этических проблем (с. 400).
Исследовательские университеты выполняют не только подготовку студентов, но и такую важную функцию, как дальнейшее
трудоустройство, так как в настоящее время все большее количество вновь создаваемых рабочих мест концентрируется в инновационных сегментах экономики. Это предъявляет новые требования
136
2014.02.024
к подготовке учащихся в университете: помимо обладания кодифицированным знанием они должны обладать компетенциями в
области трансляции неявного знания, адаптации правил и знаний к
практическим условиям деятельности, умением взаимодействовать
с разнообразными участниками инновационной экосистемы.
Исследовательские университеты наряду с остальными элементами инновационной системы призваны участвовать в обеспечении устойчивого развития. В качестве примера основных аспектов подобного участия автор приводит Национальную стратегию
устойчивого развития Франции, концентрирующуюся на пяти основных элементах: стратегии и управлении, образовании и обучении, исследовательской деятельности, управлении процессами,
связанными с окружающей средой, социальной политике и вовлечении общества (с. 402).
М.Н. Лавров
2014.02.024. СОКОЛ М. СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА В ВОСТОЧНОЙ СЛОВАКИИ? НЕОЛИБЕРАЛИЗМ, ПОСТСОЦИАЛИЗМ И
ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ.
SOKOL M. Silicon Valley in Eastern Slovakia? Neoliberalism, postsocialism and the knowledge economy // Europe-Asia studies. – 2013. –
Vol. 65, N 7. – P. 1324–1343. – DOI:10.1080/09668136.2013.822714.
Ключевые слова: экономика знаний; региональная экономическая система.
Автор, сотрудник Тринити-колледжа (Дублин, Ирландия),
размышляет о перспективах использования опыта Силиконовой
долины в сфере регионального развития в условиях постсоциалистической Восточной и Центральной Европы.
Силиконовая долина в течение долгого времени является
«иконой успеха» – символом технологического превосходства
США. Одновременно это пример наиболее высокоразвитой, постиндустриальной, региональной экономической системы, базирующейся на «экономике знаний». Множество регионов по всему миру
стремятся повторить успех Силиконовой долины. Возможно ли
репродуцировать этот опыт в условиях постсоциалистической Центральной и Восточной Европы?
2014.02.024
137
Успешный опыт Силиконовой долины обычно рассматривается с трех различных точек зрения. Согласно первой, традиционной, точке зрения, Силиконовая долина – это прежде всего результат
героических усилий отдельных предпринимателей, достигнутый в
ходе жесткой конкуренции с другими фирмами, что, собственно, и
придало необходимый динамизм развитию инноваций. Такой
взгляд полностью соответствует неолиберальной логике. Вторая
точка зрения акцентирует внимание на развитии кооперативных
сетей, коллективных действиях и местном институциональном
окружении, которые стимулировали процесс инноваций1. Такой
подход существенно отличается от чисто рыночного подхода к
анализу процесса инновационного развития и с трудом согласуется
с логикой неолиберализма. Еще более удаляется от этой логики
третья точка зрения, которая сосредоточивает внимание на роли
государственных структур в создании и развитии Силиконовой долины. С этой точки зрения решающая роль принадлежит многомиллиардным вложениям, осуществленным федеральным правительством США в оборонные проекты и в проекты освоения
космоса, которые были обусловлены потребностями военнотехнического противостояния с СССР в ходе холодной войны. Таким образом, США, пропагандируя идеи неолиберализма по всему
миру, на своей собственной территории реализовывают политику
«милитаризированного кейнсианства», что стимулирует инновационные процессы в их собственной национальной экономике2.
В Восточной Словакии попытка формирования аналога Силиконовой долины связана прежде всего с тем опустошительным
эффектом, который имела здесь рыночная трансформация, проводившаяся на основе неолиберальных принципов. Регион Кошице,
где был запущен этот процесс в ходе начавшейся в 1989 г. экономической трансформации, демонстрировал самые худшие экономические показатели среди всех словацких регионов. Главным мотивом создания «Кошицкой ИТ-долины» стало стремление снизить
конкурентное давление на экономику региона путем формирования
1
Saxenian A. Regional advantage: Culture and competition in Silicon Valley
and Route 128. – Cambridge, MA: Harvard univ. press, 1996.
2
Sandler T., Hartley K. The economics of defence. – Cambridge: Cambridge
univ. press, 1995; Innovation policy in a global economy / Archibugi D., Howells J.,
Michie J. (eds). – Cambridge: Cambridge univ. press, 1999.
138
2014.02.024
кооперативной сети, которая позволила бы создать новые конкурентные преимущества. Вторым важным фактором было то, что
Кошице был «университетским городом» и обладал кадровым потенциалом, способным стать основой для развития информационных технологий. Местный университет, выпускавший не более
200 специалистов в сфере ИТ в год, смог в кратчайшие сроки увеличить их выпуск до 600, и за последние пять лет выпустил их более 3 тыс. Это способствовало бурному росту числа фирм и количества специалистов в ИТ-секторе региональной экономики.
Накануне мирового кризиса 2008 г. в этой сфере было занято около
2500 специалистов (с. 1334).
Однако создатели «Кошицкой ИТ-долины» столкнулись с
определенными трудностями. Образованная молодежь, на которую
была сделана главная ставка, стремилась покинуть депрессивный
регион, не видя здесь благоприятных возможностей для приложения своих способностей. Несмотря на все изменения в образовательном секторе региона, направленные на увеличение численности и повышение качества подготовки специалистов в области ИТ,
невозможно было переломить эту тенденцию, поскольку молодые
специалисты, обладая более качественным образованием, получают тем самым более широкие возможности для трудоустройства в
тех странах Евросоюза, которые отличаются более высоким уровнем жизни. В условиях неолиберального экономического порядка,
обеспечивающего широчайшие возможности территориальной мобильности, такое развитие событий является если не неизбежным,
то, во всяком случае, наиболее вероятным. Решение этой проблемы
путем установления относительно более высокого уровня заработной платы требует либо достижения относительно более высокого
уровня эффективности, либо широкомасштабной государственной
поддержки.
Достижение высокого уровня эффективности не в последнюю очередь связано с так называемым «положительным эффектом масштаба», который обеспечивает снижение себестоимости
производимых товаров и услуг по мере роста объемов производства. При таком варианте развития эффективное производство возникает по достижении определенной «критической массы», которая для «Кошицкой ИТ-долины» оценивается примерно в 7 тыс.
занятых, что выведет ее на необходимые объемы производства,
2014.02.024
139
обеспечивающие конкурентоспособный уровень себестоимости
ИТ-услуг. Это расширение должно сопровождаться диверсификацией активности в ИТ-секторе и созданием спин-офф компаний,
которые существенно повысят интенсивность исследований и стоимость создаваемого продукта.
Еще одной проблемой, осложняющей развитие «Кошицкой
ИТ-долины», является недостаточное развитие взаимосвязей между
академическим и бизнес-сообществами Кошицкого региона. Только интенсивное сотрудничество между этими сообществами способно стимулировать быстрое внедрение результатов ИР и продвижение инноваций. Однако отсутствие развитых горизонтальных
связей и сложности коммуникации между представителями академического мира и бизнес-сообщества существенно осложняет этот
процесс. Эта проблема не является специфичной для данного региона. Она универсальна. Однако для новых развивающихся структур
«экономики знаний» она приобретает особую остроту из-за отсутствия значительных конкурентных преимуществ.
Все это приводит автора к более общему выводу о том, что
развитие региональных очагов «экономики знаний» в условиях переходной экономики невозможно только за счет одних рыночных
сил. Рыночные силы, наоборот, оказывают скорее отрицательное
воздействие, лишая регион собственных средств и возможностей
справиться с ситуацией в отсутствие сильной национальной и региональной политики. Однако региональные власти также поставлены в узкие финансовые и институциональные рамки, созданные
неолиберальной постсоциалистической системой. Правительство
самоуправляемого Кощицкого региона имеет большую сферу ответственности, которая включает в себя образование, здравоохранение, социальное обеспечение и региональное развитие, в то время
как финансовые возможности для выполнения этих обязательств
крайне ограничены. Самоуправляемый регион существенно зависит от трансфертов из бюджета центрального правительства.
Большая часть этих ресурсов расходуется на поддержание социальной инфраструктуры региона, и лишь очень малая часть может
выделяться на другие проекты, что создает существенный дисбаланс между наличными ресурсами и потребностями технологического развития региона. Существенный недостаток финансовых
ресурсов, с которым сталкивается «Кошицкая ИТ-долина», состав-
140
2014.02.024
ляет резкий контраст с теми многими миллиардами долларов, которые были вложены в Силиконовую долину федеральным правительством США в послевоенный период. Поэтому, несмотря на то
что «Кошицкая ИТ-долина» является ярким примером инновационного развития в современной Восточной Европе, возможности
достижения амбициозных целей, поставленных в рамках данного
проекта, вызывают большие сомнения вследствие крайней ограниченности финансовых возможностей.
Анализ ситуации, сложившейся вокруг «Кошицкой ИТ-долины», приводит автора к более общим выводам относительно перспектив развития высоких технологий в условиях постсоциалистической неолиберальной системы. Поскольку Силиконовая долина,
ставшая прообразом «Кошицкой ИТ-долины», не может рассматриваться как результат неолиберальной рыночной модели развития, нет оснований утверждать, что неолиберальная модель вообще
может служить основой быстрого инновационного развития. Распространение неолиберальной модели, которое осуществляют
США и другие развитые страны по всему миру, не может гарантировать достижение целей инновационного развития, которые ставят перед собой многие постсоциалистические страны. Напротив,
связанное с этим процессом расширение мобильности экономических ресурсов создает существенные препятствия для развития локальных центров инновационной активности в этих странах, отодвигает их на обочину технологического и экономического
развития. Это доказывает пример «Кошицкой ИТ-долины», которая
возникла как своеобразный вариант «стратегии выживания» в
условиях трансформационного кризиса, вызванного неолиберальной трансформацией, и в ходе своего развития столкнулась со всеми экономическими и институциональными ограничениями данной
модели. При этом, взяв за основу Силиконовую долину, создатели
«Кошицкой ИТ-долины» неизбежно должны были импортировать
нелиберальные элементы этой модели, такие как широкая кооперация фирм и государственная поддержка. Однако в рамках общей
неолиберальной модели и при недостатке экономических ресурсов
их возможности сопротивления доминирующим тенденциям экономического развития оказались крайне ограничены. Очевидно,
что позиция отдельных постсоциалистических стран в сфере технологического развития определяется не столько их собственными
усилиями, сколько их исходной позицией в структуре распределе-
2014.02.025
141
ния мировых экономических ресурсов, и это положение вряд ли
может быть изменено без трансформации общей господствующей в
мире политэкономической модели.
М.О. Лихачев
2014.02.025. ШЁН А., БЮНСТОРФ Г. КОГДА УНИВЕРСИТЕТЫ
БУДУТ ИМЕТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПАТЕНТЫ? ОБЗОР ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ В
ГЕРМАНИИ.
SCHOEN A., BUENSTORF G. When do universities own their patents?
An explorative study of patent characteristics and organizational determinants in Germany // Industry and innovation. – 2013. – Vol. 20, N 5. –
P. 422–437. – DOI:10.1080/13662716.2013.824196. – Mode of access:
http://dx.doi.org/10.1080/13662716.2013.824196
Ключевые слова: академические патенты; патентная собственность; исследовательские институты высшего образования;
технические университеты.
Авторы, сотрудники Технического университета Мюнхена и
Экономического института при Университете Касселя (Германия),
рассматривают проблему оформления прав интеллектуальной собственности университетов на собственные научные разработки в
рамках патентной системы, существующей в современной Германии.
В настоящее время «трансфер технологий» рассматривается
как «третья миссия» университетов, а защита прав интеллектуальной
собственности – как один из основных инструментов стимулирования активности университетов в этом направлении. Университетские патенты – это ключевой индикатор эффективности трансфера
технологий. Однако многочисленные исследования показывают, что
владельцами значительной доли университетских патентов являются
не университеты1. Причину этого одни авторы видят в несовершен1
Saragossi S., van Pottelsberghe de la Potterie B. What patent data reveal about
universities: The case of Belgium // Journal of technology transfer. – 2003. – Vol. 28,
N 1. – P. 47–51; Academic patenting and the professor’s privilege: Evidence on Denmark from the KEINS database / Lissoni F., Lotz P., Schovsbo J., Treccani A. // Science
and public policy. – 2009. – Vol. 36, N 8. – P. 595–607; Sterzi V. Patent quality and
ownership: An analysis of UK faculty patenting // Research policy. – 2013. – Vol. 42,
N 2. – P. 564–576.
142
2014.02.025
стве патентного законодательства и полагают, что после его реформирования доля патентов, реально принадлежащих университетам, должна увеличиться1. Другие же склонны уделять внимание
специфическим характеристикам патентной политики различных
университетов и предполагают, что именно они определяют степень результативности патентной политики2.
Исследование этой проблемы в Германии затрудняется из-за
сложной институциональной структуры высшего образования в
этой стране. Германские университеты дифференцированы на
группы в зависимости от приоритетов своей деятельности. Одни
пытаются сочетать обучение и научные исследования, другие, специализирующиеся в основном в сфере прикладных и технических
дисциплин, концентрируют свои усилия исключительно на процессе обучения. С точки зрения анализа патентной деятельности
наибольший интерес представляют, естественно, исследовательские университеты. Однако их также можно подразделить на две
группы: исследовательские университеты широкого профиля (general research universities – GU) и технические исследовательские
университеты (technical universities – TU). GU включают в себя как
традиционные университеты, подобные Гейдельбергскому (основан в 1386 г.), так и новые университеты, которые возникли в 70-х
годах прошлого века, но в равной мере придерживающиеся в своей
научной и образовательной деятельности идеала бескорыстного
стремления к знанию. Эти университеты в основном сосредоточены на исследованиях в сфере гуманитарных и социальных наук, а
также некоторые из них специализируются на естественных и медицинских науках. TU, напротив, специализируются в области инженерных и прикладных исследований, в процессе которых они
часто устанавливают партнерские отношения со структурами частного сектора экономики и, следовательно, в большей степени нуждаются в патентной защите своих прав на интеллектуальную собственность. Это различие, по мнению авторов, необходимо
учитывать при рассмотрении проблемы защиты патентных прав
германских университетов.
1
Della Malva A., Lissoni F., Llerena P. Institutional change and academic patenting: French universities and the Innovation Act of the 1999 // Journal of evolutionary
economics. – 2013. – Vol. 23, N 1. – P. 211–239.
2
Thursby J., Fuller A.W., Thursby M. US faculty patenting: Inside and outside
the university // Research policy. – 2009. – Vol. 38, N 1. – P. 14–25.
2014.02.025
143
Практически все германские университеты являются государственными структурами. Примерно с середины 1970-х годов
они испытывали сильное давление правительства, требующего от
них подтверждения их общественной эффективности. Трансфер
технологий рассматривается как ключевой показатель в этом отношении. Такая политика привела к изменению правовых рамок
деятельности и, в частности, к ликвидации привилегированного
права интеллектуальной собственности непосредственных разработчиков научного продукта, которое рассматривалось как главное
препятствие для развития эффективного трансфера технологий.
Отныне права интеллектуальной собственности на изобретения,
сделанные сотрудниками университета в рамках их работы в университете, принадлежали не им самим, а университету. Однако сотрудники университетов сохраняли за собой собственность на результаты научной деятельности, осуществляемой за пределами
университетов, а в случае если создание научного продукта осуществлялось при финансовом или ином участии «сторонних организаций», университет должен был урегулировать вопрос относительно интеллектуальной собственности на создаваемый продукт с
этими организациями. В целом возникшая в результате система
распределения прав интеллектуальной собственности приобрела
«гибридную форму»1.
Для исследования проблемы патентного закрепления прав
интеллектуальной собственности за германскими университетами
авторы использовали базу данных Европейского патентного бюро
(EPO) по состоянию на апрель 2010 г. На этой основе они составили список из 665 профессоров германских университетов, получивших патенты в 2006–2007 гг. Из их числа 60,8% получили по
одному патенту, 20 – по два патента, 9,3 – по три и 10,1% – по четыре и более. По областям исследований получатели патентов распределились следующим образом: 29,9% составили представители
технических наук; 26,3 – медицинских наук; 11,1 – представители
биохимии; 12,5 – химии; 9,9 – физики; 5,1 – физической и технической химии; 3,9% – фармацевтики. Всего было получено 1167 патентов, из которых 691 (59,2%) принадлежит университетам и 476
1
Geuna A., Rossi F. Changes to university IPR regulations in Europe and the
impact on academic patenting // Research policy. – 2011. – Vol. 40, N 8. – P. 1068–
1076.
144
2014.02.025
(40,8%) созданы при участии университетов, но университетам не
принадлежат (с. 427)
На этой основе авторы строят модель, в которой в качестве
зависимой переменной используется фиктивная переменная равная
«1» в том случае, если соответствующий патент полностью или
частично принадлежит университету, и «0», если не принадлежит.
Независимые переменные подразделяются на несколько
групп. Первая группа представляет собственные характеристики
патентов и их авторов. К их числу относятся: область исследований, область применения, число заимствований данной технологии
до выдачи патента, число заимствований в течение трех лет (2007–
2010) после выдачи патента, число ссылок на данный патент в непатентной литературе (т.е. в академических изданиях), численность
команды разработчиков.
Вторая группа представляет характеристики университетов,
на базе которых были осуществлены соответствующие научные
разработки. К числу этих характеристик относятся: «патентный
опыт», измеряемый количеством областей применения, в которых
университет получил какие-либо патенты в предшествующий период; «возраст патентной службы» – показатель, отражающий, в
течение какого времени в университете существует собственная
структура, отвечающая за проведение патентной политики (последние пять лет, пять–десять лет или более); связи с индустриальным сектором, измеренные как доля финансирования, полученного
от промышленных предприятий в общей доле финансирования
научных исследований в университете.
Третья группа переменных характеризует чувствительность
патентной активности университетов к стимулам, создаваемым
государственной политикой. К их числу относятся места университета в правительственном рейтинге, на основе которого осуществляется распределение государственного финансирования (DFG
funds), в рейтинге качества научных исследований (Exzellenzinitiative), в рейтинге публикационной активности (Publication ranking) и
в рейтинге по уровню предпринимательской ориентации (Entrepreneurial orientation).
Для эмпирического тестирования разработанной модели авторы использовали метод пробит-регрессии, позволяющий определить влияние всех независимых факторов на вероятность закрепления за университетом патентных прав на изобретения. Проведенная
2014.02.025
145
оценка параметров пробит-регрессии позволила сделать следующие выводы.
Во-первых, значимость влияния патентных характеристик
наиболее высока для таких факторов, как количество последующих
заимствований и количество ссылок в академической литературе,
причем влияние первого фактора является отрицательным, а второго – положительным. Это свидетельствует о том, что для университетов более вероятно закрепить за собой патенты, имеющие большее
фундаментальное и меньшее прикладное значение и, следовательно,
менее значимые с точки зрения перспектив их коммерциализации.
Во-вторых, усиление связей между университетом и промышленными предприятиями, выражающееся в росте доли финансирования научных исследований, полученных из внешних источников,
также существенно снижает вероятность закрепления патентных
прав на создаваемый научный продукт за университетом.
В-третьих, сильное положительное влияние на вероятность
сохранения патентных прав за университетом оказывает его положение в рейтинге качества научных исследований, и одновременно
сильное отрицательное влияние оказывает положение в рейтинге
публикационной активности. Это лишний раз свидетельствует о
том, что открытая публикация результатов научных исследований,
которая является традиционной нормой поведения научного сообщества, во многих случаях противоречит интересам коммерциализации созданного научного продукта.
В-четвертых, существует значительное различие между различными типами университетов, в частности GU имеют более низкую вероятность закрепления за ними патентных прав, чем TU.
В целом результаты проведенного исследования свидетельствуют в пользу точки зрения, согласно которой способность университетов закреплять за собой патентные права на ИР в значительной мере зависит от характеристик самих университетов и,
следовательно, не может быть существенно повышена только за
счет одного изменения патентного законодательства. Эта проблема
требует комплексного решения, затрагивающего не только правовые рамки, но и организационную структуру и систему стимулов,
которые будут способствовать более активной патентной политике
университетов.
М.О. Лихачев
146
2014.02.026
2014.02.026. БЕВЕРЮНГЕН А., БЁМ С., ЛАНД С. НИЩЕТА
ЖУРНАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ.
BEVERUNGEN A., BÖHM S., LAND C. The poverty of journal publishing // Organization. – 2012. – Vol. 19, N 6. – P. 929–938. – DOI:10.
1177/1350508412448858.
Ключевые слова: академические публикации; ассигнования;
культурная индустрия; эксплуатация; свободный труд; журналы;
политическая экономия; исследования; университеты.
Авторы, сотрудники Университета Лёйфана в Люнебурге
(Германия) и Университета Эссекса (Великобритания), проводят
критический анализ доминирующей бизнес-модели в сфере академических публикаций, утверждая, что сверхвысокие прибыли
крупных публикаторов определяются тем, что они одновременно
эксплуатируют труд представителей академического сообщества и
финансовые ресурсы университетов.
Современная академическая деятельность в значительной
мере заключается в подготовке и публикации результатов научных
исследований. Несмотря на то что сотрудники университетов и
других академических учреждений значительную часть своего рабочего времени посвящают преподаванию, а также выполнению
административных и организационных функций, научные публикации являются непременным условием участия в академической
жизни. Публикация статей в высокорейтинговых научных журналах может существенно продвинуть или, наоборот, затруднить развитие академической карьеры.
Помимо чисто академического аспекта, связанного с трудностями оценки эффективности научной деятельности и конкуренцией в академической среде, эта проблема имеет мощный политэкономический аспект. Бизнес-модель современных академических
публикаций основывается на двойном, а иногда и тройном присвоении общественных ресурсов, поскольку университеты платят за
исследования, написание и публикацию статей и затем оплачивают
приобретение научных журналов для собственных библиотек. С
начала 1970-х годов стоимость подписки на научные журналы возросла почти в 30 раз, а среднегодовой темп прироста ее стоимости
составил 13%. В результате лишь библиотеки очень богатых университетов могут теперь позволить себе иметь доступ ко всем
2014.02.026
147
научным журналам, что существенно ограничивает возможности
для научной работы преподавательского состава и студентов. Для
издателей это обернулось существенным снижением числа подписчиков и падением тиражей научных журналов. Рост цен снизил
масштабы распространения журналов, что в результате привело к
расширению предложения. Это, в частности, выразилось в увеличении числа научных журналов с 200–300 до почти 16 тыс., которые в настоящее время входят в список «Thomson Reuter», служащего основой для определения индекса научного цитирования.
В действительности число активных академических журналов значительно превышает эту цифру. Однако крупные издатели, предоставляя льготный доступ в целях расширения подписки, сумели
укрепить свои монопольные позиции и ослабить конкуренцию со
стороны независимых журналов. В результате сложилась ситуация,
когда значительная часть научных журналов почти не имеет читателей из-за ограниченного доступа к ним.
Журнальные публикации превратились в большой бизнес,
сформировавший собственный глобальный профессиональный рынок. Только в сфере социальных и гуманитарных наук общая стоимость публикаций составила около 10 млрд долл. Причем на этом
рынке господствуют несколько крупных издателей: «Reed
Elsevier», «John Wiley & Sons» (включая «Blackwell»), «Springer
Science + Business Media», «Wolters Kluwer», «Holtzbrinck and
Informa» (включая «Routledge and Taylor & Francis»), которые занимают на нем суммарную долю 36%. При этом норма прибыли,
получаемой крупнейшими коммерческими издателями, достигает
30–40% – уровня, практически недосягаемого для других сфер экономической деятельности. Источником таких сверхвысоких прибылей является то, что крупные издатели научной периодики никогда не оплачивают полных издержек производства этой продукции.
Издательские издержки, связанные с оформлением, печатанием,
маркетингом и распространением, в значительной степени снижаются за счет использования дешевых ресурсов стран «третьего мира» – Индии, Малайзии и т.д. Работа же авторов, рецензентов, редакторов и корректоров, создающих интеллектуальный продукт, на
который издатели получают авторские права, осуществляется
представителями академического сообщества и оплачивается за
счет государственного финансирования высшего образования и
148
2014.02.026
других доходов самих исследователей. Для издателей выполнение
этих работ является практически бесплатным, поскольку выполняется представителями академического сообщества, занятыми преподавательской деятельностью в университетах. Несмотря на то
что эта деятельность не является частью контрактных обязательств
университетских преподавателей, публикация научных результатов
в высокорейтинговых научных журналах является для них важнейшим средством продвижения своей карьеры и увеличения своих
доходов. Поэтому они, как правило, не стремятся к получению
прямого вознаграждения. Единственным видом деятельности, которая непосредственно вознаграждается издателем, является рецензирование, все остальное выполняется практически бесплатно для
издателей, которые затем превращают результаты этой работы в
товар и предоставляют университетам привилегированный доступ
к тому, что они сами создали. При этом в проигрыше остаются
налогоплательщики, правительство, академическое сообщество,
студенты, словом, все гражданское общество в целом.
Академическое сообщество, библиотеки, университеты и
государственные институты все чаще приходят к пониманию того,
что научная продукция может рассматриваться как общественное
благо, которое будет приносить максимальную пользу в условиях
открытого доступа. Это, в частности, проявляется в том, что многие мировые университеты поддерживают идею создания международных открытых электронных архивов научной информации.
Естественные науки в этом отношении опережают социальные: они
имеют открытую электронную базу arXiv.org, содержащую научные материалы за предшествующие 20 лет. Подобные архивы
обеспечивают свободное распространение результатов научных
исследований в той степени, в какой индивидуальным исследователям доступны компьютеры и Интернет. Причем число подобных
архивов неуклонно возрастает.
Коммерческие издатели также готовы пойти навстречу пожеланиям широкой академической общественности и создать систему
с открытым доступом, но так, чтобы при этом не упустить своей
прибыли. В этом случае бремя оплаты издержек переносится с читателей на авторов, желающих увидеть свои публикации в открытом доступе. Если эта тенденция получит широкое распространение, доходы издателей могут стать выше, чем они есть сегодня, и
2014.02.026
149
сложившаяся бизнес-модель академических публикаций сохранится почти в первозданном виде. В этом случае оплата публикационных издержек и издательских прибылей целиком ляжет на университетское сообщество и общественные фонды.
Единственный возможный ответ на эксплуатацию общественных ресурсов, осуществляемую издателями, это требование оплаты
той работы, которую в настоящее время академическое сообщество
осуществляет на бесплатной основе. Издатели должны выплачивать
университетам суммы, эквивалентные стоимости работ, выполненных их сотрудниками. Определенная часть этих отчислений должна направляться в специальный фонд, который осуществлял бы
поддержку системы публикаций с открытым доступом. В конечном
итоге эта модель приведет к созданию некоего подобия «рыночной
торговли» в сфере академических публикаций, когда издатели
научных журналов будут вынуждены устанавливать умеренные
цены за право доступа к ним и одновременно платить справедливую цену ученым за предоставляемые материалы.
Еще одна альтернатива, занимающая промежуточное положение между системой публикаций с открытым доступом и коммерческой системой научных публикаций, это развитие собственных университетских печатных изданий. К сожалению, за
исключением издательств Оксфорда и Кембриджа в современной
Великобритании (да и во всей Европе) в целом трудно найти достаточно крупные университетские издательства. В США подобных
издательств значительно больше, но и они вынуждены вести борьбу за свою финансовую состоятельность. Возрождение университетской прессы целиком зависит от возможностей расширения потоков финансирования. Без этого невозможно что-либо сделать для
расширения свободной циркуляции научного знания.
Более радикальное и простое решение заключается в развитии полностью открытых и самоорганизующихся публикационных
систем. Однако финансовая устойчивость подобных систем также
вызывает сомнения. В открытой некоммерческой системе доходы,
необходимые для оплаты публикационных издержек, могут быть
получены только за счет авторских взносов, которые не всегда достаточны. Кроме того, далеко не все представители академического
сообщества и академические организации могут позволить себе
регулярно осуществлять такого рода взносы.
150
2014.02.026
Главная проблема, возникающая перед некоммерческими
публикационными системами с открытым доступом, заключается в
том, как без платного рецензирования обеспечить достаточный
уровень качества публикуемых научных материалов и не затеряться в море современных псевдонаучных интернет-публикаций. Возникают вопросы: не является ли в таком случае существование
коммерческих журналов с платным доступом своеобразной платой
за поддержание стандартов качества академических публикаций;
не является ли свободная доступность научных материалов показателем отсутствия у них научной ценности?
Однако правомерными являются и другие вопросы. Так,
например, если бы содержание современных научных журналов,
издаваемых на коммерческой основе и использующих систему
оплачиваемого рецензирования, было передано в открытый доступ,
то разве это не позволило бы более свободно ознакомиться с ним
тем же самым людям, которые и сегодня делают это, приобретая
пароли для доступа или дорогостоящую подписку?
Развитие системы электронных публикаций не означает, что
университеты и другие общественные институты меньше подвергаются эксплуатации со стороны коммерческих издателей. Передача системы научных публикаций под контроль академической общественности, несомненно, изменит условия научной деятельности
к лучшему.
М.О. Лихачев
2014.02.027
151
НАУЧНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ.
ПРОБЛЕМЫ ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВА
2014.02.027. ДРУЖИЛОВ С.А. РЕФОРМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЕКТОР // Человек. –
2013. – № 5.– С. 50–56.
Ключевые слова: высшее образование; реформа; содержание
образования; уровень подготовки; комплектование вузов.
Статья ведущего научного сотрудника Сибирского отделения
РАМН посвящена анализу текущих процессов реформирования
высшего профессионального образования (ВПО) в России с точки
зрения социальной экологии. Статья состоит из ряда аргументов
«за» образовательную реформу последнего десятилетия и авторского обширного комментария «против» с опорой на статистику и
компаративистику.
Первый аргумент связан с распространенным мнением о
преизбыточном количестве специалистов – выпускников вузов.
По данным Минобрнауки, в 2011 г. было трудоустроено лишь 40%
выпускников вузов, остальные оказались невостребованными.
«Наличие в стране неэффективно используемых лиц с высшим образованием – это индикатор, с одной стороны, слабой подготовки в
вузе, а с другой – сбоев в планировании и управлении» (с. 51). Это
в свою очередь привело к дисбалансу между структурой вузовских
специальностей и потребностями современного рынка. Логичным
оказывается и обесценивание, или девальвация, дипломов российских специалистов прежде всего на внутреннем рынке труда (проблемы международной сертификации даже не ставятся в этом контексте размышлений). Как ни парадоксально, этот упрек был
высказан в отношении технических вузов и их выпускников. Сегодня наблюдается переизбыток инженерных кадров на фоне катастрофической нехватки рабочих рук во всех сегментах рынка. Со-
152
2014.02.027
временная реформа Минобрнауки направлена на то, чтобы ликвидировать перекос между специалистами с высшим образованием и
высококвалифицированными рабочими-профессионалами.
В связи с этим обсуждается новое для российского образования понятие «прикладной бакалавриат». Речь идет о трехгодичном
обучении и формировании специалистов узкого профессионального профиля в специальных учебных заведениях. Эксперимент в
этом секторе подготовки кадров начался в 2010 г. на базе некоторых российских колледжей и техникумов. «Суть прикладного бакалавриата – поднять статус внеуниверситетского образования,
формально приравняв к высшему образованию отдельные специальности техникумов и колледжей» (с. 52). Студентам предлагается
выбор: либо по окончании второго курса они смогут продолжить
обучение (еще два года) по программе академического бакалавриата, затем пройти годичную стажировку с последующим гарантированным трудоустройством; либо учащиеся целенаправленно заканчивают трехгодичный практический бакалавриат и становятся
узкими специалистами-профессионалами в сфере производства,
медсестрами, воспитателями и т.п. При этом поступить в магистратуру им удастся едва ли, так как «магистерское образование рассчитано в первую очередь на будущих исследователей и руководителей», и данный уровень подготовки исключает получение
«полноценного» диплома о высшем образовании (с. 52).
Второй аргумент современного реформирования ВПО –
«демографическая яма» 1990-х годов, приведшая к недостаточному
количеству студентов сегодня. Например, в 2011 г. бюджетных
мест в вузах страны оказалось даже несколько больше, чем выпускников всех школ. Эта «логика ямы» привела к сокращению
кадрового состава вузовских преподавателей. Казалось бы, логично: если некого учить, надо сокращать профессорскопреподавательский состав. Парадокс, однако, заключается в том,
что нагрузка оставшихся после сокращения работающих преподавателей увеличилась примерно в 2 раза; к тому же на каждого преподавателя студентов приходится теперь на 3–4 человека больше,
чем это было принято согласно нормативам ранее. Вместо желанного качества в ситуации демографического перехода страна получила другой рецепт – «преподавателей сокращать, а вузы реорганизовывать и укрупнять» (с. 54).
2014.02.027
153
Третий аргумент: «в стране слишком много студентов» (количественный показатель «много» министерство берет в сравнении
с показателями других стран). Автор статьи приводит данные, которые опровергают данный тезис, и показывает реальное количественное отставание России от развитых европейских и азиатских
стран и США (по общему количеству студентов в вузах и по качественному показателю: например, в США на одного преподавателя
приходится не более 7–8 студентов, в России – не менее 15).
Четвертый аргумент: «вузов слишком много и большинство из них неэффективны» – также требует тщательной проработки концептов эффективности и качества. С ними связан пятый аргумент: «низкое качество подготовки специалистов в вузах». Как
ни удивительно, при проверке эффективности вузов критерий качества отсутствовал в принципе, как отсутствует и само определение, что такое «качество специалиста». Хорошо бы вспомнить еще
и о личностных чертах этого специалиста. Даже дискурс, ставший
доминантным в лексиконе, сделал избыточными понятия «человек», «личность», «гражданин». Необходимо также учитывать качественный состав преподавателей (возраст, степень), научную
подготовку и переподготовку кадров, возможность учиться платно,
на внебюджетных местах, статус филиалов и рост доли заочного
образования. Например, число заочников за десятилетие увеличилось более чем в 2 раза, а качество подготовки значительно при
этом снизилось (достаточно вспомнить симулякр обучения под
названием «дистанционное»).
Наконец, может быть самая существенная проблема низкого
качества – это низкий уровень общей подготовки студентов.
«В Госпрограмме признается отставание российских подростков от
сверстников большинства развитых стран мира по ключевым для
формирования функциональной грамотности направлениям»
(с. 58).
В заключение делается неутешительный прогноз развития
страны в ближайшее десятилетие: резкое социальное расслоение;
рост социального аутсайдерства; полное уничтожение вузов среднего звена; создание определенного слоя общества как «обслуживающего». В итоге все это приведет к упрощенному культурному
стандарту или, попросту говоря, к тотальной деградации.
С.М. Климова
154
2014.02.028
2014.02.028. ФРУМИН И., КУЗЬМИНОВ Я., СЕМЕНОВ Д. НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ПЕРЕХОД – ОТ ГОСПЛАНА К МАСТЕР-ПЛАНУ //
Отечественные записки: Журнал для медленного чтения. – М. –
2013. – № 4 (55). – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2013/4/
nezavershennyy-perehod-ot-gosplana---k-master-planu
Ключевые слова: высшее образование; реформирование;
высшее образование в СССР.
Статья трех ведущих топ-менеджеров в области высшего образования в России, находящихся на высших административных
постах НИУ-ВШЭ (Москва), опубликована в четвертом номере
«Отечественных записок», целиком посвященном современным
проблемам российского образования в сравнении с мировым опытом. Авторы статьи представляют свои идеи в историческом ключе,
начиная их изложение с истории советского высшего образования
и заканчивая новейшими проблемами, связанными с современными
реформами, новым мастер-планом и его возможными последствиями.
Авторы показали, каким образом советское образование повлияло на создание устойчивой системы, живущей по строгому
«госплану». «В результате оформилось три основных типа вузов:
1) вузы, созданные по территориально-производственному принципу для кадрового обеспечения конкретных секторов региональной социально-экономической системы (профильные. – Реф.);
2) отраслевые вузы, ориентированные на обеспечение кадрами
конкретного сектора в национальных масштабах; в этой группе выделялись вузы трех подтипов: а) специализированные вузы…
(например, университеты инженеров транспорта или авиационные
вузы в регионах); б) заводы-втузы; в) центральные отраслевые вузы, выполнявшие дополнительные функции научного обеспечения
индустрии в национальном масштабе и методологической поддержки других специализированных вузов (Московский нефтяной
институт им. И.М. Губкина; Московский институт стали и сплавов,
ныне НИТУ МИСиС); 3) классические университеты, готовившие
кадры для научных учреждений и других вузов (прежде всего по
фундаментальным дисциплинам), а также для местных управленческих элит (экономическое, историческое, юридическое образование)» (с. 5–6).
2014.02.028
155
Такая система в различных вариациях просуществовала фактически до начала 1990-х годов, когда Министерство образования
столкнулось с противоречием, разрешить которое не сумела до сих
пор: как соединить жесткое (советское) планирование образования
с разгулом рынка, невостребованностью и некомпетентностью готовящихся в вузах специалистов. Все усилия, предпринятые на
этом пути (платное образование, ЕГЭ, перепрофилирование ПТУ
и т.д.), весомых результатов не дали. «Три попытки энергичных
интервенций государства – переход на систему бакалавр-магистр,
ЕГЭ и передача техникумов и ПТУ на региональный уровень –
лишь незначительно изменили лицо российского профессионального образования. Нашумевшие институциональные перемены не
сопровождались серьезными финансовыми стимулами. Опыт повышенного финансирования магистров в сравнении с бакалаврами
или стимулирования приема отличников (по результатам ЕГЭ) более высокими нормативами не был воплощен в широкую практику», – сетуют авторы статьи (с. 8). Главное понять, почему реформы не имели успеха и в чем заключаются глубинные причины
«отсталости» российского образования в мировом образовательном
пространстве практически по всем параметрам. К существенным,
но не главным, причинам можно отнести: финансовые трудности,
гипертрофированный рост образования в области экономики и менеджмента, а также появление негосударственного сектора в высшем образовании.
Основным фактором, определившим характер трансформации, стал растущий спрос населения на высшее образование. Сегодня оно доступно практически всем. В 2010/11 уч. г. на каждый
государственный вуз в среднем приходилось 1,6 филиала, на негосударственный – 1,3; общее число филиалов составило 1668. «Это
привело к избытку предложения высшего образования в столицах и
к определенной нехватке в тех регионах, где не удалось компенсировать отсутствие госзаказа. Исчезновение механизма прямого заказа и обязательного распределения специалистов сделало рынок
труда реальностью и в других отношениях. Государство, формально оставшись ключевым заказчиком (строго говоря, единственным
заказчиком для бесплатных отделений вузов), перестало транслировать запросы экономических агентов» (с. 10).
156
2014.02.028
Появилось совершенно новое отношение к образованию: оно
стало сферой образовательных услуг с ее «полурыночной» научноорганизационной деятельностью. В результате региональноинфраструктурные вузы вступили в конкурентную борьбу с классическими университетами, потерявшими связь со специализированными работодателями. В большинстве таких вузов были открыты факультеты менеджмента, экономики, права, сервиса. Многие
из них деградировали качественно, попали в «воронку неуспешности», когда каждый следующий шаг сопровождается снижением
спроса, ресурсов и, как следствие, качества. Абсолютное большинство выпускников этих вузов не востребовано на рынке труда.
Изменения, произошедшие с отраслевыми вузами, зависели в
первую очередь от процессов, наблюдавшихся в каждой конкретной «базовой» индустрии или производственном кластере. Жесткая
сцепка с базовой отраслью практически лишила возможностей развития те учреждения, которые идентифицировали себя с отраслью,
ослабевшей вследствие появления рынка и конкуренции. «Более
предприимчивые вузы этого типа – из числа тех, что теряли отраслевой рынок труда и научно-производственные связи, смогли диверсифицироваться по образцу классических университетов. Так, в
Московском государственном университете леса были открыты
специальности “Перевод и переводоведение” (1992), “Мировая
экономика” (1993), “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (1993),
“Менеджмент” (2000), “Экономика” (2006), “Лингвистика” (2011);
сейчас по ним проходят подготовку почти четверть студентов вуза,
из них почти треть – очники» (с. 12). Удачно сложилась судьба
только тех отраслевых вузов, чья отрасль оказалась востребованной на рынке. Примером такого вуза может служить Тюменский
нефтегазовый университет.
Практически все заводы-втузы превратились в «нормальные»
университеты. Судьба большинства классических университетов
весьма схожа. Они также поспешно открывали направления в популярных областях (экономика, менеджмент, право и т.п.). Вместе
с тем внедрение ЕГЭ и усиление дифференциации регионов способствовали и дифференциации внутри группы классических университетов: некоторые из них стали лидерами развития регионов,
многие – аутсайдерами.
2014.02.029
157
Далее авторы предлагают некий новый «мастер-план» (вариант нового реформирования, которое, кстати, уже началось) российского образования. Его суть состоит: в формировании новой
структуры образовательных институтов и образовательных программ, более соответствующих требованиям экономики будущего;
в уничтожении псевдообразования (оптимизация вузов, т.е. ликвидация неперспективных); в формировании прозрачной системы
финансовых инструментов, стимулирующих развитие новых институциональных форм и повышение качества образования.
Авторы оптимистично смотрят на будущее российского образования, двигающегося сквозь Сциллу и Харибду очередного
реформирования.
С.М. Климова
2014.02.029. ХАНТЕР К.П. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМАТИКИ В ОБЗОРАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СТРАНАМ ОЭСР.
HUNTER C.P. Shifting themes in OECD country reviews of higher education // Higher education OnlineFirst. – 2013. – May. – P. 1–17. –
DOI:10.1007/s10734–013–9630-z.
Ключевые слова: высшее образование; дискурс; страны
ОЭСР; неолиберальная экономика; экономика знаний.
Автор, сотрудник Университета Британской Колумбии (Канада), анализирует изменения в дискурсе в различных областях политической экономии, в частности влияние этих изменений на тематику в обзорах по высшему образованию.
С 1980-х годов произошли заметные перемены в мировой
экономике – переход от так называемой классической неолиберальной парадигмы в сторону пересмотра и смягчения неолиберальных составляющих.
ОЭСР – сложная и динамичная организация, которая оказывает огромное влияние на формирование политики во многих областях жизни в странах-членах. Поэтому эксперты тщательно изучают проекты, стратегии и цели, разрабатываемые в рамках этой
организации, которые не остаются статическими и постоянно меняются. В конце 1970-х и в начале 1980-х годов страны ОЭСР
столкнулись с серьезными вызовами – глубокой рецессией, инфляцией и растущей на этом фоне безработицей. Старая классическая
158
2014.02.029
кейнсианская парадигма, описывающая экономику, направленную
на стимулирование спроса на товары и услуги, уже не удовлетворяла
экономистов. Возникла необходимость разработки новой неоклассической модели, которая отразила бы новые тенденции в мировой экономике. Эта модель получила название «неолиберальная».
Согласно этой модели, основной упор сделан на производстве товаров и услуг и повышении производственного потенциала. Однако неолиберальная модель была признана специалистами несправедливой в социальном плане.
За последние десятилетия произошли грандиозные события в
мире: мировые экономические кризисы; стремительное развитие
информационных и коммуникационных технологий; создание Европейского союза; появление новых игроков – Индии и Китая; озабоченность по поводу климатических изменений и экологии.
В дискурс вернулись такие термины, как «социальный капитал» и
«бедность». Эти перемены отразились на различных сферах жизни
наций, в том числе и на высшем образовании, которое вынуждено
было ответить на новые вызовы. Они требуют пересмотра и переоценки экономической парадигмы, поскольку многие страны чувствуют себя экономическими маргиналами, и высшее образование
должно сыграть в этом ключевую роль.
Происходят перемены и в ОЭСР: в 1996 г. генеральный секретарь этой организации Дональд Джонстон (D. Johnston) провозгласил начало реформ, направленных на «включенность, охват и
транспарентность» (с. 2). ОЭСР укрепила сотрудничество с организациями гражданского общества и заключила соглашения с Бразилией, Китаем, Индией, Индонезией и Южной Африкой. В 2010 г. в
состав ОЭСР вошли Словения, Эстония, Чили и Израиль. Россия
подписала проект о вступлении.
Чтобы определить, насколько перемены затронули сектор
высшего образования, автор провела исследование изменения тематики в обзорах по ВО. Данными для этого исследования послужили два набора документов, опубликованных в последние десятилетия, содержащие обзоры систем ВО в разных странах ОЭСР и
рекомендации по его реформированию. Набор документов, озаглавленный «Первые годы третичного образования» (The First
Years of Tertiary Education) – первый тематический обзор ВО в нескольких странах – опубликован в 1996–1998 гг. Другой набор до-
2014.02.029
159
кументов «Третичное образование в экономике, основанной на
знании» (Tertiary Education for the Knowledge Based Economy)
опубликован в период 2006–2009 гг.
Автор подробно рассматривает термин «неолиберальный».
По ее мнению, это понятие до сих пор не обрело полной ясности.
Его связывают с такими экономистами, как Ф. Хайек, М. Фридман,
Дж. Стиглер, К. Поппер, М. Поланьи, и такими политиками, как
Р. Рейган и М. Тэтчер, а также таким феноменом, как «Вашингтонский консенсус» (Washington Consensus)1. Основной тезис неолиберализма заключается в центральной роли саморегулирующегося
рынка и в наименьшем вмешательстве государства. По словам
Д. Харви, «высокий уровень благосостояния людей может быть
достигнут с помощью обеспечения индивидуальных предпринимательских свобод» (цит. по: с. 3).
Неолиберализм, считает автор, нужно рассматривать в процессе его развития, а не как застывшую идеальную модель. При
этом она выделяет три основных элемента: развертка (rollout),
франкирование (flanking) и компенсация (countervailing). Развертка
означает усиление структур и перспектив, сопровождающих процесс либерализации. Это более глубокое расширение и проникновение рыночных отношений в различные области, например в сферу образования. Франкирование помогает снижать негативные
социальные эффекты с помощью нерыночных решений проблем, в
то же время усиливая основные посылки неолиберализма. Компенсация – это стремление «сгладить» неолиберализм с помощью демократизации политики и введения альтернативных условий.
Ключевые темы рассматриваются в документах ОЭСР на
трех уровнях: контекст, цели и стратегии. Все три уровня тесно
связаны между собой и перекрывают друг друга: контекст влияет на
определение целей, а цели в свою очередь определяют стратегии.
Третичное образование (1996–1998). Основная тема в документах этого периода – массификация ВО, вызванная новыми потребностями – повышением спроса на ВО. До 1960-х годов высшее
образование получала небольшая часть населения, к 1996 г. количество поступивших в вузы достигло 50% от числа окончивших
«Вашингтонский консенсус» – тип макроэкономической политики, который в конце XX в. был рекомендован руководством МВФ и Всемирного банка к
применению в странах, испытывающих экономический кризис. – Прим. реф.
1
160
2014.02.029
школу. Многие страны стремились удовлетворить потребности в
образовании, и оно из элитарного стало превращаться в массовое.
Однако безработица росла, и изменились цели ВО: если раньше
основная роль университетов заключалась в производстве знания,
то в новых условиях фокус был сделан на их практическом применении и на развитии профессионально-технического образования.
Растущая массификация образования вызвала финансовые
проблемы и изменения в научной и образовательной политике. Появилась угроза снижения качества предоставляемого вузами образования. «Использование уже имеющихся практик в то время, когда состав студентов столь разнообразен по своему
происхождению и культурному багажу, а ресурсы столь ограничены, может угрожать качеству и эффективности» (цит. по: с. 5). В
связи с этим появляются понятия эффективности, обеспечения качества и подотчетности, перед ВО поставлены новые задачи – равные возможности, качество и эффективность.
Чтобы добиться качества и эффективности, эксперты предлагали две стратегии – институциональную автономность и снижение
ответственности государства. Они трактовались как ключевые элементы будущего развития. Вводятся такие понятия, как «конкуренция», «направленность на рынок», «институциональное антрепренерство». Предполагалось, что достичь повышения качества
образования помогут такие стратегии, как улучшение учебных программ, новые методики обучения и новые источники доходов.
С этими стратегиями тесно связаны темы разнообразия и
гибкости, которые выражаются в разнообразии предоставляемых
студентам учебных программ, используемых методик преподавания и увеличения типов университетов. Студенты должны получить широкий выбор высших учебных заведений и образовательных
программ. Эти темы появились в ответ на возросшую потребность
в разнообразных профессиях и компетентностях.
Во всех обзорах этого периода, по словам автора, можно проследить темы сотрудничества не только внутри самой образовательной системы, но и с внешними партнерами (региональными и
национальными правительствами, зарубежными партнерами, общественными и частными акционерами, профессиональными сообществами). Особое значение придавалось тесному сотрудничеству
с работодателями. Промышленность в качестве партнера рассмат-
2014.02.029
161
ривалась как возможность для студентов пройти практику и получить практические навыки в своей профессии. Партнеры из промышленности выступали консультантами при составлении и экспертизе учебных программ и курсов, а также при оценке работы
студентов и преподавателей. Главная цель при этом – ВО должно
стать более гибким, чтобы соответствовать новым потребностям
рынка труда.
Еще одна тема в документах этого периода – ориентация на
клиента. Здесь основная задача – обеспечить большее количество
студентов возможностью удовлетворить свои потребности и интересы и получить соответствующую квалификацию. Особенно это
важно для студентов из малоимущих семей, для которых барьером
служит высокая стоимость образования, работающих студентов
или студентов из групп населения, не представленного в ВО.
Но студенты – не единственные клиенты: клиентами выступают и
работодатели, и, шире, общество и экономика страны. Здесь опять
акцент сделан на сотрудничестве с индустрией и на организации
практической работы.
Вторая главная цель – обеспечение равных возможностей в
доступе к образованию, основные препятствия которым – финансовые ограничения и достижение эффективности и качества. Неравенство в доступе к образованию трактуется как недемократический, несправедливый и неэффективный подход и пустая трата
человеческого капитала. Предлагаемые стратегии для достижения
равенства – разнообразие и ориентация на клиента.
Таким образом, автор выделяет следующие основные темы и
предлагаемые стратегии в обзорах по ВО в период 1996–1998 гг.:
1) институциональная автономность; 2) разнообразие/гибкость;
3) сотрудничество; 4) ориентация на клиента.
Третичное образование для экономики знаний (2006–
2009). В конце 2000-х годов дискурс ВО претерпел значительные
изменения, появились новые вызовы: глобализация, формирование
экономики, основанной на знании, и осознание того факта, что, для
того чтобы быть конкурентоспособными и добиться экономического роста, государства должны производить и накапливать знания и
инновационный потенциал. Для достижения этой цели необходимо
сделать упор на знания и компетенции, необходимые для конкурентной экономики. Меняются и способы финансирования: снижа-
162
2014.02.029
ется роль государственных и возрастает роль дополнительных источников финансирования.
Равенство теперь описывается в терминах «равный доступ»,
«равный успех»: для этого необходимо расширить возможности
образования для малоимущих слоев населения, людей с ограниченными возможностями и т.д. Появляются термины «образование
в течение всей жизни», «непрерывное образование» (lifelong learning). В связи со стремительным развитием информационнокоммуникационных технологий стираются географические и временные границы, что ведет к возникновению новых возможностей
и методов в обучении, например онлайн-образование.
Для развития инновационного потенциала необходимы следующие факторы: 1) учреждения высшего образования соответствующего уровня; 2) конкуренция между вузами; 3) усиленное образование по естественным и техническим дисциплинам (science/
technology/engineering/mathematics – STEM). STEM означает повышение количества студентов и их качественную подготовку в этих
дисциплинах, более тесное сотрудничество с промышленностью и
увеличение финансирования научных исследований. При этом
имеются в виду как фундаментальные, так и прикладные исследования. Однако основной акцент сделан на коммерциализации ИР.
Меняются способы финансирования ВО: роль государства
снижается, вузы должны конкурировать и находить новые источники доходов. Но основные поставщики денежных средств – это
клиенты, т.е. сами студенты и их родители. Немаловажную долю
вносят и исследователи, сотрудничающие с промышленными компаниями, и другие заинтересованные стороны.
В статье приводится таблица, в которой представлены основные темы и их изменение, обнаруженные в обзорах по ВО в последние два десятилетия.
Как видно из таблицы, оба периода имеют схожие контексты,
которые, однако, выражены по-разному. В результате появляются
новые цели и стратегии, и происходит значительный сдвиг в дискурсе.
2014.02.029
163
Таблица (с. 10)
Основные темы, содержащиеся в данных обзоров ОЭСР
1990
2000
ФиКонкуМассифиНеобходиВысокая
нанренция
кация, выНеквалифицированная
мость расКонтекст безработисовые
социзванная
рабочая сила
ширения
ца
криальных
спросом
ВО
зисы
услуг
Профессиональное Эффективность/ка- Профессиональное обЭффективность/каФокус
образовачество
разование
чество
ние
Ц1. Повышение эффективности ВО
Ц1. Повышение эффективности Ц2. Равный доступ к ВО
Цели (Ц) ВО
Ц3. Повышение инновационного потенциала
Ц2. Равный доступ к ВО
Ц4. Сокращение государственного финансирования
Автономия вузов (Ц1, Ц3, Ц4)
Автономия вузов (Ц1)
Снижение роли государства (Ц1, Ц3, Ц4)
Снижение роли государства
Разнообразие/гибкость (Ц1, Ц3, Ц4>Ц2)
Перво- (Ц1)
Конкуренция вузов (Ц1, Ц3, Ц4)
очеред- Разнообразие/гибкость (Ц1>Ц2)
Сотрудничество с промышленностью, общеные
Конкуренция вузов (Ц1)
ством, организациями (Ц1, Ц3, Ц4>Ц2)
страте- Сотрудничество с промышлен- Ориентация на клиента (Ц1, Ц3, Ц4>Ц2)
гии
ностью, обществом, организа- Формирование научно-технического потенцициями (Ц1>Ц2)
ала (STEM) (Ц3)
Ориентация на клиента (Ц1>Ц2) Большая доля финансирования за счет студентов (Ц4)
Разработка стратегий в первый период была сделана на следующих допущениях: 1) ВО должно готовить людей для работы;
2) чтобы добиться эффективности, необходимо дать вузам автономию и заставить их конкурировать; 3) роль государства – предоставить возможности для автономии и конкуренции вузов; 4) студенты, вузы и промышленность должны сотрудничать на основе своих
интересов; 5) важно качество преподавания; 6) ВО помогает сократить экономическое и социальное неравенство; 7) каждый гражданин, который заинтересован в образовании, должен иметь к нему
доступ; 8) равный доступ важен сам по себе, а не в экономических
целях.
Во второй период в обзоры были внесены некоторые уточнения: 9) необходимые для работы знания и умения меняются с
большой быстротой; 10) государства должны развивать свой инно-
164
2014.02.030
вационный потенциал, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке; 11) инновации требуют развития высокого научнотехнического потенциала (STEM); 12) конкуренция способствует
развитию инноваций; 13) ВО необходимо расширять; 14) большую
значимость имеет превосходство в исследовательской деятельности; 15) конкуренция требует высококвалифицированных работников; 16) роль ВО – подготовка высококвалифицированных кадров;
17) те, кто получает наибольшую выгоду от ВО, должны делать
наибольший финансовый вклад в ВО; 18) хотя выгоду получают
индивиды и общество в целом, наибольшую выгоду получает частный сектор.
Таким образом, резюмирует автор, проведенное исследование показало, что за последние десятилетия в дискурсе ВО произошел значительный сдвиг в сторону парадигмы экономики знаний. Неолиберальная экономическая политика направлена на
развитие продуктов и услуг и сосредоточена на повышении производительного потенциала. Экономика знаний основывается на инновациях и производительном, высококвалифицированном труде.
Больший акцент сделан на производстве, а не на потреблении, и
ключевым ресурсом в ней являются знания. Основной поставщик
знаний – высшее образование, т.е. преподаватели, которые готовят
кадры, ученые и исследователи, которые производят знания. Без
них путь в экономику знаний закрыт.
М.П. Булавинова
2014.02.030. ФИНКЕЛЬШТЕЙН М.Дж., УОКЕР Э., ЧЕН Р. АМЕРИКАНСКИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ПРЕДСКАЗАТЕЛИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СЕТИ.
FINKELSTEIN M.J., WALKER E., CHEN R. The American faculty in
an age of globalization: Predictors of internationalization of research
content and professional networks // Higher education. – 2013. –
Vol. 66, N 3. – P. 325–340. – DOI:10.1007/s10734–012–9607–3.
Ключевые слова: интернационализация высшего образования; реформирование системы высшего образования; научноисследовательская деятельность; профессорско-преподавательский состав.
2014.02.030
165
Международная ассоциация университетов (International Association of Universities – IAU) признает развитие интернационализации в высшем образовании в качестве приоритета для всех образовательных систем мира. Интернационализация рассматривается
как основной способ подготовки студентов для глобального рынка
труда, усиления научного и познавательного потенциала выпускников в экономике знаний, повышения институционального престижа и общей доступности к глобальным студенческим рынкам
научного обмена.
Между тем исследования проблем интернационализации
высшего образования, проведенные в США, показали, что прогресс
в этой области (данные 2006 г.) в вузах страны оказался минимальным с начала нового тысячелетия (данные Американского совета
по образованию – ACE). Более того, реально понизилось число
курсов, читаемых на иностранных языках, а также мотивация и желание студентов изучать международную экономику или иностранные языки. Причин этому достаточно. Прежде всего, это лидерские позиции США в вопросах образования. Далее,
интернационализация знаний не является значимой при найме на
работу или для карьерного роста преподавателей в вузах или колледжах США, несмотря на повсеместную декларацию о необходимости международного сотрудничества и перспективности развития интернациональных научных сообществ, которые должны
способствовать повышению качества выпускаемых специалистов.
В частности, об этом говорится в положениях ACE, рассматривающих развитие интернационализации, языковую диверсификацию
как составные элементы концепции национальной безопасности
страны. Стратегия и поведение американских вузов, однако, в данном вопросе оказались минимально продуктивными.
«Преподаватели находятся в центре такого научного процесса, как интернационализация, и являются катализаторами и инициаторами международных программ и сотрудничества, день за днем
реализуя новые разработки. Однако со времени пионерских работ
К.Д. Гудвина и М. Нахта (C.D. Goodwin, M. Nacht; 1991) не наблюдается серьезных исследований, посвященных интернационализации профессорско-преподавательского состава в США» (с. 326).
Эта тема была заявлена давно, но ее специфика отличается крайней
описательностью и декларативностью. Один из выдающихся тео-
166
2014.02.030
ретиков современных реформ вузовской системы Ф.Г. Альтбах
(P.G. Altbach, 1996) указывал, что только около 1/3 американских
преподавателей регулярно выезжали заграницу для стажировок и
научных исследований, и США занимают 14-е место в мировом рейтинге по данному показателю. Более низкие показатели имеют только Россия и Бразилия. Сегодня ситуация несколько изменилась, но
не кардинально. Непреложным остается факт, что американские
студенты и преподаватели не желают активно продвигаться в образовательное пространство Европы и Азии.
Исторически термин «интернационализация» означает прежде всего физическую мобильность студентов и преподавателей в
мировом образовательном пространстве. В прошлом такие передвижения традиционно поддерживались государственными программами страны. Всем известна, например, научная программа
Фулбрайт (Fulbright Scholars program), с помощью которой каждый
год в 45 стран мира отправляются около 1 тыс. американских преподавателей и исследователей и принимаются около 1 тыс. зарубежных ученых и студентов на стажировку в США (с. 327).
С конца 1990-х годов термин «интернационализация» перестает быть синонимом исключительно физической мобильности.
Возникает новое явление «интернационализация у себя дома», которое «включает интеграцию международных перспектив в традиционные учебные программы колледжей, ревитализацию иностранных языков и областей исследований, интернационализацию
трансфера знаний, т.е. интернационализацию исследовательского
сотрудничества и совместную публикационную деятельность с зарубежными коллегами» (с. 327). Данная форма работы широко
распространилась и стала популярной в США и во всем мире благодаря интернет-технологиям и созданию исследовательских сетей.
Авторы статьи провели исследование, изучающее вовлеченность преподавателей и исследователей университетов в международные исследовательские сети и выбор ими международной исследовательской тематики. Р. Блэкберн и Дж. Лоуренс (R. Blackburn,
J. Lawrence; 1995), опираясь на теорию мотивации, утверждают,
что выбор поведения преподавателей определяется двумя факторами: 1) индивидуальным, включающим социодемографические характеристики, карьерные характеристики и сеть профессиональных
диспозиций и ценностей, маркирующих самопознание; 2) тем, что
они называют «социальное знание», т.е. восприятием преподавате-
2014.02.030
167
лями институциональных ценностей и ожиданий, определяющих
их выбор модели поведения (с. 328).
Избранная методология исследования – это лонгитюдное исследование с массивной социологической выборкой; сбор и обработка данных, опирающихся на компаративистский и феноменологический анализ. В течение четырех лет обследовались колледжи и
университеты США, было опрошено более 5 тыс. человек. В компаративистском срезе использовались данные из Фонда Карнеги,
обобщен опыт 19 стран (более чем за десять лет).
Три основные темы – релевантность, интернационализация и
менеджеризм – стали фокусом исследования. «Релевантность, в
широком понимании, как синоним социального прогресса относится к повышению глобального давления на высшее образование с
целью поддержания экономической конкурентоспособности стран
в целом. Интернационализация отсылает к непрерывному размыванию национальных границ в обучении и повышению мобильности студентов и преподавателей при пересечении (буквальном и
образном – через сеть) образовательных границ. Менеджеризм относится к изменению способов управления, что означает повышение роли администраторов и правительственных инициатив в отношении к преподавателям и системе образования в целом. Этот
инструмент позволяет выявить изменение требований, с которыми
сталкиваются преподаватели, и их ответ на эти требования, которые отражаются на деятельности и карьерных траекториях»
(с. 328–329).
В основе социологического описания научных данных были
выделены: логическая фаза, рассмотрены зависимые и независимые переменные, разделенные на две части через перекодирующую процедуру. В многовариантном анализе был использован
подход Р.М. Гроувз и Е. Пейчевой (R.M. Groves, E. Peytcheva;
2008). Результаты многовариантного анализа представлены в
обобщении двух результирующих переменных: дан ответ на вопрос
«сотрудничали ли преподаватели с иностранными коллегами в
процессе научного исследования или само исследование по своей
сути носило международный характер и отличалось научной всесторонностью?» Здесь оказался бесспорным фактор времени: чем
дольше работал преподаватель, тем больше у него было возможностей для развития научных связей. Было обнаружено, что в разго-
168
2014.02.030
воре о сотрудничестве более половины респондентов связывают
его с обучением заграницей и лишь треть говорит о совместном
научном сотрудничестве с зарубежными коллегами. При этом среди респондентов, принимающих участие в научном сотрудничестве, оказалось в 2 раза больше тех, чьи исследования носят прикладной (коммерческий характер), чем тех, кто занят в области
фундаментальной науки. В то же время вовлеченных в международное сотрудничество американских преподавателей оказалось в
3 раза меньше, чем не вовлеченных в этот процесс.
В целом международное сотрудничество непосредственно
отражает мировой процесс производства знания, ориентированного
на глобальную экономику и мировой рынок труда. На этот процесс
также влияет сама изучаемая дисциплина: одни дисциплины в
большей степени открыты к коллаборации, другие в меньшей. При
этом важно помнить, что «наука есть только “наука” – без национальной или интернациональной особенности, присущей ее содержанию» (с. 335). Кроме того, различные аспекты измерения социального знания выступили критерием интернационализации самого
содержания исследования, ответа на вопрос, насколько важно вузам развивать качественные исследования, а не просто давать объективные показатели. Здесь есть некоторое противоречие, ибо разговор о качестве исследования – это разговор и о персональной
ответственности участника международного сотрудничества. Речь
идет об известной тенденции сделать все знание англоверсией
научного дискурса и проверять их «качество» в высокорейтинговых журналах английского или американского производства. Таким образом, критерий качества (признания ученого) упирается в
публикационную активность. Проведенное исследование позволяет
сделать вывод о том, что большинство американских преподавателей продолжают сторониться международных контактов и не стремятся к международной мобильности, довольствуясь публикациями и участием в виртуальных интернет-мероприятиях.
В заключение высказано предположение о том, что на развитие интернационализации гораздо в большей степени влияет самосознание ученого, т.е. его профессиональные ценности, ориентации
и саморазвитие в процессе карьерного роста, а не институциональность, ожидания (социальное знание) и дисциплина. На основе этого можно предсказать два измерения интернационализации про-
2014.02.031
169
фессорско-преподавательского состава: вовлеченность в крупные
исследовательские проекты и вовлеченность в совместные междисциплинарные фундаментальные исследования. Это означает
коммерчески ориентированные исследования (главный двигатель
глобально-ориентированной экономики знаний); участие преподавателей в международных исследовательских сетях, а также фокусирование на международных элементах в содержании исследований данной группы (с. 338).
Авторы отмечают также, что проведенное ими исследование
позволяет сделать прогноз, как традиционные факторы академической работы – институциональный тип, академическая область и
определенный этап карьеры – могут перестраиваться в новых условиях.
С.М. Климова
2014.02.031. КОБОЯШИ Й. ЕВРОПА VERSUS АЗИЯ: ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННОМУ (НЕ АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ В ЯПОНСКИХ ВУЗАХ.
KOBAYASHI Y. Europe versus Asia: Foreign language education other
than English in Japan’s higher education // Higher education. – 2013. –
Vol. 66, N 3. – P. 269–281. – DOI:10.1007/s10734–012–9603–7.
Ключевые слова: Япония; высшее образование; языковая политика; диверсификация обучения; плюрилингвизм.
Сотрудник факультета гуманитарных и социальных наук
Университета Ивате (Япония) исследует актуальную проблему тотального давления английского языка и американских образовательных стандартов в японских вузах. Обсуждаются политика языковой диверсификации в системе японского образования и вопрос
о необходимости и праве студентов на изучение различных иностранных языков (кроме английского), в том числе и восточных –
китайского и корейского.
Движение за языковое многообразие обучающих программ
пришло в Японию из Европы, также испытавшей англо-американское давление. «Действительно, европейские страны по многим
причинам с огромным напором борются за то, чтобы поддержать
высокий уровень своих языков в топ-списке “рабочих языков” системы образования; их аргументы в большинстве поддержаны Ев-
170
2014.02.031
росоюзом в форме официальных программ по продвижению языкового многообразия» (с. 274).
Анализ проблемы строится с учетом статистических данных,
полученных из официальных документов Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT), а также аналитики научных статей. Начиная с 1990-х годов Япония
начала реализацию международных программ в сфере образования.
В 1991 г. произошла языковая реформа японских вузов. Она заключалась в том, чтобы через «ударную группу профессоров» заставить всех студентов изучать второй иностранный язык, главным
образом европейский, который олицетворялся с символическим
капиталом, приносящим долгосрочную выгоду вкладчикам. Для
многих это стало кошмаром профессии (речь идет о дополнительных усилиях по изучению и трудностях освоения иностранных
языков). В итоге, например, Национальный университет Шиншу
(National Shinshu University) в 2002 г. отменил в шести отделениях
из восьми изучение второго иностранного (не английского) языка в
ответ на требования проанглийски настроенных преподавателей
усилить изучение английского языка, особенно на естественнонаучных факультетах. «…в 1991 г. Министерство образования запустило пилотный проект, нацеленный на диверсификацию обучения
иностранному языку в японских вузах (Министерство образования
было реорганизовано в 2001 г. в MEXT). После того как проект был
заморожен на несколько лет, МЕХТ перезапустило его в 2002 г.,
сделав составной частью других проектов для развития международного обмена. Проект охватил лишь некоторые регионы страны.
В каждом регионе было выбрано и профинансировано несколько
местных вузов, чтобы обеспечить качественное обучение иностранным языкам (не английским)» (с. 271). Как правило, это были
не обязательные, а элективные курсы. В 2007–2008 гг. этот проект
был реализован в 20 регионах: в двух японских вузах в качестве
иностранного был выбран русский язык, в шести – китайский, в
двух – корейский, в одном – французский и в одном – испанский
язык.
Несмотря на то что МЕХТ свой проект по диверсификации
иностранных языков оценило очень высоко, в действительности
только английский и китайский языки оказались востребованными
и были признаны в качестве главнейших, что неудивительно с точ-
2014.02.031
171
ки зрения существующих глобализационных процессов и развития
мировых рынков.
Как же реально происходит обучение иностранному языку в
японских вузах? Ответ на этот вопрос предполагает учет нескольких контекстуальных срезов.
1. Изучение иностранного языка связано чаще всего с профессией: преподаватели учат студентов лингвистике, литературе, иностранному языку как специализации по американской, французской,
немецкой и пр. литературе, языку. Такой подход не позволяет поднять планку изучения иностранного языка в вузе до научного статуса. Лишь незначительное количество японских преподавателей
иностранного языка входят в международную профессиональную
ассоциацию преподавателей иностранных языков.
2. Такая узкая специализация приводит к локальному уровню
профессионального развития, ограничению исследовательских работ преподавателей публикациями в местных журналах.
3. Для некоторых преподавателей публикации такого сорта
остаются предпочтительными, так как не требуют больших затрат
и усилий.
Данные публикации бесплатно размещаются в сети, что делает их, конечно, доступными широкой публике, но малоинтересными для профессионального сообщества, опирающегося на международные авторитетные высокорейтинговые журналы. То есть
ситуация становится двойственной: можно стать широко известным, например, при регистрации статьи в научных сетях и базах
цитирования Японии, например CiNii1 (при обязательном японском
и английском оформлении названия статьи и аннотации). При этом
исследователь оказывается маловостребованным в международной
периодике, издаваемой исключительно на английском языке и пропагандирующей его преимущества перед другими языками. В Японии специализация на английском языке чрезвычайно востребована, и в этом плане с ней может конкурировать лишь потребность в
китайском языке, наиболее важном для нужд японского рынка, все
больше подпадающего под влияние и глобализации, и китайской
экономики.
1
CiNii – база данных Индекса периодических изданий Библиотеки парламента Японии. – Mode of access: http://ci.nii.ac.jp/en
2014.02.031
172
Сегодня глобальное и локальное все теснее перемежаются в
вузовской политике Японии. «Например, один из самых больших и
известных частных университетов в Западной Японии – Кансай
университет (Kansai University) в 2009 г. был преобразован в Институт изучения иностранных языков. Это изучение главным образом ограничивалось лингвистической специализацией в английском и китайском» (с. 272). Как написал на своем сайте один из
деканов этого института, «наша задача формировать профессионалов в области языка, а не заниматься философией, культурой или
литературой». Многие научно-популярные статьи по-японски выходят только для того, чтобы пропагандировать английский язык.
На кон поставлена судьба европейских языков в системе образования. Плюрилингвистический совет Евросоюза столкнулся с
тремя проблемами: 1) снижение символического капитала некогда
прославленных европейских языков; 2) повышение роли неевропейских языков (например, китайского); 3) усиление английского
языка без малейших признаков его угасания.
Преподаватели иностранных (не английского) языков вынуждены отвечать на вопрос, насколько востребована их профессия. Например, сотрудники Киотского университета опубликовали
книгу под названием: «Прокламация многоязычия: Почему нам
необходимо изучать другие языки, кроме английского?»1. В книге
были собраны интервью и мнения 17 франкоговорящих профессоров и ученых из разных стран, которые главным образом доказывают необходимость изучения прежде всего французского и
немецкого языков. При этом японским авторам пришлось пользоваться английскими переводами их ответов. Ситуация парадоксальная: чтобы сделать эту книгу доступной для читателя, ее надо
было перевести на английский и выложить на специальных сайтах
в Интернете. (Своеобразный ответ на вопрос заглавия книги.) Хотя
сегодня в японских вузах наметился небольшой рост популярности
изучения европейских языков по сравнению с недавней ситуацией
2009 г., тем не менее падение их престижности налицо.
При этом существуют и другие проблемы. Уже сейчас преподавание корейского или китайского языков по популярности
1
Maruchi gengo sengen: Naze eigo igaino gaikokugo wo manabunoka = Proclaiming multi-language: Why do we learn foreign languages other than English? /
Ohki M., Nishiyama N. (eds). – Kyoto: Kyoto univ. press, 2011. – Яп. яз.
2014.02.031
173
стало значительно превосходить обучение французскому или испанскому языкам. Несмотря на это, положение преподавателей восточных языков не улучшается. Они чрезвычайно загружены, но не
получают соответствующую плату за постоянно растущую нагрузку. Некоторые ученые считают, что китайский и корейский языки
гораздо более важны для страны и региона, чем европейские. Поэтому необходимо бороться не за «права» французского или
немецкого языков, а погрузить всех студентов в изучение китайского языка.
Обсуждается еще одна значимая для Японии проблема. Она
связана со своеобразной ситуацией вузовского инбридинга. Еще
десятилетие назад ученые отмечали: «Фактически во всех учреждениях Японии, в том числе и в японских университетах, поощрение базируется не на заслугах, т.е. академической продуктивности, а на старшинстве» (цит. по: с. 275). Все дело в японских
традициях, согласно которым профессора, достигшие определенного возраста, становятся неприкасаемыми. Если со всеми заключают
долгосрочные или краткосрочные контракты, то часть привилегированных (главным образом по возрасту) преподавателей имеют
пожизненные преференции, связанные с бессрочными контрактами
и дополнительными льготами. В Японии возраст работающего зачастую имеет большее значение, чем знания или квалификация.
Поэтому молодые, активные, хорошо подготовленные в языках
преподаватели вынуждены работать на полставки или по договору,
хотя основная нагрузка ложится именно на них; им также приходится искать подработки. Эта ситуация не способствует реализации
программ, например, направленных на увеличение объемов преподавания китайского или корейского языков, несмотря на их растущую популярность. Инбридинговые традиции японских университетов стали реальным тормозом в развитии, несмотря на то что все
больше вузов стали заключать контракты с сотрудниками, позволяющие осуществлять более гибкие административные маневры.
Не менее важна и проблема квалификации преподавателей
иностранных языков. С одной стороны, в Японии все хорошо с
преподаванием. Профессионализм кадров имеет измерение – различные соглашения и организации (например, Teachers of English to
Speakers of Other Languages – TESOL; Japan Association for Language Teaching – JALT). Одно перечисление курсов, обучающих
174
2014.02.032
английскому языку, солидно и вызывает восторг (английский язык
как иностранный язык, английский язык как второй язык, глобальный английский, английский язык как международный язык, мировой английский, английский язык как lingua franca и т.д.). Но, с
другой стороны, эти профессионалы – лишь профессионалы в области языка, они не имеют квалификации в предметных областях и
не связаны с исследовательской работой. Образование в области
лингвистики также во многом специфично: качество формируется
за счет количества, когда создается огромное число классов и
наставников; все направлено на массовое овладение языком, главным образом для коммуникации. При этом все население охвачено
жаждой знать английский язык и стремится получить его от наиболее квалифицированных преподавателей.
В заключение говорится о преимуществах плюрилингвистического образования. Доказано, что в азиатских регионах азиатские
языки доминируют по популярности над английским, и это служит
сигналом, который надо учитывать. «В эпоху перехода с Запада на
Восток, с европейских языков на азиатские, все профессионалы в
этой области должны быть внимательны, более чем когда-либо, к
языковой образовательной политике и не уязвимы для властных
идеологий, т.е. реальные предложения в языковой политике должны идти от ученых и быть когерентны языковым практикам вуза.
Например, в свое время снижение престижности французского
языка побудило французское правительство, французских интеллектуалов, всех, кто связан с французским образованием, защищать
свой язык, поддерживать европейский плюрилингвизм, открыто
соперничать с английской идеологией» (с. 279). То же самое необходимо сделать в отношении азиатских языков и образования.
С.М. Климова
2014.02.032. ХУ ГУАНВЭЙ, ЛЭЙ ЦЗЮНЬ. АНГЛИЙСКИЙ КАК
СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ (ПРОГРАММА EMI) В КИТАЙСКОМ
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: КЕЙС-СТАДИ.
HU GUANGWEI, LEI JUN. English-medium instruction in Chinese
higher education: A case study // Higher education. – 2013. – P. 1–17. –
DOI:10.1007/s10734–013–9661–5.
Ключевые слова: Китай; высшее образование; языковая политика; диверсификация обучения; плюрилингвизм.
2014.02.032
175
Использование английского языка для обучения в вузах в неанглоязычных странах широко распространилось в последнее десятилетие. Сегодня идет активный поиск наиболее продуктивного
способа изучения и использования английского языка в образовании. Программа «английский как средство обучения» (Englishmedium instruction – EMI), разработанная изначально для стран Западной Европы, в настоящее время широко применяется в ряде вузов материковой части Китая, в Южной Корее, а также в других
азиатских странах. По мнению китайских экспертов, эта программа
«одним камнем убивает двух птиц»: осуществляет обучение профессиональным дисциплинам на английском языке и тем самым
позволяет готовить специалистов мирового уровня. «Не будет преувеличением сказать, что из всех видов культурного капитала,
наиболее желательным стало обретение профессионального мастерства на английском языке» (с. 14).
Программа EMI обладает очевидными достоинствами, однако на пути ее реализации встречаются трудности и негативные последствия для сложившейся системы. Авторы статьи выявляют и
описывают проблемы, неизбежно возникающие при переходе обучения с родного на чужой язык. Они появляются на языковом и
ментальном уровнях: далеко не все способны освоить чужой язык
как родной и тем более постичь специальные дисциплины на английском языке. Уже здесь заложена опасность оказаться, с одной
стороны, непрофессионалом в своей стране и с другой – аутсайдером на мировом рынке. Еще одна проблема заключается в том, что
преподаватели не владеют английским языком в совершенстве, соответственно они не могут передать многочисленные нюансы дисциплины; в обучении теряется дискуссионность, проблемность.
Профессора (и студенты) вынуждены раздваиваться и либо «следить за языком, либо за мыслью». Поэтому повсеместно распространен двойной языковой стандарт: чтение лекций на английском
языке и обширные содержательные комментарии на китайском.
Кроме того, в ходе распространения программ EMI усиливается
социальное и культурное неравенство «как в Западной Европе, так
и в Восточной Азии» (с. 3). В Китае, например, только представители элиты способны дать своим детям полноценное образование в
рамках EMI.
2014.02.032
176
В статье представлены результаты кейс-стади в одном из китайских университетов, который включает 27 колледжей / департаментов и предлагает 37 учебных программ. В вузе обучаются
24 тыс. студентов, из них практически все живут в материковом
Китае (иностранцев всего лишь 360 человек). Численность профессорско-преподавательского состава – около 1 тыс. человек (10% из
них имеют докторскую степень, полученную в зарубежных университетах) (с. 5). Были также использованы данные веб-сайтов по
EMI за десять лет – с 2002 по 2011 г.; изучены документы по программе; проведены социологические опросы с двумя фокусгруппами второкурсников и третьекурсников. Задача – выяснить
специфику подготовки специалистов на родном и иностранном
языках (с. 6).
К 2011 г. в университете в проекте EMI было задействовано
семь программ: бухучет; менеджмент; финансы; финансовый менеджмент; страховое дело; международный бизнес; международная
экономика и торговля. В EMI используются английские учебники,
лекции, тестирование; экзамены также идут на английском языке.
Параллельно в вузе была разработана и внедрена система обучения
тех же дисциплин на китайском языке (CMI).
В качестве методологической исходной модели использована
концепция Бронислава Сполски (B. Spolsky)1, его матрица изучения
языковой политики (language policy framework), позволившая «благодаря интервью с профессорами и студентами осуществить критический анализ программных заявлений на уровне национальной /
институциональной политики, а также раскрыть специфику EMI: ее
языковую идеологию, языковую практику и языковую менеджмент-стратегию» (с. 3). Данные компоненты, безусловно, взаимосвязаны и составляют основу языковой политики, однако могут
быть рассмотрены и самостоятельно.
Первый компонент – языковые верования, или, говоря иначе,
языковая идеология, – отражает позицию, предполагающую одобрение правильности и обоснованности сделанного выбора языка и
практик общения в вузе и стране. «Согласно идеям Б. Сполски,
идеология – ценность и престижность – это то, что приписывается
некоторым языкам; их разнообразие и лингвистические признаки,
1
Spolsky B. Language policy. – Cambridge, UK: Cambridge univ. press, 2004.
2014.02.032
177
по сути, реально влияют на языковую политику и менеджмент»
(там же). Второй компонент – языковые практики, к которым относится регулярное языковое поведение, то, что люди реально делают, а не то, что им приписано делать. Третий компонент – это языковой менеджмент или специальные усилия управленцев или
учреждений, направленные на внедрение требуемых языковых верований и практики. Обозначенная модель лежит в основе языковой образовательной политики Китая.
Для китайской системы управления высшим образованием
неоспоримы высокий статус английского языка и престижность его
изучения. На национальном уровне знание и использование жителями Поднебесной английского языка – непременное условие реализации амбиций Китая, его доступа к мировым знаниям, культуре
и экономике и в конечном итоге – условие к достижению мирового
лидерства. Министерство образования Китая объявило знание английского языка высшей образовательной ценностью, заложило
этот параметр в учебные планы и стандарты. «Образовательные
стандарты последнего поколения следующим образом обосновывают необходимость обучения английскому языку: английский –
это наиболее широко используемый язык в мире, он является наиважнейшим инструментом для международной коммуникации в
целом и для науки и культуры в частности. Изучение и использование английского языка играют ключевую роль в освоении достижений человеческой цивилизации, науки и техники зарубежных
стран и являются главным средством для взаимопонимания между
Китаем и остальным миром» (с. 7).
Еще в 2001 г. Министерство образования указало на необходимость преподавать в вузах не менее 5–10% учебных дисциплин
на английском языке. Сегодня эта планка повысилась. Естественно,
EMI называют «точкой прорыва» высшего образования. Огромные
усилия направлены на рост числа программ и курсов в рамках EMI,
повышение квалификации преподавательских кадров в англоязычных вузах: научные и языковые стажировки профессоров и студентов за рубежом, получение там докторской степени. Значимость
EMI декларируется не только государством и вузами, но и подчеркивается самими преподавателями и студентами. Кроме того, профессиональное знание английского языка является реальной ступенькой повышения мирового рейтинга вуза. Так, согласно
178
2014.02.032
международным оценкам, лучшими признаны вузы, в которых действует не менее 10% курсов EMI, а несостоятельными те учебные
заведения, в которых нет данных программ или их не более 1%. Не
менее важен для рейтингов индекс цитируемости, попадание в который также немыслимо без совершенного английского в публикациях. И наконец, выпускники, свободно владеющие английским
языком, имеют больше шансов трудоустроиться не только в Китае,
но и в других странах.
Однако при всех преимуществах, которые предоставляет
EMI, есть по крайней мере две причины для скепсиса: во-первых,
нет доказательств, что использование неродного языка (exoglossic)
как языка обучения будет положительно сказываться на этнических, культурных, бытовых и пр. характеристиках общества; вовторых, результативность обучения EMI в конечном счете зависит
от того, как идет реальное обучение в классе. Таким образом, самое
важное – понять природу языковой практики EMI. Как отмечал
Б. Сполски, «в контексте EMI – это прежде всего то, как люди используют язык практически, т.е. восприятие учебных стратегий,
адаптированных профессорами и студентами в ходе изучения конкретного курса и языкового обмена» (с. 9). Фактически все упирается в компетентность профессоров и способности студентов.
Практически все профессора EMI проходили обучение в англоязычных вузах, однако их английский отнюдь не идеален. Профессор CMI (Chinese-medium instruction) – преподаватель дисциплин
на китайском языке – прокомментировал эту ситуацию следующим
образом: профессора EMI хорошо работают по учебнику, но у них
нет свободного разговорного английского. Один из профессоров
признавался, что «включал» иногда китайский для объяснений, так
как не находил слов из английского языка. Другой отмечал, что
дело и в том, что студенты не могут воспринимать на английском
предмет достаточно глубоко и привлечение китайского – это вынужденная мера для получения знания. Студенты из EMI это подтвердили.
В качестве резюме приводится мнение из интервью: «Говорение на английском может привести к неадекватному (двусмысленному) пониманию и, следовательно, к недоразумениям. Это
становится особенно явным, когда мы внедряемся в узкоспециализированный контекст, где много терминов, которые многозначны и
отличаются от их обыденного использования. Большая проблема
2014.02.032
179
возникает у студентов, которые недостаточно хорошо знают английский и не успевают переварить сказанное преподавателем»
(с. 10).
Чтобы решать возникающие проблемы, нужны новые стратегии. Одна из них – упростить содержание курсов, другая – говорить
на языке учебника, не используя дискуссию и импровизацию. По
словам одного студента, «нам так преподают, словно мы на курсах
английского, а не изучаем специальный предмет» (с. 11). Третья
стратегия – подключать китайский язык, слайды, осуществлять
предварительную раздачу материала по теме лекции, семинара.
В свою очередь, студенты также вырабатывают свои стратегии
адаптации: используют подстрочники, приобретают аналогичные
учебники на китайском языке, берут лекции друзей, изучающих
предмет на китайском, и т.д. Есть, конечно, очень продуктивный,
но сложный путь двойного обучения: самостоятельно найти все
неизвестные английские слова в словарях, перевести их на китайский, интерпретировать и таким образом освоить нужный материал. Многие студенты отмечают, что главная трудность – это отсутствие реальной научной коммуникации. Можно понять учебник, но
нет полноценного общения с носителями языка. Для многих студентов участие в программе EMI – это стресс, они ощущают свою
неполноценность. Все это говорит об общей неудовлетворенности
реальными результатами EMI и об определенном преувеличении
эффективности этой программы.
Существенным подспорьем в решении этих проблем может
стать адекватный языковой менеджмент. «Из концепции языковой
политики Б. Сполски становится ясно, что языковой менеджмент
определяется языковой идеологией и включает как явные, так и
неявные усилия, осуществляемые личностями и группами по изменению языковых практик или “веры”» (с. 12). Вузовские управленцы предприняли ряд шагов, чтобы обеспечить соответствие уровня
студентов и профессоров стандартам EMI. Во-первых, повысилось
требование к начальному уровню английского языка. Чтобы стать
студентом EMI, согласно Национальному тесту по английскому
языку (National Matriculation English Test), нужно иметь проходной
балл по английскому 120 из возможных 150. Однако это внутреннее требование к уровню знаний по английскому значительно ниже
среднеевропейского. Это очевидно и самим студентам. Для повышения уровня знаний в университете предусмотрены два дополни-
180
2014.02.032
тельных часа в неделю для занятий английским языком. Кроме того,
обязательными стали курсы делового и разговорного английского.
Тем не менее проблемы остаются: сказываются разные стартовые
возможности участников программы EMI; профессиональное владение языком требует постоянного общения (коммуникации) с носителями языка; обязательной (не менее года) практики в профильном вузе за рубежом.
Оценить реальный уровень «иноязычной» квалификации в
родной языковой среде сложно: единственным реальным критерием профессионализма остаются стажировки и учеба заграницей.
Эти критерии, однако, также не являются достаточно надежными.
Ответы двух китайских профессоров, имеющих докторскую степень, подтвердили мнение о том, что стажировки не гарантируют
качественного чтения лекций по дисциплине на английском языке.
Университет постарался поддержать своих преподавателей EMI,
организовав для них несколько курсов в году по преподаванию
EMI. С точки зрения слушателей, это отписка, никакой реальной
помощи такие лекции не оказывают. Все опрошенные жалуются на
декларативный характер заявлений менеджеров, которые лишь на
словах заботятся о росте их квалификации. При этом преподаватели указывают на реальные механизмы повышения уровня обучения: создание методических программ, расширение контактов
между преподавателями EMI в Интернете через специальные вебсайты.
С.М. Климова
2014.02.032
181
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЙ РАБОТ,
ОПИСАННЫХ НЕ НА АВТОРА1
Дружилов С.А. 02.027
Кузьминов Я. 02.028
Семенов Д. 02.028
Фрумин И. 02.028
Глобальный индекс инноваций 02.017
Наука в обществе 02.001
Пилотные инновационные
территориальные кластеры 02.015
Al-Saleh Y. 02.018
Anderson A. 02.005
Andrews J.T. 02.012
Banerjee C. 02.017
Benavente D. 02.017
Beverungen A. 02.026
Bird S.J. 02.004
Borlaug S.B. 02.020
Bӧhm S. 02.026
Brodhag C. 02.023
Brossard D. 02.005
Buenstorf G. 02.025
Bupkolter D. 02.008
Chen R. 02.030
Clegg B. 02.007
Connell D. 02.016
Damodaran V. 02.014
De Bont R. 02.010
Dutta S. 02.017
Essen A. 02.011
Finkelstein M.J. 02.030
Galbraith B. 02.022
Gilmore A. 02.02.022
Govoni P. 02.013
Gutzwiller R. 02.007
Hancock P. 02.006
Hao X. 02.005
He X. 02.005
Ho S. 02.005
Holzmann T. 02.021
Hu Guangwei 02.032
Hunter C.P. 02.029
Jacob M. 02.020
Katzy B. 02.021
Kluge A. 02.008
Koboayshi Y. 02.031
Land C. 02.026
Lanvin B. 02.017
Lei Jun 02.032
Liang X. 02.005
Mahroum S. 02.018
Master Z. 02.003
Mina A. 02.016
Mouloua M. 02.006
Mulvenna M. 02.022
Muth E. 02.009
Press W.H. 02.002
Primi A. 02.017
1
В номерах рефератов алфавитного и предметного указателей год издания
РЖ (2014) опущен.
182
Reinerman-Jones L. 02.006
Resnik D.B. 02.003
Rosopa P. 02.009
Schaper-Rinkel P. 02.019
Scheufele D. 02.005
Schoen A. 02.025
Sokol M. 02.024
Sultan O. 02.017
Switzer F. 02.009
2014.02.032
Szalma J. 02.006
Tailor G. 02.006
Turgut E. 02.021
Varlander S.W. 02.011
Walker A. 02.009
Walker E. 02.030
Wunsch-Vincent S. 02.017
Xenos M. 02.005
2014.02.032
183
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Безопасность личности
– США 02.004
Биотехнологии
– морально-правовые проблемы
02.003
Высшее образование
– ОЭСР страны 02.029
– РФ 02.027, 02.028
– СССР 02.028
– США 02.030
– Япония 02.031, 02.032
Дискурс 02.011, 02.012, 02.029
Дискуссия научная
– история 02.010
Доверие 02.003
Женщины-ученые
– Индия 02.014
– Италия 02.013
Защита информации
индивидуальной
– США 02.004
«Индекс эффективности инноваций»
02.018
Инновационная политика
– Швеция 02.020
Инновационные кластеры
– Великобритания 02.016
– РФ 02.015
Инновационные системы 02.023
– национальные – рейтинг 02.017
– региональные
– – Словакия респ. 02.024
Инновационный аудит 02.017
Инновационный потенциал
– индикаторы 02.017, 02.018
Иностранные языки
– преподавание
– – Япония 02.031, 02.032
Интеллектуальная собственность
– ФРГ 02.025
– Швеция 02.020
Интернационализация образования
02.030
Информация научная 02.026
ИР 02.002
– ЕС страны 02.022
– РФ 02.015
ИР в высшей школе
– коммерциализация
– – Швеция 02.020
ИР фундаментальные
– США 02.002
Исследования науки и технологий
(STS) 02.001
Исследовательские сети 02.030
Исследовательские университеты
02.023
– ФРГ 02.025
2014.02.032
184
Качество образования
– РФ 02.027
Кластерная политика
– ЕС страны 02.015
Когнитивные ресурсы 02.006,
02.007, 02.008, 02.009
Консалтинг
– Великобритания 02.016
Малое предпринимательство
– ЕС страны 02.022
Молодые специалисты
– занятость
– – РФ 02.027
Моральная ответственность
– ученого 02.003
Нанотехнологии
– Сингапур 02.005
– США 02.005, 02.019
– ФРГ 02.019
Наука
– в Индии 02.014
– и общественное мнение 02.003,
02.005
– и общество 02.001, 02.002
– и религия 02.005
– и средства массовой информации
02.003
Научный текст 02.011
Научный этикет
– история 02.010
Неприкосновенность частной жизни
– США 02.004
Новые технологии 02.019
– морально-правовые проблемы
02.005
Открытые инновации 02.021
Патентование
– ФРГ 02.025
Передача технологий 02.023
– ФРГ 02.025
– Швеция 02.020
Популяризация науки
– Италия 02.013
– Россия 02.012
– СССР 02.012
Предпринимательство
инновационное 02.021
– Великобритания 02.016
– ЕС страны 02.022
Принятие решений
– психология 02.007, 02.008, 02.009
Профессиональное образование
– РФ 02.027
Профессорско-преподавательский
состав
– США 02.030
Публикации научные
– коммерциализация 02.026
Решение задач (психол.) 02.007
Риски технологические 02.005,
02.006
Силиконовая долина 02.024
Социология науки 02.005, 02.011
– США 02.030
– Швеция 02.020
Телесность 02.011
Университеты
– ФРГ 02.025
– Швеция 02.020
Управление инновациями 02.019,
02.021
Услуги интеллектуальные 02.016
Успешность обучения 02.008
Ценности социальные 02.005
Человек-машина система 02.006
Человек-оператор
– надежность 02.006, 02.007, 02.008
Экстремальные ситуации (психол.)
02.007, 02.008, 02.009
2014.02.032
Элита интеллектуальная
– Великобритания 02.010
– Германия 02.010
– Италия 02.013
185
Язык науки 02.011
Языковая политика
– Япония 02.031, 02.032
Составитель: В.Н. Маркова
2014.02.032
186
Уважаемые читатели!
В настоящее время вышли в свет:
Историко-философские проблемы науки: Сб. науч. тр. /
РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям; Отв. ред. Васюков В.Л. – М., 2013. – 334 с. –
(Сер.: Методологические проблемы развития науки и техники).
Содержится анали з работ западных иссл едователей науки, посвященных становлению пе рвой научной карт ины мира, важный вклад в создание которой внесли Коперник, Кеплер, Галилей,
Декарт. Завершение она нашла в трудах Ньютона.
Рационалистическая эпистемология конца XIX –
начала XX в. оказала огромное влияние и даже до
известной степени сформировала к онцепцию в ыдающегося фр анцузского историка науки А. Койре.
Науковедческие исследования, 2013: Сб. науч. тр. /
РАН. ИНИОН, Центр научн.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям; Отв. ред. Ракитов А.И. – М., 2013. – 274 с. –
(Сер.: Методологические проблемы развития науки и техники).
В сборнике рассматриваются общие те нденции развития современной науки и образов ания в России. Обсуждаются проблемы модерниз ации системы отечественной науки и образования
в свете перспектив и задач, намеченных в Стр атегии инновационного развития РФ на период до
2020 г.
Методологические проблемы генезиса науки: Сб.
науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. по науке,
образованию и технологиям; Отв. ред. Васюков В.Л. – М., 2013. –
218 с. – (Сер.: Методологические проблемы развития науки и
техники).
Сборник посвящен дискуссии по проблеме г енезиса науки, кото рую вели между собой сторо н-
2014.02.032
187
ники интерналистского (наука р азвивается по
своим внутренним законам) и экстерналистского
(становление науки происходит под влияние м социально-экономических условий) направлений. В нем представлены позиции таких ведущих философов и с оциологов
науки,
как
А. Койре,
Э. Цильзель,
Д. Нидам, Р. Мертон, Д. Прайс, Б. Нельсон и нек оторых других.
2014.02.032
188
Социальные и гуманитарные науки
Отечественная и зарубежная литература
Реферативный журнал
Серия 8
НАУКОВЕДЕНИЕ
2014 № 2
Художник обложки и художественный редактор М.Б. Шнайдерман
Техническое редактирование
и компьютерная верстка В.Б. Сумерова
Корректор В.И. Чеботарева
Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 27.03.2014 г.
Формат 60×84/16
Бум. офсетная № 1
Печать офсетная
Цена свободная
Усл. печ. л. 11,75
Уч.-изд. л. 9,5
Тираж 500 экз.
Заказ № 30
Институт научной информации по общественным наукам РАН
Нахимовский просп., д. 51/21 Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий:
E-mail: inion@bk.ru
Тел. /Факс +7(499) 120–4514
Также по вопросам распространения изданий обращаться к официальному
распространителю изданий ИНИОН РАН ООО «Агентство научных изданий»,
E-mail: ani-2000@list.ru
Отпечатано в ИНИОН РАН. Нахимовский просп., д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997,042(02)9