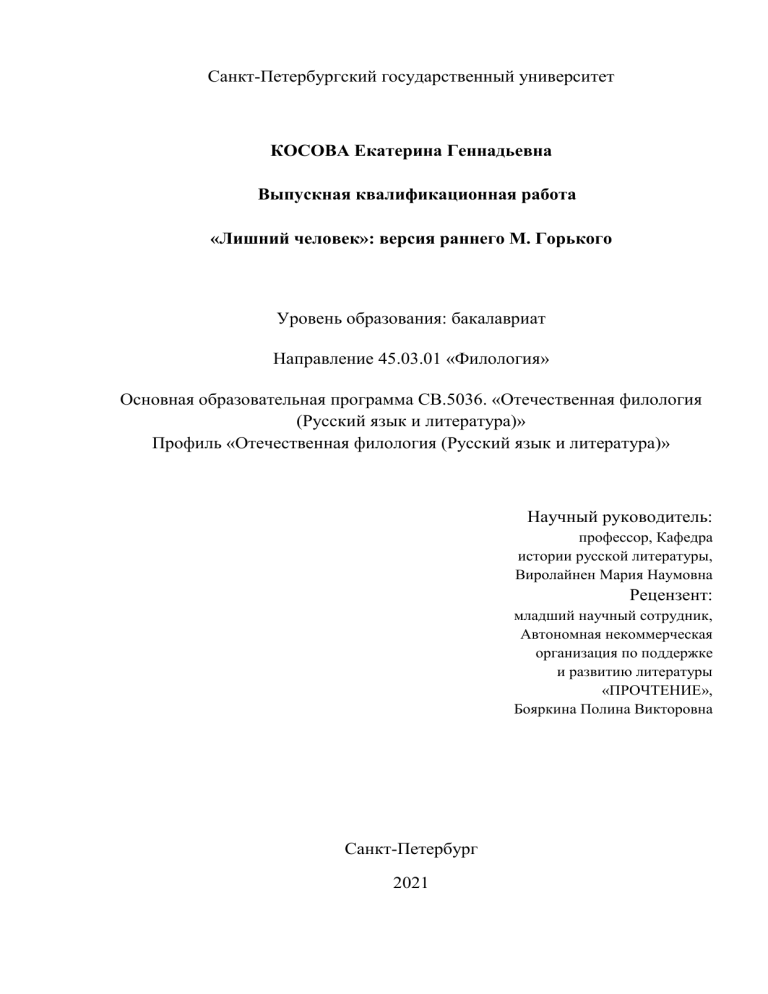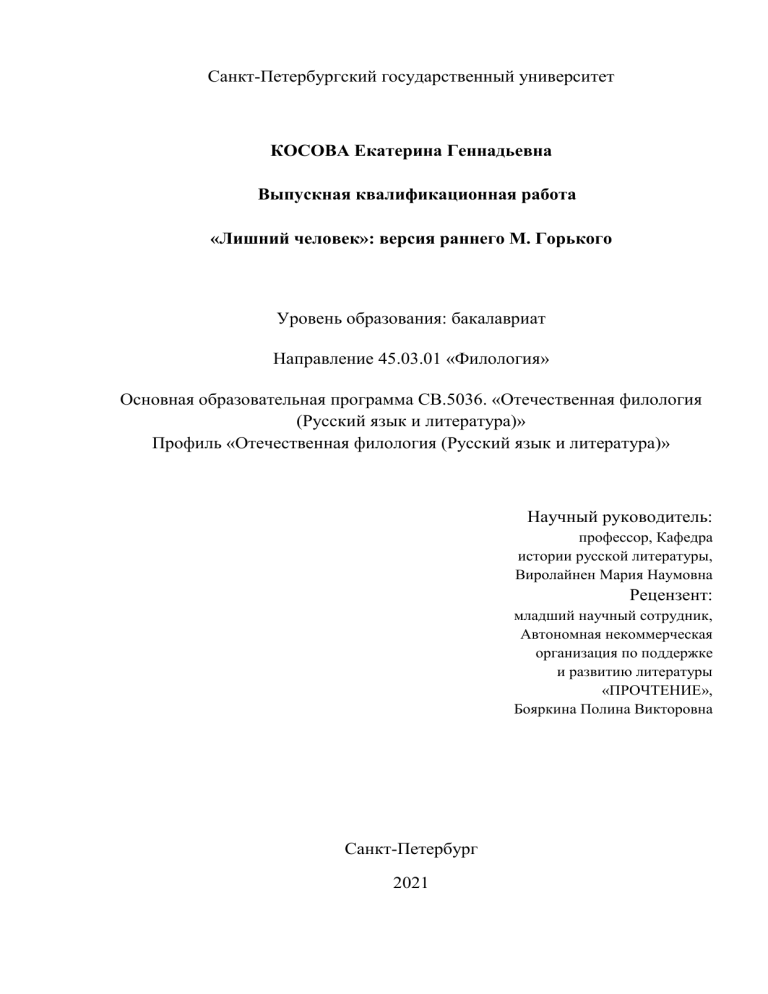
Санкт-Петербургский государственный университет
КОСОВА Екатерина Геннадьевна
Выпускная квалификационная работа
«Лишний человек»: версия раннего М. Горького
Уровень образования: бакалавриат
Направление 45.03.01 «Филология»
Основная образовательная программа СВ.5036. «Отечественная филология
(Русский язык и литература)»
Профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)»
Научный руководитель:
профессор, Кафедра
истории русской литературы,
Виролайнен Мария Наумовна
Рецензент:
младший научный сотрудник,
Автономная некоммерческая
организация по поддержке
и развитию литературы
«ПРОЧТЕНИЕ»,
Бояркина Полина Викторовна
Санкт-Петербург
2021
Оглавление
Введение ................................................................................................................... 3
Глава 1. Босяки Горького в прижизненной критике. .......................................... 6
Глава 2. Литературный генезис образа босяков. ............................................... 12
Глава 3. «Бывшие люди» с Въезжей улицы ....................................................... 20
Глава 4. «Лишние люди» городка Окурова ........................................................ 32
Заключение ............................................................................................................ 41
Список литературы ............................................................................................... 43
Введение
О типе «лишнего человека» русская критика заговорила во второй
половине XIX в., после выхода в 1850 г. повести И. С. Тургенева «Дневник
лишнего человека», но к числу «лишних людей» были вскоре отнесены и
герои более ранней литературной традиции во главе с Евгением Онегиным1.
Хотя в произведениях Горького «лишние» люди упоминаются не раз2,
сходный тип героя имеет в его творчестве и другое определение: «бывшие
люди», смысл которого писатель пояснил в 1933 г., говоря о пьесе «На дне»:
«Она явилась итогом моих почти двадцатилетних наблюдений над миром
“бывших людей”, к числу которых я отношу не только странников,
обитателей ночлежек и вообще “люмпенпролетариат”, но и некоторую часть
интеллигентов — “размагниченных”, разочарованных, оскорблённых и
униженных неудачами в жизни»3. Несмотря на то, что босяки и
интеллигенция упомянуты в одном ряду, нельзя не отметить различие в
социальном генезисе «бывших людей», которое важно учитывать при
разговоре о горьковской версии «лишнего человека».
Ранний Горький был воспринят читателями и критиками прежде всего
как поэт босячества. «При выходе в ту "страну тьмы и тени смертной",
которая называется босячеством, навсегда останется начертанным имя
Горького», — писал Д. С. Мережковский4. Неожиданным представляется то,
что критика практически сразу и единодушно возвела «бывших людей» к
Так, уже в писавшейся в 1850—1851 гг. работе А. И. Герцена «О развитии
революционных идей в России» герой пушкинского романа в стихах назвал «лишним
человеком» (см.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 204).
2
«А люди — как тараканы — совсем лишние на земле...» (см.: Горький М. Фома
Гордеев // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные произведения: В 25 т. М., 1969.
Т. 4. С. 359). «Ты везде лишняя... да и все люди на земле — лишние...» (см.: Горький М.
На дне // Там же. Т. 7. С. 128).
3
Горький М. О пьесах // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 26. С. 423.
4
Мережковский Д. С. Чехов и Горький // Максим Горький: Рro et contra: Личность
и творчество Максима Горького в оценке русских мыслителей и исследователей: 1890—
1910-е гг.: Антология. СПб., 1997. С. 645.
1
классическому типу «лишнего человека»5, — ведь в сложившейся традиции
русской литературы «лишний человек», как правило, обладал высоким
социальным статусом и образованием: представителями этого типа были
дворяне, реже — разночинцы. Как будто забывая о традиции, Горький
«переизобретает» этот тип, относя к нему представителей общества, не
подходящих под какой-либо класс, и лишь позднее обнаруживая сходные с
босяками черты в среде мещанства («Мещане», «Городок Окуров», «Жизнь
Матвея Кожемякина»), купечества («Фома Гордеев») и интеллигенции
(«Дачники», «Дети солнца»). Принципиальное отличие горьковских «лишних
людей» заключается именно в том, что сначала писатель применяет
метафизическое значение слова «лишний» к «бывшим людям», т. е. к тем,
которые оказываются «лишними» буквально, и это связано, в частности, с
новой постановкой проблемы влияния среды6.
Объектом предлагаемого исследования является ранее творчество
Максима Горького, а предметом — представленная в нем тема «лишнего
человека».
Цель работы — проследить, как трансформирован в творчестве
раннего Горького литературный тип «лишнего человека» (это коренное
изменение изначально было связано с темой босячества).
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
– описать восприятие темы босячества в прижизненной критике ранних
произведений Горького;
– эксплицировать литературный генезис темы «лишнего человека» в
творчестве раннего Горького;
– проанализировать развитие этой темы Горьким в ранний период его
творчества.
См. об этом: Поссе В. А. Певец протестующей тоски // Максим Горький: Рro et
contra. С. 231—232; Боцяновский В. Ф. В погоне за смыслом жизни // Там же. С. 251—
253; Скабичевский А. М. М. Горький. Очерки и рассказы // Там же. С. 271; Михайловский
Н. К. О г. Максиме Горьком и его героях // Там же. С. 346, 361.
6
См. об этом: Басинский П. В. Максим Горький // Русская литература рубежа веков:
(1890-е — начало 1920-х годов). М., 2001. Кн. 1. С. 515.
5
Материалом исследования являются ранние рассказы, повести и
драмы Горького; для подробного анализа избраны рассказ «Бывшие люди» и
повесть «Городок Окуров».
Глава 1. Босяки Горького в прижизненной критике.
Босяков Горького критика восприняла как новый тип героя,
характерные черты которого были вскоре подробно проанализированы и
описаны.
Н. Я. Стечкин в первой главе статьи «Максим Горький, его
творчество и его значение в истории русской словесности и в жизни
русского общества» (1904) дает определение созданному Горьким образу
босяка. Критик обращает внимание на то, как велика дистанция между
реальным босяком и его литературным воплощением, и вспоминает слова,
сказанные об этом типе персонажа рассказчиком в «Коновалове»: «С
внешней
стороны
Коновалов
до
мелочей
являлся
типичнейшим
золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше
убеждался,
что
имею
дело
с
разновидностью,
нарушавшей
мое
представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые
вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и
далеко не глупые...»7. Стечкин обвиняет Горького в том, что он выдумал
собственное учение, согласно которому босяк — это социальный класс, что
противоречит
изначальному
определению
босяка
как
человека,
ощущающего себя стесненным в детерминированной реальности общества8.
Но действительно ли Горький имел в виду социальную составляющую,
когда говорил о принадлежности Коновалова к особому «классу» людей?
Здесь мы сталкиваемся с тем, что характерно очерченный, «в лохмотьях, с
хулою на устах»9 социальный тип золоторотца совмещен в ранних рассказах
Горького с литературным типом, который оказывается гораздо сложнее, чем
списанный с натуры тип босяка.
Среди главных черт босяков критики выделяли их крайний
индивидуализм, объясняемый как социальными, так и философскими
Горький М. Коновалов // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. Т. 3. С. 25.
8
Стечкин Н. Я. Максим Горький, его творчество и его значение в истории русской
словесности и в жизни русского общества // Максим Горький: Рro et contra. С. 473.
9
Там же. С. 467.
7
предпосылками. Индивидуализм назывался в числе причин, по которым
горьковские
герои
становились
«бывшими
людьми».
Попытка
рассматривать босяков как особый общественный класс невозможна именно
ввиду того, что они — «эготисты», как называет их Н. К. Михайловский, и
неспособны составить какую-либо постоянную группировку. В связи с этим
критик
вспоминает
о
«чувстве
чандала», описанном
Ницше:
оно
проявляется в «ненависти ко всему существующему» и в попрании
человеческих законов. В отличие от цыган, кочующих табором, босяки
странствуют в одиночестве10. М. В. Гельрот11 и В. Ф. Боцяновский12
объясняют босяцкий индивидуализм романтическим складом натуры
«бывшего человека», который, как пушкинский Фауст, готов «всё утопить»,
лишь бы отстоять свою независимость от «организованного общежития»13.
Основной причиной индивидуализма босяков называлось желание
безграничной воли, а следствием — бродяжничество, в котором обреталось
«сознание своей очевидной независимости от всех требований и оков
общественности,
нравственности,
религии»14.
С
концепцией
индивидуализма связана оговорка, которую делают большинство критиков,
обсуждая проблему человека-творца у Горького. У его героев хватает духу
на то, чтобы вырваться из оков общественности и морали, но на этом их
реальная сила заканчивается. Как отмечает Боцяновский, о способах
«перестроить» природу человека говорит герой рассказа «Ошибка»15:
«Рассеянные повсюду <…> погибают от <…> от невозможности свободно
ходить и думать... И вот их я соберу воедино и выведу вон из жизни в
Михайловский Н. К. О г. Максиме Горьком и его героях. С. 369.
Гельрот М. В. Ницше и Горький (Элементы ницшеанства в творчестве Горького) //
Максим Горький: Рro et contra. С. 425—426.
12
Боцяновский В. Ф. В погоне за смыслом жизни // Максим Горький: Рro et contra. С.
255.
13
Гельрот М. В. Ницше и Горький (Элементы ницшеанства в творчестве Горького).
С. 367.
14
Стечкин Н. Я. Максим Горький, его творчество и его значение в истории русской
словесности и в жизни русского общества. С. 467.
15
См.: Боцяновский В. Ф. В погоне за смыслом жизни // Максим Горький: Рro et
contra. С. 256—257.
10
11
пустыню и там устрою им будку всеобщего спасения. <…> "Твори, ибо ты
человек!" — прикажу я каждому», — говорит Кравцов16. Однако в самом
повелительном наклонении этого заявления звучит противоречие идее
свободы, а герой может быть интерпретирован как диктатор.
Идея устроения свободного и гармоничного государства недостижима
не только в силу своей утопичности, но и, в случае босяков, потому что для
истинного «вочеловечения» «бывшим людям» «не хватает достаточного
количества любви к человеческим массам, не хватает альтруизма, вопервых, а во-вторых, нет у них "духа строительного"», как справедливо
отмечает Боцяновский17. С этой мыслью перекликаются слова Поссе о
горьковских героях: «Они, с одной стороны, слишком индивидуальны,
чтобы спокойно брести с людским стадом, с другой, недостаточно сильны и
развиты, чтобы подняться над ними и примкнуть к людям будущего» 18.
Непокорность в них оказывается сильнее желания найти «свою тропу»,
вследствие чего герои остаются навсегда беспутными: «Люди эти порвали
все старые общественные связи и не нажили никаких новых. Самые пылкие
их мечты лишены какого бы то ни было общественного характера и
пропитаны индивидуализмом»19.
Бродяжничество, по мнению критиков, является единственным
условием хотя бы временного покоя горьковских «беспокойных людей»,
причем интересно, как по-разному оно истолковывается. Михайловский
считает, что бродяжничество исключает любую возможность найти свое
место в мире: «Это "всюду на своем месте" надо <…> понимать только в
отрицательном смысле, в том смысле, что "нет у них родины, нет им
изгнания"»20. Боцяновский же видит в бродяжьей жизни конечный пункт
назначения поисков босяками «своей точки», вспоминая при этом
Горький М. Ошибка
// Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. Т. 1. С. 116.
17
Боцяновский В. Ф. В погоне за смыслом жизни. С. 257.
18
Поссе В. А. Певец протестующей тоски. С. 229.
19
Михайловский Н. К. О г. Максиме Горьком и его героях. С. 343.
20
Там же.
16
рассуждение рассказчика в «Коновалове», в котором он, вслед за многими
героями ранних рассказов Горького, проповедует уход в босяки 21. Герои
«Максима Горького как будто не столько вышвырнуты из этого строя
какими-нибудь внешними, объективными условиями, сколько сами ушли из
него, добровольно, побуждаемые жаждою свободы, наилучше для них
удовлетворяемою бродячьей жизнью», — пишет Михайловский, приводя
целый ряд цитат в духе «ходи, знай, по земле и никому не поддавайся»22.
Критик считает принципиальным тот факт, что горьковский босяк
бродяжничает по собственному желанию, а не в силу обстоятельств:
«собственной волей он "взял свою судьбу" и сделал из себя бродягу "по
принципу"»23.
Таким же принципом становится для босяков презрение к рефлексии,
отмеченное Гельротом24. «Бегство от дум», которое проповедуют старуха
Изергиль и Макар Чудра, восходит к вполне ясной философии, о которой
сам Горький значительно позднее писал в статье «О мещанстве» (1929)25.
Отмечалось, что «бывшим людям» свойственна «тоска-злоба», которая
объясняется
неудовлетворенностью
мироустройством
и
обвинением
«подлой жизни» во всех человеческих злоключениях, а также негодующим
и одновременно бессильным фатализм26. Противоположным этому в
художественном мире Горького становится явление, которое Гельрот назвал
«биодицеей»27. Те из горьковских героев, которые «жадны жить» и,
Боцяновский В. Ф. В погоне за смыслом жизни. С. 258.
Михайловский Н. К. О г. Максиме Горьком и его героях. С. 339—340.
23
Там же. С. 347.
24
См.: Гельрот М. В. Ницше и Горький. С. 405.
25
«Русский мещанин издревле воспитывался в недоверии к разуму и даже во вражде
к нему. <…> Начиная с "Переписки" Гоголя и до наших дней, мы, среди крупнейших
писателей русских, не много найдём людей, которые ценили бы творческую силу разума
по его действительно грандиозным заслугам перед человечеством. Л.Н.Толстой ещё в
1851 году писал в "Дневнике": "Сознание — величайшее зло, которое только может
постичь человека".<…> Один из талантливейших современных писателей влагает в уста
героя своего такие слова: "Мысль — вот источник страдания. Того, кто истребит мысль,
человечество вознесёт в памяти своей"» (Горький М. О мещанстве // Горький М. Собр.
соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 25. С. 22).
26
Поссе В. А. Певец протестующей тоски. С. 229—230.
27
Гельрот М. В. Ницше и Горький. С. 384
21
22
согласно концепции Михайловского, сами властвуют над своей судьбой,
достигают высшей степени свободы и находят оправдание жизни в ней
самой.
Таких
героев
Гельрот
относит
к
«действительным
или
потенциальным творцам жизни, ее "устроителям"»28.
В 1909 г. Горький писал, что для того, «чтобы понять психику героя,
сначала необходимо определить его социальное положение»29. Создавая
своих босяков, писатель несомненно руководствовался этим принципом.
Кроме того, Горький располагал богатейшим опытом наблюдений той
среды, которую изображал. И тем не менее созданный им тип босяка
оказался очень далек от своего жизненного прототипа. Несостоятельность
представления, будто этот тип списан с натуры, проявляется уже в том, что
речи и мысли горьковских босяков не соответствуют социальному слою, к
которому они относятся. Михайловский отмечал, что все герои ранних
рассказов Горького больше похожи не на босяков, а на философов и поэтов,
которых автор наделил своими собственными мыслями30. В большинстве
критических статей постулируется, что в босяке гораздо больше качеств
интеллигента, чем пролетария. «Бывшие люди» считают себя выше
мужиков, а на интеллигенцию «наиболее развитые из них смотрят как на
своего брата, на брата ученого, обязанного давать "указание пути жизни"»31.
Недостаточность социальной трактовки образа босяков отмечал Д. С.
Мережковский,
различая
босячество
социально-экономическое
и
внутренне-психологическое. Гордость горьковских «бывших людей» он
сравнивал с желчностью «подпольного человека» Достоевского, которая
порождает бунт не общественный, а метафизический.
Мережковский
называл босяков «сверхчеловечками», потому что Горький сообщил им тот
склад мышления, который вырабатывается у последователей ницшеанства.
А в том, что находящиеся «выше окружающей среды» герои, в конечном
Там же. С. 419
Горький М. Разрушение личности // Максим Горький: Рro et contra. С. 64.
30
Михайловский Н. К. О г. Максиме Горьком и его героях. С. 337.
31
Поссе В. А. Певец протестующей тоски. С. 235.
28
29
счете, вытесненные, оказываются опрокинутыми на социальное дно,
Мережковский видел «зияющее противоречие босяцкой метафизики»32.
Влиянием ницшеанских идей объяснял несоответствие мировоззрения
горьковских босяков их социальному положению не только Мережковский,
о том же писали Н. Минский33; Михайловский34, а также Гельрот35. Не
менее важным представляется то, что горьковские босяки имеют большую
литературную генеалогию, это тип не только (и, возможно, не столько)
социальный, сколько литературный, о чем и пойдет речь в следующей
главе.
32
Мережковский Д. С. Чехов и Горький // Максим Горький: Рro et contra. С. 654—
662.
Минский Н. М. Философия тоски и жажда воли // Максим Горький: Рro et contra. С.
309, 314.
34
Михайловский Н. К. О г. Максиме Горьком и его героях. С. 370—376.
35
Гельрот М. В. Ницше и Горький. 381—429.
33
Глава 2. Литературный генезис образа босяков.
А.
М.
Скабичевский
считал,
что
тип
босяка
восходит
к
архетипическому образу русского скитальца36. В числе литературных
предшественников горьковских босяков называли
Онегина, Печорина,
Бельтова, Базарова, Марка Волохова37, пушкинского Фауста38, героев
Тургенева, прежде всего Рудина39, Ставрогина40. Этот ряд героев получил в
русской критике репутацию «лишних людей»; в статьях, им посвященных,
неизменно вставала проблема «влияния среды»41. Не случайно поэтому, что
та же проблема обсуждалась при сопоставлении горьковских босяков с
«лишними людьми». Классическая трактовка проблемы «лишнего человека»,
восходящая к натуральной школе, описана в статье «"Дневник лишнего
человека" в движении русской литературы» В. М. Марковича. Тургеневский
«лишний человек» не вытеснен из общества, но внешние обстоятельства
лишают его свободы воли в обезличивающей и подавляющей среде,
типичным представителем которой он неизбежно становится42.
Боцяновский отмечает, что пресловутым софизмом о «заевшей среде»
успокаивали себя «зараженные "кладбищенством"» тургеневские Гамлеты
Щигровского уезда, и в конце концов смирялись с окружавшей их пошлой
обстановкой. Горьковский же «лишний человек», беспокойный по своей
натуре,
не
склонен
оправдывать
свое
положение
внешними
обстоятельствами43. Он «сознает, что эта среда и эти условия могут сделаться
Скабичевский А. М. М. Горький. Очерки и рассказы. С. 271.
Там же. С. 271
38
Михайловский Н. К. О г. Максиме Горьком и его героях. С. 345.
39
Поссе В. А. Певец протестующей тоски. С. 231—232; Боцяновский В. Ф. В погоне
за смыслом жизни. С. 251—253; Скабичевский А. М. М. Горький. Очерки и рассказы. С.
271.
40
Михайловский Н. К. О г. Максиме Горьком и его героях. С. 361.
41
См., например: Заика С. В. Творчество А. М. Горького и проблема литературной
преемственности (90-е начало 900-х годов) // Русская литература. 1982. № 1. С. 21—23.
42
Маркович В. М. «Дневник лишнего человека» в движении русской реалистической
литературы // Русская литература. 1984. № 3. С. 98, 102—103.
43
Боцяновский В. Ф. В погоне за смыслом жизни. С. 252 .
36
37
жертвою "заразного духа" — тления и смерти, которые он носит в себе»44.
Горького интересуют персонажи, которые резко «выламываются» из среды:
«Фигура босяка <…> несла в себе начало нарушения и ломки обычных
социальных рамок, ломки того, что составляло сущность "типического"»45.
Подобное решение вопроса влияния среды было для конца 1890-х гг.
новаторским.
Полемика Горького с традиционным детерминистским представлением
о среде, как точно заметил Гельрот46, выражена в диалоге рассказчика
интеллигента с босяком Коноваловым. После торжественной речи «об
условиях и среде, о неравенстве, о людях — жертвах жизни и о людях —
владыках ее» рассказчик ждет от Коновалова восторженной реакции, в ответ
же получает лишь обвинение в «слабости сердцем»47. Фразой «Каждый
человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец!»48
Коновалов дает однозначный ответ на герценовское «Кто виноват?».
Сопоставление горьковских босяков с типом «лишнего человека» дает
повод рассмотреть генезис созданного Горьким героя в рамках всего XIX
века, а не только второй его половины. Более того: оно дает повод
рассмотреть его в контексте не только русской, но и европейской
литературы.
Не
предшественников
случайно
первым
горьковских
в
героев
ряду
названных
стоит
Онегин,
критиками
казалось
бы,
бесконечно далекий от босяков и «бывших людей». Это позволяет нам
говорить об «онегинском» типе героя, который лишь на определенном
историческом этапе стал трактоваться как тип «лишнего человека»49, а затем
— неожиданно — предстал в образе босяка.
Мережковский Д. С. Чехов и Горький. С. 654.
Бялик Б. А. Эстетические взгляды Горького. Л., 1939. С. 203.
46
Гельрот М. В. Ницше и Горький. 395.
47
Горький М. Коновалов. С. 24.
48
Там же. С. 25.
49
Рассмотрению этого типа героя, проходящего через весь XIX век, посвящена
кандидатская диссертация П. В. Бояркиной: Бояркина П. В. Онегинский тип героя:
литературная
эволюция.
СПб.,
2020.
http://pushkinskijdom.ru/wpcontent/uploads/2020/05/Boyarkina_dissertatsiya.pdf
44
45
Косвенные указания на то, что герои раннего Горького должны
рассматриваться именно в таком — широком, не только русском, но и
европейском — контексте, можно встретить и в прижизненной критике.
Рассуждая о диковинных ницшеанцах из среды бедноты и босячества,
Скабичевский
вспоминает
и
пушкинский
байронизм,
и
влияние
французского романтизма, испытанное русскими писателями. В увлечении
Ницше он видит продолжение той же, начавшейся с Пушкина, линии
литературных исканий сильного героя50.
Рассматривая ретроспективу «героев времени» XIX века, Скабичевский
объединил их общей чертой — страстью к бродяжничеству, истоки которой
лежат в духе русского народа и которая зависит не столько от влияния среды,
сколько от исключительного характера персонажей:
В самом деле, что такое представляют собою все так называемые
герои времени, — Евгений Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин,
Базаров, Марк Волохов — как не в своем роде интеллигентных
бродяг, и обратите внимание, что всем этим интеллигентным
бродягам наиболее сочувствовали современные читатели51.
Бродяжничество горьковских «бывших людей», отмечается всеми
критиками. Но в этой особенности следует видеть не что иное как
модификацию типа скитальца, создателем которого в русской литературе Ф.
М. Достоевский объявил А. С. Пушкина:
Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца
в родной земле, того исторического русского страдальца, столь
исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе
нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот
верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в
нашей Русской земле, поселившийся. Эти русские бездомные
Скабичевский А. М. Новые черты в таланте г. М. Горького // Максим Горький: Pro
et contra. С. 288—290.
51
Скабичевский А. М. М. Горький. Очерки и рассказы. С. 271.
50
скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго,
кажется, не исчезнут52.
Преемствуя Пушкину и послепушкинской традиции, герои Горького
оказываются связаны и с той европейской традицией, к которой восходит
«онегинский» тип. О европейском литературном генезисе такого героя
подробно пишет П. В. Бояркина, демонстрируя, что в пушкинском Евгении
соединены два совершенно разных типа персонажей. Один из них
представлен героями «демоническими» (они появляются в восточных поэмах
Байрона, а также в произведениях Метьюрина, Полидори и Нодье), другой —
героями пассивными и рефлексирующими (Адольф, ЧайльдГарольд, Рене,
отчасти байроновский Дон Жуан). В послепушкинской русской литературной
традиции эти два типа то разводились, то вновь совмещались, причем
«лишний человек» чаще тяготел к полюсу пассивности53.
В 1932 г. Горький написал предисловие к книге, в которой были рядом
помещены «Рене» Шатобриана и «Адольф» Бенжамена Констана. Размышляя
о типе героя, воплощенного в этих повестях, он тоже различил две его
вариации:
Случилось так, что литераторы <…> обратили свое внимание на
молодого человека средних качеств и в продолжение целого столетия
изображали под разными именами и фамилиями все одно и то же лицо.
Они так часто писали портреты его, что он, повторенный сотни раз,
уверовал в "неповторимость личности". Разумеется, Чацкий, герои
Байрона, "Сын века" Альфреда Мюссэ и Печорин внешне не очень
похожи на таких увальней, как Обломов, Нехлюдов, Оберман, Адольф,
но все же они — дети одной матери. Жюльен Сорель, Раскольников и
Грелу — их родные братья, но, разумеется, смелее и активнее; эти трое,
Достоевский Ф. М. Пушкин (Очерк) // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т.
Л., 1984. Т. 26. С. 137.
53
Бояркина П. В. 1) Онегинский тип героя: литературная эволюция. СПб., 2020. С.
123; 128; 140—144; 164—165; 170—175; 187; 2) Онегинский тип героя в русской
литературной традиции // Вестник Челябинского государственного университета. 2018. №
4 (414). С. 33‒ 43 (Сер. «Филологические науки». Вып. 112).
52
проверяя "исключительность" свою, не останавливались и пред
убийствами. Старшие братья Карамазовы имели духовных братьев
своих среди немецкой молодежи XVIII века, и если б Карамазов-отец
внимательно прочитал пьесы Шиллера "Дон Карлос", "Разбойники", —
дети были бы более понятны ему. Общее и неоспоримое, что роднит
почти всех героев европейской и русской литературы XIX века, это —
кроме их социальной слепоты и глухоты — пристрастие к бесплодным
размышлениям в условиях полного безделья.54
Примечательно, что среди горьковских персонажей представлен как
пассивный, так и демонической тип «лишнего» героя. Босяки тяготеют к
«демоническому» типу, и неслучайно Стечкин называет Орлова из рассказа
«Супруги Орловы» новым кабацким Фаустом55. Главными чертами,
присущими горьковским босякам, являются демоническая гордость и
неразличение границ добра и зла. Горьковские босяки «жадны жить», но на
жалость к человеку и его жизни они не способны. Закон «сегодня ты меня,
завтра я тебя»56, по которому живет Челкаш и вся когорта кочующих
босяков, возможен только среди тех, кому нечего терять. Убийство, не
совершенное Гаврилой в рассказе «Челкаш»,
изображено в рассказе «В
степи», в котором на вопрос о несправедливо убитом столяре рассказчик
отвечает: «Я не виноват в том, что с ним случилось, как вы не виноваты в
том, что случилось со мной... И никто ни в чём не виноват, ибо все мы
одинаково — скоты»57.
Совсем другой смысл приобретает преступление в рассказе «Трое»58.
Убийство Ильей Луневым менялы Полуэткова, как говорит П. В. Басинский,
Горький М. История молодого человека // Горький М. Полн. собр. соч.: В 30 т.
Т. 26. С. 167.
55
Стечкин Н. Я. Максим Горький, его творчество и его значение в истории русской
словесности и в жизни русского общества. С. 476.
56
Горький М. Челкаш // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. Т. 2. С. 40.
57
Горький М. В степи // Там же. Т. 3. С. 186.
58
См. Юзовский Ю. Спор Горького с Достоевским // Вопросы литературы. 1959. №
5. C. 104—144.
54
— это бессознательно совершенное им убийство бога, которое может быть
сопоставлено с преступлением Раскольникова59. Но ужас убийства Лунева
именно в том, что оно становится последней точкой доказательства
отсутствия в мире божественного начала: отчаянная месть неправильно
устроенному мирозданию оборачивается для героя ощущением еще большей
бессмысленности и приводит его к самоубийству.
Показательно, что бунт, на который идут такие герои, как купцы Илья
Лунев и Фома Гордеев, осуществляется по тем же законам, которые
вынуждают их сопротивляться. В яростных попытках вырваться из пошлого
купеческого сословия Фома Гордеев своими поступками, среди которых
мало достойных, всё больше утверждает себя порождением ненавистной ему
среды, и тем более самообличительными оказываются его речи.
С другой стороны, чем теснее связь героя с сословием, из которого он
происходит, и чем, соответственно, выше его социальный статус, тем более
пассивным он становится. Герои «Мещан», «Дачников» и «Детей солнца»
уже не скитаются по миру в поисках «своей точки», но тем шире открывается
простор для блуждания мысли. Мещане Петр и Татьяна, дети старика
Бессеменова, — люди с врожденной склонностью к рефлексии, вытесняющей
все остальные склонности. Татьяна, которая уже в начале пьесы добровольно
исключает для себя активное участие в жизни, в конце концов совершает
неудачную попытку самоубийства.
О «Детях солнца» В. Ф. Ходасевич
писал: «Горький увидел уже с ясностью, что "человеки", низведенные на
землю, еще слабее "бедных детей земли", слабее потому, что они лишены
всякой способности к активному утверждению своей личности»60. Пьеса
«Дачники» представляет собой бесконечный разговор о бессмысленности
интеллигентских разговоров: «Мы суетимся, ищем в жизни удобных мест...
См.: Басинский П. В. Горький. М., 2006. С. 168—174.
Ходасевич В. Ф. Сб. Т<оварищест>ва «Знание». Книга 7 // Ходасевич В. Ф. Собр.
соч.: В 8 т. М., 2009–2010. Т. 2. С. 32.
59
60
мы ничего не делаем и отвратительно много говорим»61. В отличие от
босяков,
которые
отринули
прежнюю
мораль,
«дачники»
все
еще
размышляют о том, «кто виноват».
Самым пассивным из босяков критики считали Коновалова, но даже
после признании себя человеком, не нашедшим своей «точки», он говорит:
«Ищу, тоскую — не нахожу!»62. Его тоска происходит не от пресыщения, а
от желания и невозможности совершить настоящее действие. Чем больше в
героях злости «бывших людей», тем на больший протест они готовы63.
Однако Орлов, который хочет «раздробить всю землю» 64, «вертепный
Демон», как его называет Стечкин65, после того как выбирается со дна,
устроившись в холерный барак и начав чувствовать себя нужным человеком,
вскоре снова оказывается на дне жизни.
Как отмечал Б. А. Бялик, бесчисленные горьковские босяки не могли
удостоиться того звания Человека, которое звучит гордо66. Исследователь
объяснял это тем, что Горький пытался объединить реалистический и
романтический подходы при создании персонажей, вследствие чего герои его
«рассказов и повестей <…> мечтали о том, чтобы стать героями его сказок и
легенд», что, конечно, было неосуществимо67. Романтический аспект не
сочетался с социальной детерминированностью, и героические подвиги
подменялись «хулиганством», что нашло теоретическое отражение в статье
Горького «Разрушение личности» (1909), в которой он говорит о развитии
типа национального героя «от Прометея до хулигана»68.
Горький М. Дачники // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. Т. 7. С. 276.
62
Горький М. Коновалов. С. 25.
63
Поссе В. А. Певец протестующей тоски. С. 232—233;
64
Горький М. Супруги Орловы // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. Т. 3. С. 276.
65
Стечкин Н. Я. Максим Горький, его творчество и его значение в истории русской
словесности и в жизни русского общества. С. 476.
66
Бялик Б. А. Эстетические взгляды Горького. С. 205.
67
Там же. С. 202—203.
68
Горький М. Разрушение личности. С. 49—95.
61
Важно, что термин «лишний человек», как правило, применялся к
конкретной масштабной разновидности героя, чей образ не вполне вмещался
в понятие «лишнего», а имя могло становиться нарицательным. Однако тем
интереснее, что в произведениях Горького мы не можем выделить
единственного героя, который был бы обобщающим представителем типа
«лишнего человека»: у него мы находим вереницу персонажей, образы
которых дополняют друг друга. Лишь в своей совокупности они дают
представление о том, как видит Горький проблему «лишнего человека». Он
помещает своих героев в ситуацию, когда они уже не принадлежат какому-то
сословию, в котором чувствуют себя неуместными, но лишними от этого
быть не перестают69. Горьким по-новому трактуется тематика, выдвинутая во
второй половине XIX в. — прежде всего, связанная с проблемой среды.
Рассмотрим это на примере рассказа «Бывшие люди» (1897).
См.: Заика С. В. Творчество А. М. Горького и проблема литературной
преемственности (90-е начало 900-х годов). С. 16—31.
69
Глава 3. «Бывшие люди» с Въезжей улицы
Рассказ «Бывшие люди», написанный в 1897 году, не первое, но одно
из наиболее репрезентативных произведений, где появляется подобный тип
персонажа. Заглавие рассказа, по-видимому, свидетельствует о том, что
Горький придавал ему особенное значение. С одной стороны, заглавие
заставляет вспомнить о «лишних людях», с другой — отсылает к дебютной
повести Достоевского «Бедные люди». По сравнению с Достоевским
Горький как будто делает следующий шаг, изображает еще более
униженных и оскорбленных героев — тех, кто оказался вообще за чертой
нормального человеческого бытия. В выборе заглавия Горький не ошибся:
словосочетание «бывшие люди» закрепилось в культурной традиции
именно в том смысле, который придал ему писатель.
В рассказе подробно очерчен мир, в котором живут «бывшие люди».
Художественное пространство у Горького всегда имеет символический
смысл: местом обитания «бывших людей» часто оказывается «не-место»,
окраина или обочина жизни, с которой открывается мнимый взгляд на весь
мир. Этот взгляд, искаженный сделанными горькими выводами о мире
людей, которые «полонили жизнь», приводит к мрачным обобщениям и
невозможности увидеть что-то кроме темноты.
Рассказ начинается с описания улицы Въезжей, замкнутого в себе
места действия. «Это два ряда одноэтажных лачужек, тесно прижавшихся
друг к другу, ветхих, с кривыми стенами и перекошенными окнами; <…>
над ними кое-где торчат высокие шесты со скворечницами, их осеняет
пыльная зелень бузины и корявых ветел — жалкая флора городских окраин,
населенных
беднотою»70.
В
русской
литературе
действие
нередко
происходит в уездном городе, но изображение Горьким пограничной
территории между городом и степью можно назвать новаторским.
Горький М. Бывшие люди // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. Т. 3. С. 278.
70
Очевидно, что на улицу «Въезжую» герои рассказа вытеснены из города,
который находится на вершине горы.
«В дожди город спускает на Въезжую улицу свою грязь, в сухое время
осыпает ее пылью, — и все эти уродливые домики кажутся тоже
сброшенными оттуда, сверху, сметенными, как мусор, чьей-то могучей
рукой»71. Здесь важен мотив предопределенности, который и дальше будет
звучать в тексте: детерминированность пространства обозначена тем, что
есть некая могучая сила, распорядившаяся соорудить мир именно таким
образом. Эту мысль можно было бы принять за авторскую точку зрения,
однако сам Горький считал фатализм национальным недугом, который был
следствием
пассивного
отношения
русского
человека
к
жизни
и
оправданием своего бессилия72. Исследователь творчества раннего Горького
Э. И. Бабаян писал: «В каждом горьковском босяке <…> непонимание
жизни и отступление перед ней, готовность признать ее всесильную власть
над человеком царит безраздельно, накладывая “каинову” печать на его
размышления, сетования, мечты и поступки»73. Как мы увидим далее,
фатализм свойственен и тем «бывшим людям», сила характера которых на
первый взгляд не подлежит сомнению.
Расположив город высоко над Въезжей, Горький не раз затем
обыгрывает семантику верха и низа, сталкивая друг с другом буквальный и
переносный смыслы. «Бывший человек» может быть «сброшен из города за
пьянство
или
по
какой-нибудь
опустившимся
вниз»74.
«опустившиеся
до
другой
«Сброшенные»,
ночлежки»
люди
основательной
причине
«скатившиеся»
из
города,
упоминаются
в
рассказе
неоднократно75.
Там же. Курсив мой. — Е. К.
См.: Горький М. О писателях-самоучках // Горький М. Полн. собр. соч.: В 30 т.
Т. 24. С.126.
73
Бабаян Э. И. Ранний Горький: У идейных истоков творчества. М., 1973. С. 196.
74
Горький М. Бывшие люди. С. 280.
75
См.: Там же. С. 280, 284.
71
72
Следуя традиции реалистического бытописания, Горький, тем не
менее, обрисовку ночлежки тоже насыщает символическими деталями.
«Самый дом необитаем, но в этом здании, раньше кузнице, теперь
помещалась "ночлежка"»76. Дом назван необитаемым, даже несмотря на то,
что в нем ночуют люди. То есть пребывание героев ночью в этом «неместе»
как
будто
не считается
на
человеческом языке жизнью.
Примечательно упоминание, что раньше дом был кузницей: кузнецы во
многих мифологиях выступают в качестве культурных героев, но в
горьковских кузницах мы находим только слабых персонажей, не
способных на подвиги. В 1908 году Горький написал повесть «Жизнь
ненужного человека» (в данном случае очевидна перекличка с заглавием
«Дневник лишнего человека»), главный герой которой Евсей Климков
вырос в кузнице своего дяди, однако оказался не творцом жизни, а
неприспособленным к ней человеком. В рассказе «Бывшие люди» и сама
кузница
оказывается
«бывшей».
В
ночлежке
несостоявшимся
или
«бывшим» героем становится ее хозяин, в прошлом ротмистр, Аристид
Кувалда, фамилия которого этимологически родственна корню глагола
«ковать». Возможно, ради аналогии с хромоногим Гефестом Горький делает
своего героя «колченогим»77. Его имя связано с героическим прошлым:
Аристид — это древнегреческий полководец, который прославился своей
справедливостью и который, что интересно, упоминается в одном из ранних
рассказов Горького «Разговор по душе» (1893):
Где ваши лучшие люди? — так и я спрошу: где великий гражданин
Брут? Где справедливый Аристид? Где блаженный Августин, человек,
влагавший в каждое слово своей речи всё своё страстное сердце? Где
великие люди добродетели? Где цельный человек? — Тени вокруг
меня витают, холодные, бескровные тени, а не люди!78
Там же. С. 279.
Там же. С. 280.
78
Горький М. Разговор по душе // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. Т. 1. С. 222.
76
77
«Лучшие люди» вымерли, как амаликитяне с филистимлянами, о
которых Тяпа спрашивает учителя, и остались только «бывшие люди» без
рода и племени. Они лишь временно пребывают в ночлежке, которая
практически сливается с окружающим природным рельефом. Дом «крайний
в порядке, он уже под горой, дальше за ним широко развертывается поле,
обрезанное в полуверсте крутым обрывом к реке»79. Въезжая улица — это
некая «терминальная» территория, следующий шаг из которой — только
босиком в степь.
Горький подробно рассказывает, кем были в прошлом обитатели
бывшей кузницы: это бывший лесничий, бывший тюремный смотритель,
бывший механик, бывший дьякон, бывшие мужики… Иногда описаны и
ступени, по которым спустился на Въезжую ее обитатель. Так, Аристид
Кувалда, дворянин и ротмистр в отставке, был владельцем типографии,
потом владельцем бюро для рекомендации прислуги и наконец —
съемщиком кузницы. К концу рассказа он лишается и этого, последнего
своего «владения».
Ворота, ведущие во двор ночлежки, «отворены — одна половинка их,
сорванная с петель, лежит на земле, и в щели, между ее досками, проросла
трава»80. Подобно одной половине ворот, сорванной с петель, постояльцы
оторваны от цельности мира и будто не могут присоединиться к нему,
поскольку
стыковочная
часть
повреждена.
Кувалда
называет
их
«обломками»81, а впервые вступая в ночлежку, они проходят своеобразный
обряд инициации, показывая Кувалде свои документы. «Что за человек?»,
— первый вопрос ротмистра пришедшему, за которым следует просьба
«представить в подтверждение вранья законную бумагу»82. «Ротмистр совал
ее за пазуху, редко интересуясь ее содержанием, и говорил: "Все в
Горький М. Бывшие люди. С. 278—279.
Там же.
81
Там же. С. 281.
82
Там же. С. 280.
79
80
порядке"»83. «Бывшее», то есть прошлое, теперь утрачивало значение.
Определение «бывший» отрицало связь человека с некогда имевшейся у
него общественной ролью, со всеми его прежними социальными званиями,
и оставался только «человек». В финале рассказа, когда «бывшие люди»
оказываются изгнанными из своего последнего убежища, один из героев, в
последний раз выходя из ночлежки, на вопрос: «Ты кто?» отвечает:
«Человек!»84.
Из людей, изображенных в рассказе, наиболее близкими к типу
«лишнего человека», оказываются трое — Кувалда, учитель Филипп Титов
и тряпичник Тяпа, причем Кувалда и Тяпа, как это ни странно, поучают
учителя, а не наоборот. Они беспрестанно занимаются поиском языка,
подходящего для самоопределения в мире, который «шире окружающего».
Аристид
Кувалда
наделен
чертами,
свойственными
всем
«беспокойным» героям раннего Горького. О его прошлом мы знаем мало.
Он относится к тому типу образованных «бывших людей», которые
испытывают своего рода страсть к высказыванию и остро нуждаются в
слушателях; в этом он похож на тургеневского Рудина85. «Не говорить — он
не мог», — сказано о Кувалде86, и именно он дает наименование «бывшим
людям». Его задача — не просто произвести впечатление, он хочет быть
уверенным, что его понимают, а это довольно сложно в условиях
малочисленности интеллектуально развитых людей среди золоторотцев.
Аристиду Фомичу свойственна «привычка мыслить», в его речах все еще
блестят
«осколки
образования»,
но
хотя
он
и
гордится
своей
начитанностью, он презирает рефлексию, а чтение книг привело его к
единственному выводу: «Когда в голове заведутся насекомые — это
беспокойно, но если в нее заползут еще и мысли — как же ты будешь
Там же.
Там же. C. 342.
85
О чтении Горьким романов Тургенева см.: Смирнова A. Д. Пометы М. Горького
на книгах И. С. Тургенева // Русская литература. 1968. № 4. С. 65—73.
86
Горький М. Бывшие люди. C. 315.
83
84
жить?»87. «Философию» он считает одной из причин своих неудач и
утверждает, что «философствовать всегда глупо»88. Для ротмистра
настоящая жизнь определяется степенью риска, он живет в ожидании
«критического момента», когда «человек становится энергичнее»89.
Объединяет всех «бывших людей» то, что они «живут без
достаточного
к
тому
основания»90.
Но
если
Кувалда
постоянно
подтверждает безосновательность жизни каждого из них, то Тяпа занят
поиском такого «основания», что соответствует его званию тряпичника.
Тяпа еще не утратил стремление сшить разрозненные части мира и найти
себя среди них, отыскав упоминание о потерянном русском народе в газете
или в Библии:
Кто мы? <…> Народ русский не может исчезнуть — врешь ты... он в
библии записан, только неизвестно под каким словом... Ты народ-то
знаешь, — какой он? Он — огромный... Сколько деревень на земле?
Все народ там живет, — настоящий, большой народ91.
То, что «жизнь скверно сшита», как говорит Тетерев в пьесе
«Мещане»92, для Тяпы — слишком очевидно, и именно поэтому он не хочет
в это верить — он пересматривает гнилые ниточки и надеется перекроить
жизнь по-новому. Кувалда, вторя ему, говорит: «Ромул и Рем — разве они
не золоторотцы? И мы — придет наш час — создадим...»93. Показательно,
что такие мысли посещают именно «бывшего» из дворян, потому что
настоящие золоторотцы едва ли подозревают в себе созидательные силы. В
отличие, например, от лермонтовского «Нет, я не Байрон, я другой»94,
которое на самом деле позволяет нам говорить именно о том, что
Там же. С. 291.
Там же. C. 282.
89
Там же. С. 314.
90
Там же. С. 289.
91
Там же. С. 293. Курсив мой. — Е. К.
92
Горький М. Мещане // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. Т. 7. С. 51.
93
Горький М. Бывшие люди. С. 197.
94
Лермонтов М. Ю. «Нет, я не Байрон, я другой…» // Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6
т. М.; Л., 1954. Т. 2. С. 33.
87
88
Лермонтов наследует английскому романтику, сравнение Кувалдой русских
босяков с Ремом и Ромулом выглядит исключительно комично.
Показательно, что среди однородной толпы «бывших людей»
последним человеком, вышедшим из ночлежки в конце рассказа,
оказывается Тяпа. Он единственный, кто беспокоится, когда привозят
умирающего учителя, что, на первый взгляд, противоречит изначально
данной ему характеристике как злого человека: «Но каждый раз, когда в
ночлежку являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого
нуждой из деревни, Тяпа́ при виде его впадал в озлобление и беспокойство
<…> и почти всегда добивался того, что запуганный мужичок исчезал из
ночлежки»95. Однако злоба Тяпы связана с тем, что он лучше других
понимал, какая участь ждала оставшихся в ночлежке людей, и стремился
выжить их до того, как они безнадежно погрязнут в трясине. Так, незаметно
для остальных, он исполнял роль спасителя. В отличие от Кувалды, для
которого бог — способ оправдания, тряпичник верит в справедливого бога:
«Помрешь — с богом будешь иметь дело... А тут с людьми... А люди — что
они значат?»96.
Самый образованный представитель ночлежки, учитель Филипп
Титов, хотя и пишет в газеты репортажи о жизни обочины, остается самым
потерянным и злосчастным из «бывших людей»; даже дети воспринимают
его как равного себе. Титов противопоставлен ротмистру Аристиду
Кувалде. Учитель не отрекся ни от книг, ни от знаний, ни от мысли — но
кажется, именно это оборачивается его слабостью. Мирный человек, он
попадает в зависимость от властолюбивого Аристида. Как и бывший
учитель Кирилл Ярославцев из рассказа «Ошибка», Титов оказывается
жертвой манипуляций более сильной личности. В финале рассказа он,
кроме того, становится жертвой прямого насилия и погибает.
95
96
Горький М. Бывшие люди. С. 290.
Там же. С. 336.
В отличие от других обитателей ночлежки, не знающих своего места и
потерянных, Кувалда с легкостью расставляет всех их всех по «своим
местам». Ему ведомо, как следовало бы жить каждому из «бывших людей»,
но ответственность за распределение ролей в мире Кувалда перекладывает
на судьбу. В его словах возникает тема фатума, которая является
определяющей в системе мировоззренческих координат босяков: «В
большинстве случаев бесполезно спорить с роком, — говорил он <…>,
точно желая оправдать себя перед кем-то»97. Здесь мы находим
противоречие, раскрывающее суть мышления «бывших людей». Судьба
нужна им, чтобы вписать себя в порядок более высокий, чем социальная
среда, из которой они вытеснены. Если «босому» незачем искать «свое
место» на земле, поскольку для него любое место — свое, то «бывшие
люди», которые остаются в локации «не-места», могут смириться не со
своей судьбой, а только с ее отсутствием. Люди, которые оставляют город
со всеми его правилами и уходят из него дальше, чем на обочину, мыслят
уже не категориями центра и периферии — земля для них не имеет центра,
потому что небо отовсюду видно одинаково: «Оно и холодно и голодно, но
свободно уж очень... <…> Наголодался я за эти дни, назлился... а вот теперь
лежу, смотрю в небо... Звезды мигают мне: ничего, <…> ходи, знай, по
земле и никому не поддавайся...»98.
Отличие «бывших людей» от чуть более благополучных обывателей
Въезжей улицы, «истомленных и растерявшихся в погоне за куском
хлеба»99, заключается в том, что философия, согласно которой человеку уже
нечего терять, позволяет им быть абсолютно бесстрашными: «Уменье обо
всем говорить и все осмеивать, безбоязненность мнений, резкость речи,
отсутствие страха перед тем, чего вся улица боялась, бесшабашная,
Там же. С. 285.
Горький М. В степи // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. Т. 3. С. 183.
99
Горький М. Бывшие люди. С. 300.
97
98
бравирующая удаль этих людей — не могли не нравиться улице»100. Однако
бравирование в разговорах — это только обратная сторона тотального
сомнения,
которое
отделяет
Невозможность изменить
этих
людей
свою жизнь
от
реальных
приводит
к
поступков.
пренебрежению
человеческими законами, но в конце концов оборачивается мрачным
равнодушием.
Отчаянность
того,
кому
«нечего
терять»,
всегда
оборачивается падением и отчаянием всё потерявшего. Обычно путь таким
героям у Горького — в кабак, где мы находим их за бесконечными и
бесплодными разговорами.
В разговорах этих, однако, звучат мотивы, характерные для
демонических персонажей литературной традиции, западноевропейской
(Байрон, Метьюрин) и русской (Лермонтов, Достоевский). Прежде всего это
стихийное желание зла, присущее героям Горького «в разных степенях его
развития»: «Зло в глазах этих людей имело много привлекательного. Оно
было единственным орудием по руке и по силе им»101. Выразительна мечта
одного из них — добраться до Америки, «достукаться» до президента,
объявить войну всей Европе и «вздуть» ее, купив европейскую армию,
чтобы французы, немцы и турки сами били своих родственников.
Желанный итог — «уничтожить Европу»102. Но мечты их заходят и дальше,
устремляясь к тотальному уничтожению мира: «Пусть все скачет к черту на
кулички! Мне было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела
или разорвалась бы вдребезги...»103.
Голодный человек готов на всё, в отличие от «сытых» «дачников».
Характерно, что на более тяжкое преступление способны те из горьковских
персонажей, путь которых ко «дну» начинался сверху: интеллигентам,
которые «дорвались» до босячества, неведома мораль, они освобождают
себя от любых нравственных обязательств. Тем не менее реализовать свои
Там же.
Там же. С. 311.
102
Там же. С. 326.
103
Там же. С. 314.
100
101
«демонические» желания ни один из «бывших людей», включая и самого
сильного из них — Кувалду — разумеется, не способен. На этом основании
и критики, и позднейшие исследователи делали вывод о том, что сыграть
активную роль в истории или хотя бы в собственной судьбе им в принципе
не дано. «К сожалению, события последнего времени показывают, что
надежды
русской
интеллигенции
на
деятельную
роль
босяка
в
освободительном движении преувеличены, и что провести черту, которая
отделила бы босячество от хулиганства, довольно трудно», — писал,
анализируя рассказы Горького, Мережковский104. А семьдесят лет спустя Э.
И. Бабаян утверждал, что «рядовой босяк — сломленная жизнью фигура.
Ощущение своего бессилия для него, человека из низов, темного и
“слепого”, — начало и конец собственного жизнеосмысления»105. Сам
Горький, однако, видел это явление, судя по всему, несколько иначе.
«Вообще русский босяк — явление более страшное, чем мне удалось
сказать, страшен человек этот прежде всего и главнейше — невозмутимым
отчаянием своим, тем, что сам себя отрицает, извергает из жизни», — писал
он П. Х. Максимову в 1910 году106. И если мы присмотримся к рассказу
«Бывшие люди» внимательнее, «страшное» проступит более отчетливо.
Словно
укрепляя
связи
с
демоническим
рядом
персонажей
литературной традиции, Горький ближе к концу рассказа дважды называет
(устами Петунникова) Кувалду «атаманом разбойников»107. Как мы помним,
именно в этой роли выступал один из европейских предшественников
Онегина — Жан Сбогар, а затем эту роль примеряли к своим героям и
Лермонтов, и Тургенев, и Гончаров108. Вспоминается тут, конечно, и
фольклорно-исторический атаман Степан Разин. Бунт Кувалды реализован в
Мережковский Д. С. Чехов и Горький // Максим Горький: Рro et contra. С. 653.
Бабаян Э. И. Ранний Горький. У идейных истоков творчества. С. 211.
106
Горький М. Полн. собр. соч.: Письма: В 24 т. М., 2001. Т. 8. С. 212.
107
Горький М. Бывшие люди. С. 338.
108
«Разбойничью» тему Лермонтов вводит в разработку образа Печорина, с
некоторыми оговорками то же можно сказать о создании Тургеневым образа Инсарова, а
Гончаровым — образа Марка Волохова (см.: Бояркина П. В. Онегинский тип героя:
Литературная эволюция»: Канд. дис. СПб., 2020. С. 121, 178, 187).
104
105
ничтожном масштабе — того самого хулиганства, о котором писал
Мережковский, — но как будто компенсируя это, Горький в финале
рассказа начинает нагнетать подробности, символизирующие крушение
описанного в нем мира. Обитатели ночлежки один за другим покидают
кузницу, и последним выходит тот, кто рекомендован как «Человек». Сама
кузница обречена на слом. А чуть раньше область тьмы начинает
завоевывать землю: «Густая, душная тьма покрывала фигуры людей,
валявшиеся на земле, скомканные сном или опьянением. Полоса света <…>
побледнев, задрожала и вдруг исчезла»109. Сверху, с горы доносятся звуки
колокола, которые будто все еще борются с тьмой: «Медный звук, слетая с
колокольни, тихо плыл во тьме и медленно замирал в ней, но раньше, чем
тьма успевала заглушить его последнюю, трепетно вздыхавшую ноту,
рождался другой удар, и снова в тишине ночи разносился меланхолический
вздох металла»110. Но область мрака не отступает. Еще выше, над горой, в
небе сырой и холодный сумрак «гасит» солнце и, «скрыв собою голубую
беспредельность», изливает «на землю уныние»111. Накопив подобного рода
детали, Горький завершает рассказ абзацем, в котором звучит предвестие
Потопа: «В серых, строгих тучах, сплошь покрывших небо, было что-то
напряженное и неумолимое, точно они, собираясь разразиться ливнем,
твердо решили смыть всю грязь с этой несчастной, измученной, печальной
земли»112.
Финал рассказа, становится едва ли не малым Апокалипсисом,
обрисованным, разумеется, не буквально, а суггестивно. Жажда зла,
накопленная «бывшими людьми», как будто сгущается в атмосфере, грозя
тем тотальным разрушением, о котором они мечтают. Если добавить к
восприятию этого художественного контекста взгляд из исторической
ретроспективы, смешная фамилия (или, скорее, прозвище) Аристида
Горький М. Бывшие люди. С. 334.
Там же 334.
111
Там же. С. 335.
112
Там же. С. 342.
109
110
Фомича заставляет вспомнить то ли мифологический всесокрушительный
молот, то ли герб государства, избравшего одним из своих лозунгов «Кто
был ничем, тот станет всем». Не случайно в последний раз мы видим
ротмистра Кувалду идущим наверх, в гору (пусть и со связанными руками),
в фуражке с околышем, «похожим на полосу крови»113.
Поставленный в «Бывших людях» эксперимент над типом «лишнего
человека» — превращение его в героя, вытесненного из своей социальной
среды, — был лишь одним из вариантов художественного исследования
Горьким этого литературного типа. На ином социальном материале
писатель обратился к нему в повести «Городок Окуров», главные герои
которой чуть-чуть благополучнее ночлежки на Въезжей, поскольку
принадлежат к беднейшему мещанству.
113
Там же.
Глава 4. «Лишние люди» городка Окурова
В «Городке Окурове» (1909) Горький продолжает развивать тему
обочины жизни, однако здесь пространством, куда вытеснены герои,
оказывается не одна улица, а целая половина города — Заречье, в котором
ютится бедное мещанство114. Окуров разделен на две части рекой, и так же,
как Въезжая улица, Заречье расположено значительно ниже Шихана (той
городской части, где живут «лучшие люди»). Шихан выстроен на высоком
обрыве, слобода Заречье — на противоположно плоском песчаном берегу, а
обитатели его названы «низким мещанством». Но к середине повести мы
понимаем, что сам город находится, по выражению одного из героев, «где-то
за всеми пределами»115.
Река, протекающая через Окуров, называется Путаницей, и этот
топоним вторит самоопределению одного из представителей мещанства,
Тиунова: «Надо бы говорить — мешанин, потому — всё в человеке есть, а
всё — смешано, переболтано...»116, причем сам же Тиунов объявлен «кривым
смутьяном»,
который
опутывает
жителей
городка117.
«Кривым»
и
«одноглазым» обычно называют черта, а в заречинском омуте имя им —
легион, начиная с чертыхающегося сторожа Четыхера, колченого Марка и
заканчивая Зосимой Пушкаревым по прозвищу Валяный черт. По количеству
чертовщины «Городок Окуров» может сравниться только с гоголевскими
«Вечерами на хуторе близ Диканьки» (только подано это неявно, как в более
позднем творчестве Гоголя118). Тиунов имеет в слободе репутацию колдуна.
Обозревший
всю
жизнь
насквозь,
он
пожертвовал
глазом,
как
См.: Иванов А. И. Провинциальное мещанство в повести М. Горького «Городок
Окуров» // Вестник Воронежского гос. ун-та. 2018. № 3. С. 37—41 (Сер.: Филология.
Журналистика).
115
Горький М. Городок Окуров // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. Т. 10. С. 80.
116
Там же. С. 36.
117
Там же. С. 112, 117.
118
По определению Ю. В. Манна, на определенном этапе творчества Гоголя
«фантастика ушла в быт, в вещи, в поведение людей и в их способ мыслить и говорить»
(Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1988. С. 126).
114
древнегерманский бог Один, но открывшаяся ему правда не так уж истинна,
как может показаться на первый взгляд. Он теперь смотрит на мир согласно
тому принципу, который сформулирован Власом в «Дачниках»: «Так,
вероятно, кривой хочет видеть всех ближних своих одноглазыми»119.
Показательно, что главная характеристика, которая лейтмотивом
проходит через описание домов, в которых обитают заречинские жители —
это слепота: «Раишко — бывшая усадьба господ Воеводиных — ветхий,
тёмный и слепой дом»120, а постройки на берегу «стоят на песке косо, криво,
безнадёжно глядя на реку маленькими больными глазами, кусочки стёкол в
окнах, отливая опалом, напоминают бельма»121. Как будто больными
глазами увидены над Окуровым «тусклое» солнце и «бледное», «мутное»
небо. А сами заречинцы, напрягая зрение, с завистью направленное вверх, на
Шихан, подглядывают за тем, что делается по ту сторону реки, на Шихане,
где живут «лучшие люди», как за неким представлением, возможности
участия в котором они лишены. Из-за деревьев они наблюдают за цветными
кавалерами и дамами, которые прогуливаются по бульвару, как это делали
обладатели бархатных и рыжих бакенбард и обладательницы тонких талий и
модных шляпок в «Невском проспекте» Н. В. Гоголя122.
Не случайно
публичный дом — главное заведение Заречья — назван «Фелицатиным
раишком»: райком, как известно, называлась галёрка в зрительном зале; а
страсть проститутки Розки лазить по крышам Тиунов объясняет тем, что с
них дальше видно. После пятилетнего скитания Тиунов вернулся в Окуров с
котомкой с книгами, одна из которых имела курьезное название «Краткое
Всемирное Позорище, или малый Феатрон»123, содержащее метафору жизни,
похожей на театр. Интересно, что основным развлечением на другом берегу,
на Шихане, является поход в местный театр «Лиссабон», а начальники и
Горький М. Дачники. С. 192.
Горький М. Городок Окуров. С. 12. Курсив мой — Е. К.
121
Там же. С. 10. Курсив мой — Е. К.
122
См.: Гоголь Н. В. Невский проспект // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В
23 т. М., 2009. Т. 3. С. 128—129.
123
Горький М. Городок Окуров. С. 15.
119
120
инспекторы, немцы, живущие на Поречной улице, по совместительству —
артисты местного самодеятельного кружка любителей драмы и комедии.
Мотив «подсмотренной жизни» появляется в прозе Горького не впервые. В
пьесе «Мещане» Татьяна после заявления о том, что не любит театр, потому
что
в
нем
все
как-то
не
по-настоящему,
становится
невольной
свидетельницей признания в любви Нила и Полины, очень похожего на
сцену из спектакля, в котором Татьяна никогда не сыграет главную роль124.
Заречинские жители пребывают словно в каком-то полусне, время в их
мире измеряется только периодически раздающимися вдалеке ударами
бондарей, которые похожи на стук сторожа в чеховском рассказе «Невеста»,
а затея Стрельцова сделать чайник с колокольчиком так и остается
несовершенной. Это позволяет нам говорить о хронотопе «провинциального
городка», который был описан М. М. Бахтиным125.
Повесть насыщена литературными проекциями. Лейтмотивом через
весь ее текст проходит осуждение «пакостных стихов» про Божью матерь и
архангелов, сочиненных образованными «похабниками». Это, разумеется,
пушкинская «Гавриилиада», ни разу прямо не названная. Таков Пушкин,
ведомый «культурным людям» Шихана, а благодаря им — и проституткам
«Фелицатина раишка». Они-то и осуждают похабное сочинение, но охотно
цитируют
и
его,
и
другой
стихотворный
текст
Золотого
века,
травестирующий сакральные ценности — «Подражание Беранже» Дельвига
Горький М. Мещане. С. 53.
См. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по
исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 396—
397; О «Городке Окурове» как об архетипическом провинциальном городе и об
«окуровщине» см.: Захарова В. Т. Поэтика времени в дооктябрьской прозе М. Горького //
Максим Горький: Pro et contra: Антология: Современный дискурс. СПб., 2018. С. 438—
439; Овсянников Н. Окуровский цикл Горького (Из наследия павшего студента-воина) //
Вопросы литературы. 1981. № 5. C. 198; Жегалов Н. Великое, вечно живое… (Традиции
русской классики в творчестве Горького) // Вопросы литературы. 1984. № 8. C. 66—68;
Пыхтина Ю. Г. Провинциальный город как национальный пространственный образ в
русской литературе // Вестник Оренбургского гос. ун-та. 2011. № 11. С 49—56; Семенова
А. Л. «Окуровская Русь» М. Горького: (К проблеме русского национального характера). В.
Новгород, 2003; Сиземская И. Н. Провинция как социально-культурный феномен в
творчестве М. Горького // Ярославский педагогический вестник. 2018. № 5. С. 361—366.
124
125
(«Однажды Бог, восстав от сна…»). Впрочем, те же ценности предстают в
повести
и в иной классической поэтической версии, совпадающей с
ортодоксальным
церковным
взглядом.
Речь
идет
о
стихотворении
Лермонтова «По небу полуночи ангел летел…» — но и оно звучит в
публичном доме: опьянев, его «обязательно читает девицам и гостям»126 сама
Фелицата. Сюжет о Марии, в которую оказываются влюблены архангел и
бес, заканчивающийся дракой и победой Гавриила, в «Городке Окурове»
трансформируется в любовную коллизию вокруг блудницы Лодки и
ревнивую Вавилову месть.
Имя хозяйки раишка отсылает к римской мученице, но в городке
Окурове, похожем на крест, главным заведением становится не церковь, а
лупанарий. Как известно, слово лупанарий происходит от латинского «lupa»
— волчица, Девушкин сравнивают свою жизнь с волчьей и даже сочиняет об
этом стихи127, а в окуровских лесах воют волки.
Любовный сюжет «Городка Окурова» весьма отчетливо спроецирован
на сюжет «Идиота» Достоевского. Положение «блудницы» Лодки между
сильным и яростным Вавилой и безответным и «Богу угодным»
Девушкиным
напоминает
положение
Настасьи
Филипповны
между
Рогожиным и Мышкиным128. Фамилия Симы, взятая из «Бедных людей»,
отсылает, кроме того, и к девственной невинности Мышкина, и к
евангельскому сюжету о Пресвятой Деве, которой Сима посвящает стихи.
У Горького, однако, гибнет не героиня, как в «Идиоте», — жертвой
становится поэт, убитый человеком, в намерения которого это, собственно,
не входило. Такой исход неминуемо приводит на память другой
канонический литературный сюжет: убийство Онегиным Ленского. А дальше
вновь в силу вступают архетипы Достоевского: Бурмистров готов к
Горький М. Городок Окуров. С. 38.
Там же. С. 55.
128
Объясняя Девушкину свое отношение к нему и Вавиле, Лодка говорит: «Я с ним
— отчего? <…> От страха! Не уступи-ка ему — убьёт! Да! О, это он может! А тебя я
люблю хорошо, для души — понял? <…> Мне за любовь эту чистую много греха
простится — я знаю! Как же бы я не любила тебя?» (Там же. С. 69).
126
127
всенародному покаянию, и даже жаждет его, но затем почти незаметно для
себя сворачивает с этого пути, и когда он в финале повести обещает
удавиться, читателю приходится вспомнить бесславный конец Ставрогина.
Как видим, создавая сюжет и героев, Горький обращается к разным
источникам, рассредоточивая заимствованный из них материал. И так же
рассредоточены, распределены между героями типовые черты «лишнего
человека», совмещенные с чертами «бывших людей».
Вторя рассуждениям Кувалды и Тяпы, Тиунов желает найти для людей
«соответственное званию место», но звания тиунов, бурмистров, стрельцов и
пушкарей, о которых свидетельствуют фамилии героев, оказываются
«бывшими» ролями, которые служат лишь напоминанием об утраченном
прошлом129. Теперь же все заречинские мещане с легкой руки Тиунова
«осуждены» быть «ненужными людьми», хотя, в отличие от фаталиста
Кувалды, Тиунов говорит, что люди отчасти сами виновны в своей участи, а
Бурмистрову советует уходить из города на поиски судьбы. С точки зрения
Тиунова, мещане оказываются лишними по определению, сословно они —
самый «обиженный» слой населения, чье место заняли немцы.
Вавила Бурмистров, Яков Тиунов и Сима Девушкин — три главных
мужских персонажа «Городка Окурова», и каждый из них по-своему
соотнесен с типом «лишнего человека».
В ночлежке на Въезжей улице за Аристидом Кувалдой сохранялась
единоличная власть, в «Городке Окурове» Горький качества Кувалды
разделил между двумя героями-антагонистами: Бурмистровым и Тиуновым.
Фамилия Вавилы свидетельствует о том, что он происходит из бурмистров:
так называли крестьянских старост и управляющих поместными имениями.
Задатки вождя в Бурмистрове налицо: будучи главным богатырем, он боится
уступить первенство в слободе Тиунову. Яков Тиунов, соответственно своей
фамилии (тиун — судья), «судит» о жизни заречинских жителей, а Вавила,
исполняет роль, обратную бурмистровой — сеет раздор.
129
Там же. С. 30.
Завсегдатай «Фелицатина раишка», влюбленный в блудницу Лодку,
Вавила Бурмистров становится главным «бесом» окуровского «дна». Герою
сообщены ярко выраженные признаки демонической версии «онегинского»
типа героя. О том, что убийство им Девушкина имеет сюжетную параллель в
пушкинском романе, уже говорилось выше. Л. А. Иезуитова связывает имя
Вавилы с легендой о Вавилоне, жители которого дерзнули «сделать себе
имя», но были наказаны богом130. Как отмечает Чуковский, Вавила,
«усугубленный» босяк, оказывается первым из горьковских «гордых»
персонажей, в которых гордость — не доказательство свободы, а
отрицательное качество: «Вавило весь с головы до ног отравлен “ядом
самости и ячности”»131. Подобно людям, строившим Вавилонскую башню,
которые перестали друг друга понимать, Вавила и его возлюбленная Лодка
«давно привыкли не понимать один другого, не делали никаких усилий,
чтобы объяснить друг другу свои желания и мысли»132. На фоне заунывного
пейзажа городка, в котором ничего не происходит, Бурмистров становится
зачинщиком действия, жаждущим бунта, который предвещает Тиунов.
Подобно ярким героям «демонического» типа, Вавила резко выделен
на фоне остальных обитателей Окурова. Он — «красавец и первый герой»133
(красавцем в тексте повести он назван многократно). Подчеркнута его
страшная физическая сила, акцентировано «звериное» начало: он напоминает
«мягкого, ленивого зверя»134, его жилистая рука покрыта «золотой
шерстью»135, он сам себя именует зверем, причем единственным в своем роде
(«Разве еще где есть такой зверь, а?», — спрашивает он Лодку136, впрочем, и
Иезуитова Л. А. Повесть М. Горького «Городок Окуров» в ряду «итоговых
книг» русской прозы начала XX века // Иезуитова Л. А. Леонид Андреев и литература
Серебряного века: Избранные труды. СПб., 2010. С. 620.
131
Чуковский К. И. Пфуль // Максим Горький: Рro et contra. С. 831.
132
Горький М. Городок Окуров. С. 39.
133
Там же. С. 11.
134
Там же. С. 23.
135
Там же. С. 28.
136
Там же. С. 35.
130
ее сравнивая с жадным зверем137)138. А другие его называют «разбойником и
скотом»139 и в конце концов забивают, как волка140. Он привык к
немедленному исполнению своих неуправляемых желаний, постоянно
требует,
чтобы
ему
«дали
ходу»,
освободили
дорогу.
Бунтарь
и
подстрекатель, «точно пылающая головня», падает он в толпу, «легко
поджигая сухие сердца»141. И тогда наступает его звездный час: он чувствует
себя выше всех, глаза горожан смотрят на него снизу вверх, в них появляется
«что-то подобное огонькам восковых свеч в церкви пред образом»142. Это
уже нерефлексируемая претензия на сакральный статус. А в финале ему
кажется, что он «идет по лицам людей»143.
Но
первенство
Вавилы
компрометируются
на
каждом
шагу.
Демонстрируя свою красоту и мощь, он впадает в позерство и лицедейство,
очевидные окружающим и вызывающие у них легкое презрение. Постепенно
выясняется, что в Заречье есть силачи, помощнее Бурмистрова, а его
собственная сила легко переходит в апатию. Случайно убив Симу
Девушкина, он бормочет: «Нечаянно это! Так уж — попал он под колесо, ну
и... Что мне — он?»144. Автор поясняет, что эти слова герой произносил «как
сквозь сон»145. С этого момента Вавила «жил в полусонном состоянии
расслабленности и отупения: мысли его пересекали одна другую и вдруг
проваливались куда-то в тёмную глубину души, где притаилась жадная тоска
и откуда по всем жилам острою отравою растекалась злая горечь»146. Эта
Там же. С. 40.
Герои Горького часто называют друг друга зверями; из героев «дна»
исключение составляет Лука, который обращается к жителям ночлежки по-человечески
(см.: Шуган О. В. «Золотой сон» и нирвана: Отражение буддистских идей в пьесе М.
Горького «На дне» // Максим Горький: Pro et contra: Антология: Современный дискурс.
СПб., 2018. С. 603).
139
Горький М. Городок Окуров. С. 32.
140
Там же. С. 122.
141
Там же. С. 116.
142
Там же. С. 88.
143
Там же. С. 121.
144
Там же. С. 92.
145
Там же.
146
Там же. С. 110.
137
138
горечь в конце повести вылилась в такой же полусознательный бунт: во
время кулачного боя герой буквально засыпает, его одолевает скука.
Но, может быть, самое главное то, что, претендуя на первенство,
«места себе <…> такого, где бы душа не ныла»147, он найти не может. Мотив
«не-места», разработанный в «Бывших людях», продолжает развиваться в
«Городке Окурове», и становится очевидно, что он связан не только с
босяками. Не раз заявленная в русской литературе несостоятельность
«демонического» героя, и выделенного на фоне прочих, и неуместного в их
жизни, на свой лад подтверждена Горьким.
Мечты Актера из пьесы «На дне» о безумце, «который навеет
человечеству сон золотой»148, в Окурове оборачиваются подлунным
дурманом, а поэт становится не проводником, а блуждающим по миру
«слепым на солнце» с бездонными пустыми глазами. Ясновидение поэта
ограничивается тем, что он пророчит собственную смерть:
В небе тучи гонятся за слепой луной,
Полем тихо крадётся чья-то тень за мной...149
Тиунову Сима читает свои стихи о похожем на кривого «однооком небе» над
сонными жителями городка150.
Сима — «лишний человек» по определению: он не только не знает
своего литературного родства (никогда не слышал о Пушкине), ему не дано
знать ничего и о своих предках: говорящая фамилия указывает на его
безродность (Девушкин значит девкин сын). Однако его литературный
генезис
сложнее
родословной:
влюбленного
поэта,
который
противопоставлен демоническому герою, мы находим не только в «Евгении
Онегине», но и в романе в стихах П. В. Кукольника «Три года жизни»151. С
другой стороны, Сима — один из когорты горьковских «задумавшихся»
Там же. С. 39.
Горький М. На дне. С. 146.
149
Горький М. Городок Окуров. С. 57.
150
Там же.
151
См.: Бояркина П. В. Онегинский тип героя: литературная эволюция. С. 75—76.
147
148
слабых людей, которые оказываются случайными жертвами стихийного
«колеса», их смерть так же безвестна, как и их жизнь.
Заключение
Как было показано в работе, тема босячества, с которой Горький вошел
в литературу, имела в его творчестве отнюдь не самодовлеющее значение.
Несоответствие речей и мыслей горьковских босяков реальному культурному
уровню представителей этого социального слоя объяснялось не только сразу
отмеченным критиками ницшеанством писателя, но и тем, что Горький вел
свою тему в тесном взаимодействии с традицией русской классики, в
частности — с традицией изображения так называемых «лишних людей». В
ранней критической литературе, посвященной Горькому, это точнее всего
отразилось в замечаниях А. М. Скабичевского.
Осуществленное Горьким обновление традиции было связано с резким
понижением социального статуса «лишнего человека». Этот литературный
тип в обоих его вариантах, представленных в европейской и русской
традиции (герой «демонический» и герой пассивный,) Горький исследовал,
выводя его за пределы конкретной социальной принадлежности — на
примере утративших ее «бывших людей», босяков. В этом эксперименте
парадоксально сочетались погружение героя во вполне определенную
бытовую среду и освобождение его от социальной детерминированности,
позволяющее увидеть «человека как такового», «голого человека».
При незначительном повышении статуса «лишнего человека» —
переведении его в среду беднейшего мещанства — Горький также находил
возможность изображать оба варианта этого литературного типа. Так, в
«Городке
Окурове»
представлены
и
«демонический»
тип
(Вавила
Бурмистров), и тип созерцательный (Сима Девушкин). Но чем более прочное
положение
занимает
такого
рода
герой,
представляя
состоятельное
мещанство, купечество, интеллигенцию, тем более отчетливой становится
тенденция отнесения его к пассивному типу «лишнего человека». Эта
тенденция намечена в таких ранних произведениях Горького, как «Фома
Гордеев», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Мещане», «Дачники», «Дети
солнца».
Список литературы
I
1. Герцен А. И. Кто виноват? // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т.
4. С. 5—209.
2. Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки // Гоголь Н. В. Полн. собр.
соч. и писем: В 23 т. М., 2001. Т. 1. 919 с.
3. Гоголь Н. В. Невский проспект // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В
23 т. М., 2009. Т. 3. С. 126—155.
4. Гончаров И. А. Обрыв // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т.
СПб., 2004. Т. 7. 771 с.
5. Горький М. Бывшие люди // Горький М. Полн. собр. соч.:
Художественные произведения: В 25 т. М., 1969. Т. 3. С. 278—342.
6. Горький М. В степи // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. М., 1969. Т. 3. С. 174—186.
7. Горький М. Городок Окуров // Горький М. Полн. собр. соч.:
Художественные произведения: В 25 т. М., 1971. Т. 10. С. 5—122.
8. Горький М. Дачники // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. М., 1970. Т. 7. С. 183—294.
9. Горький М. Дети солнца // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. М., 1970. Т. 7. С. 295—390.
10.Горький М. Жизнь Матвея Кожемякина // Горький М. Полн. собр. соч.:
Художественные произведения: В 25 т. М., 1971. Т. 10. С. 123—632.
11. Горький М. История молодого человека // Горький М. Полн. собр. соч.: В
30 т. М., 1953. Т. 26. С. 158—171.
12. Горький М. Коновалов // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. М., 1969. Т. 3. С. 7—60.
13. Горький М. Мещане // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. М., 1970. Т. 7. С. 5—106.
14. Горький М. На дне // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. М., 1970. Т. 7. С. 107—182.
15. Горький М. О мещанстве // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 25.
С. 18—30.
16. Горький М. О писателях-самоучках // Горький М. Полн. собр. соч.: В 30 т.
М., 1953. Т. 24. С. 99—137.
17. Горький М. О пьесах // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 26. С.
409—426.
18. Горький М. Ошибка // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. М., 1970. Т.1. С. 97—122.
19. Горький М. Полн. собр. соч.: Письма: В 24 т. М., 2001. Т. 8.
20. Горький М. Разговор по душе // Горький М. Полн. собр. соч.:
Художественные произведения: В 25 т. М., 1969. Т. 1. С. 217—228.
21. Горький М. Разрушение личности // Максим Горький: Рro et contra:
Личность и творчество Максима Горького в оценке русских мыслителей и
исследователей: 1890—1910-е гг.: Антология. СПб., 1997. С. 49—95.
22. Горький М. Супруги Орловы // Горький М. Полн. собр. соч.:
Художественные произведения: В 25 т. М., 1969. Т. 3. С. 219—277.
23. Горький М. Трое // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. М., 1970. Т. 5. С. 23—320.
24. Горький М. Фома Гордеев // Горький М. Полн. собр. соч.:
Художественные произведения: В 25 т. М., 1969. Т. 4. С. 179—460.
25. Горький М. Челкаш // Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные
произведения: В 25 т. М., 1969. Т. 2. С. 7—41.
26. Дельвиг А. А. Подражание Беранже // Дельвиг А. А. Сочинения. Л., 1986.
С. 157—158.
27. Достоевский Ф. М. Бедные люди // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В
30 т. Л., 1972. 13—108.
28. Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.,
1974. Т. 10. 519 с.
29. Достоевский Ф. М. Идиот // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т.
Л., 1973. Т. 8. 511 с.
30. Лермонтов М. Ю. Ангел // Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1954. Т.
1. С. 230.
31. Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т.
М.; Л., 1957. Т. 6. С. 202—347.
32. Лермонтов М. Ю. «Нет, я не Байрон, я другой…» // Лермонтов М. Ю.
Соч.: В 6 т. М.; Л., 1954. Т. 2. С. 33.
33. Пушкин А. С. Гавриилиада // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л, 1937.
Т. 4. С. 119—136.
34. Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л,
1937. Т. 6. С. 1—205.
35. Пушкин А. С. Сцена из Фауста // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т.
СПб., 2009. Т. 7. С. 97—102.
36. Тургенев И. С. Дневник лишнего человека // Тургенев И. с. Полн. собр.
соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1980. Т. 4. С. 166—216.
37. Тургенев И. С. Гамлет Щигровского уезда // Тургенев И. с. Полн. собр.
соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1979. Т. 3. С. 249—273.
38. Тургенев И. С. Накануне // Тургенев И. с. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т.
2-е изд., испр. и доп. М., 1981. Т. 6. С. 159—300.
39. Тургенев И. С. Рудин // Тургенев И. с. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е
изд., испр. и доп. М., 1980. Т. 5. С. 197—322.
II
40. Бабаян Э. И. Ранний Горький: У идейных истоков творчества. М., 1973.
231 с.
41. Басинский П. В. Горький. М., 2006. 450 с.
42. Басинский П. В. Максим Горький // Русская литература рубежа веков:
(1890-е — начало 1920-х годов). М., 2001. Кн. 1. С. 505—539.
43. Боцяновский В. Ф. В погоне за смыслом жизни // Максим Горький: Рro et
contra: Личность и творчество Максима Горького в оценке русских
мыслителей и исследователей: 1890—1910-е гг.: Антология. СПб., 1997.
С. 240—261.
44. Бояркина П. В. Онегинский тип героя в русской литературной традиции //
Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 4 (414). С.
33—43. (Сер. «Филологические науки». Вып. 112).
45. Бояркина П. В. Онегинский тип героя: Литературная эволюция. СПб.,
2020.
http://pushkinskijdom.ru/wpcontent/uploads/2020/05/Boyarkina_dissertatsiya.pdf
46. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по
исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики.
М., 1975. С. 234—407.
47. Бялик Б. А. М. Горький — драматург. М.,1962. 635 с.
48. Бялик Б. А. Эстетические взгляды Горького. Л., 1939. 232 с.
49. Гельрот М. В. Ницше и Горький: (Элементы ницшеанства в творчестве
Горького) // Максим Горький: Рro et contra: Личность и творчество
Максима Горького в оценке русских мыслителей и исследователей:
1890—1910-е гг.: Антология. СПб., 1997. С. 645. С. 381—429.
50. Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И.
Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 133—266.
51. Достоевский Ф. М. Пушкин: (Очерк) // Достоевский Ф. М. Полн. собр.
соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 136—148.
52. Жегалов Н. Великое, вечно живое… (Традиции русской классики в
творчестве Горького) // Вопросы литературы. 1984. № 8. C. 53—89.
53. Заика С. В. Творчество А. М. Горького и проблема литературной
преемственности (90-е начало 900-х годов) // Русская литература. 1982. №
1. С. 16—31.
54. Захарова В. Т. Поэтика времени в дооктябрьской прозе М. Горького //
Максим Горький: Pro et contra: Антология: Современный дискурс. СПб.,
2018. С. 434—447.
55. Иванов А. И. Провинциальное мещанство в повести М. Горького
«Городок Окуров» // Вестник Воронежского гос. ун-та. 2018. № 3. С. 37—
41 (Сер.: Филология. Журналистика).
56. Иезуитова Л. А. Повесть М. Горького «Городок Окуров» в ряду
«итоговых книг» русской прозы начала XX века // Иезуитова Л. А. Леонид
Андреев и литература Серебряного века: Избранные труды. СПб., 2010. С.
615—621.
57. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1988. 413 с.
58. Маркович В. М. «Дневник лишнего человека» в движении русской
реалистической литературы // Русская литература. 1984. № 3. С. 95—115.
59. Мережковский Д. С. Чехов и Горький // Максим Горький: Рro et contra:
Личность и творчество Максима Горького в оценке русских мыслителей и
исследователей: 1890—1910-е гг.: Антология. СПб., 1997. С. 643—686.
60. Минский Н. М. Философия тоски и жажда воли // Максим Горький: Рro et
contra: Личность и творчество Максима Горького в оценке русских
мыслителей и исследователей: 1890—1910-е гг.: Антология. СПб., 1997.
С. 645—314.
61. Михайловский Н. К. О г. Максиме Горьком и его героях // Максим
Горький: Рro et contra: Личность и творчество Максима Горького в оценке
русских мыслителей и исследователей: 1890—1910-е гг.: Антология.
СПб., 1997. С. 305—314.
62. Овсянников Н. Окуровский цикл Горького (Из наследия павшего
студента-воина) // Вопросы литературы. 1981. № 5. C. 193—207.
63. Поссе В. А. Певец протестующей тоски // Максим Горький: Рro et contra:
Личность и творчество Максима Горького в оценке русских мыслителей и
исследователей: 1890—1910-е гг.: Антология. СПб., 1997. С. 225—239.
64. Пыхтина Ю. Г. Провинциальный город как национальный
пространственный образ в русской литературе // Вестник Оренбургского
гос. ун-та. 2011. № 11. С 49—56.
65. Семенова А. Л. «Окуровская Русь» М. Горького: (К проблеме русского
национального характера). В. Новгород, 2003. 96 с.
66. Сиземская И. Н. Провинция как социально-культурный феномен в
творчестве М. Горького // Ярославский педагогический вестник. 2018. №
5. С. 361—366.
67. Скабичевский А. М. Новые черты в таланте г. М. Горького // Максим
Горький: Рro et contra: Личность и творчество Максима Горького в оценке
русских мыслителей и исследователей: 1890—1910-е гг.: Антология.
СПб., 1997. С. 262—278.
68. Скабичевский А. М. М. Горький. Очерки и рассказы // Максим Горький:
Рro et contra: Личность и творчество Максима Горького в оценке русских
мыслителей и исследователей: 1890—1910-е гг.: Антология. СПб., 1997.
С. 279—304.
69. Смирнова A. Д. Пометы М. Горького на книгах И. С. Тургенева // Русская
литература. 1968. № 4. С. 65—73.
70. Стечкин Н. Я. Максим Горький, его творчество и его значение в истории
русской словесности и в жизни русского общества // Максим Горький: Рro
et contra: Личность и творчество Максима Горького в оценке русских
мыслителей и исследователей: 1890—1910-е гг.: Антология. СПб., 1997.
С. 461—617.
71. Ходасевич В. Ф. Сб. Т<оварищест>ва «Знание». Книга 7 // Ходасевич В.
Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 2009–2010. Т. 2. С. 31—33.
72. Чуковский К. И. Пфуль // Максим Горький: Рro et contra: Личность и
творчество Максима Горького в оценке русских мыслителей и
исследователей: 1890—1910-е гг.: Антология. СПб., 1997. С. 828—843.
73. Шуган О. В. «Золотой сон» и нирвана: Отражение буддистских идей в
пьесе М. Горького «На дне» // Максим Горький: Pro et contra: Антология:
Современный дискурс. СПб., 2018. С. 589—606.
74. Юзовский Ю. Спор Горького с Достоевским // Вопросы литературы. 1959.
№ 5. C. 104—144.