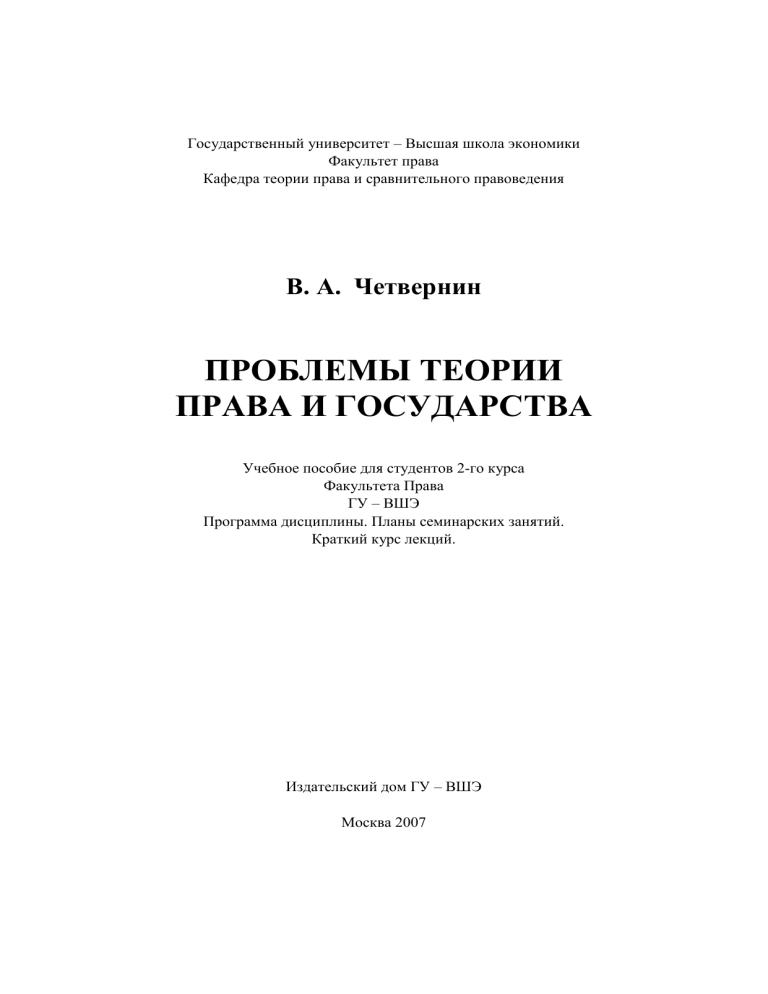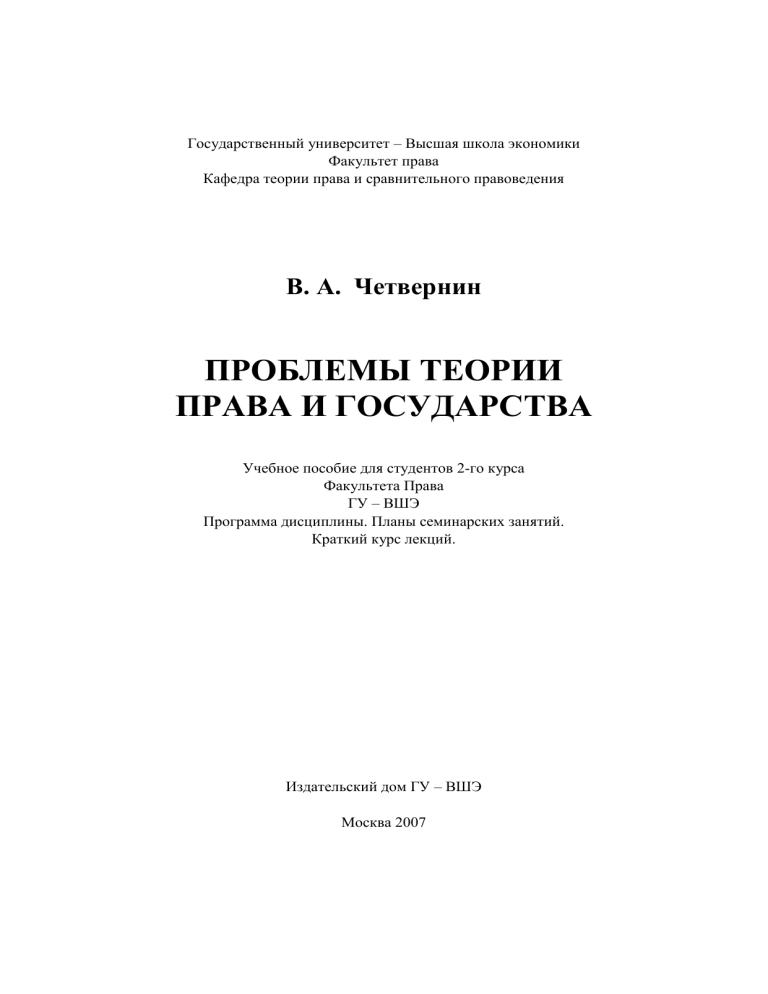
Государственный университет – Высшая школа экономики
Факультет права
Кафедра теории права и сравнительного правоведения
В. А. Четвернин
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Учебное пособие для студентов 2-го курса
Факультета Права
ГУ – ВШЭ
Программа дисциплины. Планы семинарских занятий.
Краткий курс лекций.
Издательский дом ГУ – ВШЭ
Москва 2007
УДК
ББК
Ч
Четвернин В.А.
Проблемы теории права и государства. Учебное пособие для студентов 2-го курса Факультета Права ГУ – ВШЭ. Программа дисциплины. Планы семинарских занятий. Краткий курс лекций. – М.: ГУ –
ВШЭ, 2006. – …с.
ISBN
Учебное пособие предназначено для углубленного изучения теоретической юриспруденции, содержит учебную программу, план семинарских занятий и наиболее важные фрагменты лекций по всем темам
учебного курса – тексты, необходимые для подготовки к семинарским
занятиям и экзамену. Отражает противоположность потестарных и либертаристских интерпретаций основных вопросов теории права и государства, раскрывает современные тенденции в развитии теоретического знания о праве и государстве.
Одобрено Кафедрой теории права и сравнительного правоведения
Факультета права ГУ – ВШЭ.
© В.А. Четвернин, 2007
© Оформление. Издательский дом ГУ – ВШЭ
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ “ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
ПРАВА И ГОСУДАРСТВА”
4
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. КРАТКИЙ КУРС
ЛЕКЦИЙ
47
Первый раздел. Понятие, генезис и историческое развитие
права и государства
Тема 1. Правопонимание
Тема 2. Понятие права
Тема 3. Понятие государства
Тема 4. Происхождение права и государства
Тема 5. Исторические типы права и государства
Тема 6. Правовая культура
Тема 7. Тоталитаризм: отрицание права и государства
47
47
54
62
68
78
82
95
Второй раздел. Юридическое учение о строении, формах и
функциях государства
102
Тема 8. Элементы государства
102
Тема 9. Механизм государственной власти
114
Тема 10. Форма государства
129
Тема 11. Форма правления
132
Тема 12. Государственное устройство
144
Тема 13. Государственный (политический) режим
152
Тема 14. Общество и государство
160
Тема 15. Правовое государство и перераспределяющее государство 173
Третий раздел. Юридическая догматика
Тема 16. Феноменология права
Тема 17. Норма права
Тема 18. Доктринальные принципы права
Тема 19. Источники права
Тема 20. Правоустановление
Тема 21. Система права и система законодательства
Тема 22. Основы типологии национальных правовых систем
Тема 23. Действие права
Тема 24. Толкование права
Тема 25. Правоотношение
Тема 26. Правонарушение. Юридическая ответственность
195
195
204
212
219
232
244
253
261
271
285
290
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
“ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА И
ГОСУДАРСТВА”
для студентов 2 курса направления 021100 – Юриспруденция (третий
уровень высшего профессионального образования – специалист)
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая теория права и государства (для краткости она именуется
просто “Теория права и государства”) – фундаментальная, объяснительная юридическая наука, изучение которой требует хотя бы начальных знаний по всем отраслям юриспруденции. Между тем учебная
дисциплина “Теория права и государства”, преподаваемая на первом
курсе, в самом начале систематического изучения юриспруденции,
может дать лишь упрощенное знание предмета и, по существу, выполняет роль вводной учебной дисциплины, которую следовало бы называть “Основы знания о праве и государстве”. Для углубленного изучения теоретической юриспруденции, на уровне современной юридической науки, с целью преодоления разрыва между наукой и вузовским
образованием, предназначен учебный курс “Проблемы теории права и
государства”.
Настоящая программа рассчитана на преподавание для студентов,
уже знакомых со стандартным набором вопросов, охватываемых вузовским курсом по теоретической юриспруденции. Она ориентирована
на идеи и ценности прав и свобод человека и гражданина, господства
права, гражданского общества и правового государства. Вместе с тем
значительное внимание уделяется современным научным интерпретациям традиционным вопросов теоретического государствоведения
(строение, формы и функции государства) и, особенно, юридической
догматики (норма, источники, система, толкование права, юридическая
ответственность и др.) – вопросов, объяснение которых в учебнообразовательном процессе, на первом курсе, как правило, существенно
отстает от уровня современного научного знания.
Основные задачи учебного курса – это систематическое изложение
всех основных проблем теоретической юриспруденции, их современных научных интерпретаций, и на такой основе:
– формирование у студентов основополагающих представлений о
праве и государстве как о необходимых (нормативной и институциональной) формах свободного бытия людей, свободы индивидов в социальных отношениях, об истории права и государства как о прогрессирующей эволюции правовой свободы;
– преодоление укоренившихся в российском общественном сознании силовых, потестарных трактовок государства и права, несовместимых с идеологией прав человека и правовой государственности, с
ценностями свободы, равенства и справедливости;
– обучение студентов методологии познания права и государства
на основе знания юридических категорий и доктринальных принципов
права;
– преодоление апологетического отношения к законодательству,
усвоение критериев и выработка навыков самостоятельного юридического мышления и критического осмысления законов, толкования
юридических текстов в духе основных правовых ценностей.
К программе учебной дисциплины прилагается список литературы
по каждой теме, разделенный на две части. Основная литература необходима для подготовки к семинарским занятиям, дополнительная рекомендуется для выступления с докладом на семинаре, написания рефератов и эссе, курсовых и иных творческих работ.
Планы семинарских занятий содержат набор вопросов, знание которых обязательно. К каждой теме семинарского занятия прилагается
сокращенный текст соответствующей лекции, дающий минимально
необходимое представление о содержании вопросов, вынесенных на
семинар. В совокупности эти тексты составляют краткий курс лекций
по дисциплине “Проблемы теории права и государства”.
Следует иметь в виду, что эти тексты дают лишь minimum minimorum информации по теме семинарского занятия, что не заменяет
полноценной подготовки к семинару (и уж тем более они не раскрывают все содержание темы). Если студент не смог подготовиться
надлежащим образом, то знание такого текста все же позволит ему реально участвовать в семинаре, но в этом случае нельзя рассчитывать на
высокую оценку. И при подготовке к экзамену, если ограничиться
кратким курсом лекций, нельзя рассчитывать на оценку выше удовлетворительной.
5
II. ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ЧАСОВ
Аудиторные часы
№
темы
Наименование разделов и
тем
Лекции
Семинары
Всего
КонтрольСамостоные или
Всего
ятельная
курсочасов
работа
вые работы
1 модуль
1
Правопонимание
2 часа
2 часа
4 часа
2
Понятие права
2 часа
2 часа
4 часа
3
Понятие государства
2 часа
2 часа
4 часа
2 часа
2 часа
4 часа
2 часа
2 часа
4 часа
4
5
Происхождение
права и государства
Исторические типы
права и государства
6
Правовая культура
2 часа
2 часа
4 часа
7
Тоталитаризм: отрицание
права и государства
2 часа
2 часа
4 часа
Итого за 1 модуль:
14 часов
14 часов
28 часов
8
часов
8
4 часа
часов
8
4 часа
часов
8
4 часа
часов
8
4 часа
часов
8
4 часа
часов
8
4 часа
часов
56
28 часов
часов
4 часа
2 модуль
8
Элементы государства
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
9
Механизм
государственной власти
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
2 часа
2 часа
8
часов
8
часов
4
часа
12
часов
8
часов
8
часов
8
часов
8
часов
10 Форма государства
2 часа
11 Форма правления
2 часа
4 часа
6 часов
6 часов
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
14 Общество и государство
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
Правовое государство и
15 перераспределяющее государство
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
16 часов
16 часов
32 часа
32 часа
64
часа
8
часов
8
часов
8
часов
12
часов
4
часа
Государственное устройство
Государственный (полити13
ческий) режим
12
Итого за 2 модуль:
3 модуль
16 Феноменология права
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
17 Норма права
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
19 Источники права
2 часа
4 часа
6 часов
6 часов
20 Правоустановление
2 часа
2 часа
2 часа
18
Доктринальные принципы
права
6
Система права и
система законодательства
Основы типологии нацио22
нальных правовых систем
2 часа
2 часа
4 часа
2 часа
2 часа
4 часа
14 часов
14 часов
28 часов
21
Итого за 3 модуль:
8
часов
8
4 часа
часов
56
28 часов
часов
4 часа
4 модуль
8
часов
8
часов
8
часов
16
часов
23 Действие права
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
24 Толкование права
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
25 Правоотношение
2 часа
2 часа
4 часа
4 часа
Правонарушение. Юриди26 ческая
ответственность
4 часа
4 часа
8 часов
8 часов
Итого за 4 модуль:
10 часов
10 часов
20 часов
Всего часов:
54 часа
54 часа
108 часов
40
часов
216
108 часов
часов
20 часов
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Первый раздел
Понятие, генезис и историческое
развитие права и государства
Тема 1. Правопонимание
Предмет теории права и государства. Место и значение теории
права и государства в юриспруденции. Двойственность объекта и
единство предмета теории права и государства. Юридическая интерпретация и силовая (потестарная) интерпретация сущностного единства права и государства.
Потестарный (позитивистский) и юридический типы правопонима-
7
ния. Право и закон, их отождествление и различение в современных
концепциях права. Представления о естественном и позитивном праве.
Основы либертарного правопонимания. Право и государство в потестарной (силовой) и либертарно-юридической парадигмах: право и свобода, право и закон, права человека, право и государство.
Методология теории права и государства. Дескриптивные и прескриптивные, аналитические и критические, эмпирические и нормативные науки о праве и государстве. Объяснительная наука, объяснительная и оценочная функции теории права и государства.
Основная литература
1. Давид Р., Брили Д. Основные правовые системы современности.
М., 1999. (или: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые
системы современности. М., 1997).
2. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
3. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории
права и государства. М., 1997.
4. Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 2003.
5. Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М.,
2006.
6. Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.
Байтин М.И. Сущность права. Современное нормативное правопонимание на грани двух веков. Саратов, 2005.
Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика / Пер. с англ.
под ред. А.В. Куряева. Челябинск, 2004.
Леви Э.Х. Введение в правовое мышление. М., 1995.
Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права.
М., 2002.
Нерсесянц В.С. Наш путь к праву. М., 1992.
Нерсесянц В.С. Право и закон. М., 1983.
Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 1996.
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997.
7. Оль П.А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству. Монография. СПб., 2005.
8. Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникатив-
8
ный подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.
Сырых В.М. Теория государства и права. Учебник для вузов / Отв. ред.
С.А. Чибиряев. (Без указ. места издательства). Былина, 1998.
Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып.1 и 2. М.,1987–1989.
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. М., 1995.
Примечание о дополнительной литературе:
Обширная библиография по многим темам настоящего курса, с
комментариями, содержится в учебнике: Лазарев В.В., Липень С.В.
Теория государства и права. 3-е изд. М., 2004. Ниже этот учебник в
списках дополнительной литературы более не упоминается.
Тема 2. Понятие права
Позитивистские интерпретации права. Легистская концепция права. Классический легистский позитивизм. Советская концепция государства и права как разновидность классического легистского позитивизма. Легистский неопозитивизм. Формалистическая трактовка нормы.
Понятие права в позитивистской социологической концепции. Реалистическая школа права: “мертвый” закон и “живое” право. Официальные нормативные предписания и реальный порядок общественных
отношений. Социологическая трактовка нормы. Субъективное право:
притязание, защищаемое судом. Факторы, определяющие содержание
судебных решений.
Морально-этическая интерпретация права и прав человека. Понятие справедливости и его искажение в этической концепции права.
Концепция “социальной справедливости”.
Понятие права с позиции современной либертарной теории: право
как всеобщая форма и равная мера свободы. Право в системе соционормативной регуляции. Типы цивилизации и соционормативной регуляции. Виды социальных норм. Формы выражения социальных
норм. Принцип правового регулирования: формальное равенство. Правовая свобода, справедливость и собственность. Общезначимость и
общеобязательность правовых норм. Запреты и дозволения в праве.
Максимальная и минимальная правовая свобода. Критерий различения
9
правовых и правонарушающих законов. Минимальная неотъемлемая
свобода, minimum minimorum правовой свободы. Юридическая трактовка прав человека.
Основная литература
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права
и государства. М., 1997.
Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства.
М., 2003.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1998.
Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.
Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978.
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 7-е изд. СПб., 1907.
Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права.
М., 2002.
Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994.
Нерсесянц В.С. Наш путь к праву. М., 1992.
Нерсесянц В.С. Право и закон. М., 1983.
Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 1996.
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997.
Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах /
Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 1998.
Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах /
Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
Общая теория права: курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. Н. Новгород,
1993.
Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Понятия права и государства. М., 1997.
Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып.1 и 2. М.,1987–1989.
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. М., 1995.
10
Тема 3. Понятие государства
Феномен государства: уровни рассмотрения. Государство как публично-властная ассоциация. Государство как организация, осуществляющая публичную политическую власть. Государство как система
публично-властных органов. Признаки и типы публичной политической власти.
Потестарная (“социологическая”) концепция: государство – аппарат организованного насилия, доминирующая организация власти.
Концепция классового насилия. Неразличение в силовых концепциях
государства и деспотии, невозможность понятия правового государства в силовой парадигме. Концепция государства законности.
Легистская концепция: государство как законопорядок, законная
форма организации власти. Легистское понимание правового государства.
Юридическое понятие государства: правовой тип и правовая форма организации и функционирования публичной политической власти.
Общая природа права и государства. Государство как необходимая институциональная форма правовой свободы. Роль государства в формировании и реализации права. Различение государства и деспотии,
тоталитарные системы ХХ века. Правовое государство и авторитарное
государство.
Основная литература
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 1996.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства.
М., 2003.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика / Пер. с англ.
под ред. А.В. Куряева. Челябинск, 2004.
Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998.
Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978.
11
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 7-е изд. СПб., 1907.
Кревельд М. в. Расцвет и упадок государства / Пер. с англ. М., 2006.
Мамут Л.С. Государство в ценностном измерении. М., 1998.
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997.
Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах /
Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
Палиенко Н.И. Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета
и ее правовое значение. Ярославль, 1903.
Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.
Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1996.
Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999.
Четвернин В.А. Понятия права и государства. М., 1997.
Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып.1 и 2. М.,1987–1989.
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. М., 1995.
Тема 4. Происхождение права и государства
Правопонимание и концепции происхождения права и государства.
Примитивные концепции: теологическая, патриархальная, патримониальная. Теория этнического насилия. Теория классового насилия.
“Кризисная” концепция. Теория социогенеза. Естественноправовая
теория общественного договора. Либертарно-юридическая теория о
возникновении публичной политической власти, права и государства.
Публичная политическая власть и формирование деспотических
цивилизаций. Переход от присваивающей к производящей экономике,
общественное разделение труда и разложение потестарной власти.
Влияние географической среды на формы экономики и политической
организации общества. Ирригационные работы, “азиатский способ
производства” и деспотический (силовой) тип публичной политической власти. Историческая судьба деспотических цивилизаций.
Генезис права и государства. “Мононормы”, системоцентристские
социальные регуляторы. Возникновение и историческое развитие феномена свободы. Субъект права и собственность. Взаимосвязь исторического становления государственности и права. Формирование норм
частного права и публичного права. Обычай и частноправовые отношения. Правосубъектность индивида и нормы публичного права. Политогенез правового типа: формирование публично-властных институ-
12
тов, полномочий и процедур, обеспечивающих правовую свободу.
Становление официальной формы права.
Основная литература
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства.
М., 2003.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.,
1994.
Васильев Л.С. Проблема генезиса китайского государства. М., 1983.
Васильев Л.С. Феномен восточного деспотизма: Структура управления
и власти. М., 1993.
Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998.
Дробышевский С.А. Политическая организация общества и право как
явления социальной эволюции. Красноярск, 1995.
Кревельд М. в. Расцвет и упадок государства / Пер. с англ. М., 2006.
Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах /
Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.
Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов. М., 1999.
Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права. Краткий
курс. М., 1996.
Тема 5. Исторические типы права и государства
Правопонимание и типология права и государства. Марксистский
историко-формационный подход и возможности его применения за
рамками теории классового насилия. Марксистский правовой ниги-
13
лизм: отрицание ценности права и государства, идея отмирания права
и государства. Учение о государстве и праве социалистического типа и
его воплощение в реальном социализме.
Цивилизационный подход в типологии государства: противоположность европейского и неевропейского (деспотического) типов цивилизации. “Первичные” и “вторичные” цивилизации: системоцентризм и персоноцентризм. Вульгарно-социологическое понимание государства в рамках цивилизационного подхода: неразличение государства и деспотии.
Либертарно-юридическая концепция типологии права и государства. Исторический прогресс права: экстенсивное и интенсивное развитие свободы. Историческая неизменность сущности права и прогресс исторических форм ее проявления. Типы права и государства как
основные исторические этапы прогресса свободы. Право и государство
в доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном обществе. Историческое развитие прав человека – историческая конкретизация правовой свободы. Этнические права, сословные права
(“права-привилегии”) и универсальные права человека. Историческое
становление и официальное признание прав человека. Характеристика
исторических типов права и государства: этнический, сословный, индивидуалистический и солидаристский типы. Правовое государство и
социальное правовое государство с точки зрения исторической типологии права и государства.
Основная литература
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права
и государства. М., 1997.
Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства.
М., 2003.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.
Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.,
1994.
Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998.
14
Кревельд М. в. Расцвет и упадок государства / Пер. с англ. М., 2006.
Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах /
Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.
Соколов С.В. Социальная философия: Учеб. пособие для вузов. М.,
2003.
Сырых В.М. Теория государства и права. Учебник для вузов / Отв. ред.
С.А. Чибиряев. (Без указ. места издательства). Былина, 1998.
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и
А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000.
Тема 6. Правовая культура
Многозначность термина “правовая культура”. Правовой и неправовой типы культуры. Типы культуры и доминирующие типы личности. Система ценностей правового и неправового типов культуры: персоноцентризм и системоцентризм. Культуры промежуточного типа:
конкурирующие (правовые-неправовые) и неправовые субкультуры.
Традиционная и современная культура России.
Правосознание – феномен правовой культуры. Понятие и функции
правосознания. Индивидуальное, групповое и общественное, обыденное, научное и профессиональное правосознание. Правовая идеология,
правовая психология, правовое чувство. Роль правосознания в законотворчестве и реализации права. Законоодобряющее, законопослушное
и закононарушающее правосознание.
Понятие и виды правового нигилизма. Правовой нигилизм как
принцип организации и соционормативной регуляции неправовых
культур. Правовой нигилизм маргинальных субкультур (антикультур)
в культуре правового типа: антиправовая культура. Российский традиционный правовой нигилизм. Коммунистический правовой нигилизм.
Основная литература
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права
и государства. М., 1997.
Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства.
15
М., 2003.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.,
1994.
Величко А.М. Государственные идеалы России и Запада. Параллели
правовых культур. СПб., 1999.
Дзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в
России. М., 1996.
Дробышевский С.А. Политическая организация общества и право как
явления социальной эволюции. Красноярск, 1995.
Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ.; под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2001.
Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993.
Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права.
М., 2002.
Нерсесянц В.С. Право и закон. М., 1983.
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997.
Оболонский А.В. Драма российской политической истории: система
против личности. М., 1994.
Пивоваров Ю.С. Политическая культура пореформенной России. М.,
1994.
Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Пристенский
В.Н.
Правовой
нигилизм:
философскоантропологические корни // CREDO NEW теоретический журнал.
2005. № 1 (http://www.orenburg.ru/culture/credo/01_2005/11.html)
Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов. М., 1999.
Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права. Краткий
курс. М., 1996.
Синюков В.Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. Саратов, 1994.
Тема 7. Тоталитаризм: отрицание права и государства
Силовая (деспотическая) сущность тоталитаризма. Модернизация
и тотальная власть. Слияние управляющей и управляемой систем. Же-
16
сткий тоталитаризм (социализм). Менее жесткий тоталитаризм (национал-социализм, фашизм). Органическая модель тоталитарной системы.
Возникновение тоталитарных систем. “Бегство от свободы”. Социальная база тоталитаризма: маргинальные люмпенские слои населения.
Социально-экономическое содержание тоталитаризма: догоняющее
индустриальное развитие на основе внеэкономического принуждения.
Искусственное (насильственное) создание и имитация индустриальных
форм. Неизбежное разрушение тоталитарных систем по мере перехода
мировой цивилизации к постиндустриальному развитию. Срыв модернизации. Ложно-альтернативный характер тоталитарной модернизации.
Основные черты социализма. Крайний авторитаризм. Партия нового типа. Политизированная иерархическая социальная структура. Харизматическая фигура вождя. Имитация демократических институтов.
Институты тотального контроля. Внешняя агрессивность. Принудительная идеология. Насаждение в обществе образа врага. Тотальный
террор. Создание атмосферы страха. “Создание нового человека”,
“культурно-воспитательная” функция власти: воспроизводство духовного люмпенства. Социализм как отрицание свободы, права и государства. Законодательство при социализме.
Посттоталитарное право и государство. Два типа постсоциалистического общества: восстановленное гражданское общество и общество
переходного типа. Постсоветское общество. Неофеодальная сущность
постсоветского права и государства. Неразделенность власти и собственности. Бюрократически регулируемая экономика. Авторитарные
тенденции.
Основная литература
Давид Р., Брили Д. Основные правовые системы современности. М.,
1999. (или: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997).
Нерсесянц В.С. Наш путь к праву. М., 1992.
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 1996.
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
17
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1966.
Арон Р. Демократия и тоталитаризм: Пер. с франц. М., 1993.
Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. М.,
1997.
Восленский М. Номенклатура. (Любое издание.)
Дзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в
России. М., 1996.
Мизес Л. фон. Социализм. Экономический и социологический анализ.
М., 1994.
Оболонский А.В. Драма российской политической истории: система
против личности. М., 1994.
Соколов С.В. Социальная философия: Учеб. пособие для вузов. М.,
2003.
Стецовский Ю.И. Право на личную свободу и неприкосновенность.
М., 2000.
Стецовский Ю.И. Судебная власть. М., 1999.
Тоталитаризм. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления / Рук. авт. колл. Я.С. Драбкин, Н.П. Комолова. М., 1996.
Устрялов Н.В. Германский национал-социализм. М., 1999.
Устрялов Н.В. Итальянский фашизм. М., 1999.
Хайек Ф.А. фон. Дорога к рабству. М., 1992.
Хайек Ф.А. фон. Пагубная самонадеянность: ощибки социализма. М.,
1992.
Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
Второй раздел
Юридическое учение о строении,
формах и функциях государства
18
Тема 8. Элементы государства
Позитивистская “теория трех элементов”: население государства,
государственная территория, государственная власть. Трактовка элементов государства в современной юридической теории.
Субстанциональный элемент государства. Права народов (этносов)
на политическое самоопределение – внешнее и внутреннее. Этническая общность: антропологическая, социокультурная, историко-политическая. Нация. Понятие нации в международном праве. Национальная государственность. Титульная нация и национальные меньшинства. Государственная принадлежность. Гражданство.
Территориальный элемент государства и право на родину. Территориальный принцип действия государственной власти. Государственная территория, ее виды. Изменение государственной территории.
Институциональный элемент государства: аппарат государственной власти, государство “в узком смысле”. Государственная власть и
право на гражданское неповиновение. Юридическое понятие государственного суверенитета. Внутренний и внешний суверенитет как система правомочий. “Народный суверенитет” и права человека. Пределы воли большинства в современном конституционном государстве.
Основная литература
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические
проблемы. М., 1997.
Бьюкенен А. Сецессия. Право на отделение, права человека и территориальная
целостность
государства
(http://www.sakharovcenter.ru/publications/sec/default.htm).
Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки,
особенности, структура. М., 2002.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989.
Дзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в
России. М., 1996.
19
Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 2004.
Карапетян Л.М. Грани суверенитета и самоопределение народов //
Гос. и право. 1993. № 1. С. 13–23.
Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства.
СПб., 2001.
Кревельд М. в. Расцвет и упадок государства / Пер. с англ. М., 2006.
Мамут Л.С. Народ в правовом государстве. М., 1999.
Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах /
Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
9. Оль П.А., Ромашов Р.А., Тищенко А.Г., Шукшина Е.Г. Государство,
общество, личность: проблемы совместимости / Под ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. М., 2005.
10. Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.
Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство. М.,
1993.
Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып.1 и 2. М.,1987–1989.
Тема 9. Механизм государственной власти
Функции государства и обеспечивающая их структурная организация государственной власти. Функции и задачи государства. Функция
– роль, выполняемая элементом социальной системы в ее организации.
Функции управляющего элемента в социальной системе (социуме) –
управление посредством установления правопорядка. Правоустановительная, правообеспечительная и юрисдикционная функции. Задачи –
создание системы коммуникаций, обеспечение безопасности, внешней
и внутренней, обеспечение благосостояния социума в целом. Понятия
внутренних и внешних функций государства. Функции государства и
функции органов государства. Патерналистская (редистрибутивная)
функция: перераспределение национального дохода.
Аппарат государственной власти и механизм государства. Государственные органы. Государственные органы и органы местного самоуправления. Организационная структура аппарата государственной
власти. Системное единство государственной власти и разделение властей. Организационное единство государственной власти в неразвитой
правовой ситуации. Разделение властей – надлежащая правовая форма
организации государственной власти. Институциональный, функциональный и субъектный компоненты разделение властей. Контрольные
органы государственной власти в системе разделения властей. Учреди-
20
тельная власть. Президентская власть.
Законодательные органы. Исполнительная власть, правительство и
администрация. Прокуратура. Государственная служба. Судебная
власть. Личная, организационная и функциональная независимость суда. Правоустановительная (правоформирующая) функция судебной
власти.
Основная литература
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Автономов А.С. Избирательная власть. М., 2002.
Автономов А.С. Правовая онтология политики: к построению системы
категорий. М., 1999.
Баренбойм П. 3000 лет доктрины разделения властей. Суд Сьютера.:
Учебное пособие. М., 1995.
Государственная служба (комплексный подход): Учебное пособие /
Под ред. А.В. Оболонского. М., 1999.
Дзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в
России. М., 1996.
Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ.; под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2001.
Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд. М., 2005.
Мэннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления: международный опыт / Пер. с англ. М., 2003.
Оболонский А.В. Бюрократия для XXI века? Модели государственной
службы: Россия, США, Англия, Австралия. М., 2002.
Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество: Пер. с англ. / Предисл. А. Оболонского.
М., 1993.
Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Разделение властей: Учебное пособие / Отв. ред. М.Н. Марченко. М.,
2004.
Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1996.
21
Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003.
Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. М., 2000.
Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма):
Пер. с венгр. М., 2001.
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. М., 1995.
Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. М.,
1995.
Тема 10. Форма государства
Понятия формы государства. Реальные и номинальные монархии и
республики. Категории формы государства и тоталитарные системы
ХХ в. Концепция монистической (монократической), сегментарной и
поликратической государственных форм. Монархия и полиархия.
Форма правления, государственный режим и территориальное государственное устройство как элементы формы государства.
Основная литература
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 2004.
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 7-е изд. СПб., 1907.
Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд. М., 2005.
Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество: Пер. с англ. / Предисл. А. Оболонского.
М., 1993.
Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.
Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1996.
Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. М., 2000.
Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001.
22
Тема 11. Форма правления
Форма правления, ее связь с правовым содержанием государственности. Монархии неограниченные (абсолютистские) и ограниченные
(конституционные). Абсолютистская монархия как противоположность реальной республики. Абсолютистская монархия и деспотия.
Дуалистические (реальные) и парламентарные (номинальные) конституционные монархии. Разделение властей на законодательную и исполнительную в дуалистической монархии. Монарх как номинальный
глава государства. Институт контрасигнатуры. Форма правления в современных развитых государствах.
“Строгое” разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную в президентской республике. Система сдержек и противовесов. Фактическая роль президента и политических партий. Значение судебной власти в президентской республике. Имитация президентской республики в неразвитых государственно-правовых системах.
Страны с парламентарной формой правления. “Государство партий”. Функциональное и субъектное разделение властей на “партийную” и административную ветви. Парламентская ответственность правительства: сдержки и противовесы внутри “партийной” власти. Конструктивный вотум недоверия. Судебная власть в парламентарных
странах общего права. Федерализм и конституционное правосудие как
противовес “партийной” власти в континентальных европейских парламентарных странах.
Республика со смешанной формой правления. Бицефальная система исполнительной власти. Конкурирующая компетенция президента и
парламентского большинства при формировании правительства. “Партийная” власть и “сожительство” президента и премьер-министра.
Конституционная модель и практика взаимодействия высших органов государственной власти в Российской Федерации. Президент РФ
– реальный глава государства. Позиция Конституционного Суда РФ по
вопросу о разделении властей. Доктрина “скрытых” полномочий президента. Презумпция компетентности Президента РФ. Теоретическая
конструкция “суперпрезидентской” республики, ее несовместимость с
разделением властей.
Основная литература
23
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. М.,
1995.
Дополнительная литература
Баренбойм П. 3000 лет доктрины разделения властей. Суд Сьютера.:
Учебное пособие. М., 1995.
Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998.
Верховенство права. М., 1992.
Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ.; под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2001.
Лузин В.В. Формы правления современных государств. Н. Новгород,
2000.
Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд. М., 2005.
Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. М., 1984.
Мэннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления: международный опыт / Пер. с англ. М., 2003.
Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах /
Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество: Пер. с англ. / Предисл. А. Оболонского.
М., 1993.
Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.
Сравнительное конституционное право / Ред. колл.: А.И. Ковлер, В.Е.
Чиркин (отв. ред.), Ю.А. Юдин. М., 1996.
Токвиль А. Демократия в Америке. (Любое издание).
Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. М., 2000.
Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001.
Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма):
Пер. с венгр. М., 2001.
24
Тема 12. Государственное устройство
Централизованное и децентрализованное государственное устройство. Унитарное государство. Децентрализация государственной власти в развитой правовой культуре. Территориальная и этнокультурная
автономии. Полицентризм. Регионализм.
Федеративное (принципиально децентрализованное) государство.
Историческое становление федерализма. Образование федеративных
государств. Смысл федерализма: разделение властей “по вертикали”.
Разграничение компетенции между федеральной и региональными
подсистемами государственной власти. Презумпции компетентности
федерации и субъектов федерации. Федерализм на этнической и территориальной основах. Виды субъектов федерации. Суверенитет и гражданство в федеративном государстве. Финансовая система в федеративном государстве.
Проблемы становления российского федерализма. Асимметричная
федерация. Неустойчивость этнотерриториального федерализма. Формальное равенство и фактическое неравенство субъектов федерации.
Межгосударственные объединения. Личные унии и создание общих государственных органов. Реальные унии. Содружество. Протекторат. Ассоциированные государства. Союзы государств. Конфедерация. Международные организации государств.
Основная литература
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ.; под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2001.
Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд. М., 2005.
Основы теории и практики федерализма. Лейвен. 1999.
Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество: Пер. с англ. / Предисл. А. Оболонского.
М., 1993.
25
Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.
Сравнительное конституционное право / Ред. колл.: А.И. Ковлер, В.Е.
Чиркин (отв. ред.), Ю.А. Юдин. М., 1996.
Тэпс Д. Концептуальные основы федерализма. СПб., 2002.
Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое
исследование) / Отв. ред. Б.Н. Топорнин. М., 2001.
Федерализм: теория и история развития (сравнительно-правовой анализ) / Отв. ред. М.Н. Марченко. М.. 2000.
Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. М., 2000.
Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001.
Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. М., 1997.
Тема 13. Государственный (политический) режим
Демократия и диктатура. Либерализм и авторитаризм. Государственный режим и правовая культура. Понятие легитимности. Типы
легитимного господства.
Виды авторитарных режимов. “Управляемая демократия”. Авторитарная модернизация как путь к демократии? Имитация демократии в
условиях плебисцитарной диктатуры.
Либерально-демократический режим. Элементы прямой демократии в современных государствах. Полупрямая демократия и представительная демократия. Демократия и “народовластие”. Плюралистическая демократия. Демократия и право. Демократия консенсуса. Демократическая легитимация органов государственной власти. Легитимация государственных актов демократической процедурой.
Основная литература
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
26
Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998.
Дзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в
России. М., 1996.
Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ.; под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2001.
Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока. М., 1990.
Ковлер А.И. Кризис демократии? Демократия на рубеже XXI века. М.,
1997.
Лейпхарт А. Демократия. М., 1985.
Мамут Л.С. Народ в правовом государстве. М., 1999.
Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд. М., 2005.
Нерсесянц В.С. Наш путь к праву. М., 1992.
Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество: Пер. с англ. / Предисл. А. Оболонского.
М., 1993.
Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1996.
Сравнительное конституционное право / Ред. колл.: А.И. Ковлер, В.Е.
Чиркин (отв. ред.), Ю.А. Юдин. М., 1996.
Токвиль А. Демократия в Америке. (Любое издание).
Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство. М.,
1993.
Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. М., 2000.
Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001.
Ясин Е. Приживется ли демократия в России. М., 2005.
Тема 14. Общество и государство
Общество как система отношений обмена. Общество и публичная
политическая власть в системоцентристских и персоноцентристских
цивилизациях. Синкретичность и разделенность общества и публичновластной организации.
Понятие гражданского общества. Государство как институция
гражданского общества, их разделение и взаимодействие. Сферы частных и публичных интересов, отношений и институтов. Субъекты и
структуры гражданского общества. Политические и политизированные
субъекты. Понятие политической системы. Гражданское общество и
государство как управляемая и управляющая системы. Гражданское
общество как саморегулирующаяся система. Правовые механизмы са-
27
морегулирования: свободный рынок, либеральная демократия, независимое правосудие. Гражданское общество и процессы формирования и
осуществления государственной власти.
Пределы государственного вмешательства в сферу гражданского
общества. Либерализм и этатизм. Минимальное (либеральное) государство. Плюрализм и монополизм. Монополизация и подавление механизмов саморегулирования. Олигархическое авторитарное государство. Государственно-правовое противодействие монополизму. Государственное регулирование в интересах саморегулирования. Менее
жесткие тоталитарные режимы как вариант модернизации и альтернатива саморегулированию при неразвитом гражданском обществе. Авторитарный этатизм и демократический государственный интервенционизм. Авторитаризм этатистский и авторитаризм деспотический
(тоталитарный). Эгалитаризм. Концепция цивилизма (постсоциализма).
Основная литература
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Арментано Д.Т. Антитраст против конкуренции / Пер. с англ. М., 2005.
Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика / Пер. с англ.
под ред. А.В. Куряева. Челябинск, 2004.
Деринг Д. Либерализм: размышления о свободе / Пер. с нем. М., 2001.
Дзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в
России. М., 1996.
Дробышевский С.А. Политическая организация общества и право как
явления социальной эволюции. Красноярск, 1995.
Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ.; под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2001.
Капелюшников Р. Право собственности (Взгляд через призму экономической теории) // Отечественные записки. 2004. № 6.
Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд. М., 2005.
Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической
теории / Пер. с англ. М., 2005.
28
Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.
Речицкий В.В. Свобода и государство. Харьков, 1998.
Сапов Г. [Налоги]От Моисея до наших дней // Отечественные записки.
2002. № 4–5.
Сапов Г. Собственность: условие человеческой деятельности и юридическая категория // Отечественные записки. 2004. № 6.
Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1996.
Хайек Ф.А. фон. Дорога к рабству / Пер. с англ.; предисл. Н.Я. Петракова. М., 1992.
Хайек Ф.А. фон. Индивидуализм и экономический порядок. М., 2001.
Хайек Ф.А. фон. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма. М.,
1992.
Ясин Е. Приживется ли демократия в России. М., 2005.
Тема 15. Правовое государство и перераспределяющее государство
Легистское и либертарное понимание правовой государственности.
Основные характеристики правового государства. Господство права:
приоритет прав человека по отношению к иным ценностям, защищаемым в государстве; законодательное установление пределов свободы
по принципу формального равенства; равное подчинение всех праву;
презумпция правомерного поведения. Формальные гарантии правовой
свободы: верховенство конституции, обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права человека; требование правового закона, запрет издавать правонарушающие законы; запрет возлагать обязанности, не установленные законом. Институциональные гарантии
правовой свободы: разделение государственного управления и общественного самоуправления, рассредоточение государственной власти,
разделение властей “по вертикали” и “по горизонтали”; бикамерализм;
независимое правосудие; конституционная юрисдикция.
Система прав человека в правовом государстве. Общий правовой
статус индивида. Права человека и права гражданина. Классическая
система прав и свобод индивида: status negativus, status positivus, status
activus. Трудовые права и потребительские привилегии. Позитивистская конструкция и классификация основных прав и свобод. Соблюдение законов – единственная обязанность индивида в государстве. Посттоталитарные представления о свободе и ответственности, взаимной
29
ответственности государства и гражданина.
Принцип законности и верховенство правового закона. Внутригосударственные механизмы и международные механизмы обеспечения
прав и свобод. Административный и прокурорский способы обеспечения и защиты прав и свобод. Судебная защита. Общая, административная и конституционная юрисдикция. Модели и процедуры конституционной юрисдикции. Конституционный суд как орган правосудия и как
“суперзаконодатель”. Правоформирующая роль конституционной юстиции, писаная конституция и право.
Понятие и основные черты современного перераспределяющего
государства (“социального правового государства”, “государства всеобщего благосостояния”). Права “первого поколения” и “второго поколения”. Представления о равенстве и справедливости в перераспределяющем государстве. Задачи перераспределяющего государства: социально-экономическая, содействие развитию культуры, экологическая. Проблема “перегруженности” государства и ограничения государственного интервенционизма.
Основная литература
1. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
2. Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С.
Нерсесянца. М., 1999.
3. Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М.,
2006.
4. Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика / Пер. с англ.
под ред. А.В. Куряева. Челябинск, 2004.
Боботов С.В. Конституционная юстиция. М., 1994.
Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой
опыт. М., 1996.
Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия:
защита прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. М., 2005.
Верховенство права. М., 1992.
Глухарева Л.И. Права человека в современном мире. М., 2003.
Гумбольдт В. О пределах государственной деятельности. М., 2003.
30
Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека.
Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб., 2004.
Дзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в
России. М., 1996.
Защита прав человека в современном мире / Отв. ред. И.А. Ледях. М.,
1993.
Капелюшников Р. Право собственности (Взгляд через призму экономической теории) // Отечественные записки. 2004. № 6.
Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. М., 1993.
Малько А.В. Правовое государство // Правоведение. 1997. № 3.
Мамут Л.С. Народ в правовом государстве. М., 1999.
Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Гос. и
право. 2001. № 7. С. 5–14.
Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 1996.
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997.
Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество: Пер. с англ. / Предисл. А. Оболонского.
М., 1993.
Социальное государство (Тема номера) // Отечественные записки.
2003. № 3.
Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к
положениям Конституции Российской Федерации: Избранные права. М., 2002.
Стецовский Ю.И. Право на личную свободу и неприкосновенность.
М., 2000.
Стецовский Ю.И. Судебная власть. М., 1999.
Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство. М.,
1993.
Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма):
Пер. с венгр. М., 2001.
Третий раздел
Юридическая догматика
31
Тема 16. Феноменология права
Многообразие правовых явлений. Правоотношения, правосознание, официальные юридические тексты. Содержание правовых явлений: субъективные права и правовые нормы. Правовая норма и правовой статус. Права человека как безусловные притязания на свободную
самореализацию в обществе и государстве.
Онтология права. Способы бытия социальных норм: общественное
сознание, общественные отношения, закон (официальный текст). Правовая норма и содержание правовых законов, правоотношений, правосознания. Право как система норм, зафиксированных и сформулированных в официальных юридических текстах. Понятие правопорядка в
формалистической и реалистической версиях нормы права. Абстрактно-должный и реальный правопорядки.
Форма права. Официальный индивидуальный акт и договор частных лиц. Обычай и официальный (авторитетный) нормативный текст.
Формы выражения и способы бытия правовой нормы. Правоотношение и законоотношение. Правосознание и законосознание.
Основная литература
Давид Р., Брили Д. Основные правовые системы современности. М.,
1999. (или: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997).
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
1. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1998.
2. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.
3. Грязин И. Текст права: Опыт методологического анализа конкурирующих теорий. Таллинн, 1983.
4. Кареева М.П., Айзенберг А.М. Правовые нормы и правоотношения.
М., 1949.
32
5. Кечекьян С.Ф. Правоотношение в социалистическом обществе. М.,
1958.
6. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 7-е изд. СПб., 1907.
7. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1992.
8. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002.
9. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994.
10. Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и
государства. М., 1980.
11. Поляков
А.В.
Общая
теория
права:
Феноменологокоммуникативный подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
12. Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991.
13. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова
и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000.
14. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М.,
1999.
15. Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 2003.
16. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. М., 1995.
Тема 17. Норма права
Норма права и официальный текст нормы права. Нормы права,
правоположения и законоположения. Официальная форма и формальные характеристики нормы права. Свойства закона, свойства права и
свойства правовой нормы. Системная связь правовых норм.
Теоретическая конструкция логической структуры нормы права.
Принцип и структура соционормативной регуляции и структура отдельной правовой нормы. Системность права и структура правовой
нормы. Классификация норм права и элементов норм. Понятие рекомендательных и поощрительных норм. Способы изложения норм права.
Основная литература
Давид Р., Брили Д. Основные правовые системы современности. М.,
1999. (или: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997).
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсе-
33
сянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 7-е изд. СПб., 1907.
Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1992.
Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002.
5. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994.
6. Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М., 2005.
7. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. Учебник для юридических вузов. М., 2001.
8. Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права.
Воронеж, 1990.
9. Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах / Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
10. Пашинский А.И. Юридическая деонтология. М., 1995.
11. Поляков
А.В.
Общая
теория
права:
Феноменологокоммуникативный подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
12. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М.,
1999.
13. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов.
М., 1999.
14. Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып.1 и 2. М.,1987–1989.
15. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. М., 1995.
1.
2.
3.
4.
Тема 18. Доктринальные принципы права
Общеправовые принципы. Принципы “незапрещенное разрешено”
и “неразрешенное запрещено”, сферы их действия. Принцип “договоры должны соблюдаться” в национальном и международном праве.
Принцип взаимосвязи субъективных прав и юридических обязанностей. Правонарушение и юридическая ответственность.
Правовые принципы закона. Последующее отменяет предыдущее.
Приоритет специального закона по отношению к общему закону. Незнание закона не освобождает от ответственности. Неопубликованные
законы не применяются. Отягчающий закон не имеет обратной силы,
34
смягчающий закон имеет обратную силу.
Принципы надлежащей правовой процедуры. Никто не может быть
лишен жизни, свободы или имущества иначе как по решению суда.
Никто не может быть судьей в своем деле. Пусть будет выслушана и
другая сторона. Нельзя наказывать дважды за одно и то же. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не доказана. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Никто не обязан
свидетельствовать против себя.
Основная литература
Давид Р., Брили Д. Основные правовые системы современности. М.,
1999. (или: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997).
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1998.
Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.
Барак А. Судейское усмотрение / Пер. с англ. М., 1999.
Бержель Ж.–Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. М., 2000.
5. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 7-е изд. СПб., 1907.
6. Леви Э.Х. Введение в правовое мышление. М., 1995.
7. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002.
8. Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М., 2005.
9. Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 1996.
10. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997.
11. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова
и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000.
12. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М.,
1999.
13. Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 2003.
1.
2.
3.
4.
35
Тема 19. Источники права
Источники права в формальном смысле. Официальные юридические тексты. Источники права и форма права. Различие источников
права в основных правовых семьях.
Виды источников права. Первичные и вторичные источники права.
Правоустановительные акты и акты толкования. Нормативный акт.
Нормативный прецедент. Официально санкционированная доктрина.
Официально санкционированный обычай. Индивидуальный официальный акт ad hoc и договор частных лиц как источники права.
Конституция, законы и подзаконные нормативные акты. Классификация и иерархия нормативных актов. Действие нормативно-правовых
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных актов.
Международные и федеративные нормативные договоры. Действие
международно-правовых положений в национальных правовых системах. Нормативные соглашения о труде. Официальная сила нормативных договоров.
Акты судебной власти как источники права. Правоустановительные судебные акты и судебные акты толкования. Решения высших судов. Судебные прецеденты, нормативные акты судебной власти и
обыкновения судебной практики.
Основная литература
Давид Р., Брили Д. Основные правовые системы современности. М.,
1999. (или: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997).
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
1. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1998.
2. Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, судебная практика. М., 2004.
3. Бержель Ж.–Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. М., 2000.
4. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993.
36
5. Братусь С.Н., Венгеров А.Б. Судебная практика в советской правовой системе. М., 1975.
6. Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России: сравнительно-правовые аспекты. М., 2004.
7. Грязин И. Текст права: Опыт методологического анализа конкурирующих теорий. Таллинн, 1983.
8. Гук П.А. Судебный прецедент как источник права. Пенза, 2003.
9. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения.
М., 2002.
10. Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного
Суда Российской Федерации // Журнал российского права. 2004. №
12.
11. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 7-е изд. СПб., 1907.
12. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985.
13. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994.
14. Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М., 2005.
15. Поляков
А.В.
Общая
теория
права:
Феноменологокоммуникативный подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
16. Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С.
Нерсесянца. М., 1999.
17. Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.
18. Романов А.К. Правовая система Англии. М., 2000.
19. Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003.
20. Судебная практика как источник права / Под ред. Б.Н. Топорнина.
М., 1997.
21. Судебная практика как источник права / Под ред. Б.Н. Топорнина.
М., 2000.
22. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М.,
1999.
23. Цихотский А.В. Самостоятельность судебной власти и право суда
на нормотворчество. Новосибирск, 1995.
24. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов.
М., 1999.
25. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. М., 1995.
Тема 20. Правоустановление
Правообразование и официальное нормотворчество. Понятие
правоустановления (“правотворчество”) и виды правоустановительной
37
деятельности. Выражение норм права, установление субъективных
прав и юридических обязанностей и создание официальных нормативных юридических текстов. Официальное признание (санкционирование, формулирование) действующего права. Нормотворчество и законотворчество. Основные стадии правоустановительного процесса.
Законодательный процесс. Юридическая техника.
Пробелы в праве (в официальных юридических текстах): пробелы в
законе, законодательстве и нормативно-правовом регулировании.
“Установление пробелов”. Устранение и восполнение пробелов. Применение норм права по аналогии. Пробелы и судебные прецеденты.
Основная литература
Давид Р., Брили Д. Основные правовые системы современности. М.,
1999. (или: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997).
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном
процессе. М., 2002.
Барак А. Судейское усмотрение / Пер. с англ. М., 1999.
Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России: сравнительноправовые аспекты. М., 2004.
Грязин И. Текст права: Опыт методологического анализа конкурирующих теорий. Таллинн, 1983.
Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1998.
Законодательный процесс. Понятие, институты, стадии: Научнопрактическое пособие / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. М., 2000.
Исаков В.Б. Подготовка законов. Рекомендации по разработке, оформлению и внесению законопроектов. М., 2002.
Керимов Д.А. Законодательная техника. М., 1998.
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 7-е изд. СПб., 1907.
Кучин М.В. Нормотворческая деятельность судебных органов Российской Федерации и судебный прецедент // Право и политика. 2000.
№ 5.
38
Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах /
Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
Пашинский А.И. Юридическая деонтология. М., 1995.
Подготовка и принятие законов в правовом государстве. М., 1998.
Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Справочник по нормотворческой технике. 2-е изд. / Пер. с нем. М.,
2004.
Сырых В.М. Теория государства и права. Учебник для вузов / Отв. ред.
С.А. Чибиряев. (Без указ. места издательства). Былина, 1998.
Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999.
Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.,
1999.
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. М., 1995.
Щупленков В.П. Законотворчество: фундаментальный курс. М., 1993.
Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990.
Тема 21. Система права и система законодательства
Понятие системы права. Международное право. Национальная правовая система. Отраслевая структура права: гражданское, конституционное, уголовное, административное и процессуальное право. Подотрасли права и отрасли правового законодательства: семейное, торговое, финансовое, налоговое, таможенное, уголовно-исполнительное,
административно-деликтное, уголовно-процессуальное, гражданское
процессуальное и др. Комплексные отрасли правового законодательства: земельное, экологическое (природоресурсное), предпринимательское и др. Правовые институты. Трудовое право и гражданскоправовое регулирование труда. Привилегии, договоры и принцип in favorem в регулировании трудовых отношений. Социальное законодательство. Система законодательства.
Основная литература
Давид Р., Брили Д. Основные правовые системы современности. М.,
1999. (или: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997).
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсе-
39
сянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
1. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.
2. Баранов В.М., Поленина С.В. Система права, система законодательства и правовая система: учебное пособие. Н. Новгород, 2000.
3. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998.
4. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 7-е изд. СПб., 1907.
5. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994.
6. Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах / Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
7. Поляков
А.В.
Общая
теория
права:
Феноменологокоммуникативный подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
8. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М.,
1999.
9. Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности. СПб.,
1991.
Тема 22. Основы типологии национальных правовых систем
Основные правовые семьи. Понятие правовой семьи. Европейская
континентальная правовая семья и страны общего права (семья прецедентного права). Принципиальные различия и сближение основных
правовых семей.
Теория права и сравнительное правоведение. Юридическая география мира. Правовые и неправовые культуры, развитые и неразвитые
национальные правовые системы. Влияние морали, религии и неправовых обычаев в неразвитых правовых культурах. “Мусульманское право”. “Индусское право”. Доправовые культуры.
Сущность и основные черты “социалистического права”. Силовая
соционормативная регуляция и фиктивность законодательства. Особенности конституционного, уголовного и административного законодательства при социализме. Соотношение гражданского и хозяйственного законодательства. Извращение трудового и социального законодательства. Уравнительная идеология и практика уравниловки. Иерархия социальных статусов и система распределения при социализме.
40
Основная литература
Давид Р., Брили Д. Основные правовые системы современности. М.,
1999. (или: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997).
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.
Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. М.,
1997.
Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993.
Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России: сравнительноправовые аспекты. М., 2004.
Грязин И. Текст права: Опыт методологического анализа конкурирующих теорий. Таллинн, 1983.
Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985.
Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М., 2005.
Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. Учебник
для юридических вузов. М., 2001.
Правовые системы стран мира. Справочник / Под ред. А.Я. Сухарева.
М., 2000.
Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.
Романов А.К. Правовая система Англии. М., 2000.
Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов. М., 1999.
Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. Ташкент, 1999.
Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под ред. В.А. Туманова. М., 2000.
Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география
мира. М., 1993.
Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права. Краткий
курс. М., 1996.
Сравнительное конституционное право / Ред. колл.: А.И. Ковлер, В.Е.
Чиркин (отв. ред.), Ю.А. Юдин. М., 1996.
41
Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999.
Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996.
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере
частного права. М., 2002.
Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994.
Тема 23. Действие права
Правовое регулирование и действие права. Механизм и эффективность действия права. Методы правового регулирования. Правовой
режим: понятие и основные виды.
Реализация права. Понятия правоприменения и правоприменительных органов. Различия между административной и судебной правоприменительной деятельностью. Юстициабельность правовых норм.
Значение и роль судебной процедуры правоприменения в механизме
действия права. Стадии правоприменения. Субсумция как модель правоприменения.
Коллизии в праве и их разрешение. Коллизионные нормы. Мнимые
коллизии. Общие и специальные нормы. Действительные коллизии и
их разрешение в процессе правоприменения.
Основная литература
Давид Р., Брили Д. Основные правовые системы современности. М.,
1999. (или: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997).
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.
Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России: сравнительноправовые аспекты. М., 2004.
Грязин И. Текст права: Опыт методологического анализа конкурирующих теорий. Таллинн, 1983.
42
Кожевников С.Н. Реализация права. Юридическое толкование. Законность. Н. Новгород, 2002.
Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах /
Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
Пашинский А.И. Юридическая деонтология. М., 1995.
Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М.,
1991.
Судебная власть в России. Роль судебной практики / Под ред. Ю.А.
Тихомирова. М., 2002.
Сырых В.М. Теория государства и права. Учебник для вузов / Отв. ред.
С.А. Чибиряев. (Без указ. места издательства). Былина, 1998.
Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999.
Тихомиров Ю.А. Действие закона. М., 1992.
Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2000.
Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.,
1999.
Тема 24. Толкование права
Понятие толкования права: толкование официальных юридических
текстов. Объект толкования и предмет толкования. Модели толкования
юридических текстов в рамках субсумции: индуктивная и дедуктивная.
Юридическая герменевтика и герменевтическая модель толкования
(правоприменения и толкования). Концепция судейского права. Способы толкования. Виды толкования. Понятия легального и аутентичного
толкования. Проблема адекватного толкования.
Основная литература
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Бержель Ж.–Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко /
Пер. с фр. М., 2000.
Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании
43
и применении гражданских законов. М., 2002.
Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России: сравнительноправовые аспекты. М., 2004.
Гаджиев А.Х. Толкование права и закона. М., 2000.
Грязин И. Текст права: Опыт методологического анализа конкурирующих теорий. Таллинн, 1983.
Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1998.
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 7-е изд. СПб., 1907.
Наумов В.И. Толкование норм права. М., 1998.
Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах /
Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Романов А.К. Правовая система Англии. М., 2000.
Сырых В.М. Теория государства и права. Учебник для вузов / Отв. ред.
С.А. Чибиряев. (Без указ. места издательства). Былина, 1998.
Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.,
1999.
Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: Учеб. пособие для вузов.
М., 2003.
Тема 25. Правоотношение
Понятие правоотношения в юридической догматике. Виды правоотношений. Норма права как модель, правоотношение как реализация
модели.
Субъекты правоотношений. Двусторонние и многосторонние правоотношения. Правосубъектность. Содержание правоотношения. Классификация субъективных прав. Защита субъективных прав. Возможность судебной защиты как неотъемлемое свойство субъективного права. Объекты правоотношений. Юридические факты. Фактический состав. Юридические презумпции и юридические фикции.
Основная литература
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
44
Дополнительная литература
Варламова Н.В. Правоотношения: философский и юридический подходы // Правоведение. 1991. № 4.
Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. Л., 1987.
Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. Л., 1981.
Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984.
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 7-е изд. СПб., 1907.
Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах /
Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991.
Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999.
Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений.
М., 1980.
Тема 26. Правонарушение. Юридическая ответственность
Правомерное и неправомерное поведение. Понятие правонарушения. Состав правонарушения как основание юридической ответственности. Объективно противоправное деяние. Противоправное деяние
неделиктоспособного субъекта. Право гражданина на самозащиту и
пресечение правонарушений. Необходимая оборона.
Юридическая ответственность как правоотношение. Основания,
признаки, цели и принципы юридической ответственности. Проблема
смертной казни. Юридическая и политическая ответственность.
Виды правонарушений и юридической ответственности. Дифференциация административных правонарушений и преступлений. Право
и дисциплинарные нарушения (дисциплинарная ответственность).
Восстановление нарушенной правовой ситуации и юридическая ответственность. Проблема конституционной ответственности.
Основная литература
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.
Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Четвернин В.А. Теория права и государства. Краткий курс. М., 2006.
45
Четвернин В.А. Общая теория права и государства. М., 2007.
Дополнительная литература
Виноградов В.А. Ответственность в механизме охраны конституционного строя. М., 2005.
Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности: Социологический и юридический аспекты. Л., 1983.
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права, 7-е изд. СПб., 1907.
Кристи Н. Пределы наказания: Пер. с англ. М., 1985.
Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1992.
Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву: теоретические проблемы. М., 1986.
Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. СПб., 2003.
Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х томах /
Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2002.
Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный
подход. Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003.
Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.
М.Н. Марченко. М., 1999.
Стецовский Ю.И. Судебная власть. М., 1999.
Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999.
Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. М., 1997.
Ячменев Ю.В. Юридическая ответственность и ее виды в современной
учебной литературе: критический анализ // Правоведение. 2001. №
1. С. 247–249.
46
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.
КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
Первый раздел. ПОНЯТИЕ, ГЕНЕЗИС И
ИСТОРИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ПРАВА И
ГОСУДАРСТВА
Тема 1. Правопонимание
Вопросы для обсуждения
1. Юридическая интерпретация и силовая (потестарная) интерпретация сущностного единства права и государства.
2. Основные позиции, по которым расходятся потестарные интерпретации и юридический либертаризм
3. Теоретико-познавательные и аксиологические предпосылки потестарных интерпретаций государства и права и юридического либертаризма.
4. Феноменализм, вульгарный эмпиризм и агностицизм позитивистской методологии. Апология власти. Нормативно-критический характер юридического либертаризма.
Из лекции: Противоположность либертарно-юридической интерпретации права и государства и потестарных (позитивистских) интерпретаций проявляется по четырем принципиальным позициям.
Право и свобода. Свобода – возможность самостоятельного выбора
внешне выраженного поведения. Либертарное правопонимание начинается с различения двух типов культур, или цивилизаций, проявившихся во всемирной истории. Есть культуры, в которых основным
принципом социального бытия является свобода, т.е. правовые культу-
ры, и есть неправовые культуры, где свобода неразвита и где действует, в основном, неправовое (уравнительно-перераспределительное, потестарное) официально-властное регулирование.
Далее, юридический либертаризм утверждает, что право и государство суть необходимые формы свободы: право (общеобязательные
нормы социальной деятельности в сообществе свободных людей) – это
нормативно выраженная свобода, а государство (публично-властная
организация, публично-властные институты в сообществе свободных)
– это институционально-властное обеспечение правовой свободы.
Смысл государственно-правового регулирования – установить такие
общеобязательные нормы и такой порядок отношений, при которых
обеспечивается всеобщая свобода (свобода для всех индивидов, которые признаются субъектами права и государства в определенной
культуре в определенную историческую эпоху).
Всеобщая свобода, или свобода всех субъектов одного круга общения, возможна лишь постольку, поскольку они равны в своей свободе.
Из этого утверждения вытекает, что право, правовое общение предполагают равную свободу всех индивидов (равную свободу всех субъектов, относящихся к одному и тому же кругу правового общения). Правовые нормы, правовые запреты, обязывания и дозволения одинаковы
для всех.
Равная свобода, равенство в свободе, или формальное равенство –
это основополагающий принцип права, правового общения. Правовые
нормы определяют меру свободы по принципу формального равенства.
Позитивисты не отрицают, что правовые нормы определяют меру
свободы. Понятно, что любые социальные нормы, так или иначе, устанавливают пределы свободы, или “отмеряют” свободу. Но позитивистская трактовка соотношения права (закона) и свободы принципиально
отличается от либертарно-юридической.
Позитивисты в правовой культуре, как правило, не отвергают ценность свободы вообще, но в своем правопонимании они не различают
два типа культуры и не видят тождества права и свободы. Позитивисты
называют правом законы любого содержания, а законы есть в цивилизованных культурах любого типа – и там, где есть свобода, и там, где
ее нет или ее ценность принижена.
Поэтому, во-первых, позитивисты полагают, что свобода не может
быть признана высшей целью правового регулирования, точнее – целью того, что они называют правом, целью публично-властного упорядочения. В частности, позитивисты-представители неправового типа
культуры утверждают, что свобода может быть не только полезной, но
48
и вредной для достижения целей общества, и что ради более высокой
цели властно установленное “право” может произвольно ограничивать
свободу – в той мере, в которой это угодно властным субъектам.
Юридический либертаризм отнюдь не опровергает тот факт, что в
неправовых культурах ценность свободы, действительно, невысока. Но
в контексте правовой культуры, в сообществе свободных людей свобода есть высшая ценность. Важно отметить, что с провозглашения этой
аксиомы фактически начинается российская Конституция: “Человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства” (ст.2 Конституции РФ).
Во-вторых, если юридический либертаризм объясняет правовое регулирование как обеспечение свободы, то позитивисты, наоборот,
представляют правовое регулирование как режим несвободы. Правда,
они путают правовую свободу и произвол.
Действительно, правовое регулирование можно представить как
ограничение свободы посредством общеобязательных правил. Право с
его запретами, обязываниями и санкциями очерчивает пределы пользования свободой. Но отсюда позитивисты делают вывод, будто бы право –
это несвобода, принудительно установленный порядок несвободы, что
свобода остается за пределами государственно-правового принуждения.
На самом деле правовые нормы, ограничивая человека в сообществе равных ему людей, запрещают не свободу как таковую, а произвол, т.е. такую своевольную деятельность, которая нарушает и умаляет
свободу других, противоречит всеобщей свободе. Произвол – это то,
что не может быть общей нормой в сообществе свободных и равных в
своей свободе людей, то, что не совместимо с равной свободой всех.
Иначе говоря, право запрещает только то, что нарушает свободу других.
Итак, правовые запреты, обязывания и санкции следует расценивать как обеспечивающие режим всеобщей свободы, равной для всех,
кто признается субъектом права. Правовая свобода возможна только
при условии запрета всего того, что не может быть всеобщей нормой
свободы.
Право и закон. Позитивистское отождествление права и закона
означает, что закон, властное веление, является мерой права. Все, что
установлено в законах, официально признано и обеспечено принудительной силой, и только это, считается правом. Любое правило, если
оно сформулировано в законе, считается правовой нормой. Если правило сложилось в форме обычая, то, для позитивистов, это еще не правовая норма; но когда обычай получает официальное признание, силу
49
закона, тогда, по логике позитивистов, он становится уже правовым
обычаем.
Юридический либертаризм, напротив, различает право и официальную форму права (и других социальных норм). Право – это социальные нормы, которые являются правовыми или не являются таковыми по содержанию, а не в силу законной, официальной формы их выражения. Законы (указы, декреты, постановления, судебные прецеденты и другие официальные акты) служат лишь формой признания, выражения, формулирования правовых (и неправовых) норм.
Поэтому следует различать правовые и неправовые законы. Не все,
что официально установлено и обеспечено принуждением, является
правом. Право – особый способ, особый тип официально-властного
регулирования. Законы можно называть позитивным (положительным)
правом постольку, поскольку они обладают правовым содержанием, но
вовсе не потому что они “положены”, установлены верховной властью.
Так называемое позитивное право – это правовые законы и другие
официальные юридические акты.
Но наряду с правовыми законами, даже в правовой культуре, существуют неправовые или правонарушающие законы.
Критерием различения правовых и правонарушающих законов
служат фундаментальные принципы правовой свободы – естественные
и неотчуждаемые права человека. Законы, нарушающие права человека, – это уже не позитивное право, а узаконенный произвол.
Далее, юридический либертаризм объясняет, что правовые нормы,
правовые отношения возникают именно как правовые независимо от
закона. Обычаи и договоры могут иметь правовое (и неправовое) содержание независимо от их официального признания, властного санкционирования.
Безусловно, право нуждается в официальной силе закона, в принудительной силе государства. Но не потому что законная форма сделает
нормы правовыми, а потому что правовые нормы общезначимы и обязательны для всех. Закон и стоящая за ним принудительная сила сами
по себе не порождают право. Государственное принуждение в той или
иной мере всегда присутствует в сфере права, но оно выполняет чисто
инструментальную функцию. Оно необходимо ради защиты права от
нарушений, т.е. ради обеспечения правовой свободы.
Таким образом, либертаризм не противопоставляет право и закон, а
формулирует требование правовых законов, не отвергает ценность закона и законности для права, но требует правовой законности. В правовой культуре право должно быть законным, а законы должны быть
правовыми и не должны быть правонарушающими.
50
Право и права человека, согласно либертаризму, суть одно и то же.
Право вообще – это нормативно выраженная свобода, а совокупность
прав человека, достигнутых в конкретной правовой культуре, составляет тот объем правовой свободы, который в этой культуре признается
неотъемлемым и необходимым для каждого индивида. В исторически
неразвитых правовых культурах права человека существуют как сословные права – права “сословного человека”, разные для разных сословий. В исторически развитой правовой ситуации – это равные права
каждого человека или каждого гражданина.
По своей природе права человека – это такие социально значимые
притязания на некую меру свободы, которые совместимы с принципом
формального равенства, которые могут быть всеобщими требованиями
свободы.
Индивиды, свободные члены общества – это первичные, исходные
субъекты права и государства. Правовое общение происходит между
субъектами, которые признают друг друга обладающими равной свободой, одинаковыми исходными, первичными правами.
Эти основополагающие права (права и свободы) существуют не в
силу закона, а в силу их взаимного признания внутри круга субъектов
государственно-правового общения. В этом смысле фундаментальные
права можно называть естественными, ибо они проявляются до и независимо от их официального признания. Они называются неотчуждаемыми, так как без них человек не может быть субъектом права и государства.
Права человека лежат в основе правового законодательства. Права
человека – критерий, позволяющий различать правовые и правонарушающие законы.
Только либертарное правопонимание дает собственно юридическую интерпретацию естественных прав человека, в то время как в
позитивистских теориях они объясняются как морально-этические, не
юридические требования. В действительности права человека выражают именно юридические требования – требования правовой свободы, равной свободы каждого человека или гражданина. Что касается
морально-этических притязаний, то такие притязания, даже официально признанные и законодательно закрепленные, к правам человека не
относятся.
Позитивизм в рамках своей силовой парадигмы вполне допускает
такое “право”, которое исключает свободу отдельного человека или
нарушает права человека. Позитивисты полагают, что никакие требования свободы не могут связывать законодателя (носителя верховной власти), творящего право.
51
Напротив, юридический либертаризм объясняет, что официально
признаваемое и защищаемое право (позитивное право) не может противоречить правам человека. Право, правовые законы – это законы, соответствующие правам человека.
Права человека, как и любые правовые притязания, нуждаются в
силе закона. Правовые законы и другие юридические официальные акты защищают и конкретизируют права человека. Но это не значит, что
права человека порождаются волей или мудростью законодателей. Законодатели не могут “творить” права человека даже силой официальных установлений. Закон может защищать или нарушать права человека, но он не может их “породить”.
Право и государство взаимосвязаны. С одной стороны, государство формулирует правовые нормы в законах, устанавливает и применяет санкции за их нарушение. С другой стороны, государственные органы и должностные лица государства действуют в соответствии с нормами права, не только издают, но и сами, хотя и не всегда, соблюдают
правовые нормы, выполняют правовые предписания. Следовательно,
государство (властная социальная организация) и право (общеобязательные социальные нормы) подчиняются одному и тому же принципу, имеют одно и то же начало. Иначе говоря, право и государство
имеют единую сущность. В частности, было бы абсурдно утверждать,
что государство – это неправовая организация власти, которая, тем не
менее, устанавливает правовые нормы.
В логически последовательных, непротиворечивых позитивистских
концепциях тоже признается тезис о сущностном единстве права и
государства. Причем в позитивистской потестарной парадигме это
сущностное единство означает силу, произвол верховной власти. Для
позитивистов правовая сущность государства и силовая сущность права – одно и то же. Государственная власть и право оказываются воплощением одного и того же произвола (воли господствующего класса, политической элиты или иной организованной силы, создающей
стабильный порядок).
Если право тождественно силе, то такая “правовая” (она же – произвольная, силовая) сущность государства допускает любой законодательный и беззаконный произвол верховной власти. Поэтому у позитивистов получается, что государственная власть есть сила, которая произвольно творит право и сама этому праву не подчинена. Когда позитивисты говорят, что государственная власть может быть подчинена
праву (своим законам), то они добавляют, что государство может произвольно изменить или отменить свое право. В любом случае право, в
позитивистском понимании, – это то, что находится в распоряжении
52
государственной власти.
Но если право – это не узаконенный произвол, тогда и государство
нельзя считать воплощением произвола, ибо государство устанавливает и защищает право. Ошибочно думать, что законы, выражающие
принцип формального равенства, являются случайным результатом
произвольной государственно-властной деятельности. Нельзя одновременно утверждать, что государство – это силовая, в сущности произвольная организация власти и что государство с его произвольным
законодателем, пусть даже современное государство, должно признавать, соблюдать и защищать права человека.
Следовательно, сущностное единство права и государства (в либертарном понимании) означает, что право и государство суть воплощения одного и того же принципа формального равенства, равной свободы. Государство – необходимый и важнейший компонент правовой
свободы.
В то же время юридический либертаризм различает государство и
деспотию. Государство – властная организация правового типа, обеспечивающая принуждением правовую свободу, порядок правового общения. Деспотия – организация власти силового типа, устанавливающая принудительный порядок в условиях несвободы.
Таким образом, государство есть не везде, где существует властная
организация, а только в правовых культурах, цивилизациях правового
типа. Государство – особый тип политической организации, который
совместим не с любым социальным строем, а только с таким, при котором есть свобода.
Такое употребление термина “государство”, различение государства и деспотии непривычно для российского политического сознания.
Тем более для сознания, сформировавшегося под влиянием потестарных и, особенно, марксистских представлений о государстве, либертарно-юридическая трактовка государства покажется по меньшей мере
спорной.
Ибо в позитивистском понимании, государство по существу не отличается от деспотии (деспотия – это “такое государство”). Так, позитивисты определяют государство как совокупность властных институтов,
которые устанавливают принудительный порядок. Причем свобода не
считается целью этого принудительного порядка. Государственный порядок, полагают позитивисты, следует оценивать как эффективный или
неэффективный, но бессмысленно оценивать его с точки зрения свободы: для эффективного принуждения свобода не нужна. Свобода не считается признаком государства в его позитивистской трактовке. Поэтому
позитивисты допускают и такое “государство”, в котором нет свободы
53
(“деспотическое государство”). Государство, утверждают позитивисты,
может быть либеральным, свободным, но может быть и деспотическим.
Таким образом, в рамках позитивизма невозможно различать государство и деспотию.
Завершая сопоставление юридического либертаризма и позитивизма, следует коснуться и вопроса о правовом государстве.
Понятие правового государства возникло в Новое время и сегодня
означает государство, в котором власть, прежде всего, максимально
связана правами человека. Позитивисты же считают права человека октроированными, возникающими в силу закона. Поэтому для позитивистов понятие правового государства оказывается бессмысленным:
власть, произвольно устанавливающая “право”, не может быть жестко
связана этим “правом”; власть, дарующая права, не может быть ограничена этими правами.
О государстве, связанном правами человека, можно говорить лишь
в том случае, если можно объяснить, что права человека не зависят от
усмотрения властных субъектов. Поэтому понятие правового государства можно объяснить только в рамках либертарного правопонимания.
Тема 2. Понятие права
Вопросы для обсуждения
1. Формалистическая трактовка нормы в легистском позитивизме.
2. Социологическая трактовка нормы и позитивизм.
3. Подмена понятия справедливости при морально-этической интерпретации права. Позитивизм и “моральность права”.
4. Формальное равенство: смысловое единство свободы, равенства
и справедливости.
5. Минимальная неотъемлемая свобода, minimum minimorum правовой свободы.
Из лекции: Правовая свобода, справедливость и собственность.
Право по своей сущности – это нормативная форма свободы, при которой участники правового общения равны в своей свободе. Сущность
права, правового регулирования состоит в том, что фактически разные
(неравные) люди в правовом общении выступают как равные и независимые друг от друга, как свободные индивиды – субъекты права, а их
действия измеряются и оцениваются по одинаковому масштабу.
Возможно множество формулировок правового (формального) равенства. Например: правовое равенство есть равное обращение с раз-
54
ными людьми или применение одинакового масштаба к фактически
неодинаковым субъектам.
Правовое равенство означает такую форму свободы, при которой
свобода каждого участника правового общения ограничена такой же
свободой других. Нет равенства без свободы и свободы без равенства,
ибо свобода, не ограниченная равной свободой всех прочих, есть произвол. Или: “Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц” (ч.3 ст.17 Конституции
РФ). Или: “Поступай так, чтобы максима твоего поведения могла быть
вместе с тем и принципом всеобщего законодательства” (“категорический императив” И. Канта).
Противоположность правовой свободы – произвол. Последний
означает господство силы: чем больше силы, тем больше свободы (воли). Поэтому произвол не может быть формой свободы всех членов общества. Если произвол становится принципом всего общества, то это
уничтожает свободу вообще. Более слабые несвободны по отношению
к более сильным, но последние в свою очередь несвободны по отношению к еще более сильным. В конечном счете, свободным будет только
один – деспот, перед которым все остальные несвободны: перед деспотом все равны, а именно: равны нулю (Ж.-Ж. Руссо). Следовательно,
правовая свобода является единственной формой свободы для общества в целом и для всех членов общества.
Формальное равенство – это принцип справедливости. Поэтому
понятия права и справедливости существуют в неразрывном единстве.
Еще Аристотель утверждал, что справедливым является то, что делается по праву. Латинское jus означает право, или справедливое притязание, а justitia – справедливость и правосудие. В Древней Греции и
Древнем Риме понятия права и справедливости отождествлялись, в то
время как закон считался таким творением человеческого разума, которое может быть произвольным, несправедливым.
Аристотель объяснял справедливость как воздаяние равным за равное. При этом он различал справедливость распределяющую и уравнивающую. Распределяющая справедливость означает принцип распределения общих благ пропорционально вкладу того или иного члена
сообщества в общее дело. При неравном вкладе по справедливости
должно происходить неравное наделение социальными благами (почестями, деньгами и т.д.).
Несправедливость в распределительных отношениях может быть
двоякого рода – наделение неравными благами людей, вносящих равный вклад в общее дело, и равными благами за неравный вклад.
В первом случае несправедливость выражается в привилегиях для
55
всех, кто получает больше, чем пропорционально вкладу. Если кто-то
получает больше, чем пропорционально, в то время как остальные –
пропорционально вкладу, то в сравнении с ними он имеет привилегию.
Если малоимущие не платят налоги, но получают пособия из государственной казны, они имеют привилегию за счет налогоплательщиков.
Если безработные получают пособие по безработице, то это означает
их привилегию за счет работающих.
Во втором случае несправедливость – это уравниловка, распределение поровну (примерно поровну) независимо от вклада. По
существу уравниловка ничем не отличается от привилегий: при уравнительном распределении тот, чей вклад меньше, имеет привилегию
по отношению тому, чей вклад больше.
Отсюда ясно, что так называемая социальная справедливость означает привилегии или уравниловку в распределительных отношениях.
Любые потребительские привилегии, установленные из самых гуманных соображений, нарушают принцип формального равенства – принцип права и справедливости.
С уравниловкой не нужно путать уравнивающую справедливость.
Это справедливость в обменных отношениях. Она требует равенства
(эквивалентности) предоставлений и получений при обмене социальными благами, соразмерности возмещения причиненному ущербу, наказания – преступлению и т.д. Латинское aequitas (от aeque – равно,
одинаково, беспристрастно, справедливо) переводится в современном
языке как соразмерность, пропорциональность, равенство перед законом, справедливость, равное, беспристрастное обращение с разными
людьми.
Справедливый обмен – это эквивалентный обмен. Например, справедливым, или эквивалентным, товарообменом является такой, при котором цена товара (справедливая цена) складывается свободно, в зависимости от соотношения спроса и предложения. Если некий производитель затрачивает на производство товара столько ресурсов, что себестоимость этого товара выше, чем свободно складывающаяся цена, то
это не значит, что он вправе требовать большую цену, соответственно
затратам. Это была бы несправедливая цена, ибо никто не обязан возмещать неэффективному производителю чрезмерные затраты. Справедливая цена эквивалентна потребительской ценности товара, а не затратам. Неэффективный производитель в справедливых отношениях
находится в экономически невыгодном положении.
Обмен может быть не только позитивным, но и негативным. Так,
возмещение вреда – это разновидность негативного обмена. Справедливость требует, чтобы возмещение вреда было полным. Даже если
56
бедный неумышленно причиняет вред богатому, то справедливым, тем
не менее, будет полное возмещение вреда. Возможность лишь частичного возмещения причиненного вреда означает привилегию.
Справедливым наказанием является такое, которое эквивалентно
тяжести содеянного. В примитивных нормативных системах справедливость наказания определялась по принципу талиона: “око за око, зуб
за зуб”. Затем в процессе цивилизованного развития общество нашло
правовые эквиваленты, позволяющие “отмерять” наказание соразмерно тяжести содеянного для большинства преступлений – штраф и
ограничение или лишение свободы на определенный срок.
Следует подчеркнуть, что свобода и право невозможны без собственности (частной собственности). Собственность есть выражение свободы и формального равенства.
Свобода – возможность самостоятельного выбора внешне выраженного поведения – возможна в обществе лишь тогда, когда у индивидов есть собственные, им принадлежащие ресурсы жизнедеятельности, позволяющие удовлетворять потребности относительно независимо от интересов других членов общества. Это возможно лишь в таком
обществе, в котором ресурсы жизнедеятельности присваиваются отдельными членами общества. Этот принцип общественного строя и
называется собственностью. Иначе говоря, собственность – это такой
порядок отношений в обществе, при котором ресурсы жизнедеятельности присваиваются отдельными его членами. Такой порядок, или
принцип, представляет собой необходимое абстрактное условие свободы.
Понятно, что собственность возникает как частная собственность,
и лишь после этого возможны публичная или какие-то иные формы
собственности. В публичной собственности находятся объекты, которые не попадают в частную собственность и принадлежат всем вместе
и никому в отдельности.
В условиях официального признания и защиты собственности все,
кто вправе быть собственником, реально пользуются свободой в той
мере, в которой реально обладают собственными ресурсами жизнедеятельности, реально приобретают эти ресурсы. Но право абстрагируется
от фактических имущественных различий и гарантирует равную формальную свободу в имущественных отношениях всем, кому не запрещено быть собственником – независимо от фактически имеющихся
или не имеющихся, реально приобретенных или не приобретенных
правомочий собственника конкретного имущества.
Само существование частной собственности есть самая важная гарантия свободы, причем не только для тех, кто имеет собственные ре-
57
сурсы социального благополучия, но и в той же мере для тех, кто таких
ресурсов реально не имеет (но может иметь!). Насильственное упразднение собственности порождает всеобщую несвободу, замену правового регулирования силовым уравнительным регулированием (коммунистическая идеология называет это “освобождением труда”, “подлинной
свободой”). Причем обобществление всех объектов экономики есть не
замещение частной собственности какой-то более прогрессивной (социалистической) формой собственности, а уничтожение собственности
вообще. Ибо публичная, государственная, общественная собственность
возможны лишь тогда, когда есть частная собственность.
Равенство в свободе – это равноправие, равная правосубъектность,
равенство в исходных, абстрактных правах, таких как право на свободу
и неприкосновенность, право быть собственником и т.д. Это признание
равной возможности приобретать конкретные права. Но при равенстве в
исходных правах фактически неодинаковые индивиды неизбежно будут
приобретать и иметь разные конкретные права на конкретные социальные блага. Например, абстрактное право быть собственником является
равным для всех, но люди фактически неодинаковы, и поэтому приобретенные права собственности на конкретное имущество у всех разные.
Соответственно правовое равенство, признание людей формально
равными субъектами предполагает имущественное неравенство в силу
различия способностей фактически разных людей, обстоятельств их
жизни и т.д. Наоборот, равенство людей в потреблении возможно лишь
при уравниловке, при отрицании собственности и правового равенства.
Формальное равенство – это принцип с исторически изменяющимся содержанием. Право – это исторически обусловленная мера свобода.
Исторически право возникает с появлением индивидуальной свободы. Свободные индивиды – носители, суть и смысл права. Причем в
доиндустриальном обществе существуют не только свободные или частично свободные (субъекты права, хотя и не полноправные), но и несвободные (объекты права). В этом обществе нет всеобщего правового
равенства. Лишь в индустриальном обществе правовая свобода становится равной для всех.
Всеобщее равноправие является высшим историческим проявлением правового равенства. Его нормативным выражением служит положение, сформулированное в ч.2 ст.19 Конституции РФ: “Государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограниче-
58
ния прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности”.
Равноправие не тождественно равенству перед законом. Равенство
перед законом означает применение закона в равной мере ко всем его
адресатам без исключения. Равенство перед правовым, справедливым
законом есть одно из проявлений равноправия. Но если закон – правонарушающий, противоречащий принципу права, нарушающий равноправие, то и равенство перед таким законом есть нарушение равноправия. Равенство перед судом можно рассматривать как одно из проявлений формального равенства, равноправия, но, опять же, только в том
случае, если суд правовой, справедливый, беспристрастный. Перед таким судом все формально равны.
Правовая свобода индивидов (частных лиц) означает возможность
действовать по принципу “разрешено все, что не запрещено правом”.
На властных субъектов этот принцип не распространяется. При правовом регулировании властеотношений законы дозволяют властные полномочия и запрещают употреблять власть за пределами дозволенного.
Государственно-властные субъекты (государственные органы и должностные лица государства) законодательно наделяются властными
правомочиями, т.е. только такой компетенцией, которая необходима
для обеспечения правовой свободы. Поэтому государственновластным субъектам запрещено все, что им не разрешено.
Конечно, в самих отношениях повеления-подчинения никакого равенства нет. Формальное равенство остается за пределами этих отношений. Если подчиняющийся обязан подчиняться лишь в пределах того, что право дозволяет повелевающему субъекту, то во всем остальном обычные члены общества и люди, выступающие от имени государства, формально равны.
О мере запрещаемого и дозволяемого. До какого предела законы
могут запрещать и дозволять, не превращаясь в правонарушающие?
Что, с позиции правовой свободы, следует запрещать, и что нужно
дозволять властным субъектам? И, наоборот, что, с точки зрения права, нельзя запрещать и соответственно дозволять?
Право не может определяться случайным мнением законодателя о
целесообразности либо нецелесообразности тех или иных запретов или
дозволений. Должен быть общезначимый критерий, который позволяет
и законодателю, и всем остальным субъектам права одинаково судить
о том, что по праву следует и что не следует запрещать или разрешать.
Это критерий, позволяющий оценивать законы как правомерные или
правонарушающие.
Правовые законы устанавливают запреты ради обеспечения право-
59
вой свободы: по праву может быть запрещено (и должно быть запрещено) то, что несовместимо с равной свободой всех, нарушает свободу
других. Точно так же государственно-властные полномочия необходимы и дозволяются законом для обеспечения правовой свободы, в частности, для принуждения к соблюдению правовых запретов.
Правовая свобода существует лишь в таком социуме, в котором
признается и властно обеспечивается хотя бы необходимый, неотъемлемый минимум исходных прав индивида. Это то, что сегодня мы
называем “естественные и неотчуждаемые права и свободы человека
и гражданина”. Без этих прав люди не могут быть субъектами права.
Это то, без чего нет “материи” права. Если закон не признает эти права, то он не допускает правовой свободы.
Следовательно, критерий, позволяющий различать правовые и
правонарушающие законы, – это минимальная неотъемлемая свобода.
Правовой закон не может запрещать то, что относится к минимальной
неотъемлемой свободе. Точно так же закон не может дозволять властным субъектам вторгаться в сферу минимальной неотъемлемой свободы. Закон не противоречит праву постольку, поскольку он не ограничивает минимально необходимую свободу, не нарушает права человека (неотъемлемые права свободных индивидов). Это необходимые и
достаточные правовые требования, предъявляемые к законам.
Но это формальные требования. Дело в том, что в каждой правовой
культуре есть свои представления о минимальной неотъемлемой свободе. Права человека разные в разных правовых культурах, и они развиваются по мере исторического прогресса свободы. Минимальная
неотъемлемая свобода, права человека – это понятия с исторически
изменяющимся содержанием.
Объем и содержание свободы, которая признается минимальной и
неотъемлемой в конкретной культуре, определяются развитостью этой
культуры. В неразвитой культуре не может быть всех тех прав человека,
которые в развитой признаются неотъемлемыми правами. Например, в
неразвитой правовой культуре может не быть свободы передвижения и
поселения в ее современном понимании, свободы вероисповедания, избирательных и других политических прав и свобод.
Но в любой правовой культуре есть хотя бы minimum minimorum –
абсолютный минимум правовой свободы. Сюда входят три компонента: личная свобода, собственность и безопасность, обеспеченная публично-властными органами (государством). Личная свобода включает
в себя свободу распоряжаться собой и своими способностями, неприкосновенность, право на частную жизнь. Собственность означает право быть собственником и право собственника свободно владеть, поль-
60
зоваться и распоряжаться своим имуществом. Безопасность подразумевает право на государственно-властную защиту от противоправных
посягательств, особенно, судебную защиту. Без этих прав (взаимосвязанных компонентов правовой свободы) нет свободы вообще.
То, что сегодня признается минимальной неотъемлемой свободой в
наиболее развитых правовых культурах, по объему и содержанию существенно шире, чем названный minimum minimorum. В западноевропейской культуре сегодня признается даже неотъемлемое право на
жизнь, что исключает смертную казнь.
Права человека в своей сущности – это безусловные притязания
индивидов на свободную самореализацию. Они возникают и развиваются по мере исторического прогресса свободы, независимо от их официального признания, провозглашения и формулирования (разумеется,
они нуждаются в таком признании и формулировании). Они существуют не в силу их установления неким властным субъектом, а в силу
объективного процесса правообразования. Законодатели лишь фиксируют этот процесс.
Отсюда – характеристика прав человека как неотъемлемых и неотчуждаемых: человек не может быть лишен этих прав (человек может
быть ограничен в пользовании этими правами в рамках юридической
ответственности) и не может от них отказаться. В этом смысле права
человека не находятся в его распоряжении. Он может не пользоваться
ими, но не может их отчуждать.
По традиции права человека называются естественными, но это не
значит, что они естественные в прямом смысле – природные, прирожденные или принадлежащие каждому от рождения. Права человека,
как и право вообще, – это социокультурное, а не природное явление, и
те или иные права принадлежат человеку не “от рождения человеком”,
а от рождения в таком социуме (в силу нахождения в таком социуме), в
котором эти права признаются за каждым человеком.
В современном юридическом языке термин естественные права
человека сохраняется, поскольку он подчеркивает, что это права не октроированные, не “дарованные” верховной властью. Они не зависят от
усмотрения властных субъектов, законодателей не только в негативном, но и в позитивном смысле. Законы в национальной правовой
культуре не могут отменять или запрещать права человека, которые
уже достигнуты этой культурой (законы могут их лишь нарушать). Но
точно так же законы не могут порождать или учреждать права и свободы, которые еще не достигнуты в национальной правовой культуре.
Права человека в конкретной правовой культуре таковы, каков уровень развития свободы в этой культуре. Если законодательство (и госу-
61
дарственные институты) отстает от этого уровня, то на смену старому
законодательству революционным путем приходит новое, выражающее
права человека в том объеме, который реально достигнут правовой
культурой. Но если законодательство опережает этот уровень, то конституционные и законодательные формулировки о правах человека являются фикцией – в той мере, в которой они опережают реальный уровень развития правовой свободы.
Объем и содержание прав человека в неразвитой правовой культуре не могут быть такими же, как и в развитой, пусть даже эти культуры
существуют одновременно. И когда в стране с отсталой правовой
культурой принимается конституция, в которой воспроизводятся формулировки о правах человека, достигнутых в наиболее развитых культурах, то отсталая культура от этого не становится развитой, и права
человека не становятся реальностью. Можно перечислить в конституции все права и свободы, известные на сегодняшний день; но если подавляющее большинство населения не осознает их смысл, то конституционные положения о правах человека фиктивны. Конституционный
каталог прав и свобод делает человека свободным не более, чем поваренная книга – сытым.
Исходя из всего сказанного, можно предложить следующее определение права. Право – это система общеобязательных норм, определяющих меру свободы в обществе и государстве по принципу формального равенства.
То же самое определение, сформулированное с учетом взаимосвязи
права и государства, гласит: право – это соответствующая требованиям
принципа формального равенства система норм, установленных или
санкционированных государством.
Тема 3. Понятие государства
Вопросы для обсуждения
1. Признаки и типы публичной политической власти.
2. Вульгарно-силовые и легистские концепции о соотношении государства и деспотии, о понятии правового государства.
3. Юридическая интерпретация государства: необходимая институциональная форма правовой свободы.
4. Правовое государство и авторитарное государство как идеальные типы.
Из лекции: Государство как правовой тип публичной политиче-
62
ской власти. В либертарно-юридическом понимании государство – это
властная организация, обеспечивающая правовую свободу. Или: правовой тип и правовая форма организации и функционирования публичной политической власти. Или: правовая организация публичной политической власти свободных индивидов.
Из такого определения вытекает, что государственно организованное сообщество состоит из свободных индивидов, образующих в качестве членов государства совокупность субъектов публичного права.
Поэтому в государственно-властных отношениях повелевающие субъекты хотя бы минимально связаны хотя бы минимальной свободой
подвластных.
Оговорка “хотя бы” предполагает, что государство в разных правовых культурах будет разным. Есть государство, максимально гарантирующее права человека, и есть государство, обеспечивающее лишь
минимум правовой свободы. “Всякое государство связано правом в
меру его цивилизованности, развитости права и правовой культуры у
соответствующего народа и общества” (В.С. Нерсесянц). Но мера связанности властеотношений правом является разной в архаичном аграрном и в современном индустриальном обществе, в государстве авторитарном и либерально-демократическом, в государстве с вековыми традициями конституционализма и в государстве посттоталитарном и т.д.
Сущностное единство права и государства означает, что государство обеспечивает правопорядок и само (как властный порядок) является частью правопорядка. Ибо для любых общеобязательных норм
требуются властные институты, обеспечивающие соблюдение этих
норм. Для правовых норм нужна правовая организация власти. Поэтому государство – публично-властная организация, необходимая для
права, система властных институтов (органов), способных принудительно обеспечить правопорядок. Право – нормативно выражаемая
форма свободы, а государство – институциональная, организационная
форма осуществления свободы людей в их социальной жизни.
Власть, обеспечивающая право, сама должна быть подчинена праву. Следовательно, государство можно рассматривать через призму
правового законодательства, конституирующего государственные институты и отношения. Законы о государственной власти представляют
собой необходимую нормативную форму обеспечения правовой свободы.
Но даже в развитой государственно-правовой ситуации конституция и законы дают лишь модель властеотношений, а реальное осуществление государственной власти всегда в некоторой мере отклоняется от заданной модели. Причем эти отклонения не сводятся к некон-
63
ституционной или противоправной деятельности должностных лиц.
Просто реальность государства богаче и многообразнее заданных правовых моделей. Поэтому для полного знания о государстве, его типах,
формах, функциях нужно знать не только законы, но и фактический
порядок формирования и осуществления государственной власти. Однако эта оговорка никоим образом не затрагивает принципиальный тезис о правовой сущности государства.
Таким образом, государство представляет собой правовое явление,
организацию публичной политической власти правового типа. В частности, государственный суверенитет означает, что суверенная власть
государства, верховная и независимая, введена в правовые рамки. Это
такой механизм политического принуждения, который, так или иначе,
опосредован правом, действует в рамках властных правомочий.
Правовое понимание государства терминологически неочевидно в
русском языке. Термин “государство” является производным от “государь” (“государь-ство” – это то, что принадлежит единоличному правителю, государево достояние). Напротив, в западноевропейских языках употребляются термины, возникшие в Новое время на основе латинского status (stato, state, Staat, Etat etc.), которые подразумевают
властно организованное сообщество правового типа. В сущности, они
означают то же, что и древнегреческие ός, πολιτεία, латинские
civitas, respublica – не государево достояние, а публично-правовое объединение граждан.
Термин stato применительно к публично-правовому состоянию сообщества появился в научном языке в XVI в. Ранее в политическом
языке использовались термины “республика”, “правление”, “империум”, а также “княжество”, “принципат” и другие терминологические
формы, отражавшие феодальные политико-правовые формы, адекватно выраженные русским термином “государство”.
В итальянском языке stato (как и латинский термин status) означает
состояние, положение, сословие и т.д., что выглядит достаточно
нейтральным. Но термин stato, как и немецкий Staat или английский
state, этимологически не связан с такими терминами и понятиями, как
“государь”, “царь”, “господин”, “властелин”, “правитель” и т.п. Термины, производные от stato, возникли в европейской гражданской цивилизации для обозначения сложившегося именно здесь особого типа организации публичной политической власти – правового типа. И было
бы неверно употреблять эти термины для обозначения деспотии (“деспотическое государство”) – политического агрегата иного типа, иной
сущности нежели ός, civitas, stato.
В русском же языке не появился аналогичный термин, обо-
64
значающий публично-правовое состояние сообщества, так как термин
“государство” всегда был адекватен российской политической действительности. Но если, тем не менее, считать, что термин “государство” адекватно передает содержание, смысл, сущность терминов state,
Staat etc., тогда следует признать, что “государство” в современном понимании означает публично-правовое состояние сообщества, организацию публичной политической власти правового типа.
Государство и деспотия. В любой цивилизации существует публичная политическая власть. Однако типы публично-властной организации в деспотических и правовых цивилизациях противоположны. И
если властная организация правовой цивилизации – это государство,
тогда противоположный тип, деспотия является антигосударством.
Деспотия, деспотический способ интеграции сообщества исключают свободу человека по отношению к коллективу, сообществу. Здесь
люди действуют не самостоятельно, а повинуясь власти, в рамках отношений повеления-подчинения. Здесь все социальное бытие политизировано, власть управляет экономикой и культурой, власть определяет общественное развитие.
В цивилизации правового типа сообщество интегрируется не столько политической властью, сколько отношениями обмена, в которые
вступают свободные индивиды – субъекты права. В таком сообществе
хотя бы часть его членов свободна и может существовать относительно
независимо от политической власти. Институты политической (государственной) власти создаются здесь для решения общих дел свободных
членов сообщества – при этом у них остается некоторая сфера их частной жизни, хозяйственной и духовной, свободная от государственного
управления.
Причем рабы и другие несвободные в исторически неразвитой цивилизации правого типа просто исключены из политических отношений, они представляют собой объекты собственности частных лиц, но
не объекты государственно-политического управления. Политическое
господство над несвободными как раз и означает деспотизм. Так, крестьяне-общинники, бывшие основной производительной силой в древневосточных деспотиях, были несвободны политически, но они не принадлежали частным лицам, не являлись объектами собственности. Их
хозяйственная деятельность управлялась бюрократическим аппаратом.
Сущность государственно-организованного сообщества – это обеспечение личной свободы, безопасности и собственности. Сила государства заключается не в том, что власть способна ограничивать свободу, а
в том, что она способна эффективно защищать свободу, действуя в пределах, установленных правовыми законами.
65
Различение государства и деспотии, как и различение правовых и
правонарушающих законов, это отнюдь не изобретение Нового времени. Такое различение возникло еще в древности и существует постольку, поскольку теоретическая мысль отражает реальную противоположность двух типов властной организации – правового (государственноправового) и силового. Так, еще древнегреческие мыслители не только
различали так называемые правильные и неправильные формы государства, но и противопоставляли государство как достижение цивилизации античного полиса и деспотическую организацию власти в варварских странах.
Цивилизации деспотического типа преобладали в эпоху доиндустриального, аграрного общества. Но в эпоху индустриального развития
деспотия оказалась неконкурентоспособной по отношению к государственно-правовым системам. Правда, деспотизм умеет приспосабливаться
к условиям индустриального общества. В ХХ в. возникла новая форма
деспотизма – тоталитаризм. Вначале тоталитарные режимы установились в России, Италии и Германии – как реакция на кризис индустриального развития в этих странах, а затем и в некоторых азиатских странах –
как модернизация традиционной деспотической власти. Странам Восточной Европы тоталитаризм был навязан Советским Союзом, занявшим их в ходе второй мировой войны, так что эти страны относительно
легко избавились от тоталитаризма после крушения советской империи.
В Германии и Италии тоталитарные режимы были уничтожены в ходе
второй мировой войны западными державами-победительницами. Тоталитарные режимы, сохраняющиеся в более или менее жестком виде в
Китае, в Северной Корее, на Кубе и в некоторых других странах, постепенно и закономерно разлагаются.
Тотальная (всеобъемлющая) власть является антиподом государственно-правовой власти. Так что не может быть “тоталитарного государства”. Например, так называемое Советское государство лишь имитировало государственно-правовые формы. Законодательство тоталитарных систем в общем и целом является неправовым, произвольным,
силовым, хотя в некоторых сферах общественной жизни, в ограниченной мере может сохраняться или использоваться правовое регулирование. Но в любой момент тотальная власть способна отбросить любой
закон и прибегнуть к открытому насилию, террору. Эта власть уничтожает свободу, и хотя она допускает “личную потребительскую собственность” населения, не гарантирует ее.
Правовое государство и авторитарное государство. Понятие правового государства возможно только в рамках более общего юридического понятия государства. (В силовых или в легистских концепциях
66
правовое государство – это нонсенс или плеоназм).
Хотя государство вообще, государство как таковое представляет
собой правовой тип власти, отсюда не следует, что правовое государство – плеоназм. Отсюда лишь вытекает, что государственное принуждение, государственно-властные институты обеспечивают правовую
свободу.
И все же государство – это, прежде всего, властная организация, а
власть всегда стремится вырваться из правовых рамок. Государственно-властные субъекты стремятся навязать свою волю остальным членам сообщества. При этом они нередко выходят за пределы государственных правомочий. Это явление – авторитаризм – более характерно для исторически неразвитой правовой ситуации. Но и в современных правовых культурах есть авторитарные явления, когда власть нарушает правовую форму.
Таким образом, в любом государстве есть не только правовое, но и
авторитарное начало, и они конкурируют. Причем в неразвитых правовых культурах преобладает авторитарное начало, в развитых – правовое. В неразвитых правовых культурах властные институты минимально ограничены правовой свободой и авторитарно вмешиваются в
общественную жизнь. В развитых правовых культурах, наоборот,
власть максимально ограничена правовой свободой.
В таком контексте следует различать два типа государства – авторитарное государство и правовое государство. Неразвитой правовой
культуре соответствует государство авторитарное (полицейское), развитой – правовое (либерально-демократическое) государство, в котором максимально обеспечиваются права человека.
Противопоставление двух типов государства применимо лишь к
правовым культурам Нового времени. Древнюю и средневековую государственность следует рассматривать как исторически неразвитую, для
которой авторитаризм характерен и закономерен, хотя в ней прослеживается развитие отдельных компонентов правовой государственности.
Правовое государство – идеал, идеальный тип государства, понятие с исторически изменяющимся содержанием. Ибо источником знания о том, что такое максимальная правовая свобода, служит исторически развивающаяся реальность государства. Представления о правовом
государстве изменяются в ходе исторического прогресса свободы. То,
что считалось максимальным ограничением власти правом в Германии
в первой половине XIX в., когда возникло понятие правового государства (Rechtsstaat), сегодня уже таковым не считается. Знание о правовом государстве постоянно обогащается. Так что правовое государство
как идеальный тип – это юридическая модель, отражающая уровень
67
правовой свободы, уже достигнутый в наиболее развитых правовых
культурах.
Иначе говоря, правовое государство – это государство, наиболее
развитое с позиции сегодняшнего научного знания о правовой свободе.
Современные правовые культуры, отстающие в своем развитии,
могут в той или иной мере ориентироваться на идеал правовой государственности. Но конституционное провозглашение государства правовым еще не означает, что оно в действительности является таковым.
Например, государство, формирующееся в современной России, вопреки конституционно провозглашенному идеалу правовой государственности, ближе к полицейскому нежели правовому государству.
В авторитарном государстве есть хотя бы абсолютный минимум
правовой свободы, но даже права, составляющие этот минимум, могут
нарушаться законами или злоупотреблениями властью. Авторитарное
государство не дает надлежащих гарантий правовой свободы. Здесь
права более или менее защищены от нарушений со стороны частных
лиц, но не от полицейского произвола.
Тем не менее авторитарное государство относится к правовому типу власти, поскольку здесь все же есть минимум правовой свободы.
Само понятие “нарушение правовой свободы” предполагает ее наличие; в деспотических культурах нет нарушений правовой свободы, ибо
здесь нет самой правовой свободы.
Тема 4. Происхождение права и государства
Вопросы для обсуждения
1. Историческое происхождение права и государства – предмет
теории права и государства, истории права и государства или социальной философии? В какой мере теоретическая юриспруденция интересуется вопросом об историческом возникновении права и государства?
2. Почему в советской и постсоветской теории вопросу об историческом возникновении государства (в его марксистской силовой трактовке) отводится важное место? Марксистское учение о государстве и
праве как часть исторического материализма: государство и право как
явления “классовой борьбы”.
3. Теоретическая юриспруденция и “юридическая антропология”
(“юридическая этнология”). Что изучает юриспруденция – социальные
институты в первобытном или в цивилизованном обществе?
4. Историческое и логическое в вопросе о генезисе права и государства.
68
Из лекции: Каждая концепция возникновения права и государства
отражает соответствующие понятия права и понятия государства, является одним из элементов соответствующего понятия.
Возникновение деспотической политической организации общества. Либертарно-юридическая теория исходит из различения двух
типов цивилизации (культуры) и политического сообщества. Соответственно необходимо различать вопросы о возникновении политической власти вообще и о возникновении политического сообщества
определенного типа, о возникновении древних системоцентристских
цивилизаций и о возникновении персоноцентристской цивилизации с
ее феноменом правовой свободы. Или: о возникновении гражданской
цивилизации, права и государства и о возникновении общинной цивилизации и деспотизма с его, неправовым, властно-приказным регулированием.
Говоря о возникновении политической власти вообще, следует
иметь в виду многовариантность, альтернативность цивилизационного
и политического развития. Первоначально возникают локальные общности людей исключительно системоцентристского типа. Но далее,
под воздействием разных факторов, эти общности либо образуют общинную цивилизацию, либо же превращаются в цивилизацию персоноцентристского типа – гражданскую.
Современная наука установила, что в любой период истории с
начала цивилизованной жизни всегда одновременно существовали три
или четыре цивилизации. Каждая из них характеризуется единым жизненным стилем, охватывающим большой географический регион и
длящимся долгий период времени каждой цивилизации. В каждой цивилизации можно выделить наиболее фундаментальный принцип жизни и социальной организации. Для западной цивилизации таким принципом является право (правовая свобода), но этого нельзя сказать о
других цивилизациях.
Цивилизационный плюрализм и неуниверсальность основных принципов социальной организации имеют большое значение для объяснения природы и происхождения права и государства.
История западной цивилизации началась с древней Греции. В древнегреческой полисной культуре человек, интегрированный в эту культуру
(прежде всего свободный грек), осознавал себя в качестве субъекта, который от природы наделен разумом, свободой выбора и способностью самостоятельно принимать решения. Поэтому он жил для самого себя, а не
для того, чтобы служить какому-нибудь высокопоставленному человеческому существу или сверхъестественной силе. Это первое историческое
69
проявление индивидуализма. Поэтому именно в древней Греции основным принципом социальной организации становится право (правовая
свобода).
В более ранних цивилизациях (шумерской, древнеегипетской,
древнеиндийской и т.д.) правовая свобода не стала и не могла стать
принципом социальной организации. В тех условиях, в которых формировались эти цивилизации, конкурентоспособными были только системоцентристские сообщества с деспотической политической организацией.
Деспотия – это непременное условие формирования и развития общинной цивилизации. Там, где в древнейших системоцентристских
общностях возникла деспотическая организация власти, там на основе
ирригационных работ были созданы великие цивилизации древности.
Там, где этого не произошло, ранние цивилизационные общности погибли. Отсюда можно сделать вывод о неразрывной связи общинной
цивилизации с широкомасштабными ирригационными работами и
деспотией.
К.А. Виттфогель разработал так называемую ирригационную теорию, изложенную в работе “Восточный деспотизм”. Он убедительно
показал обусловленность древних деспотических форм необходимостью широкомасштабных работ, строительства гигантских ирригационных сооружений в восточных аграрных регионах Старого Света. Эта
необходимость породила систему жесткого территориально централизованного управления, внеэкономического принуждения во всех сферах общественно-политической жизни, систему бюрократического
учета, контроля и распределения, а также многочисленный социальный
слой чиновников, управляющих производственными процессами, осуществляющих учет, контроль, распределение и т.д.
Теорию Виттфогеля обычно критикуют за то, что она верно характеризует лишь процесс становления “государства и права” при “азиатском способе производства”, в то время как в других регионах и культурах государство и право возникли на основе иной производственной
деятельности.
Такая критика неуместна. Критики ирригационной теории не видят
разницы между государством и деспотией, в то время как Виттфогель
объясняет происхождение именно деспотизма, а не государства и права. Деспотическая власть всегда обусловлена организацией общественного производства на основе силового принуждения. В конкретных географических условиях формирования древних цивилизаций такое общественное производство требовало именно ирригационных работ.
70
В процессе формирования цивилизованного сообщества вырабатываются социальные нормы, обязательные в этом сообществе, и складываются поддерживающие их политические институты. Происходит политогенез – переход к профессиональному политическому управлению
определенного типа, силового или правового.
Системоцентристские социальные нормы требуют силовой организации социального управления. Причем по мере роста и усложнения
общинной системы все больше проявляется силовой, деспотический
принцип интеграции и управления системой.
Аграрная революция привела к радикальному росту численности
общества, организованного по общинному типу. Этот рост привел к
тому, что социальная система в сфере управления перешла информационный барьер, за которым прежняя (потестарная) организация
власти уже не справлялась с управлением системой. Старая система
общинного типа, не имевшая постоянного, профессионального аппарата управления, дошла до предела роста. Для того чтобы превзойти
этот предел, нужно было перейти к качественно новому управлению
системой, т.е. должна была произойти трансформация старой системы
в новую систему того же типа. Именно так и произошло: при сохранении общинного типа системы произошел переход к регулированию посредством постоянного аппарата управления, который ведал, прежде
всего, производством и распределением. Возник профессиональный
аппарат, планирующий, организующий и контролирующий всю жизнедеятельность сообщества.
Переход информационного барьера (и кризис управляемости родоплеменной системы) был первой причиной перехода к политическому
управлению посредством профессионального бюрократического аппарата. В социальной системе общинного типа стала складываться организация публичной политической власти. К началу формирования этой
организации популяции оседлых земледельцев существовали уже как
население, проживающее и осуществляющее хозяйственную жизнь на
определенной территории. Поэтому аппарат публичной политической
власти, управлявший производством и распределением, структурировался не по родовому, а по территориально-поселенческому принципу. Возникла территориальная организация власти, при которой родовые структуры постепенно утрачивали социальную значимость в
сравнении с территориально-поселенческой организацией населения.
Вторая причина – необходимость организовать совместную производственную деятельность населения на основе внеэкономического
(силового) принуждения. Поэтому понадобилась организация публичной политической власти силового типа, способная, ради сохранения
71
системы, мобилизовать население для решения производственных или
оборонительных (либо захватнических) задач и при этом не считаться
с массовыми людскими потерями. Иначе говоря, выжить в борьбе за
существование могли в тех условиях только те локально-цивилизационные общности, в которых формировалась деспотическая организация власти. Там, где такая организация власти не возникла, социальная система погибла или была поглощена более сильной, деспотически организованной системой.
В социальной структуре деспотической цивилизации выделяются
две основные группы – общинники-земледельцы и чиновничество,
управляющее всей жизнедеятельностью общества. Внутри этих основных групп существовала дробная кастово-сословная структура.
Чиновничество в целом имело иерархическую структуру, а различия в статусе отдельных групп бюрократии определяли их более или
менее выгодное положение в системе распределения. Эту иерархию
венчала обожествляемая фигура деспотического правителя.
Вместе с деспотической организацией власти возникло и официальное нормотворчество, законодательство. Официальные нормы устанавливали социальную иерархию, тщательно регламентировали процессы
труда и распределения, закрепляли формальное неравенство как в сфере
позитивного, официально одобряемого поведения, так и в наказаниях за
нарушение официальных предписаний. Характерная черта деспотического законодательства – его жестокость. Оно не защищало индивидуальные или групповые интересы и ценности, но охраняло социальную
систему в целом. Любые нарушения официально установленного или
санкционированного порядка расценивались и наказывались как неповиновение власти, как посягательство на систему, но не как посягательство на жизнь, здоровье или имущество отдельных людей или коллективов.
Итак, из родовой общины в результате аграрной революции закономерно возникает общинная, системоцентристская цивилизация, в которой нет свободы, права и государства. Исторически первый тип публичной политической власти – деспотия, организация власти силового
типа. Она возникает из разделения общественного труда при проведении широкомасштабных работ на основе всеобщего внеэкономического принуждения.
Исторический генезис права и государства. Право и государство
возникают как взаимосвязанные и единые в своей сущности формы
свободы. Этот тезис раскрывается, в основном, в трех положениях. Вопервых, правовая свобода как способ социального бытия достигается
при переходе первобытного общества к отношениям собственности.
72
Во-вторых, частное право складывается как регулятор отношений обмена, в которые вступают отдельные свободные индивиды – собственники. В-третьих, публичное право формируется как совокупность
норм, обеспечивающих свободу человека в политическом сообществе.
Право и государство возникают постольку, поскольку есть свободные индивиды, и тогда, когда свободные становятся социально значимой группой. Последние же возможны только в обществе, в котором
существует собственность. Следовательно, исторический генезис права
обусловлен возникновением собственности (частной собственности).
Собственность же исторически возникает тогда, когда избыточный
продукт, производимый в обществе, присваивается отдельными членами общества, что возможно постольку, поскольку отдельные члены
общества самостоятельно используют средства производства (в аграрном обществе – это земля).
В процессе разложения первобытной общины реально свободными, поначалу становятся лишь реальные собственники. Далее
происходит разделение сообщества на имущих и неимущих, попадающих в имущественную, а затем и личную зависимость от реальных
собственников. Когда имущие становятся социально значимой группой
(в марксистской терминологии – имущим, эксплуататорским классом),
они конституируют себя уже в качестве формально свободных, в качестве тех, кто имеет право быть собственником – в отличие от тех, кому
теперь это не дозволено. Они устанавливают такой порядок, при котором остальным запрещено быть собственниками. В этом качестве они
отделяют себя от иных социальных групп, прежде всего – рабов.
Свобода исторически возникает в процессе дифференциации сообщества на свободных и несвободных, благодаря разделению на свободных и рабов и достигается постольку, поскольку рабовладение
укладывается в отношения частной собственности. Точно так же в
эпоху феодализма свобода одних была возможной лишь благодаря частичной несвободе других.
Итак, гражданская цивилизация начинается как рабовладельческая
цивилизация. Это не значит, что право и государство возникают из разделения на свободных и рабов – для регулирования отношений между
свободными и несвободными. Использование рабской рабочей силы
представляет собой неправовую форму отношений. Но первоначально
эта неправовая форма служит условием существования правовой свободы.
В отношениях свободного обмена сталкиваются частные интересы
субъектов, признающих друг друга собственниками обмениваемых
благ. Для регулирования этих коллизий требуется новый со-
73
ционормативный регулятор, новые социальные нормы. Эти нормы
складываются в отношениях эквивалентного обмена, в которые вступают субъекты-собственники, признающие друг друга равными (формально равными).
Таким образом, право возникает как социальный регулятор, который упорядочивает взаимодействие свободных субъектов в отношениях эквивалентного социального обмена. Это нормы, которые, вопервых, гарантируют свободу, формальную независимость человека в
обществе и, во-вторых, признают равную свободу формально независимых друг от друга субъектов.
Возникновение государственности не достаточно рассматривать
как всего лишь переход сообщества к профессиональному управлению
и объяснять такой переход усложнением социальной системы. Свобода
субъектов, действующих в социальной системе, означает, что некоторые процессы в этой системе, например в экономике, протекают как
саморегулирующиеся процессы и не нуждаются в публично-властном
опосредствовании. Это делает систему более простой для управления,
так как минимизирует сферу и функции управленческой деятельности.
Поэтому сам по себе рост такой системы не влечет за собой необходимость постоянно действующего и, тем более, силового политического
регулятора.
В условиях становления правовой свободы происходит политогенез правового типа. Было бы абсурдным предполагать, что правовая
свобода возникает при силовом политическом господстве или что в
условиях правовой свободы возникнет организация политической власти неправового, силового типа.
Любые общеобязательные социальные нормы требуют авторитетных социальных институтов, которые обеспечивают нормативный порядок. Причем правовые нормы требуют властных институтов, обеспечивающих право.
Необходимость поддерживать правовой порядок заставляет создавать постоянно действующие властные органы, призванные формулировать правовые нормы и обеспечивать их реализацию. Иначе говоря,
правогенез порождает государство. В правовом сообществе выделяется
совокупность поддерживающих правопорядок властных субъектов, а
их полномочия и функции определяются нормами права.
В зачаточном виде право может существовать и до образования
государства. Но исторический процесс формирования права с необходимостью влечет за собой формирование государства – систему постоянно действующих властных органов, обеспечивающих правовую
свободу и обладающих монополией на принуждение к соблюдению
74
правовых норм.
Политогенез изменяет форму права. Если первоначально нормы
права закрепляются в форме обычая, то по мере формирования государственных институтов обычай не только санкционируется властным
авторитетом, но и дополняется, а затем и вытесняется официальной
формой выражения права. Причем сначала преобладает прецедентная
официальная форма: суды и другие властные органы, разрешая конкретные споры о праве, формулируют нормы, которыми они пользуются в своей практике. Законная же форма права преобладает уже в
относительно развитых правовых системах, например, в классическом
римском праве.
В ходе исторического процесса правообразования постепенно
обособились две взаимосвязанные сферы правового общения – сфера
частного права и сфера публичного права.
Нормы частного права – это нормы, регулирующие отношения
частных лиц. Точнее, это нормы отношений обмена, сторонами которых являются свободные индивиды и другие частные лица, выступающие в этих отношениях как формально равные и формально независимые друг от друга субъекты. В этих отношениях нет повеления и
подчинения сторон. Нормы частного права сначала складываются в
самих отношениях частных лиц, а затем официально выражаются,
формулируются как признанные, гарантированные государством образцы (модели) поведения.
Нормы публичного права регулируют отношения, в которых хотя
бы одной стороной выступает публично-властный субъект (государство, государственный орган), осуществляющий властные полномочия.
К публичному относятся конституционное, уголовное, административное, процессуальное право.
Публично-правовые нормы складываются или вырабатываются в
процессе осуществления государственной власти. При установлении
новых норм публичного права законодатели или суды руководствуются требованиями обеспечения правовой свободы, выраженными в общественном правосознании.
Но в начале правогенеза еще не было разделения частного и публичного права. Так, нормы, предшествовавшие современным нормам
уголовного права о преступлениях против личности и собственности,
первоначально могли функционировать по той же схеме, что и нормы
частного права: потерпевший или его родственники требовали компенсации или мстили преступнику, если он находился в их власти, причем
мера воздаяния за преступление контролировалась коллективом субъектов права и его органами. Если же преступник был недосягаем для
75
потерпевшего, то последний обращался за защитой к коллективу и его
органам. Конечно, нормы, наказывающие за преступления против коллектива (против общественной безопасности и порядка), всегда применялись самим коллективом или его органами.
Правогенез начинается в сфере обмена, в отношениях товарообмена (обмена социальными благами). Обмен может быть эквивалентным (равное обменивают на равное) и произвольным (например,
тот, у кого больше силы, навязывает другому условия обмена). Субъекты, участвующие в отношениях свободного обмена, являются собственниками обмениваемых благ и признают друг друга таковыми. В отношениях свободных субъектов-собственников произвол неприемлем:
либо тот, кому навязывают невыгодные условия, не будет участвовать
в таком обмене, либо отношения обмена превратятся в грабеж. Поэтому нормальные отношения обмена между свободными субъектами-собственниками возможны лишь как отношения эквивалентного, справедливого обмена, как отношения формального равенства, договорные отношения. Это и есть правовые отношения, в которых складываются
частноправовые нормы, иначе – правила эквивалентного обмена (нормы купли-продажи, мены, займа, найма, перевозки, хранения, поручительства, брачно-семейные и т.д.). Эти правила закрепляются в форме
обычая, а уже затем официально признаются и формулируются судьями и законодателями.
Нормы частного права в какой-то мере могут соблюдаться без принуждения – например, в той мере, в которой субъекты отношений обмена считают полезным придерживаться принципа эквивалентности.
Но между собственниками неизбежно существуют противоречия и
конфликты. Для регулирования этих коллизий сообщество создает
публично-властные органы, задача которых – обеспечение правовой
свободы.
В процессе формирования и развития этих органов вырабатываются нормы публичного права, в соответствии с которыми
действуют эти органы. Более подробно взаимосвязь частного права и
публичного права можно объяснить следующим образом.
Для нормальных отношений обмена необходимо публичновластное признание и обеспечение правовой свободы. Люди могут
быть субъектами частного права (владеть, пользоваться и распоряжаться обмениваемыми социальными благами), когда обладают необходимым для этого, гарантированным объемом (количеством) свободы.
Иначе говоря, они должны обладать исходным правовым статусом,
который необходим для самостоятельного участия в правоотношениях.
Этот статус взаимно признается внутри круга правового общения, пра-
76
вового сообщества и гарантируется властными органами, создаваемыми в этом сообществе. В исторически неразвитых правовых культурах
исходный правовой статус отличает субъектов права, или полноправных субъектов, от иных категорий населения.
Такой исходный правовой статус проявляется в виде набора основных прав. В условиях разделения на свободных и несвободных, полноправных и неполноправных это права полноправных граждан или сословные права-привилегии. Первоначально это права, составляющие
лишь абсолютный минимум правовой свободы.
Эти основные права служат формой, формальным выражением
взаимных притязаний участников обмена, фактических собственников
на признание их правосубъектности (прежде всего, способности свободно владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом и, соответственно, личной неприкосновенности). Эти притязания суть не произвольные желания, а притязания на такую меру индивидуальной свободы, которая уже объективно возможна в конкретной культуре. Они –
результат субъективного осознания этой объективной возможности.
С одной стороны, эти права, или правопритязания, взаимно признаются субъектами обмена, когда они заключают договоры и устанавливают взаимные права и обязанности. С другой стороны, эти права
должны официально признаваться и защищаться институтами публичной власти.
Последнее не означает, что древние законодатели составляли “каталоги” основных прав и свобод или хотя бы формулировали эти права
в отдельных законах. Официальное провозглашение основных прав не
является непременным условием их существования. Для того чтобы
фундаментальные правовые притязания имели официально-властное
признание, выражение и защиту, не обязательно перечислять их в специальном законе. Они гарантируются уже постольку, поскольку законы и другие официальные акты защищают правовую свободу, запрещают то, что противоречит правовой свободе.
Как уже было сказано, в структуре публичного права различаются
нормы конституционного, уголовного, административного и процессуального права. Причем эта структура проявляется уже на ранней стадии правогенеза.
Ранние нормы конституционного права (как и все нормы права,
они возникают в форме обычая) определяют круг полноправных субъектов, способных вступать в отношения обмена, участвовать в народном собрании (собрании полноправных субъектов), занимать властные
должности, пользоваться судебной защитой и нести юридическую ответственность. Для защиты нормальных отношений обмена нужны
77
нормы уголовного права, которые угрозой наказания охраняют жизнь
и здоровье, свободу и личную неприкосновенность, имущество полноправных субъектов, а также иных субъектов права. Для пресечения
правонарушений требуются полиция и нормы административного (полицейского) права, в соответствии с которыми действует полиция.
Наконец, для разрешения споров о праве и наказания правонарушителей нужны суды и нормы процессуального права, регламентирующие судебную процедуру.
Такова логика объективного процесса правообразования.
Тема 5. Исторические типы права и государства
Вопросы для обсуждения
1. Историко-формационный подход и марксистский правовой нигилизм: отрицание ценности права и государства, идея отмирания права и государства.
2. Цивилизационная или историческая типология права и государства?
3. Историческая неизменность сущности права и прогресс исторических форм ее проявления.
4. Критерии различения исторических типов права и государства.
Из лекции: Историческая типология права и государства – это их
основная классификация. Она объясняет исторические проявления
сущности права и государства. Все остальные классификации (по форме права, по форме государства, в зависимости от политического режима или социальной структуры и т.д.) касаются отдельных сторон
права и государственности.
Теоретические представления об историческом развитии права и
государства, как и концепции их происхождения, определяются соответствующими понятиями права и государства.
В основу либертарной типологии положено учение о всемирноисторическом прогрессе свободы: прогресс свободы есть условие и
критерий прогресса права и государственности. В этом процессе сущность права и государства как необходимых форм свободы остается
неизменной. Следовательно, смена исторических типов права и государства демонстрирует различие исторических проявлений одной и
той же сущности. (Если же считать, что сущность явлений, обозначаемых как право и государство, исторически меняется, то речь должна идти не о смене типов одного и того же социального регулятора, а о
78
разных предметах, об исторической смене разных по своей сущности
типов социальной регуляции).
В легистских конструкциях исторической типологии, с одной стороны, тоже говорится, что сущность “права” (т.е. принуждение) неизменна, а меняется лишь его историческое содержание. С другой стороны, почему-то допускается, что “право” может быть не только выражением деспотического произвола, но и формой свободы. Отсюда –
представления легистов о том, что исторический прогресс права, состоит в переходе от чисто “силового права” или “кулачного права”, от
“права”, порожденного силой приказа (исторически неразвитого “права”), к “праву, основанному на правах человека” (исторически развитому “праву”).
По логике легистов, якобы один и тот же способ социальной регуляции (право) в равной мере допускает и произвольное политическое
насилие, и законы, подчиненные требованию признавать и соблюдать
права человека. Получается, что право исторически проявляется и как
голая сила (“исторически неразвитое право”), и как запрет произвольного насилия (в исторически развитой ситуации) – и при этом
сущность права якобы не меняется. Наконец, получается, что право и
права человека – в сущности разные явления, которые исторически могут не совпадать: “древнее право” исключало свободу и было выражением голой силы, и только современное право гарантирует свободу,
официально выражает прирожденные права человека.
Действительно, всемирно-исторический прогресс свободы включает в себя не только историческую линию перехода от меньшей свободы к большей, но и – в более широком историческом контексте – переход от несвободы к свободе. Однако право (и государство) есть форма
именно свободы. Поэтому исторический прогресс собственно права
есть прогресс свободы – переход от меньшей правовой свободы к
большей правовой свободе. Переход от несвободы к свободе – это не
прогресс права, а переход от доправового способа к правовому способу
социальной регуляции.
Сущность права как необходимой формы свободы не меняется в
процессе его исторического развития. Меняется (расширяется) круг
субъектов правового общения, возрастают объем и содержание правовой свободы, но сущность права – формальное равенство – остается
неизменной. Иначе говоря, правовые нормы – это всегда (в любой исторический период) нормы, посредством которых обеспечивается свобода тех, кто признается субъектом права. Если субъектом права признается не каждый, не человек вообще, а лишь представитель определенной группы (представитель этноса, сословия, обладатель опреде-
79
ленного имущества, гражданин государства и т.д.), то и права человека
существуют как групповые права, а равенство в свободе гарантируется
лишь в рамках группы. Если же субъектом права признается каждый
человек независимо от социальных и иных различий между людьми, то
и права человека существуют как равные права каждого человека.
Таким образом, исторические типы права и государства – это основные этапы прогрессирующего исторического проявления правовой
свободы.
В первом приближении различаются два этапа исторического прогресса свободы – неравенство в свободе (этническое, сословное), при
формальном равенстве внутри больших групп, и всеобщее формальное
равенство.
Правовое неравенство характерно для правовых культур доиндустриального (аграрного) общества, в котором не было и не могло быть
равной правовой свободы всех. Всеобщее формальное равенство соответствует индустриальному обществу Нового времени, когда постепенно достигается равная свобода всех, независимо от социальносословных, религиозных, имущественных, половых и других фактических различий между людьми.
В исторически неразвитых правовых культурах (в доиндустриальном обществе) субъектами права и государства не могли быть все члены общества. Значительная часть населения – несвободные или частично свободные – были полностью или частично исключены из сферы государственно-правового общения. Несвободные (рабы) были не
субъектами права, а объектами права собственности. Для субъектов
государственно-правового общения было характерно множество неравных правовых статусов. Внутри больших групп (классов, сословий,
цехов и т.д.) существовало формальное равенство, но между этими
группами – формальное неравенство.
В правовых культурах индустриального общества достигается всеобщее формальное равенство. Здесь отдельный человек, индивид выступает как субъект права и государства наравне с другими индивидами.
Но при более подробном рассмотрении развитие правовой свободы
в доиндустриальном обществе можно разделить еще на два этапа – этнический и сословный. В Древности (в греко-римской цивилизации)
правовые культуры создавались отдельными этносами. В таких этноправовых культурах представители иноэтничных групп не признавались субъектами права, не считались достойными свободы. Миросозерцание эллинов и римлян и, в частности, их правовое сознание убеждало их в том, что варвары от природы предназначены к рабству. В
эпоху Средневековья положение изменилось. Этнический признак пе-
80
рестал быть критерием, определяющим разделение на свободных и несвободных. Христианская религия, утверждающая, что перед Богом
нет разницы между иудеем и эллином, стала важнейшим культурным
фактором объединения европейских народов в рамках такого суперэтноса, в котором правовое положение человека зависело от его сословной, но не этнической принадлежности. Вместо деления на свободных
и несвободных общество стало делиться на сословия свободных. Причем сословная принадлежность постепенно утратила связь с этнической принадлежностью.
Кроме того, индустриальное общество с его всеобщим формальным равенством не является концом исторического развития цивилизаций правового типа. В наиболее развитых современных странах
достигнуто постиндустриальное общество. В этих странах, с одной
стороны, гарантируется всеобщая равная свобода и возрастает объем
правовой свободы, гарантированный каждому индивиду. Но, с другой
стороны, здесь устанавливаются и реально удовлетворяются потребительские привилегии для низших социальных групп. Это позволяет говорить о новом этапе исторического проявления правовой свободы:
всеобщее формальное равенство дополняется (и нарушается) привилегиями для тех, кто в отношениях эквивалентного обмена реально не
может удовлетворять минимальные потребности.
Такова “спираль” исторического прогресса свободы. В ходе этого
исторического процесса возрастает общий объем правовой свободы. В
то же время происходит исторический переход от привилегий для
высших групп через всеобщее формальное равенство к привилегиям
для низших групп. Когда-то пользование некоторыми социальными
благами было привилегией высших сословий. Затем было достигнуто
всеобщее формальное равенство в доступе ко всем социальным благам.
Это означало для социально слабых формальную возможность, но не
исключало фактическую невозможность пользоваться многими благами, иногда даже необходимыми. Ныне представители низших групп
вправе пользоваться необходимыми социальными благами по общим,
равным для всех правилам и вдобавок могут воспользоваться установленными для них потребительскими привилегиями.
В Древности обладателем прирожденных прав (“правовым человеком”) считался только свободный человек, принадлежащий к государствообразующему этносу. В Средние века первичные права существовали в виде прав-привилегий разных сословий. Это были, по терминологии В.С. Нерсесянца, “сословные права человека”, или “права сословного человека”. В Новое время каждый человек признается субъектом права наравне с другими. Все индивиды признаются равноправ-
81
ными членами общества (гражданского общества), а все граждане
(подданные) – равноправными субъектами государства. Права человека и права гражданина провозглашаются естественными и неотчуждаемыми. Они определяют деятельность законодателя, исполнение законов и обеспечиваются правосудием.
В социальном государстве постиндустриального общества правовая свобода (прежде всего, собственность) ограничивается уравниловкой, государство занимается перераспределением национального дохода в пользу социально слабых. Здесь конкурируют правовой и уравнительные способы социальной регуляции.
Тема 6. Правовая культура
Вопросы для обсуждения
1. Правопонимание и уровень развитости правовой культуры.
2. Ценности правового и неправового типов культуры: персоноцентризм и системоцентризм.
3. Место регулятивной функции в системе функций правосознания.
4. В чем разница между законнонарушающим правовым сознанием
и правовым нигилизмом?
5. Правовой нигилизм как антикультура. Коммунистический правовой нигилизм.
6. Правовое невежество вульгарного легизма.
Из лекции: Правовой и неправовой типы культуры. Выражение
“правовая культура” используется в юриспруденции в нескольких значениях.
Во-первых, правовая культура рассматривается как особый тип
культуры. Имеется в виду культура как искусственный, создаваемый
людьми мир, противостоящий естественному состоянию человека и
природной среде обитания. Правовая (государственно-правовая) культура, или культура правового типа, – это такой тип культуры (социокультуры), при котором достигается и для которого характерна правовая свобода.
В этом смысле различаются правовой и неправовой типы мировой
культуры. Различение обозначенных таким образом типов культуры, по
существу, тождественно различению двух типов цивилизации (цивилизация – это культура обществ с производящей экономикой, принципиально развитая в сравнении с примитивной культурой первобытного
общества). С точки зрения юриспруденции, правовая культура характе-
82
ризует цивилизации персоноцентристского (гражданского) типа, а цивилизации системоцентристского (общинного) типа следует рассматривать как неправовой тип культуры.
Во-вторых, термином “правовая культура” обозначаются отдельные культуры прошлого и современности (в отдельных цивилизациях, локальных цивилизационных общностях), различаемые в
рамках правового типа культуры. В этом смысле правовая культура
формируется отдельным народом (особенная правовая культура) или
несколькими народами, близкими по своей культуре (общая правовая
культура).
В этом контексте можно, например, различать правовые культуры
древности, средневековья и Нового времени или говорить о развитых и
неразвитых правовых культурах. Так, римское право во времена кодификации Юстиниана свидетельствует о развитой для того времени правовой культуре – в сравнении с эпохой XXII таблиц или в сравнении с
неразвитой в правовом отношении культурой германцев, захвативших
Западную Римскую империю. Разумеется, с сегодняшней точки зрения,
правовая культура Древнего Рима относится к исторически неразвитым
правовым культурам.
Сравнение современных правовых культур показывает разный уровень их развитости, разную степень развития правовой свободы у разных народов. С одной стороны, заметны правовые культуры, определяющие международные стандарты прав человека (западноевропейская,
североамериканская правовые культуры). С другой стороны, есть правовые культуры, в которых ценность правовой свободы принижена. Современная российская правовая культура (и культура большинства посттоталитарных стран), во многих отношениях является отсталой и неразвитой в сравнении с западноевропейской правовой культурой.
В-третьих, речь идет уже не о культуре и ее разновидностях, а о
праве – о сходстве и различиях национальных правовых систем, об
особенностях права в разных странах. При этом выражение “правовая
культура” используется как характеристика национальной правовой
системы или нескольких национальных правовых систем, имеющих
сходные черты.
В этом контексте предпочтительно использовать термин не “правовая культура”, а “правовая семья”, хотя в этом вопросе нет устоявшейся терминологии. В этом значении можно говорить о романогерманской (европейской континентальной) правовой семье (культуре)
или о семье (культуре) общего права, имея в виду общие черты правовых систем в соответствующих странах.
В третьем значении правовая культура включает в себя: 1) особен-
83
ности правовых норм и институтов, действующих в одной или нескольких странах; 2) особенности правосознания, правовой идеологии
и правовой психологии, юридического мышления в стране (странах);
3) уровень развитости юридической науки, особенности правовой доктрины и разрабатываемых ею правовых понятий; 4) характерные для
национальной правовой системы (правовой семьи) источники права; 5)
особенности юридической практики, способы правоустановления и реализации права, особенности юридической техники.
В-четвертых, этим термином обозначается то, что иначе можно
назвать правовая культурностью. Это мера приобщенности людей к существующей правовой культуре, уровень их правовой развитости и просвещенности, юридической образованности. Этот уровень можно характеризовать, например, как высокую или низкую правовую культуру индивида или социальной группы.
Система ценностей современной правовой культуры выражена в
идеологии естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и
гражданина. Приоритеты этой системы определены в следующем суждении: человек, его права и свободы – высшая ценность.
Историческое развитие правовой культуры порождает такой доминирующий тип личности (социально-этический и социальнопсихологический феномен), для которого высшей ценностью является
свобода. Это правовой тип личности, или индивид.
Поскольку свобода в сообществе возможна лишь как равная свобода
каждого (равная – в пределах определенного круга свободных), то для
правового типа личности характерна ментальная установка на уважение
свободы других, подчинение своей свободы общей норме. Правовой
менталитет заставляет человека, осознающего свою свободу в рамках
некоего сообщества (территориальной общины, группы, сословия, общества, государства), видеть в других членах сообщества субъектов,
равных ему в свободе.
Человек, сформировавшийся как личность в условиях правовой
культуры, относящийся к правовому типу личности, ценит нормативный порядок свободы (и властные институты, обеспечивающие этот
порядок). Он готов защищать свою свободу от произвольного вмешательства частных лиц или публично-властных субъектов, но в то же
время он готов ограничивать свою свободу по общим для всех правилам. Ибо свобода возможна лишь тогда, когда каждый, осуществляя
свои права, не нарушает такие же права других.
В развитой правовой культуре законопослушность не означает конформизм. Человек, достаточно осознающий свои права, обычно не смиряется с нарушением его прав властными субъектами и отстаивает права
84
всеми законными средствами, что влечет за собой негативные последствия для должностных лиц государства, нарушающих права. Поэтому в
условиях развитой правовой культуры, во-первых, выработаны институты и процедуры, позволяющие эффективно защищать нарушаемые права, а, во-вторых, для должностных лиц государства, даже для рядовых
полицейских, характерна относительно высокая правовая культурность.
В правовой культуре собственность (частная собственность) имеет
столь же высокий ценностный статус, как и любые другие аспекты правовой свободы (личная свобода, политическая и т.д.). Частная собственность является необходимым условием правовой свободы в целом и составляет экономическую основу, на которой формируется правовой тип
личности. Поэтому в либеральных конституциях XIX в. частная собственность провозглашалась священной и неприкосновенной. В развитой правовой культуре сфера отношений собственности образует неполитическое гражданское общество, отделенное от политической сферы,
государства.
Институциональным выражением развитой правовой культуры
служат либеральная демократия и правовое государство. Только в этих
государственно-правовых формах достигается и максимально реализуется политическая свобода, а государственный аппарат, контролируемый избирателями, действительно занимается общими делами граждан.
Атрибутом правового типа личности является правосознание. Феномен правосознания в собственном смысле существует только в правовой культуре. В неправовых культурах существует не правосознание,
а иное общественное сознание (моральное, религиозное, потестарное и
т.д.), для которого характерен правовой нигилизм.
В цивилизациях системоцентристского типа преобладают неправовые способы социальной регуляции, прежде всего – силовой (потестарный, идеократический, религиозный) способ. В этом смысле общую
культуру системоцентристских цивилизаций следует определять как
неправовой тип культуры. Эта культура порождает соответствующий
доминирующий тип личности.
Для неправовой культуры характерны коллективизм (несамостоятельность), безусловное подчинение приказам (непременное условие
коллективизма) и ограничение личной инициативы, нивелирование отдельных индивидов, уравнительность, солидарность, высокая мобилизационная способность населения, особенно, в кризисной ситуации.
Неправовой тип личности отвергает ценность свободы в пользу общинности, коллективизма, тотальной властной организации общественной жизни, которая дает ощущение стабильности бытия.
85
Неправовому типу личности присуща рабская покорность в ответ
на деспотическое насилие или угрозу его применения. Деспотизм и
сервилизм (раболепство, прислужничество, рабская угодливость) – это
два проявления одной и той же сущности: человек, не знающий свободы, не уважающий достоинство личности в самом себе, радостно демонстрирующий свою преданность хозяину (вождю, хану, царю, генеральному секретарю, баши, президенту или иному “первому лицу”), в
то же время стремится унизить человеческое достоинство и даже уничтожить, растоптать личность того, кто окажется в его власти, особенно, если тот мнит себя свободным.
Собственность (частная собственность) в неправовой культуре
имеет низкий ценностный статус. Ибо, во-первых, возможность индивидуального присвоения порождает противоречия интересов индивида
и коллектива, разрушает общинный строй. Во-вторых, и это вытекает
из первого обстоятельства, здесь собственность – в той мере, в которой
она допускается легально или полулегально – не гарантирована даже
для представителей высших, элитных групп.
Общая культура России – традиционная и современная – занимает
срединное положение между культурами Европы и Азии, Запада и Востока. Соответственно, ее нельзя однозначно характеризовать как
культуру правового или неправового типа.
С одной стороны, за тысячелетнюю историю России был всего
лишь полувековой период (от шестидесятых годов XIX в. до 1917 года), когда не было социальной несвободы. Поэтому для российской
культуры характерен коллективизм в самых разнообразных исторических формах: общины, артели, колхоза, трудового коллектива предприятия, коммунистической партии, тоталитарно организованного советского народа и т.д. В современной России сохраняются невысокий
ценностный статус частной собственности, негативное отношение
большинства к индивидуализму. Посткоммунистическая российская
культура демонстрирует такие явления неправового типа культуры как
покорность перед власть имущими, сервилизм, унижение человеческого достоинства, слабое осознание прав личности, декларированных в
конституции и законах (Россия – “страна рабов, страна господ”). В
российском массовом сознании свобода традиционно понимается как
воля – анархия, отсутствие внешних ограничений, “озорничество”, но
не как правовая свобода, не как формально равная возможность выбора в рамках общих для всех правил.
Что касается российской государственности, то здесь никогда не
было даже подобия либеральной демократии. Для российской политической культуры характерны авторитаризм и патернализм. В рос-
86
сийском массовом сознании государство (аппарат государственной
власти) закономерно воспринимается как нечто отделенное, отчужденное от “остального народа”, от “общества”. Сохраняется и вера в “доброго царя”, способного защитить народ от произвола “злых бояр”.
С другой стороны, в истории России были периоды, когда страна в
своем развитии поворачивалась в сторону правовой культуры, после
которых, однако, всегда наступала антиправовая реакция.
В этом отношении российская история в ХХ в. особенно трагична.
Демократическая революция 1917 г. произошла во время тяжелейшей
войны, а поэтому любые демократические правовые преобразования в
этот момент были обречены на провал. Для сохранения политического
порядка в условиях войны, для выхода революционной страны из войны с наименьшими потерями была нужна диктатура. И такую диктатуру закономерно установили не разрозненные демократически ориентированные элиты, а политическая сила, отвергающая правовую
свободу, наиболее последовательная в осуществлении диктатуры –
большевики. Они сумели использовать коллективистское начало российской культуры, доведя его до крайней, гипертрофированной формы, превратили все общество в огромный деспотически организованный коллектив – жесткую тоталитарную систему, функционирующую
на основе коммунистической идеологии. Сталин воспитал людей, не
имевших даже представлений о свободе (“народ, не сознающий своего
рабства”). Поэтому и сегодня коммунизм и сталинизм, с его преступлениями против человечества, не оцениваются большинством населения страны как однозначно негативное явление.
В период посттоталитарного развития в России произошел качественный переход от принципиально неправовой культурнополитической ситуации к принципиально правовой, от системы, которая в принципе отрицала правовую свободу, к системе, которая в
принципе допускает правовую свободу. Но, несмотря на этот переход,
правовой тип личности отнюдь не стал и не мог стать доминирующим.
(Моисей водил свой народ по пустыне сорок лет, пока не произошла
необходимая смена поколений и люди, духовно сформировавшиеся в
условиях несвободы, не перестали доминировать).
Неразвитость российской правовой культуры объективно препятствует формированию в стране демократического правового государства. Конституционное провозглашение прав человека, демократические процедуры, разделение властей, независимая юстиция, суд присяжных и т.д. сами по себе ничего не создают, не порождают правовую
свободу и могут гарантировать лишь то, что уже есть, уже существующую правовую свободу. Эти либеральные государственно-правовые
87
институты вторичны по отношению к реальной правовой свободе, достигнутой в обществе. Они “работают” по назначению только в развитой правовой культуре. Их формальное заимствование неразвитой правовой культурой превращает их в фикцию. Даже производственные
технологии, выработанные развитой индустриальной культурой, невозможно использовать в примитивной экономике – для этого нужна
высококвалифицированная рабочая сила. Точно так же государственно-правовые “технологии”, выработанные развитой правовой культурой, могут быть использованы лишь в той культуре, в которой доминирует правовой тип личности.
Правосознание складывается из нескольких компонентов. По меньшей мере, это знание (информация) о существующем праве, оценка существующего права и установки на определенное поведение в соответствии с этой оценкой, а также представления о должном быть праве. Все
эти компоненты взаимосвязаны. Так, с одной стороны, оценка существующего права предполагает некую нормативную позицию оценивающего
субъекта, выражающую его представления о должном быть праве. С
другой стороны, такая нормативная позиция вырабатывается на основе
знания о существующем праве. Нормативно-правовая позиция не может
быть выработана на основе каких-то неправовых ценностных устремлений, убеждений и ориентации.
Эти компоненты позволяют говорить о трех функциях правосознания – информативной, регулятивной и правоформирующей. Вряд ли
можно говорить о самостоятельной оценочной функции правосознания, ибо оценочный элемент присутствует и в регулятивной, и в
правоформирующей, и даже в информативной функции, когда индивиды оценивают информацию как имеющую или не имеющую юридическое значение, нужную или ненужную, воспринимают или отвергают,
отбирают, сортируют информацию в соответствии со своими ценностными установками.
Информативная функция правосознания позволяет знать право,
иметь представления о существующем праве. Сюда входят представления о действующих правовых нормах и о субъективных правах и
юридических обязанностях, которые существуют у субъектов права
или возникают в правовых ситуациях. Причем это не только рациональное знание, но и чувственные представления, ощущения, мнения,
образы. Все эти представления могут быть более или менее адекватными, истинными или ложными.
Регулятивная функция осуществляется под воздействием, прежде
всего, информативной функции правосознания. Она ориентирует,
настраивает индивида в конкретных правовых ситуациях в соответствии
88
с его знанием права и ценностными ориентирами. Имея информацию о
существующем праве и оценивая его с позиции своих интересов (а иногда и с позиции представлений о должном быть праве), индивиды вырабатывают установки на определенное юридически значимое поведение.
Причем это могут быть установки не только на правомерное, но на противоправное поведение.
Правоформирующая функция осуществляется в процессе взаимодействия индивидов в масштабе национальной правовой культуры.
Осознание сущности, смысла правовой регуляции и, на этой основе,
оценка законов и существующих норм права позволяет индивидам
трансформировать их интересы в ценностно-нормативные суждения о
правовой действительности, т.е. в представлениях о должном быть
праве. Сюда входят, правовые идеи, ожидания, требования официального признания некой меры правовой свободы и т.д. Причем эти оценки, ожидания, требования могут быть обоснованными и безосновательными.
В контексте регулятивной функции различают законоодобряющее,
законопослушное и закононарушающее правосознание (В.С. Нерсесянц).
Законоодобряющее правосознание существует тогда, когда представления о должном быть праве в общем и целом совпадают с представлениями о существующем (официально выраженном, законном праве). Для носителей законоодобряющего правосознания типичны установки на правомерное поведение. При этом авторитет закона или страх
наказания не играют определяющей роли.
В условиях развитой правовой культуры должностные лица, применяющие законы, особенно судьи, воспринимают законы как должное
быть право. Например, судья, применяющий законы, должен быть
убежден в том, что его представления о надлежащем праве в общем и
целом совпадают с представлениями законодателя. В противном случае судья должен уйти в отставку, и, уже как частное лицо, он может
требовать изменения законов.
Законопослушное – это прагматичное правосознание, в котором
установки на законопослушное поведение вырабатываются в силу привычки, под влиянием авторитета закона и страха наказания. При этом
положительные или отрицательные оценки содержания конкретных законов (существующего права) не имеют большого значения для установки на законопослушное поведение. В отдельных случаях носители
законопослушного правосознания могут совершать правонарушения,
даже серьезные, – если, с одной стороны, интересы такого субъекта в
конкретной ситуации вызывают у него соблазн нарушить право, а, с
89
другой стороны, он почему-либо убежден, что в этой ситуации он останется безнаказанным.
Закононарушающее – это правосознание, в котором вырабатываются установки на закононарушающее поведение. Есть множество вариантов закононарушающего правосознания.
Во-первых, законы могут отставать от уровня развития национальной правовой культуры, от прогрессивных правовых требований большинства социальных групп. Такое возможно в предреволюционной ситуации, когда представления о должном быть праве (истинные или ложные) могут существенно расходиться с оценками существующих законов (противопоставление права и закона).
Во-вторых, законы могут опережать уровень национальной правовой культуры, уровень правосознания большинства социальных групп.
Такое возможно при трансферте развитого правового законодательства
в неразвитые правовые культуры. В результате многие законоположения оказываются фиктивными, не акцептируются правосознанием
большинства населения. В этом варианте правосознание выступает как
закононарушающее постольку, поскольку оно еще “не доросло” до законодательства развитых правовых культур. Причем закононарушающие мотивы присутствуют и в массовом правосознании, и в официально-должностном (специальном) правосознании. Например, в России некий уровень коррупции воспринимается правосознанием большинства
групп как фактическая норма, в пределах которой законы не действуют.
В-третьих, в условиях нормального правового развития, когда законы в общем и целом соответствуют уровню правовой культуры, всегда
есть маргинальные группы с отклоняющимся, девиантным правосознанием. Это люди, почему-либо не вписывающиеся в существующую общую правовую культуру, или просто люди с низкой правовой культурой. Если выполнение правовых предписаний существенно противоречит их интересам, они совершают правонарушения. Причем, взвешивая
возможные преимущества и недостатки, выгоды и невыгоды, положительные и отрицательные последствия законопослушного и закононарушающего поведения, эти люди все-таки выбирают последнее. Здесь
тоже может быть противопоставление права и закона, но на основе девиантных или просто ложных представлений о праве и справедливости.
Закононарушающее правосознание маргиналов нельзя отождествлять с правовым нигилизмом, характерным для особых маргинальных
групп – криминальных. Поскольку закононарушающее правосознание
– это все же правовое сознание, в нем непременно присутствуют хоть
какие-то правовые ценности. Человек может мотивировать собственное закононарушающее поведение своей якобы исключительностью и
90
в то же время считать действующее право обязательным для всех
остальных, ценить собственную правовую свободу и хотя бы в этом
усматривать ценность права.
Криминальное маргинальное сознание – это тоже закононарушающее сознание, но это уже не правосознание, а разновидность правового нигилизма. В криминальном сознании отрицаются ценность права
вообще, ценность человеческой жизни, собственности, неприкосновенность личности и другие правовые ценности.
Правовой нигилизм. Понятие правового нигилизма отражает явления, выступающие антиподом правовой культуры. Правовой нигилизм
– это отрицание правовой регуляции в пользу иных способов социальной регуляции, отрицание ценности права, неприятие правовой свободы и правового равенства, правовой культуры. Это отрицание ценности права целыми культурами или субкультурами, отдельными индивидами или группами.
Нигилистическое отношение к праву и государству проявляется
тогда, когда некая культура или субкультура, столкнувшись с феноменом правовой свободы, отвергает эту свободу как ненужную или даже
враждебную ей. Поэтому некорректно говорить о правовом нигилизме
применительно к доправовым, примитивным культурам.
Термин “правовой нигилизм” имеет два значения. В первом – это
принцип социальной организации неправовых культур.
Правовой нигилизм в этом смысле характерен, прежде всего, для
традиционных неправовых культур, которые в том или ином виде до сих
пор сохраняются во многих странах Азии и Африки. Господствующие
здесь социальные доктрины (идеология, этика, религиозные доктрины)
принижают ценность индивидуальной свободы и утверждают ценности
коллективизма, солидарности, моральной ответственности, обязанности
по отношению к Богу, общине, семье и т.п. В этих странах традиционная соционормативная регуляция, которая включает в себя моральные,
религиозные и силовые компоненты, направлена на сохранение существующей социальной системы. Право же с его формальной свободой
считается несовершенным или даже непригодным способом социальной
регуляции, так как правовая свобода позволяет людям действовать, руководствуясь эгоистическими частными интересами, вопреки интересам
сохранения традиционной системы. В этих культурах правовое равенство считается безнравственным и недопустимым, ибо оно разрушает
традиционный порядок. Действительно, такие культуры постепенно
разрушаются под влиянием современной правовой культуры, идеологии
прав человека – в той мере, в которой они допускают проникновение
чуждой им правовой культуры.
91
Нигилистическое отношение к праву и государству характерно и
для тоталитаризма с его уравнительным регулированием. Тоталитаризм (современная разновидность деспотизма) отвергает правовой
способ соционормативной регуляции в пользу регулирования силового
типа.
Не следует отождествлять правовой нигилизм с нарушениями законности, несоблюдением и неисполнением законов властными субъектами. В неправовых культурах само законодательство служит формой проявления правового нигилизма.
Правовой нигилизм во втором значении – это проявление маргинальной субкультуры в условиях преобладания культуры правового типа (по существу такая субкультура – это антикультура, негативная культура, противопоставляющая себя господствующей культуре). Правовой
нигилизм в этом смысле представляет собой девиантное индивидуальное или групповое сознание и соответствующее антиправовое поведение отдельных индивидов и групп, не способных интегрироваться в
правовую культуру. Носителями такой антиправовой субкультуры выступают, во-первых, организованные криминальные сообщества, противопоставляющие себя государству (государственно-правовому сообществу), и, во-вторых, люмпенские слои населения. Последние образуют
социальную базу для криминальных сообществ, а в некоторых исторических ситуациях – для антиправовых политических сил (политических
движений и организаций, политических режимов).
При правовом способе социальной регуляции люмпенские слои
населения находятся в экономически невыгодном положении. Это порождает в индивидуальном и групповом сознании люмпенства ложные, коммунистические представления о несправедливости существующего общественного строя с его государством и правом и требования
“социальной справедливости” (по существу – требования уравниловки
и силовой социальной регуляции). В раннем индустриальном обществе, когда в производстве используется в основном неквалифицированная или малоквалифицированная рабочая сила, массы наемных работников образуют люмпенские социальные группы. Это люди, социальное положение которых таково, что правовая свобода и государственно-правовой порядок, собственность и другие права человека не
имеют для них ценности. Они готовы к революции с целью коммунистического переустройства общества, т.е. к ликвидации правовой свободы.
По мере индустриального развития, с одной стороны, промышленный труд становится более квалифицированным и оплачивается выше, с
другой стороны, организуется государственное перераспределение
92
национального дохода в пользу групп, находящихся в экономически невыгодном положении. Экономическое люмпенство утрачивает массовый характер, хотя остаются отдельные маргинальные группы с люмпенской, антиправовой субкультурой. Именно эта субкультура служит
питательной средой и для организованной преступности, и для коммунистических или фашистских партий, иных террористических организаций.
Однако в индустриально неразвитой ситуации, в условиях резких
социально-экономических изменений люмпенские группы, с их правовым нигилизмом, могут стать преобладающей частью городского
населения (за счет разорения мелких собственников и миграции разорившейся части сельского населения). В таких условиях может быть
установлена национал-социалистическая, фашистская или коммунистическая диктатура, заменяющая право силовой социальной регуляцией.
Для правового нигилизма как маргинальной субкультуры характерны: 1) неспособность носителей этой субкультуры понять смысл
правовой свободы, осознать смысл прав и свобод личности, юридическая некомпетентность (отсутствие правовых знаний); 2) негативное
отношение к праву и государству; 3) распространенность навыков и
стереотипов неправового и противоправного поведения.
Нигилистическое отношение к праву и государству присутствует и
в России. Оно существовало в традиционной российской культуре и
было многократно умножено в форме коммунистического правового
нигилизма. В посткоммунистической России, с одной стороны, в социальной структуре преобладает экономическое и духовное люмпенство,
с другой стороны, правящие бюрократические элиты воспроизводят в
новых условиях неправовые методы социальной регуляции и грубо
нарушают конституционно провозглашенные права человека. Уровень
коррупции таков, что иногда трудно определить, где кончается государство и начинается организованная преступность. В такой обстановке процветают криминальные группировки, фактически противопоставившие себя государственно-правовому строю, и формируются радикальные политические движения национал-социалистической и коммунистической ориентации.
Преодоление правового нигилизма в такой стране как Россия –
длительный исторический процесс. Необходимой предпосылкой к этому является изменение социальной структуры, существенное снижение
доли экономического люмпенства в составе населения, возрастание
доли индивидов-собственников. Лишь на такой основе возможно становление правового типа личности доминирующим. Лишь при таких
93
условиях возможны осознание большинством населения смысла правовой свободы и реализация ценностей современной правовой культуры, переход от декларирования прав человека к их практическому
осуществлению, формирование правового государства.
Коммунистический правовой нигилизм. Коммунизм – это идеология рабов, неимущих, люмпенов и вообще тех, кто почему-либо не
способен осуществить абстрактную возможность быть собственником
и в силу этого не способен понимать смысл, сущность, ценность правовой свободы. В этом смысле марксистское (коммунистическое) негативное отношение к свободе не является исключением. Марксизм в
своем идеологическом аспекте сформировался в середине XIX века как
идеология промышленного пролетариата (экономического и духовного
люмпенства).
В коммунистической идеологии подчеркивается то обстоятельство,
что правовая свобода и правовое равенство (в частности, равная возможность быть собственником) означают лишь формально равные
возможности для имущих и неимущих. Марксизм утверждает, что в
условиях правовой свободы неимущие фактически попадают в зависимость от имущих, становятся объектом эксплуатации. С марксистской
точки зрения, формально равная свобода есть реальная свобода для
имущих, свобода, позволяющая угнетать неимущих (пролетариат); поэтому для “реального освобождения” пролетариата нужно создать такое общество, в котором не будет правовой свободы, не будет собственности, права и государства.
Иначе говоря, если правовая свобода оказывается свободой угнетать других, так пусть никто не будет юридически свободным! Не использование государственно-правовой формы свободы для удовлетворения потребностей максимально возможного числа людей, а уничтожение правовой свободы – такова классовая позиция экономического и
духовного люмпенства.
Такое общество, где не будет права, коммунисты полагают царством “подлинной свободы”, ибо здесь якобы не будет эксплуатации
человека человеком. Однако коммунистическая “свобода” не может
свободой ни логически, ни, как показала история социализма, практически.
Действительно, в таком обществе человек как частное лицо не
сможет подчинять себе других, так как здесь не будет частных лиц –
свободных индивидов. Здесь отдельный человек будет поглощен организацией тотальной (деспотической) власти.
Коммунистическая “свобода”, запрещающая собственность (присвоение ресурсов жизнедеятельности), означает, что человек не может
94
удовлетворять свои потребности формально независимо от других, от
“всех”, ибо ресурсы жизнедеятельности принадлежат всем вместе и
никому в отдельности. Распоряжаться (от имени “всех”) этими ресурсами, их производством, накоплением, распределением и потреблением, будет всеобъемлющая организация власти, которая и логически, и
практически может быть властью только силового типа.
Когда социально слабые требуют сверхсильной политической власти, которая защитит их от социально сильных (эксплуататоров, капиталистов, “олигархов” и т.п.), когда они требуют упразднения собственности и уравнительного распределения, они тем самым отказываются от свободы и требуют власти деспотической. Но деспотическая
власть не гарантирует ничего и никому. Так что отказ от свободы не
дает никакой социальной защищенности. Здесь уместно напомнить
высказывание Б. Франклина: народ, готовый променять хоть толику
своей свободы на защищенность, не достоин ни свободы, ни защищенности.
Таким образом, марксистское пролетарско-классовое негативное
отношение к государству и праву проистекает из непонимания, неприятия и извращения сущности правовой свободы. Коммунистическая
идеология видит в праве и государстве лишь насилие над неимущими,
эксплуатируемыми в интересах имущих, эксплуататоров. Ради “подлинной свободы” нужно, по марксистской терминологии, “освободить
будущее человечество от государства и права, от любых форм государственно-правового давления и принуждения, сделать всех в высшей мере сознательными и свободными”. Многие современные марксисты признают эту “благородную” цель утопической, но это не меняет их негативного отношения к праву и государству как “насилию”,
“угнетению”, “подавлению” и т.п.
Тема 7. Тоталитаризм: отрицание права и государства
Вопросы для обсуждения
1. Сущность тоталитаризма.
2. Возникновение и разложение тоталитарных систем.
3. Основные антиправовые и антигосударственные черты социализма.
4. Посттоталитарное право и государство.
Из лекции: Тоталитаризм – это разновидность деспотической организации общества, возникшая в ХХ в., в эпоху индустриального раз-
95
вития. Тоталитарная система – это социальная система, интегрированная политической властью силового типа. Понятие тотальной власти
означает такую властную организацию, которая исключает свободу,
управляет всей жизнедеятельностью общества, регламентирует все
сферы социальной жизни.
Часто тоталитаризм определяют как политический режим. Но это
не просто режим осуществления власти, а особый тип социально-политической организации. Это не просто силовой (деспотический, неправовой) способ политического господства; это силовой способ организации всей социальной жизни.
Различаются жесткий и менее жесткий варианты тоталитаризма.
Жесткий (коммунизм, социализм) существовал в СССР, в Китае (китайский тоталитаризм постепенно разрушается), в странах Восточной
Европы и других странах – сателлитах СССР, а в настоящее время сохраняется в Северной Корее.
Советский социализм – это тоталитаризм в его наиболее чистом
виде, без наслоений традиционного азиатского деспотизма. Он отрицает и традиционность, и модернизацию западного образца (вестернизацию), претендует на особенный путь развития, который в действительности заводит в тупик.
Менее жесткий представлен фашистским режимом в Италии и
национал-социалистическим в Германии. В отличие от жесткого при
менее жестком тоталитаризме не упраздняется частная собственность,
хотя происходит значительная национализация. Здесь не проводится
тотальная конфискация, имущества лишаются лишь противники режима, “враги нации”. Вместе с тем собственность не гарантируется –
даже собственность монополий. И главное – политическая власть полностью контролирует основные отрасли народного хозяйства; например, в нацистской Германии концентрация производства в руках гигантских корпораций, подконтрольных правительству, позволяла и без
тотальной национализации мобилизовать экономику на решение любых задач.
Национал-социалистический и фашистский режимы были уничтожены в итоге второй мировой войны. Их относительно короткая история не позволяет делать выводы о закономерностях эволюции менее
жесткого тоталитаризма. Можно лишь предположить, что фашизм и
национал-социализм – это незавершенные формы жесткого тоталитаризма. Ниже речь пойдет в основном о жестком тоталитаризме.
Жесткий тоталитаризм – это характеристика социализма. Социалистическая система построена на основе полного обобществления, т.е.
конфискации и национализации, всей товаропроизводящей собствен-
96
ности. Поэтому здесь достигается полная зависимость человека от политической власти.
При социализме нет права, здесь используются иные способы соционормативной регуляции. Соответственно нет и государства Так
называемое социалистическое государство – это властная организация
силового типа, которая лишь имитирует государственно-правовой порядок, прикрывается внешней государственно-правовой атрибутикой.
В социалистической системе невозможно разграничивать политическую и неполитическую (общество) сферы социальной жизни. Социалистическое общество полностью политизировано. Власть присутствует в самом обществе и обеспечивает жизнедеятельность всей социальной системы.
Основные черты тоталитарных систем. Все тоталитарные системы характеризуются общим набором внешних признаков. Наиболее
ярко эти признаки выражены в феномене жесткого тоталитаризма (социализма). К ним относятся: крайний авторитаризм, партия нового типа, политизированная иерархическая социальная структура, харизматическая фигура вождя, имитация демократических институтов, тотальный контроль и всесильные карательные органы (суд – придаток
карательных органов), внешняя агрессивность, принудительная идеология, ксенофобия и насаждение в общественном сознании образа врага, террор, массовые репрессии и, в результате, “формирование нового
человека”.
Социалистическая система не способна к постиндустриальному
развитию. Она принципиально не может быть преобразована в постиндустриальный социум, поскольку последний предполагает общество
свободных индивидов, свободную развитую личность. Исчерпание ресурсов экстенсивного развития приводит к самораспаду, разложению
социалистической системы. И дальнейший переход общества к постиндустриальному развитию или хотя бы к восстановлению нормального индустриального развития возможен только в посредством слома
социалистического строя.
Созданная силовым путем, основанная на насилии или угрозе его
применения, социалистическая система начинает разлагаться по мере
того, как ослабевает интегрирующее ее насилие.
Разложение системы начинается уже тогда, когда умирает вождь,
под руководством которого создавалась система. Это еще раз подтверждает неестественный, неорганический характер социалистической системы, ее неспособность к саморазвитию. Без вождя тоталитарная бюрократия перестает быть монолитной группой, обслуживающей потребности системы, а без такой бюрократии ничто не удерживает си-
97
стему от разложения.
Следует подчеркнуть, что репрессивный механизм управления
распространяется и на саму тоталитарную бюрократию. Вождь периодически направляет этот механизм против управляющего класса и тем
самым поддерживает атмосферу страха в самих структурах власти. Разумеется, такое положение не устраивает бюрократию. Она хотела бы
оставаться господствующим классом, но без репрессивного режима
управления.
Тоталитарная бюрократия объективно тяготеет к тому, чтобы заменить реального вождя символической фигурой. Кроме того, она делает
все, чтобы принципиально ослабить карательно-следящую подсистему
и тем самым гарантировать свою безопасность. Но как только прекращаются репрессии и проходит страх, бюрократия начинает действовать
не столько в интересах системы, сколько в партикулярных интересах –
ведомственных, местных, групповых и, в конечном счете, в личных
интересах, не заботясь о последствиях для системы. Тоталитарная система разлагается изнутри в результате перерождения тоталитарной
бюрократии.
Далее, ослабление карательно-следящей подсистемы означает, что
контроль перестает быть тотальным. Начинаются неконтролируемые
процессы социально-экономического развития, которые, однако, принимают уродливые формы. Ибо нормальное развитие сдерживается запретом собственности и вообще любой свободной социальной активности. Поэтому возникают теневая экономика, “черный рынок” и, в
конечном счете, некое теневое общество, в котором обращаются значительные материальные средства и человеческие ресурсы. Складывается даже теневая социальная структура, в которой статус субъекта определяется его ролью и местом в теневом обществе.
Используя тенденцию тоталитарной бюрократии к перерождению,
функционеры теневого общества постепенно сращиваются с частью
бюрократического аппарата. Как свидетельствует процесс разложения
советского режима, происходит не просто коррумпирование властных
структур, а изменение сущности системы. В недрах тоталитарной системы вызревает новая система – олигархически-мафиозного типа.
Тоталитарная бюрократия, заботясь о партикулярных интересах,
тем самым объективно способствует росту теневого общества и развалу тоталитарной системы. Это делает неизбежными падение режима и
либерально-демократические преобразования.
В итоге социалистическая индустриализация оборачивается не
просто слишком дорогой ценой: оказывается, что цена эта заплачена за
тупиковый путь развития. Если посттоталитарное общество и не отка-
98
тывается на уровень раннего индустриального развития, оно все же остается слаборазвитым по сравнению с передовыми странами, вступившими в постиндустриальную эпоху.
Закрытость тоталитарных систем, блокирование в них императивов
мирового развития, неэффективность, а также такие характеристики
тоталитаризма, как силовое принуждение к труду, политизированность
общества и экономики, иерархические структуры, закрепляющие формальное неравенство, привилегии, кастовый характер тоталитарной
бюрократии – все это свидетельствует о том, что социализм является
не особым вариантом модернизации, а контрмодернизацией. Социализм лишь имитирует модернизацию – как он имитирует государственность и право.
Являясь консервативной реакцией на отставание общества от
наиболее развитых стран, тоталитаризм не ликвидирует отставание. Он
осуществляет псевдоразвитие – за счет истощения ресурсов общества.
Чем больше это отставание, тем более жесткий тоталитаризм устанавливается и тем меньше у общества шансов быстро вернуться к нормальному развитию после слома системы. Чем дольше сохраняется тоталитарная система, тем болезненнее возвращение к нормальному развитию.
Социализм показал, что естественный исторический путь модернизации свободного общества является единственно возможным и что
притязания социализма на открытие нового пути модернизации несостоятельны.
Посттоталитарное общество, право и государство. Посттоталитарной в широком смысле можно считать такую социальноисторическую ситуацию, в которой, после разрушения социализма,
происходит некая необходимая модернизация – утверждаются минимальные права человека, формируются основы гражданского общества, восстанавливаются государственно-правовые институты. Посттоталитарное развитие предопределятся жесткостью и длительностью
существования тоталитарного режима, а также уровнем развитости
(или неразвитости) правовой культуры, существовавшим до тоталитаризма.
Есть два варианта посттоталитарного развития. Первый –
относительно быстрое возрождение культуры преимущественно правового типа. Второй – формирование специфического общества переходного типа, промежуточной культуры. Второй вариант представляет собой посттоталитарное общество в собственном смысле.
Посттоталитарное общество в собственном смысле характерно,
прежде всего, для России и близких к ней по типу культуры постсовет-
99
ских стран. Ниже речь пойдет именно об этих странах.
За семьдесят лет советского тоталитаризма эти страны оторвались
от своей традиционной культуры, но отдалились и от современной развитой правовой культуры. Если несколько поколений людей сформировались как личности в условиях социализма, то в таких странах не
может преобладать культура правового типа. Эти страны оказались не
готовыми к антисоциалистической альтернативе ни по характеру культуры населения, ни по организованным политическим силам, способным возглавить реформы.
В посттоталитарных странах произошел качественный переход из
принципиально неправовой ситуации в принципиально правовую – в
том смысле, что теперь в принципе допускается правовая свобода. Посттоталитарные страны ушли от преимущественно силового уравнительного способа социальной регуляции. Но они еще не пришли к развитой правовой ситуации, к преимущественно правовому способу социальной регуляции. После слома социализма наступил хаос, из которого рождается порядок. В рамках нового порядка возможна и новая
модернизация – переход к постиндустриальному обществу, но этот переход проблематичен и не гарантирован.
И в период разложения социализма, и в постсоциалистической ситуации все общественное развитие определяется одним и тем же процессом. Это соединение политической власти и собственности,
огосударствление собственности. Такое положение соответствует не
индустриальному, а доиндустриальному обществу.
Постсоциалистическое государство – это не только организация
власти, но и субъект, осуществляющий правомочия верховного собственника. Создается такая собственность, которая еще не свободна от
государственной власти, и такая государственная власть, которая еще
не свободна от собственности. Подобная ситуация характерна для феодализма, когда экономические и политические явления еще недостаточно отделились друг от друга. Такой симбиоз власти и собственности означает, что социум еще не дозрел до дифференциации на гражданское общество и политическое государство.
В описанной постсоциалистической ситуации гражданское общество в принципе развиваться не может. Государство, выступающее одновременно в роли верховного собственника, может быть только авторитарным. Поэтому либерально-демократические преобразования первых лет после слома социализма сменяются выстраиванием авторитарного государственно-правового порядка. Это умеренный авторитаризм
(“управляемая демократия”), допускающий политические свободы, но
под контролем компетентных государственных органов.
100
Соединение власти и собственности и порожденный этим процессом авторитаризм следует расценивать не как “злой умысел” правящей
бюрократии, а как реальность, которая не может быть иной – в силу
объективного уровня культуры общества. Эта реальность может быть
менее криминальной, более управляемой, но не может быть либерально-демократической. Вместе с тем, в науке хорошо известно, что во
всех странах, в которых правительство играет доминирующую экономическую роль, экономическое состояние хуже, чем в странах с преобладающей рыночной экономикой.
Процессы посттоталитарной модернизации нацелены на формирование госкапитализма – такого общественного строя, при котором признается собственность, но основным субъектом собственности является государство. Такой строй неэффективен в сравнении с рыночной
экономикой, даже в сравнении с государственно регулируемым рынком. Когда государство действует как субъект, устанавливающий правила экономической конкуренции, и одновременно как хозяйствующий субъект, оно объективно не может обеспечивать приемлемую
конкуренцию.
Но даже госкапитализм из социализма не получается. Социализм
не может быть преобразован непосредственно в капитализм. Получаются отношения докапиталистические. При оптимистической оценке
постсоциалистической модернизации можно сказать, что она происходит в исторически известном направлении к капитализму: от рабства –
через феодализм (В.С. Нерсесянц).
Точнее, происходит движение от квазирабского социализма (при
социализме широко используется бесплатная рабочая сила населения
исправительных лагерей) – через постсоциалистический квазифеодализм – к госкапитализму. Такая интерпретация постсоциалистической
модернизации позволяет сделать вывод, что попытки трансформировать социализм в капитализм порождают новое, по сути своей докапиталистическое явление – неофеодализм.
В пользу такого вывода свидетельствуют следующие черты постсоциализма.
1. Неразделенность власти и собственности.
2. Общие, одинаковые для всех правовые нормы подменяются привилегиями, множеством разных правовых статусов и режимов регулирования. Равные права и свободы каждого человека и гражданина во
многом остаются декларированными (октроированными), и большинство населения не осознает их смысл.
3. Специфическая “суперпрезидентская” форма правления напоминает дуалистическую монархию, которая характерна для неразвитой
101
правовой культуры и предшествует демократическим республикам индустриального общества.
Интересно отметить, что царская Россия в процессе модернизации
в начале ХХ в. так и не смогла подняться до уровня дуалистической
монархии, и первый российский парламент (Государственная Дума)
был не законодательным, а законосовещательным органом. Как доказывает российская история, в стране с неразвитой правовой культурой,
пережившей социалистический срыв модернизации, невозможен переход от царского абсолютизма – через абсолютизм тоталитарный –
непосредственно к демократической республике.
4. В постсоциалистической России судебная система имеет черты
феодальной. Суды специализируются не по содержанию рассматриваемых дел, а по субъектному (квазисословному) принципу. Несмотря на
конституционное провозглашение презумпции невиновности на практике она не действует. Суд выполняет обвинительную функцию. В
случаях недоказанности преступления суд как правило не выносит
оправдательный приговор, а направляет дело на дополнительное расследование; причем обвиняемые остаются под стражей.
Второй раздел. ЮРИДИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О
СТРОЕНИИ, ФОРМАХ И
ФУНКЦИЯХ ГОСУДАРСТВА
Тема 8. Элементы государства
Вопросы для обсуждения
1. Юридическая интерпретация элементов государства.
2. Права народов (этносов) на политическое самоопределение –
внешнее и внутреннее.
3. Территориальный элемент государства и право на родину.
4. Правовые возможности изменения государственной территории.
5. Юридическое понятие государственного суверенитета.
6. Права “третьего поколения” как объяснительные категории.
102
Из лекции: Субстанциональный элемент государства. Каждое
общество (культура, цивилизация) и государство создается конкретным народом – этносом или суперэтносом (группой этносов, возникших в одном регионе и противопоставляющих себя другим суперэтносам). Этнос – это естественный субстрат, в котором формируются общество и государство. Конкретное государство возникает в
процессе этногенеза – исторического развития этноса и является политико-правовой формой обособления и существования этноса (суперэтноса). При этом происходит внешнее (по отношению к другим этнополитическим образованиям) политическое самоопределение этноса. Политически самоопределяющийся этнос (суперэтнос) – это субстанция
государства. В процессе политического самоопределения этносов (суперэтносов) возникают нации, или “государствообразующие народы”.
Именно нация представляет собой субстанциональный элемент государства.
Тезис о государстве как форме обособления и существования этноса не означает, что государство – это непременно моноэтническое политическое образование. Вместе с тем полиэтническое государство не
создается множеством этносов. Полиэтническое государство (в частности, империю) можно рассматривать, во-первых, как государство, которое образовано одним этносом, выступающим в качестве так называемой титульной нации, и в котором другие этнические группы существуют как этнические меньшинства в составе “государствообразующего народа”. Во-вторых, его можно рассматривать как государство,
образованное суперэтносом (например, принято считать, что Российское государство в XVI–XVII вв. создавалось русско-евразийским суперэтносом); причем в рамках суперэтноса, создающего государство,
тоже есть этническое ядро, выступающее в качестве “титульной нации”.
Кроме того, в развитой государственно-правовой форме снимаются
этнические различия внутри “государствообразующего народа”. Правовое государство гарантирует права и свободы индивидов независимо
от этнических различий.
Право на внешнее политическое самоопределение. Субъектом этого права является любой народ (этнос, суперэтнос), компактно проживающий на определенной территории, не рассеянный по миру. Причем
нация (политически самоопределившийся, “государствообразующий”
народ) – это народ, уже реализовавший свое право на внешнее политическое самоопределение.
Это право этноса либо создавать свое независимое, суверенное государство, либо не создавать и войти в состав уже существующего го-
103
сударства. Следовательно, право на внешнее политическое самоопределение особенно актуально для тех народов, которые еще не создали
свое национальное государство. Любой этнос, выражающий волю к
внешнему политическому самоопределению, вправе создать свое государство. Не может быть никаких юридических аргументов против
внешнего политического самоопределения любого, даже малочисленного этноса.
Однако осуществление права на внешнее политическое самоопределение, как и любого субъективного права, не должно нарушать права
других субъектов. Международное право защищает территориальную
целостность и суверенитет государства. Так что стремление этноса
стать независимой нацией не должно нарушать права других этносов
на политическое самоопределение и суверенитет существующих государств.
В этом контексте следует различать понятия “титульная нация” и
“этнические (национальные) меньшинства”. “Титульная нация” – это
этнос, создающий свое независимое государство, дающий государству
название, официальный язык и т.д. Но в состав “государствообразующего народа” может входить не только “титульная нация”, но и другие
этнические общности (этнические меньшинства). Они бывают двух
типов. Во-первых, это этносы или части этносов, живущие на своей исконной территории и не имеющие своей национальной государственности за пределами данного государства. Эти этнические меньшинства, как и все этносы, имеют право на внешнее политическое самоопределение. Это право применительно к этническим меньшинствам
означает возможность отделения от государства с целью либо создать
свое национальное государство, либо присоединиться к другому уже
существующему государству (с согласия последнего).
Во-вторых, национальным меньшинством в государстве может
быть часть этноса, имеющего свою национальную государственность
за пределами государства, в котором оно составляет меньшинство. Если территория проживания такого меньшинства является его исторической родиной, то оно вправе претендовать на внешнее политическое
самоопределение. Но оно не вправе претендовать на внешнее политическое самоопределение, если территория является родиной для титульной нации или другого меньшинства. Однако все национальные
меньшинства имеют право на внутреннее политическое самоопределение.
Общепризнанно, что право на внешнее политическое самоопределение этнических меньшинств ограничено суверенитетом государств, в
которых живут эти меньшинства. Это порождает следующую колли-
104
зию. Реализация этническим меньшинством права на внешнее политическое самоопределение означает сецессию – отделение от существующего государства его части. Но сецессия, по общему правилу, юридически недопустима без согласия этого суверенного государства (суверенной организации власти, выступающей от имени нации в целом).
В частности, субъект федерации не вправе выйти из состава федерации
без ее согласия. Нередко сецессия фактически невозможна в одностороннем порядке, без поддержки мирового или макрорегионального сообщества государств.
Получается, что право этнических меньшинств на внешнее политическое самоопределение – это право отделиться от существующего
государства с согласия этого государства.
С другой стороны, существующие государства не вправе вообще
отрицать право этнических меньшинств на политическое самоопределение. Практика же такого отрицания порождает терроризм на этнической почве и даже войны за национальную независимость. Так что если происходит силовое решение данной коллизии, то оно возможно и в
пользу сецессии – если у самого этнического меньшинства достаточно
для этого силы, или же оно опирается не только на правовую, но и на
силовую поддержку мирового сообщества государств. Такая поддержка допускается международным правом – в тех случаях, когда
борьба этнического меньшинства за политическое самоопределение
вызвана массовыми грубыми нарушениями индивидуальных прав человека в отношении представителей этого меньшинства.
Однако оптимальным является такое решение данной коллизии,
которое приводит к внутреннему самоопределению этнических меньшинств.
Право на внутреннее политическое самоопределение. Это право
этнических меньшинств на политическое самоопределение без сецессии – в рамках того государства, в котором они существуют как меньшинства. Цель такого самоопределения – обретение этническим меньшинством регионального самоуправления в рамках существующего
государства. В данном контексте региональное самоуправление означает формирование этническим меньшинством на территории его компактного проживания органов государственной власти, самостоятельных в отношениях с центральными органами государственной власти.
Такая самостоятельность достигается на основе конституционного разграничения компетенции между центральными государственными органами и государственными органами самоуправляющегося образования.
В унитарном государстве самоуправление национальных мень-
105
шинств – это этнотерриториальная автономия, т.е. предоставление отдельным административно-территориальным единицам самостоятельности по этническому принципу.
Другой вариант решения проблемы – федеративное государственное устройство, в рамках которого этническими меньшинствами создаются субъекты федерации. При этом другие субъекты федерации могут создаваться по территориальному принципу – территориальными
общностями “титульной нации”. По такому смешанному, территориально-этническому принципу образована Российская Федерация.
Таким образом, внутреннее политическое самоопределение – это
создание этносом (этническим меньшинством) либо автономного образования в унитарном государстве, либо субъекта федерации в государстве федеративном.
Для того чтобы этнические меньшинства могли претендовать на
внутреннее политическое самоопределение, не требуется никаких причин вроде грубого нарушения государством прав человека в отношении представителей этих национальных меньшинств. Достаточно ясного волеизъявления национального меньшинства по правилам, установленным в государстве (например, референдум). Государство, в силу
своего суверенитета, вправе противиться сецессии, но, по общему правилу, оно не должно отказывать своим меньшинствам в самоуправлении, ибо последнее не нарушает суверенитет. Но в силу того же суверенитета внутреннее политическое самоопределение части нации возможно только с согласия суверенной государственной власти.
Вместе с тем, если осуществление внутреннего политического самоопределения не противоречит названным ниже условиям, то уже сам
отказ в предоставлении этническим меньшинствам самоуправления
следует расценивать как грубое нарушение (коллективных) прав человека.
При реализации права на внутреннее политическое самоопределение должны соблюдаться два условия. Во-первых, внутреннее политическое самоопределение не должно преследовать такие цели, которые
несут в себе нарушение индивидуальных прав человека, например равноправия (независимо от пола, расы, национальности, языка и т.д.),
свободы вероисповедания, свободы выражения мнений и т.п. Во-вторых, не должны нарушаться права других этнических групп, если таковые живут на территории, на которой происходит внутреннее политическое самоопределение этнического меньшинства. В частности, государство вправе препятствовать внутреннему политическому самоопределению этнической группы на такой территории, на которой представители этой группы составляют меньшинство населения.
106
В последнем случае внутреннее политическое самоопределение этнического меньшинства возможно в форме так называемой этнокультурной автономии, имеющей экстерриториальный характер. В этом
случае этническим меньшинствам гарантируется представительство в
центральных или региональных представительных органах государственной власти.
Таким образом, субстанциональный элемент государства – это нация, т.е. политико-правовая общность, которая возникает в результате
внешнего политического самоопределения этносов и в рамках которой
возможно внутреннее политическое самоопределение этнических
групп.
Территориальный элемент непосредственно связан с субстанциональным элементом государства. Территории, на которых возникают
государства, суть территории, освоенные этносами, формирующими
государство.
Исторически государственность возникает в процессе перехода от
кровнородственных форм социальной организации этносов к территориальной социальной (политической) организации. И первоначально
государственная власть распространяется только на территорию обитания этнической общности, создающей государство. Затем кровнородственные связи на этой территории и даже этническая принадлежность отдельных людей утрачивают свое определяющее значение для
социальной организации: государственная власть – это такая власть,
которая распространяется на всех, кто находится на территории ее действия, и в развитом государственно-правовом общении “снимаются”
этнические, расовые и подобные различия между людьми. Подобно
тому как нация формируется на этнической основе, территория государства возникает как территория обитания этноса, формирующего
государство; но затем в состав нации включаются подвластные независимо от их этнической принадлежности, и так же государственная
власть распространяется на всех, находящихся в пределах этой территории – независимо не только от их этнической, но и от их государственной принадлежности.
Вместе с тем на территории государства положение лиц, принадлежащих и не принадлежащих к этому государству, различно. С точки
зрения идеологии естественных прав человека граждане и неграждане,
неравноправные в сфере политической активности, должны быть равноправны в сфере личной свободы и собственности. Но в государстве
доиндустриального общества даже в этой сфере положение граждан и
неграждан могло существенно различаться. Кроме того, даже современное государство возлагает на своих подданных такие обязанности и
107
дает им на своей территории такую защиту и покровительство, которые не распространяются на иностранцев. Гражданин государства –
это исторически последняя категория привилегированного человека,
последний привилегированный человек.
Итак, территориальный элемент – это не просто территория в признанных границах государства, а географическая область существования этнической общности, образовавшей государство. Это область, естественные границы которой предопределяют демаркацию и политическое признание границ. Но в тех случаях, когда территория государства изменяется в результате захвата других территорий, граница может быть установлена произвольно, вне связи с естественными границами проживания этносов – особенно, если захватчика интересуют не
людские, а природные ресурсы территории.
Политическое самоопределение этносов происходит на территории, которая является для них родиной. Следовательно, территория государства – это страна, являющаяся родиной для нации или ее этнического ядра. Признание в современном мире естественных прав на самоопределение с необходимостью ведет к признанию естественного
права этноса на родину, т.е. территориальное самоопределение. С этой
точки зрения территориальный элемент государства можно рассматривать как территорию, на которую нация, этнос, создающий государство, имеет право – право на родину. Однако возможна такая конфликтная ситуация, когда два этноса или две нации претендуют на одну и ту же географическую область как на свою родину. Примером
служит Палестина, являющаяся родиной и для евреев, и для палестинских арабов. Разрешение такого конфликта происходит в пользу той
нации (этноса), у которой достаточно силы для реализации территориальных притязаний и за которой стоит силовая поддержка мирового
сообщества (великих держав). Вместе с тем силовое решение такого
конфликта в пользу одного этноса не лишает другой этнос права на
внутреннее политическое самоопределение на своей родине.
Основания изменения государственной территории ранее (до возникновения современного международного права) трактовались, главным образом, с силовой позиции. В частности, различались “оккупация”, аннексия, цессия и адъюдикация.
“Оккупацией” (лат. occupatio – занятие, завладение) называлось занятие территории, не принадлежащей другому государству. Так, колониальные державы придерживались доктрины, согласно которой “ничья” территория или страна, населенная неевропейскими аборигенами,
может быть правомерно (в смысле старой доктрины) присоединена к
европейскому государству путем “оккупации”, в результате длитель-
108
ного фактического владения. Это понятие “оккупации” не имеет ничего общего с существующими в международном праве понятиями
occupatio bellica и occupatio pacifica. Последние означают захват территории другого государства без ее формального включения в состав
оккупирующего государства.
Аннексия (лат. annexio – присоединение) означает одностороннее,
не основанное на договоре присоединение территории другого государства.
Сегодня, с юридической точки зрения, очевидно, что в обоих случаях речь идет лишь о расширении государственной территории de
facto. Но ни факт аннексии, ни факт “оккупации” сами по себе не могут
порождать юридических оснований для включения территорий в состав других государств – даже если речь не идет о присоединении территории в результате агрессии. Ибо если эти территории населены, то
вопрос об их вхождении в то или иное государство может решаться
только политическим самоопределением населения.
Цессия (лат. cessio – официальная уступка, передача своих прав
другому лицу) означает переход территории от одного государства к
другому по договору. Нередко цессия происходит по окончании войны
в результате заключения мирного договора. Как правило, при этом меняется государственная принадлежность населения передаваемой территории. Но чтобы не унижать национальное самосознание этого населения, жителям передаваемой территории часто предоставляется возможность оптации – право выбора гражданства.
Адъюдикация (лат. adjudicatio – присуждение) – это переход спорной территории по решению компетентного международного суда.
Здесь, как и в случае “оккупации безгосударственной территории”,
территория, присоединяемая к государству, рассматривается как некий
“объект”, на который некий властный “субъект” приобретает право
собственности – по давности владения, в результате присуждения и
т.д. Очевидно, что такая позиция в вопросе о юридических основаниях
присоединения к государству других территорий является результатом
силовой трактовки права. Она соответствует феодальным или абсолютистским представлениям о территории государства как о принадлежащей суверену земле с “людишками”, “городишками”, “сельцами” и
т.д. и никоим образом не соответствует современному международному праву, праву народов на самоопределение. Если бы речь шла о
ненаселенных территориях, тогда можно было бы говорить об этих
территориях как “объектах”. Но если речь идет о населенных территориях, то, в контексте современного международного правопорядка, вопрос о правомерности изменения государственной принадлежности
109
этих территорий не может решаться без и помимо волеизъявления населения этих территорий. В частности, адъюдикация возможна лишь
как подтверждение правовых последствий такого волеизъявления.
Таким образом, следует различать два принципиально возможных
варианта изменения государственной территории – силовой и правовой. Критерий их различения – политическое самоопределение населения территорий.
Институциональный элемент государства составляют институты
государственной власти (государственно-властные учреждения). Это
государственный аппарат, система государственных органов, или государство в узком смысле (правительство).
Потестарная интерпретация положения индивида в государстве
утверждает безусловную обязанность подчиняться власти и признает
права по отношению к государству только как права октроированные.
С юридической же позиции государственная власть, государственный
суверенитет производны от свободы людей, составляющих государство. С юридической точки зрения оправдана обязанность повиновения государственной власти, но не может быть юридической обязанности повиноваться любой политической власти. Со времен античности политико-правовая мысль признает право на неповиновение; в
частности, в современной науке различаются “консервативное” право
на сопротивление попыткам узурпировать власть в демократическом
конституционном государстве (право на защиту существующего правового порядка) и революционное право на неповиновение тиранической, правонарушающей власти. Если власть нетерпимо нарушает
права человека, то это дает подвластным основание реализовать свое
право на (гражданское) неповиновение вплоть до восстания. Правда,
ни теория, ни международно-правовая практика не ставят вопрос о
четких критериях, позволяющих установить, до какого предела подвластные обязаны повиноваться и терпеть противоправные проявления
власти. Очевидно, это вопрос конкретной правовой и политической
культуры.
Право на неповиновение правонарушающей власти может и должно быть гарантировано мировым или макрорегиональным государственно-правовым сообществом. Но здесь возникает вопрос о допустимости силового вмешательства (“гуманитарной интервенции”) и
правовых основаниях такого вмешательства со стороны правового сообщества государств. По существу, это тот же вопрос о пределах противоправности власти: до какого предела международно-правовое сообщество обязано уважать суверенитет государства, в котором грубо
нарушаются права человека? Или: каковы критерии, позволяющие раз-
110
личать правомерные и юридически неоправданные акции неповиновения (сопротивления) противоправному режиму? В каких случаях юридически допустимо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства ради защиты прав человека?
Исторический опыт показывает, что на практике о праве на неповиновение, на восстание говорят тогда, когда восстание победило. В
противном случае говорят, что был бунт против законной власти или
попытка государственного переворота, но власть восстановила законный порядок. Отсюда можно заключить, что право на неповиновение
вплоть до восстания – это не нормативная, а объяснительная категория: с помощью этой категории нельзя установить, до каких пор следует терпеть произвол власти и когда его следует считать нестерпимым; зато эта категория позволяет post factum давать правовое объяснение революций, меняющих организацию власти.
По существу, то же самое относится и к правам на политическое
самоопределение, на родину: если у определенной этнической группы
достаточно силы или за ней стоит силовая поддержка мирового или
макрорегионального сообщества, то, в случае сецессии, признается,
что эта этническая группа реализовала свое право на создание государства на территории, которая является ее родиной. Но если такой силы (силовой или иной авторитетной поддержки) нет, то эту этническую группу просто не признают субъектом права на внешнее политическое самоопределение, а ее стремление к сецессии расценивается как
преступная деятельность, угрожающая целостности государства. Возникает впечатление, что права на неповиновение и внешнее политическое самоопределение существуют лишь как “право сильного”, “право
силы”, достаточной для революции или сецессии.
Но, с другой стороны, не всякая сила, способная осуществить государственный переворот или сецессию, признается современным международно-правовым сообществом в качестве силы, имеющей правовые основания. Так что оценка прав на неповиновение и на внешнее
политическое самоопределение в качестве объяснительных категорий
отнюдь не отрицает собственно юридический характер этих категорий.
Юридическое понятие государственного суверенитета. Суверенитет есть качество независимости и верховенства власти. Суверенитет
принадлежит тому властному субъекту, который обладает независимой
и верховной властью.
Если в качестве такого субъекта выступает организация государственной власти (государство узком смысле), то следует говорить о
государственном суверенитете. Говорить же о народном суверенитете
можно лишь в том случае, если считать, что верховная и независимая
111
власть осуществляется народом – совокупностью граждан (“непосредственная власть народа”).
Понятно, что может быть только одна суверенная власть – по
определению суверенитета. Либо государственный суверенитет, либо
суверенитет народный. Но, во-первых, последний противоречит самому понятию государства, ибо публичная политическая власть осуществляется не народом, а аппаратом, частью народа. Во-вторых, не
существует народа как некой целостности, но существует множество
индивидов, с разными и даже противоположными интересами. Втретьих, в демократическом конституционном государстве избрание
высших должностных лиц “народом” – то, что изображается как
“непосредственное осуществление народом своей власти” и якобы демонстрирует то, что источником государственной власти является
народ, – в действительности представляет собой свободную конкуренцию индивидов и их групп в борьбе за доступ к формированию и осуществлению суверенной государственной власти. В-четвертых, о
народном суверенитете предпочитают говорить те правители, которые
присваивает себе способность выражать волю всего народа, те, кто
изображает народ в виде некой абстрактной целостности и не допускает по отношению к своей власти никакой оппозиции.
В юридической интерпретации народа постулируется, что отдельный гражданин обладает правами по отношению к любому большинству людей, составляющих народ, и “народному правительству”, даже
если оно реально выражает волю большинства. В этом отношении права человека и гражданина защищают индивида от произвола большинства, от “народного суверенитета”, как и от любого деспотизма или абсолютизма. В частности, такую защиту призван обеспечивать суд конституционной юрисдикции. Такой суд вправе признавать законы, принятые органами народного представительства, даже принятые квалифицированным большинством, недействительными (не имеющими
юридической силы). Это оправдано тем, что высшей ценностью в правовом государстве признается человек, его права и свободы, а не воля
некой большой группы – даже если она выражена в законе, принятом
путем референдума.
Таким образом, в демократическом конституционном государстве
суверенная власть – это власть, осуществляемая аппаратом государства, а суверенитет – это суверенитет государственный, а не народный.
В силовой парадигме суверенитет государства изображается как
“право силы”, как верховенство власти, не имеющей правовых границ.
С этой позиции внутренний суверенитет государства означает ничем
не связанную монополию на принуждение, на применение силы внут-
112
ри страны (никакая другая социальная власть не вправе применять силу, если это не санкционировано государством). Внутренний суверенитет трактуется как “полновластие” – в том смысле, что организация
верховной власти сама является источником и носителем всех возможных властных полномочий и сама, произвольно, определяет пределы
этих полномочий (в частности, она может “самоограничиваться правом”). Внешний же суверенитет объясняется не просто как независимость государства, но и как его принципиальная несвязанность международными договорами, выполнение обязательств лишь по соображениям силы или целесообразности. Такая парадигма соответствует
исторически неразвитой правовой ситуации, но уже в XIX в. она устарела. В частности, в этой парадигме невозможно объяснить природу и
назначение конституционного права (как отрасли, устанавливающей
правовые пределы власти внутри страны) и международного права (как
правовой системы, ограничивающей силу в межгосударственных отношениях).
В юридической трактовке государственный суверенитет означает
верховенство и независимость власти, подчиненной праву, монополию
на принуждение в рамках правомочий и независимость государства в
рамках международного правопорядка.
Внутренний государственный суверенитет в юридическом понимании – это право государства на принуждение по отношению к субъектам права, т.е. полномочие, ограниченное обязанностью признавать
и соблюдать права этих субъектов. Свобода индивидов первична по отношению к создаваемой ими организации государственной власти, и
правомочия государственной власти производны от этой свободы.
Устанавливая государственную власть, индивиды, образующие публично-правовую ассоциацию, отчуждают в пользу учреждаемой власти
часть своей свободы и в этих пределах обязуются подчиняться власти.
Официально-властное принуждение за пределами дозволенного
правом – это такое же правонарушение, преступное насилие, как и
противоправное принуждение со стороны частных лиц.
Внешний суверенитет – это равноправие, формальное равенство
всех членов правового сообщества государств, взаимодействие государств по принципу: “свобода каждого государства в международных
отношениях ограничена такой же свободой каждого другого государства”. Все государства обязаны в равной мере подчиняться нормам
межгосударственного правового сообщества. И это не ограничение
государственного суверенитета (это ограничение великодержавного
произвола), а необходимое условие суверенитета всех государств. Ибо
все государства могут быть суверенными только в рамках общего и
113
одинакового для всех международного правопорядка. В противном
случае “суверенными” (в смысле потестарной интерпретации суверенитета) будут лишь немногие – и то лишь до тех пор, пока не столкнутся с более сильными державами.
Тема 9. Механизм государственной власти
Вопросы для обсуждения
1. Понятия функций и задач государства.
2. Система функций государства.
3. Функции государства и структура аппарата государственной
власти. Юридическое понятие государственного органа.
4. Организационное единство государственной власти и разделение
властей: логически конкурирующие конструкции или показатель развитости правовой культуры.
5. Компоненты разделения властей.
6. Современные попытки ревизии теории разделения властей.
Из лекции: Функции государства выражают его сущность. Какова
теоретическая интерпретация сущности государства, такова и теория
функций государства.
В юридической, персоноцентристской интерпретации функции любого социального объекта осуществляются по отношению к некоему
субъекту, для субъекта (человек – “мера всех вещей”). В правовой ситуации функции аппарата власти (функции государства в смысле либертарно-юридической теории) заключаются в обеспечении правовой
свободы и выполняются по отношению ко всем членам государства
или всем субъектам права, находящимся на территории государства.
Иначе говоря, функции государства состоят в обеспечении правопорядка для субъектов права – свободных индивидов или самостоятельных хозяев, если их рассматривать с экономической точки зрения.
В неправовой, потестарной ситуации “люди государевы”, составляющие аппарат власти государя, деспота, выполняют функции управления всей жизнедеятельностью общества, которое представляет собой
“государево хозяйство” (государство в буквальном смысле). Понятно,
что управление хозяйством осуществляется не ради процветания хозяйства как такового, а ради благополучия и в интересах самого хозяина. Таким образом, здесь функции аппарата власти совершенно иные,
нежели в государственно-правовой ситуации, и выполняются они по
отношению к правителю или правящей группе.
114
В потестарных, системоцентристских интерпретациях человек –
не “мера всех вещей”, а “космическая пыль” (а иногда и “лагерная
пыль”), а высшая ценность – стабильный гармоничный порядок, для
которого свобода может быть лишь разрушительным фактором. И
суждение “государство функционирует” означает здесь то же самое,
что и “механизм работает”, социальный механизм, в котором “человечки-винтики” находятся на своих местах и тоже “функционируют”,
благодаря чему и достигается гармония. Отсюда утверждения типа
“функции государства направлены на поддержание его системной целостности”.
подразумевает, что социальная жизнь подчиняется интересам правителя или правящей группы. Основные направления, по которым
происходит потестарное воздействие на социальную жизнь, – это и
есть конкретные “функции государства”: политическая, идеологическая, экономическая, культурно-воспитательная, фискальная и т.д.
В потестарной системоцентристской интерпретации эта системная
целостность означает такую политическую организацию социума или
такой характер системной связи, при которой интересы всего населения подчиняются интересам правителя (правящей группы).
В потестарных интерпретациях субъект-объектная характеристика
функций искажается: население или общество изображаются в качестве объекта управления или объекта приложения функций государственного аппарата, но при этом, как правило, замалчивается вопрос:
для какого субъекта этот аппарат выполняет функцию управления
народом или обществом? Только теория классового насилия открыто
утверждает, что государство – аппарат власти в руках господствующего класса, и, следовательно, он функционирует для этого класса. Иногда лукаво объясняют, что функции государства направлены на “поддержание системной целостности” самого государства: в политически
организованной социальной системе власть действует по определенным “основным направлениям” (это и есть “функции государства”),
благодаря чему система сохраняет свою целостность – “живет”, т.е.
функционирует.
Представления об абстрактном и самодовлеющем целом – Государстве –
“Мера всех вещей – человек, существующих, что они существуют,
а несуществующих, что они не существуют” (Протагор). Это суждение
применительно к понятию государства означает, что не существует
никакого государства за пределами людей, объединенных государственной властью, что никакая системная связь между людьми не по-
115
рождает никакой Организм (системный субъект), отдельный от людей,
его составляющих, и что государство не есть некое абстрактное и самодовлеющее Целое, со своими собственными интересами, которым
подчиняются частные интересы конкретных людей – как части подчиняются целому. За всей этой системоцентристской премудростью стоит лишь такой социосистемный принцип, при котором все социальные
группы подчиняются интересам правителя (правящей группы), и это
подчинение обеспечивается аппаратом власти.
Здесь же можно вспомнить известное суждение Гегеля о том, что
Восток знал и знает только свободу одного, греко-римский мир – свободу некоторых, германский мир – свободу всех. Иначе говоря, система восточной деспотии такова, что социум подчиняется власти одного человека, и аппарат власти служит этому человеку, а вовсе не абстрактным соображениям системной целостности. В государственноправовых же системах характер системной связи таков, что обеспечивается свобода всех, и все подчиняются аппарату власти, который, действуя от имени всех, защищает свободу каждого от ее нарушений со
стороны других; причем в развитой правовой ситуации все формально
равны в доступе к формированию и осуществлению государственной
власти.
в действительности не существует, то нетрудно догадаться, что в
такой системоцентристской интерпретации за словом “Государство”
стоит сам Государь – правитель или правящая группа, и именно по отношению к этим субъектам функционирует аппарат власти, а именно:
организует жизнедеятельность подвластного населения – так, как
угодно правящей группе.
Так же нетрудно заметить, что потестарные интерпретации функций аппарата власти описывают системоцентристскую, деспотическую, а вовсе не государственно-правовую ситуацию и отрицают правовую сущность функционирования государственной власти, искажают смысл функций государственного аппарата.
Таким образом, в государственно-правовой и в потестарной (деспотической) ситуациях функциональное назначение аппарата оказывается принципиально разным. В первой – совокупность субъектов права
функционально использует аппарат власти для организации и защиты
общего для всех правопорядка (в неразвитой правовой ситуации авторитарные правители устанавливают правопорядок в свою пользу, с
нарушением формального равенства). Во второй – правящие, властвующие группы используют (ради удовлетворения своих потребностей)
аппарат управления (1) в целях заботы о подвластном населении, о его
работоспособности, о воспроизводстве народонаселения, рабочей си-
116
лы: для организации хозяйственной и культурной жизни людей, народного здравоохранения и образования, для поддержания необходимого
(для воспроизводства рабочей силы) уровня жизни населения, для
идеологической обработки, воспитания населения в духе преданности
своему Государству; (2) в целях обеспечения доходов казны от эксплуатации населения: так называемая фискальная функция государства;
(3) в целях подавления сопротивления, для наказания непокорных, недисциплинированных: это своего рода “правовая функция”, она же –
полицейская. Иначе говоря, в потестарной ситуации рачительные “хозяева” используют аппарат управления для рентабельного ведения “хозяйства” (оно же – государство).
Когда же потестарное теоретическое сознание (сформировавшееся
в потестарной же ситуации) пытается функционально интерпретировать аппарат власти в правовой ситуации, то получается нечто невообразимое: у них аппарат и обеспечивает права человека (это берется из
правовой ситуации), и каким-то образом умудряется выполнять “культурно-воспитательную”, “идеологическую”, “фискальную” и тому подобные функции, которые в правовой ситуации невозможны.
Итак, в правовой ситуации аппарат государственной власти выполняет правовую функцию (правоустановительная, правообеспечительная и юрисдикционная деятельность).
В смешанной ситуации перераспределяющее государство (“социальное правовое государство”) пытается совместить несовместимое –
правовое равенство и перераспределение; поэтому здесь с правовой
функцией, осуществляемой для всех членов общества, конкурирует патерналистская перераспределительная функция, осуществляемая якобы
для общего блага (для народа), но фактически – только для тех, кто от
нее выигрывает, а именно: для самой перераспределяющей бюрократии. Здесь нет экономической, социальной и т.д. функций государства,
здесь правовая и, особенно, перераспределительная функции направлены на решение задач – экономических, социальных, экологических,
культурных и т.д. Здесь формально нет фискальной функции, поскольку в смешанной ситуации перераспределяющая бюрократия не может
приватизировать аппарат, хотя реально именно она является главным
бенефициаром перераспределительной деятельности.
В потестарной ситуации аппарат управления выполняет функции –
политическую, идеологическую, культурно-воспитательную, экономическую (хозяйственно-организаторскую), контрольную (особенно,
контроль за “мерой труда и мерой потребления”), экологическую, фискальную, карательную и другие, необходимые для рачительного ведения “народного хозяйства”. Разумеется, правовой функции здесь быть
117
не может.
Следовательно, термин “функции государства” используется в трех
разных значениях, причем в российской литературе это различие не
прослеживается.
В основе представлений о различии трех ветвей власти, проявляющихся в любом государстве и разграниченных в государстве правовом,
лежат его функции: каковы функции государства, таков и аппарат государственной власти, реализующий функции государства.
В юридической интерпретации государства его функции – это формы
деятельности, выражающие его правовую сущность (направления его деятельности – это не функции, а задачи государства). Вся функциональная
деятельность государства состоит в организации, реализации и защите
правопорядка. Его отдельные функции – относительно самостоятельные
аспекты целостной и единой по своей сути деятельности по созиданию,
поддержанию и практическому осуществлению правопорядка.
Каждое государство в меру своей развитости осуществляет основные
функции, обусловленные природой публично-правовой власти. А именно: (1) установление норм права (общих правовых правил), (2) разрешение споров о праве (о нарушенном праве) в конкретных случаях и (3)
обеспечение права принудительной силой государства, принуждение к
соблюдению норм и решений по спорам. Можно назвать их правовой
нормоустановительной, или просто нормоустановительной, юрисдикционной, или функцией правоговорения, и правообеспечительной.
Каждая из этих функций может осуществляться разными государственно-властными институтами одновременно, и один и тот же институт может одновременно выполнять две и даже три такие функции
государства (нарушение разделения властей или его отсутствие в неразвитой государственно-правовой ситуации).
Но в развитой государственно-правовой ситуации, в правовом государстве разные институты (органы государственной власти) должны
выполнять разные функции. Каждый институт (орган) должен иметь
компетенцию, соответствующую лишь одной из функций государства,
и эти компетенции не должны пересекаться, конкурировать, налагаться
одна на другую.
В правовом государстве функция установления правовых норм в
основном исчерпывается деятельностью законодательной власти и,
наоборот, орган, осуществляющий законодательную власть, выполняет
только нормоустановительную функцию государства. Аналогично разрешение конфликтных правовых ситуаций является прерогативой судебной власти, и суды занимаются только разрешением споров о
нарушенном праве – как в правоприменительном, так и в правоустано-
118
вительном процессе. Наконец, законодательные и судебные решения
обеспечиваются силой исполнительной власти, причем институты исполнительной власти не компетентны устанавливать правовые нормы
и разрешать споры о праве.
Поэтому можно различать три функционально определяемых рода
государственной власти, три “власти-функции” (нормоустановительную, правообеспечительную и юрисдикционную), которые проявляются
и в неразвитой государственно-правовой ситуации, но там нет их разделения. Если представить историческое развитие государственности как
переход от целостного состояния аппарата власти к дифференцированному, то можно говорить и о ветвях или отраслях государственной власти, которые образовались в ходе исторического прогресса права и государственности, в процессе исторического обособления отдельных
“властей-функций”.
Ветви власти – это организационно обособленные и функционально специализированные части государственного аппарата, его составляющие, которые соответствуют нормоустановительной, правообеспечительной и юрисдикционной функциям.
Принцип разделения властей соблюдается там, где организационно
разделены три “власти-функции” (три рода власти), но при этом может
и не быть классической триады (законодательная–исполнительная–
судебная ветви власти), точнее – может и не быть обособленных законодательной и исполнительной ветвей (в любой модели разделения
властей есть самостоятельная судебная ветвь власти). Таким образом,
вариантов (моделей) разделения властей на те или иные составляющие
может быть несколько.
“Если власть законодательная и исполнительная будут соединены
в одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно
опасаться, что этот монарх или сенат станет создавать тиранические
законы для того, чтобы так же тиранически применять их. Не будет
свободы и в том случае, если судебная власть не будет отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть
соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать
угнетателем” (Ш.Л. Монтескьё). (С учетом судебного контроля за
правоустановительной и правоприменительной деятельностью, можно
было бы добавить, что при соединении властей законодательной и судебной, исполнительной и судебной такой контроль невозможен).
Законодательная власть официально выражает, устанавливает,
формулирует, санкционирует правовые нормы – общие правила, опре-
119
деляющие меру свободы человека в обществе и государстве. Тем самым законодатель устанавливает общие правовые правила применения
политической силы, государственно-властного принуждения, необходимого или допустимого ради обеспечения правовой свободы.
Суды (судебная власть) разрешают споры о нарушенном праве и, в
частности, принимают решения о применении силы в конкретных случаях, дозволяют или предписывают правовые меры принуждения.
Исполнительная власть воплощает в себе принудительную силу
государства. В организационном отношении эта сила выступает как
система правительственно-административных (полицейских) органов,
способных, для осуществления и защиты права, применять организованное принуждение вплоть до насилия.
Итак, есть властные институты, дозволяющие, санкционирующие
государственно-правовое принуждение, и властные институты, применяющие это принуждение и располагающие необходимыми для этого
ресурсами.
Разделение властей, учреждаемое ради обеспечения правовой свободы, означает, что институты, обладающие принудительной силой, не
должны сами устанавливать правила применения силы и принимать
решения о правомерности применения силы в конкретных случаях.
Нужно разделить государственно-властные институты, государственные органы, обладающие принудительной силой, и органы, институты, компетентные принимать решения о применении силы. Нужно
разделить функцию принятия решений о государственно-правовом
принуждении (юридически обоснованном применении силы) и функцию осуществления государственно-правового принуждения.
Законодатель устанавливает правовые правила применения силы, а
суды, применяющие эти правила, санкционируют применение силы в
конкретных случаях. Следовательно, эти государственные институты
не должны обладать этой силой, не должны сами осуществлять властное принуждение.
Поскольку такой силой наделяются исполнительные органы, они
не должны обладать властью, позволяющей им устанавливать свои
правила применения силы и решать о правомерности применении силы
в конкретных случаях. Поэтому исполнительная власть вправе и обязана действовать только на основании и во исполнение законов и судебных решений.
Таким образом, правовая свобода обеспечивается надлежащим образом постольку, поскольку разделены, с одной стороны, власти законодательная и судебная, санкционирующие государственно-правовое
принуждение, и, с другой стороны, власть исполнительная, правомоч-
120
ная применять такое принуждение только на основании и во исполнение законов и судебных решений.
Но возможно ли реально разделить “власти-функции” именно в
виде законодательной, исполнительной и судебной властей? С формально-юридической позиции считается, что строгое разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, существует в
президентской республике, образцом которой являются США. Но как
показывает практика разделения властей в президентской республике,
президент (глава исполнительной власти) фактически является одним
из основных субъектов законодательной деятельности.
При разделении властей важнейшую роль выполняет суд конституционной юрисдикции. Деятельность всех ветвей власти “программируется” конституцией, но только конституционный суд определяет, что
соответствует конституционной “программе” и что ей не соответствует
– исходя из своего понимания конституции. Там, где активно ведется
конституционное судопроизводство, там регулирующая роль законодательной власти, ее пределы устанавливаются конституционным судом. Суды конституционной юрисдикции, действующие по европейской модели, в системе разделения властей превратились в “суперзаконодателей”, которые, помимо конкретного контроля, осуществляют и
абстрактный контроль за конституционностью законов, дают абстрактное нормативное толкование конституции и законов. Конституционный суд называют и “негативным законодателем” – в том смысле,
что законы действуют постольку, поскольку конституционный суд не
признает их недействительными. В этом контексте современное государство называют “государством судей”.
Концепция организационного единства государственной власти. В
потестарной ситуации теоретическое сознание (например, тоталитарная идеология) знает лишь одну модель построения аппарата власти –
организационное единство, ибо потестарная власть должна быть сосредоточена в руках одного лица. Даже если это сознание оперирует
вербальной конструкцией “народовластие”, народ при этом интерпретируется как монолитное единство, сила которого воплощается в фигуре “вождя” – будь то “отец народов” Сталин или “человек-народ”
Секу Туре, гвинейский диктатор.
Потестарному теоретическому сознанию непонятен сам принцип
разделения властей (рассредоточение государственной власти, отсутствие реального главы государства). Когда это сознание пытается интерпретировать разделение властей (например, в посттоталитарной ситуации), “на выходе” все равно получается очередная версия организационного единства: например, три якобы самостоятельные ветви вла-
121
сти, но над ними фигура президента-главы государства, обеспечивающего их согласованное функционирование и взаимодействие.
В неразвитой государственно-правовой ситуации, когда еще не достигнуто разделение властей, доктрина руководствуется идеей организационного единства государственной власти. Эта идея отрицает правовой принцип организации государственной власти в пользу неправового идеологического обоснования верховного властного института:
например, один Бог – один монарх; власть принадлежит народу, и он
ни с кем ее не делит; сила в единстве и т.д.
Для авторитарных режимов характерна официальная идеология,
отрицающая саму возможность разделения властей (авторитарная
официальная идеология может формально признавать разделение властей, но фактически трактовать его как разделение управленческого
труда в рамках организационного единства государственной власти).
По этой идеологии, в ее современных версиях, власть принадлежит
одному коллективному субъекту – нации, народу, политически господствующему классу, трудящимся и т.п., и этот субъект ее ни с кем не
делит (“социальное единство власти”). От имени этого субъекта,
например народа, власть осуществляется иерархической системой органов, в рамках которой может быть только разделение труда, но не
разграничение компетенции. Это означает уже не только социальное
или сущностное, но и организационное единство государственной власти.
Имеется в виду, что в единой иерархической системе есть высший
властный орган, получающий свои полномочия как бы непосредственно
от народа, а все остальные органы получают свои полномочия от этого
высшего органа, подотчетны ему и подконтрольны. Следовательно, этот
высший орган прямо или косвенно определяет деятельность всех
остальных органов, может вмешиваться в их компетенцию. По смыслу
этой концепции власть является не только единой в ее социальной сущности, но и неделимой в ее организационной форме.
Следует считать заблуждением, устаревшим идеологическим
штампом, популистским лозунгом или даже сознательным обманом
идею, будто бы народ может застраховать себя от диктатуры, если в
государстве будет некий верховный орган, получающий власть непосредственно от народа, а все остальные органы будут подчиняться верховному органу и будут ему подконтрольны.
Нужно иметь в виду, что сама “власть народа” может быть источником диктатуры. В качестве примера обычно указывают на то, что национал-социалисты в Германии пришли к власти после того, как на
демократических выборах в 1932 г. они получили относительное боль-
122
шинство (40%) в Рейхстаге. Гитлер трижды прибегал к референдуму, в
том числе и по вопросу аншлюса Австрии, и во всех трех случаях получил поддержку подавляющего большинства.
“Демократия как власть большинства – вне правовой формы, без
либерального принципа признания и защиты прав и свобод индивида,
прав меньшинства и т.д. – имеет существенные недостатки и нередко
вырождается во вспомогательное средство деспотизма, в форму массовой поддержки и легитимации тоталитаризма” (В.С. Нерсесянц).
Даже в условиях либеральной демократии народ – это не властный
субъект, делегирующий свою власть или ее часть другим субъектам, а
объект власти. Любая представительная демократия означает не
“народовластие”, а формальное равенство в политике, формально равный доступ к государственной власти отдельных частей народа, индивидов или групп, конкурирующих центров влияния. Политические
субъекты (партии, политические лидеры и т.д.), избираемые народом в
выборные государственные органы, несут так называемую политическую ответственность перед избирателями не потому что народ делегировал им власть и теперь требует отчета, а потому что есть оппозиция, т.е. аналогичные политические субъекты, претендующие на их
место, и потому что есть другие государственные органы, не контролируемые правящими политическими субъектами. Если же таких
органов нет, если некий политический субъект не имеет реальных противовесов в лице других органов, если все остальные государственные
органы, в той или иной мере, ему подотчетны и подконтрольны, подчинены ему формально или реально, то такой политический субъект
может силовым путем ограничить или даже устранить оппозицию,
установить авторитарный режим и имитировать демократические выборы, создавая видимость своей легитимности.
Все это свидетельствует о том, что без разделения властей не может быть правовой демократии, т.е. демократии, при которой надлежащим образом соблюдаются и защищаются права человека. Правовая
свобода обеспечивается такой структурой аппарата государственной
власти, в которой нет верховного органа, и никакой государственный
орган не может сосредоточить в своих руках власть, достаточную для
установления диктатуры. Теория разделения властей признает высшей
ценностью не “власть народа”, а правовую свободу, и предполагает либеральную демократию, либерально-демократический государственноправовой режим.
Там, где есть разделение властей, там нет власти президентской,
стоящей над другими властями. Нет и самостоятельной контрольной
власти, выходящей за пределы контрольных полномочий законо-
123
дательной, исполнительной или судебной. Там, где нет разделения властей, там может быть власть президентская, но она стоит над компетенцией других органов. Здесь может имитироваться разделение властей, при том что глава государства обладает решающим комплексом
полномочий в законодательной и исполнительной сферах.
Поскольку нормоустановительная, правообеспечительная и юрисдикционная “власти-функции” исчерпывают функциональное предназначение государства, их нельзя “дополнить” контрольной властью.
Можно лишь установить такие сдержки и противовесы, которые позволяли бы обособленным органам, осуществляющим эти власти, эффективно контролировать друг друга.
За “наращиванием” ветвей власти стоит непонимание самостоятельной юридической природы властей классической триады, непонимание логики и вообще отрицание разделения властей как правового
принципа организации государственного аппарата.
О координации властей. Следует подчеркнуть, что при разделении
властей организационно обособленные ветви власти должны быть равны, независимы и уравновешены. “Власти-функции” не должны пересекаться, накладываться одна на другую (функциональный аспект разделения властей). Ни одна из них не может быть приоритетной, главенствующей, “арбитражной”, “координирующей” и т.д. Органы разных отраслей власти должны быть, в принципе, самостоятельны при
осуществлении своих функций.
Другое дело, что, во избежание злоупотреблений властью, необходим контроль за осуществлением каждой “власти-функции” со стороны тех, кто осуществляет другие “власти-функции”. Отсюда ясно, что
взаимодействие самостоятельных отраслей властей происходит,
прежде всего, с целью взаимоконтроля и обеспечения их самостоятельности (сдержки и противовесы).
Если же в осуществлении функции одной (компетентной) ветви власти участвуют органы другой ветви власти, то такое взаимодействие следует считать нарушением разделения властей – допустимым или недопустимым. Оно допустимо, если осуществляется с целью взаимоконтроля, если “участвующая” власть лишь удерживает компетентную
власть от необоснованных и слишком радикальных решений (сдерживает
ее) и если компетентная власть все же может решить вопрос вопреки позиции “участвующей” власти. И оно недопустимо, если “участие” становится определяющим, если “участвующая” власть может навязывать
компетентной власти свое решение вопроса.
Теперь же следует подчеркнуть, что фактически, исходя из разных
интересов и целей, самостоятельные ветви власти, могут действовать не-
124
согласованно, нескоординированно: именно в этом и заключается разделение властей и проявляется принцип рассредоточения власти ради обеспечения правовой свободы. (Благодаря этому можно использовать возможности одной власти против другой, особенно, в том, что касается использования судов для противодействия исполнительным структурам).
Например, законодатель может отвергнуть законопроект, внесенный президентом-главой исполнительной власти, а президент, в свою очередь, –
применить отлагательное вето. Суд конституционной юрисдикции может
лишить силы акт законодателя или главы исполнительной власти, но если
судебное решение не будет достаточно мотивированным, то и законодатель, и президент будут вновь издавать аналогичные акты. Именно это и
означает разделение и самостоятельность ветвей власти. Да, разделение
властей (и рассредоточение власти вообще) затрудняет любые реформы,
даже самые прогрессивные, для которых необходимы согласованные
усилия всех ветвей власти. Но оно препятствует, в частности, и таким реформам, которые ставят под угрозу уже достигнутую в обществе правовую свободу.
Такой трактовке разделения властей противостоит (якобы совместимая с разделением властей) концепция (и соответствующая практика),
согласно которой, в государстве нужна фактическая координация ветвей
власти и фактический координатор (по существу – реальный глава государства). Эта концепция отражена в политической конструкции президента-главы государства и гаранта конституции, который обеспечивает
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти (ч.2 ст.80 Конституции РФ).
Представления о необходимости организационного единства государственного механизма, проявляющиеся в “наращивании” ветвей власти и в подмене разделения независимых властей тезисом о необходимости их согласованного взаимодействия, характерны для неразвитой
правовой культуры. Для доктрины, отражающей эту культуру, высшая
ценность – не правовая свобода, а стабильный порядок, обеспеченный
сильной властью. Здесь вопрос об эффективности власти считается более актуальным, чем проблема рассредоточения власти, несмотря на то
что власть, не рассредоточенная в должной мере, постоянно угрожает
правовой свободе.
Напротив, в развитой правовой культуре считается, что государственная власть должна быть эффективной, но только при соблюдении
надлежащих гарантий правовой свободы, и что сильная власть нужна
для эффективной защиты правовой свободы, а не для чего-то иного
(обязанность государства – признавать, соблюдать и защищать права
человека). Для доктрины в развитой правовой культуре высшая цен-
125
ность – правовая свобода (права человека), а разделение властей объясняется здесь как необходимость рассредоточения власти ради гарантий
правовой свободы. Взаимодействие же властей здесь рассматривается,
прежде всего, в плане взаимоконтроля и юридической координации
компетенций.
Позиция Верховного суда США по этому вопросу, выраженная в
решении по делу Myers v. United States (1926), гласит: “Доктрину разделения властей Конвент 1787 г. принял не для того, чтобы способствовать эффективности, а с целью исключения произвола власти. Цель состояла не в обходе столкновений, а в том, чтобы ценой неизбежных
столкновений, сопровождающих распределение правительственной власти между тремя ветвями, спасти народ от автократии”.
Компоненты разделения властей. Разделение властей включает в
себя институциональный, функциональный и субъектный компоненты
(аспекты), и при отсутствии хотя бы одного из них разделения властей
не существует.
Институциональное разделение властей соблюдается тогда, когда в
государственном аппарате создаются самостоятельный законодательный институт и, отдельно от него, система исполнительных органов и,
отдельно от них, независимая судебная система.
Такое простое разделение законодательных, исполнительных и судебных институтов достигнуто во всех современных развитых в правовом отношении государствах. Но это еще не значит, что во всех этих
государствах есть разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви.
Функциональное разделение властей означает, что властные институты самостоятельны в пределах своей правовой компетенции и,
следовательно, (1) органы одной ветви власти не должны вмешиваться
в компетенцию другой и (2) компетенции не должны пересекаться, не
должно быть конкурирующих компетенций.
В общем и целом, компетенции должны быть таковы, чтобы законодатели не могли вмешиваться в исполнительную власть и правосудие. Исполнительные органы не должны заниматься первичным нормотворчеством, издавать правоустановительные акты, не должны возлагать на себя функции правосудия. (Однако нереально обременять законодателя обязанностью устанавливать все правовые нормы, и поэтому законодатель вправе поручать высшим исполнительным органам
издавать первичные нормативные акты, но лишь по определенному законом вопросу и в течение определенного законом срока). Суды не
должны законодательствовать и осуществлять функции исполнительной власти даже тогда, когда законодательный или компетентный ис-
126
полнительный орган не выполняет свои обязанности.
Считаются допустимыми следующие нарушения функционального
разделения властей: амнистия (акт законодателя); издание исполнительными органами нормативных актов на основании и во исполнение
законов (включая делегированное законодательство), законодательная
инициатива исполнительных органов и высших судов, отлагательное
вето и право помилования как прерогативы главы исполнительной власти; создание высшими судами общеобязательных прецедентов и издание актов (актов нормативного толкования права), имеющих силу
вторичных источников права; конституционная и административная
юрисдикции.
В России нормоустановительную “власть-функцию” осуществляют
парламент и президент, хотя Конституция РФ провозглашает разделение
властей на законодательную, исполнительную и судебную. Ст.90 Конституции позволяет Президенту РФ, возглавляющему систему исполнительно-распорядительных органов, издавать указы не на основании и во исполнение законов, а всего лишь не противоречащие Конституции и федеральным законам. Это означает конкурирующую нормотворческую компетенцию (нормотворческие полномочия по одним и
тем же предметам ведения) номинального законодателя (Федерального
Собрания) и Президента.
Недопустимость соединения судебной власти с законодательной
очевидна. Причем это требование не отрицает возможность прецедентного права. При установлении прецедента суд создает норму, но в
дальнейшем суды связаны этой нормой. При более подробном рассмотрении этого вопроса можно прийти к выводу, что, с одной стороны, в странах прецедентного права нормоустановительная “властьфункция” распределена между парламентом и высокими судами, но с
другой стороны, по мере исторического развития прецедентных правовых систем, она неуклонно сдвигается в сторону парламентского законодательства. Креативные прецеденты вытесняются статутным правом. Но при этом прецеденты толкования остаются важным инструментом в руках судебной власти, позволяющим приводить законодательство в соответствие с конституционными принципами.
Функциональное разделение, с одной стороны, судебной власти, с
другой – законодательной и исполнительной властей означает, прежде
всего, запрет кому бы то ни было осуществлять юрисдикционную
“власть-функцию”, принадлежащую судам. В то же время суды осуществляют правовой контроль за актами законодательных и исполнительных органов. Для того чтобы этот контроль оставался в пределах
юрисдикционной “власти-функции”, он должен осуществляться ис-
127
ключительно в рамках разрешения споров о нарушенном праве. Суд не
должен быть профессиональным контролером или надзирателем.
Субъектный компонент разделения властей означает, что одно и то
же “лицо” или организованный политический субъект (политический
лидер или же партия, группа) не должен осуществлять одновременно
разные “власти-функции”, а разные ветви власти, которые организационно обособляются при той или иной модели разделения властей,
будут реально независимыми лишь тогда, когда они контролируются
разными субъектами, во всяком случае – не контролируются одним и
тем же субъектом.
Иначе говоря, разделение властей осуществляется лишь в той мере,
в которой разные государственно-властные институты, с разграниченной компетенцией, контролируются разными субъектами – разными
политическими силами. Без этого условия невозможно и функциональное разделение властей. Без него институциональное и функциональное разделение властей, юридически обеспеченные любыми
сдержками и противовесами, превращаются в юридическую фикцию.
Эти рассуждения можно пояснить на следующих примерах.
Если избираемый народом президент (глава исполнительной власти)
не имеет права законодательной инициативы, а его вето преодолевается
квалифицированным большинством, то, казалось бы, есть разделение
властей на законодательную и исполнительную. Но если лицо, занимающее пост президента, и парламентское большинство принадлежат к
одной партии, то они могут выступать как одна политическая сила (возможно, это единство не будет ярко выраженным, если нет необходимой
для него партийной дисциплины). В этом случае важные законопроекты
будут готовиться администрацией президента, вноситься в парламент
через депутатов соответствующей партии, а затем парламентское большинство будет превращать их в законы. Таким образом, институциональное и функциональное структурирование аппарата государственной
власти нельзя расценивать как разделение властей, если нет субъектного
компонента разделения властей.
Другой пример: функциональное разделение властей на законодательную и исполнительную может быть нарушено (несущественно)
предоставлением президенту законодательной инициативы, но при
этом независимый от легислатуры президент и парламентское большинство будут принадлежать к разным политическим партиям (партиям-оппонентам). В этом случае, наоборот, есть разделение властей
на законодательную и исполнительную. Законодатель в лице парламентского большинства будет выступать в отношениях с исполнительной властью как самостоятельный политический субъект, а прези-
128
дентская законодательная инициатива утратит смысл.
Если одна и та же партия контролирует одновременно парламентское большинство и систему административных органов, если к той же
партии принадлежат правительство или президент, то институциональная обособленность этих органов утрачивает значимость – в меру
партийной дисциплины. Поэтому во всех органах, подсистемах власти,
в которых это возможно, должен действовать запрет на принадлежность к партиям.
Внепартийным, неполитизированным должен быть не только суд,
но и администрация (система исполнительно-распорядительных органов, профессиональная бюрократия, государственная служба). В этом
случае административная власть может быть противопоставлена институтам, которые контролируются партиями, – как власть непартийная, неполитизированная, так называемая меритократическая власть.
Тема 10. Форма государства
Вопросы для обсуждения
1. Является ли методологически обоснованной попытка дать единое понятие формы государства наряду с традиционным комплексным
понятием формы государства?
2. Реальные и номинальные монархии и республики.
Из лекции: Существуют две формы объединения людей (членов
государства) под властью высших органов власти – форма подданства
и форма гражданства. Эти исходные формы предопределяют более
конкретно определяемые формы государства, которые принято различать в современной теории, – форму правления, государственный режим и территориальное устройство государства.
Форма подданства (например, реальная монархия) представляет собой неразвитую форму государства, т.е. характерную для неразвитой
правовой ситуации. В политической мысли классической античности
форма подданства обозначалась как монархия или тирания. Высшая
государственная власть в форме подданства является персонифицированной, неотделимой от персоны династического правителя (законного
монарха) или узурпатора, диктатора. В этой форме субъекты государственного общения (те, на кого распространяется государственная
власть) объединены под властью правителя как его подданные, отделенные от института верховной власти, не участвующие в формировании и осуществлении верховной власти. По существу, это такая форма
129
государства, при которой субъекты государственного общения по происхождению или по какому-то иному неправовому (произвольному)
основанию делятся на “власть” и “народ”, на тех, кто допущен и кто не
допущен к осуществлению верховной власти, кто может быть только
подданным государя, даже занимая высокие посты на “государевой
службе”.
Со времен античного полиса известна противоположная форма,
при которой верховная власть деперсонифицирована, и субъекты государственного общения составляют совокупность граждан государства.
Подданные защищаются властью государя и его законами, и за это они
отдают ему “дань” в виде налогов. Граждане же, помимо этого, сами
могут участвовать в установлении и изменении законов. Граждане обладают политическими правами, участвуют в формировании и осуществлении государственной власти. Такая форма государства в политической мысли прошлого обозначалась как демократия или республика.
Демократия в этом контексте означает причастность каждого полноправного гражданина к управлению общими делами, принципиальную возможность участвовать в формировании и деятельности высших магистратов. Смысл понятия “республика” в этом контексте выражается известной формулой Цицерона “respublica – res populi” (республика, т.е. государство, – это дело народа). Принципы республики –
выборность, срочность (желательно краткосрочность) магистратур и
законность. Причем законность – это вовсе не “строгое и неуклонное
соблюдение и исполнение действующего законодательства всеми
субъектами”, как наивно полагают вульгарные позитивисты, а нечто
иное по существу. “Строгое и неуклонное соблюдение” – это еще не
законность, а лишь законопослушность, законосообразность, “социалистическая законность” и т.п. Законность же в собственном смысле
достигается тогда, когда, во-первых, государственная власть осуществляется по принципу “органам и должностным лицам государства
запрещено все, что прямо не разрешено законом” и, во-вторых, права
человека, объем и содержание правовой свободы могут быть ограничены только законом.
Современная теория описывает названные исходные формы государства прежде всего понятием “форма правления” и различает по
форме правления монархии и республики. Но при этом, с одной стороны, в категорию монархий попадают не только государства, в которых
монарху принадлежит реальная власть, но и номинальные монархии, в
которых у монарха нет реальной власти; последние – это, как правило,
демократические государства, которые, по сути, являются республиками. С другой стороны, под республиканскую форму правления подпа-
130
дают и такие государства, в которых гражданская политическая активность существенно ограничена, политические права и свободы грубо
нарушаются.
Иначе говоря, и монархии, и республики могут быть реальными и
номинальными. Поэтому в современной теории форма государства
описывается не только понятием формы правления, но и понятием
“государственный режим”. Последнее позволяет различать демократическую форму государства, реально обеспечивающую политическую
свободу, и авторитарную форму, при которой политическая свобода
либо еще не достигнута, либо ущемляется, подавляется. Различение
демократических и авторитарных режимов показывает, что субъекты
государственного общения в номинальной монархии лишь формально
остаются подданными, но фактически они являются гражданами, причастными к формированию и осуществлению реальной государственной власти. Наоборот, при авторитарном режиме в номинальной республике большинство граждан фактически могут превратиться в пассивный объект власти, в подвластных, не способных влиять на формирование и осуществление власти.
Наконец, в современной теории при описании формы государства
используется понятие “территориальное устройство государства”, или
“форма территориального устройства”. Возможны централизованная и
децентрализованная формы территориального объединения людей в
государство. Причем территориальная организация государственной
власти, мера ее централизации или децентрализации определяются отнюдь не только географическим фактором. Авторитарная власть требует большей территориальной централизации власти (унитаризм), хотя при больших размерах страны она может предоставлять некоторую
автономию региональным органам власти. Демократическая же власть,
даже при относительно малой территории страны, допускает как централизованную, так и децентрализованную форму территориальной организации государства. При этом население регионов (частей, из которых складывается территория государства) может самостоятельно
формировать региональные органы государственной власти, обладающие компетенцией, в которую центральные органы государства
вмешиваться не вправе (федерализм). В той мере, в которой граждане
обладают политической свободой, они определяют меру территориальной децентрализации государственной власти.
Таким образом, форма государства – это понятие, объясняющее
порядок и способы формирования и осуществления государственной
власти, меру ее территориальной централизации. Форма государства
складывается из трех элементов: форма правления, государственный
131
(политический) режим, территориальное устройство государства.
Тема 11. Форма правления
Вопросы для обсуждения
1. Разделение властей в президентской республике.
2. Разделение властей при парламентарной форме правления.
3. Смысловая модель республики со смешанной формой правления.
4. Конституционная модель и практика взаимодействия высших
органов государственной власти в Российской Федерации.
Из лекции: В президентской республике, образцом которой являются США, формально существует строгое разделение властей на законодательную и исполнительную. Но конституционная модель разделения властей в президентской республике и реальность заметно различаются.
Президент, являющийся главой исполнительной власти, избирается
народом и не несет политической ответственности перед парламентом.
Соответственно здесь нет и парламентской ответственности правительства. Правительство существует при президенте. Парламент законодательствует и несет ответственность за свою законодательную деятельность только перед избирателями в процессе очередных выборов в
парламент; поэтому здесь невозможен досрочный роспуск парламента.
Президент формально не обладает правом законодательной инициативы и не вмешивается в законодательный процесс до тех пор, пока закон не принят парламентом. Фактически исполнительная власть подготавливает наиболее важные законопроекты, но она вынуждена находить окольные пути для внесения законопроекта в парламент. Правительственный законопроект может быть изменен парламентариями без
согласия правительства, и такой законопроект, переработанный в парламенте, может быть не похож на первоначальный.
Действующая в президентской республике система сдержек и противовесов не позволяет органам законодательной и исполнительной
власти выходить за пределы их компетенции. Президент обладает правом отлагательного вето в отношении законов, принимаемых парламентом, но оно преодолевается квалифицированным большинством голосов в каждой из палат парламента. В случае нарушения президентом
конституции нижняя палата вправе возбудить против президента процедуру импичмента; но решение об отстранении (отрешении) прези-
132
дента от должности может принять только верхняя палата парламента.
В США, стране общего права, деятельность законодательной и исполнительной ветвей федеральной власти контролируется верховным судом страны. Последний вправе устанавливать обязательный для всех
судов прецедент неприменения закона, если закон признается противоречащим конституции. Верховный суд дает толкование конституции, обязательное для законодателя. Но и здесь действует “противовес”: данное судом толкование конституции может быть отменено принятием поправки к ней.
На практике же взаимоотношения институтов законодательной и
исполнительной власти выглядят иначе. Во-первых, президент фактически является основным субъектом нормоустановительной “властифункции” при любом соотношении политических сил в центральном
аппарате власти. Описанная выше модель разделения властей не учитывает принятую в США практику делегирования законодательных
полномочий президенту и ее масштабы, прямое внесение в парламент
законопроектов в виде президентских посланий и практику “карманного вето”. Уже эти – фактически законодательные – возможности
президента не позволяют говорить о строгом разделении властей на законодательную и исполнительную. И поскольку США – это образец
президентской республики, то нет оснований полагать, что названные
фактические возможности составляют лишь специфику США и не характеризуют президентскую республику как таковую.
Во-вторых, и это главное, описанная модель не отражает и не может отражать политические партии (политическую реальность), их место в современном правовом государстве, их роль в президентской
республике. Если вышеназванные фактические законодательные возможности лишь усиливают перекос в пользу президента, то образование “партийной” власти, контролирующей законодательную деятельность и высшие “этажи” государственной администрации, позволяет
говорить, что в США разделение властей может не совпадать с разделением на законодательную и исполнительную ветви власти.
В-третьих, в структуре государственного аппарата нужно различать партийно-политическую и внепартийную, неполитизированную
сферы государственно-властной деятельности. И поскольку в США,
которые представляются образцом президентской республики, помимо
неполитизированной, внепартийной судебной власти, есть такая же
внепартийная государственная бюрократия, то ее нужно учитывать
как, возможно, самостоятельного субъекта в реальной системе разделения властей.
Функциональные нарушения разделения властей в отношениях Кон-
133
гресса и президента, прежде всего, связаны с нарушением субъектного
компонента разделения властей. Если бы президент, как правило, не
опирался на поддержку некоего значимого парламентского большинства
или если в соответствующих случаях ему противостояло значительное
парламентское большинство, то он не мог бы стать основным субъектом
законодательной инициативы, не мог бы столь часто добиваться делегирования ему законодательных полномочий и пользоваться “карманным
вето”, а официальное вето преодолевалось бы чаще и президенты не
злоупотребляли бы им.
Иначе говоря, на практике перераспределение нормотворческих полномочий в пользу президента происходит постольку, поскольку это позволяет Конгресс (и соответственно избиратели, которые избирают такой состав Конгресса). А Конгресс позволяет такое перераспределение не
потому что это запрограммировано конституционной моделью, а потому
что президент в соответствующих случаях опирается на контролируемое
им большинство (или, наоборот, у противников президента нет нужного
большинства). Основным субъектом нормотворческой деятельности президента делает не конституционная модель президентской республики, а
реальный феномен “партийной” власти, против которого эта модель устоять не может.
Но возможно и “разделенное правление”, когда большинство в Конгрессе и президент принадлежат к различным политическим партиям.
Таким образом, конституционная модель в президентской республике допускает два варианта ее реализации.
В первом варианте, при “раздельном правлении”, президент и парламентское большинство принадлежат к разным партиям (предполагается, что это политически разные, оппонирующие друг другу партии
или коалиции). В этом случае есть субъектное разделение властей на
законодательную и исполнительную, так как законодательный и исполнительные институты контролируются разными политическими
субъектами – партиями. Именно последние, а не отдельные граждане,
являются основными субъектами политической жизни в современном
государстве. Что касается функционального разделения властей на законодательную и исполнительную, то и в этом варианте оно может
быть нарушено в пользу исполнительных институтов – в силу названных выше обстоятельств, а также в силу возможности президента (правительства) действовать в законодательном органе через депутатов
своей партии, возможности, которая существует при любом раскладе
политических сил.
Во втором же варианте, когда президент и парламентское большинство принадлежат к одной партии, фактически есть только инсти-
134
туциональное, но нет ни субъектного, ни функционального разделения
властей на законодательную и исполнительную. Разумеется, депутаты
парламента не могут быть одновременно функционерами исполнительной власти, но это не имеет существенного значения, если и те, и
другие проводят политику одной и той же партии. Президент же в этом
случае становится основным субъектом законодательного процесса.
Говоря о “партийной” власти в президентской республике, следует
иметь в виду, что здесь этот феномен не имеет такого же институционального выражения, как в парламентарных государствах, где формирование и прекращение полномочий правительства неразрывно связано с парламентским большинством.
“Партийная” власть в условиях президентской республики может
быть очень сильной, она соединяет в себе потенциал парламента и главы исполнительной власти, и только глубоко укоренившаяся либеральная демократия может выдержать ее авторитарное воздействие. Что
касается именно США, то здесь есть и сильные традиции либеральной
демократии, и не менее сильная, независимая судебная власть.
В любом варианте (и в ситуации “партийной” власти, и при “раздельном правлении”) законодательному и исполнительным институтам
реально противостоит власть судебная. Во-первых, она является внепартийной, а только внепартийные властные институты могут противостоять “партийной” власти. Во-вторых, в США – стране прецедентного права – судебная власть имеет достаточные возможности противодействовать возможному произволу законодательного или исполнительных институтов, защищать правовую свободу от неправомерного
властного вмешательства.
Именно наличие сильной судебной власти объясняет устойчивость
президентской республики США и существующий здесь высокий уровень гарантий правовой свободы. Попытки реализовать модель президентской республики в странах европейского континентального права
или в латиноамериканских странах наталкиваются на серьезное препятствие – отсутствие традиции сильной судебной власти, способной
удерживать президента от диктаторских тенденций.
Наконец, следует иметь в виду феномен административной власти, характерный, прежде всего, для парламентарных стран. Институционально она выражена системой неполитизированных, внепартийных исполнительно-распорядительных органов. Субъектом этой “власти” является профессиональная, компетентная, неполитизированная
бюрократия, имеющая свои корпоративные интересы, которые не совпадают с интересами правящих политических элит.
Административная власть не стоит в одном ряду с законодательной
135
и исполнительной. Она становится заметной тогда, когда нет разделения на законодательную и исполнительную ветви, когда есть другая
структура разделения властей.
Административная власть стоит в одном ряду с “партийной” властью. Схематично можно представить административную власть как
неполитический сегмент правообеспечительной “власти-функции”, в
то время как ее политический сегмент, сращиваясь на партийнополитической основе с парламентом, осуществляет нормоустановительную “власть-функцию”, порождая феномен “партийной” власти.
Резюмируя, можно сделать вывод, что система разделения властей в
США функционирует в диапазоне между двумя крайними вариантами.
При “раздельном правлении” наблюдается разделение властей на
законодательную и исполнительную, но с дисбалансом в пользу президента, фактически участвующего в осуществлении нормоустановительной “власти-функции”.
Когда же парламентское большинство и президент принадлежат к
одной партии, то проглядываются контуры иной структуры разделения
властей: нормоустановительную “власть-функцию” осуществляет “партийная” власть, правообеспечительную – власть административная;
причем первая контролирует вторую и, формально, управляет ею, но
фактически вторая действует самостоятельно, исходя из своих профессиональных и корпоративных интересов.
“Партийная власть” институционально выражена слабо. Однако
нельзя говорить, что она не характерна для президентской республики
вообще и для США в частности. Во-первых, она возможна логически,
и ее функционирование вполне уместно предположить в условиях политической культуры, отличной от США, в политических системах, в
которых партии строятся на принципе партийной дисциплины. Вовторых, исторически эта возможность подтверждена и политической
практикой самих США, и то, что “партийная” власть слабо выражена в
США в настоящее время, не означает, что она не усилится будущем.
Административная власть, по логике своего существования, не
подчиняется партийно-политическим решениям. В этом смысле она
независима и от президента, что показал, например, ход расследования
Уотергейтского дела (1974 г.), когда административный орган отказался выполнять указания президента проверить правильность уплаты налогов его основными политическими противниками. Эта относительно неполитизированная власть осуществляет в основном правообеспечительную функцию, действует на основании и во исполнение
нормоустановительных и юрисдикционных решений.
В парламентарных странах парламент не только осуществляет за-
136
конодательную деятельность, но и формирует правительство. Точнее,
правительство формируется партией или коалицией партий, располагающей большинством мест в нижней палате парламента. Поэтому
здесь нет разделения властей на законодательную и исполнительную
ветви.
В парламентарных странах можно обнаружить только институциональное разделение властей: есть парламент – институт законодательной власти, и есть правительство – институт исполнительной власти. Однако здесь нет функционального и субъектного разделения властей на законодательную и исполнительную ветви. Премьер-министр
и, как правило, все остальные члены правительства одновременно являются депутатами нижней палаты парламента. Законодательную и
правительственную политику здесь определяет партия, побеждающая
на парламентских выборах, точнее – партийная политическая элита,
контролирующая нижнюю палату парламента и формирующая правительство. Столь важная роль политических партий в сферах деятельности законодательной и исполнительной властей позволяет характеризовать парламентарные страны как “государство партий”.
В “государстве партий” правительство правит, опираясь на законодательную поддержку парламентского большинства. Одни и те же лица, составляющие правительство и представляющие большинство в
нижней палате парламента, проводят законы через парламент и организуют исполнение этих законов. Законопроекты готовятся правительством, и обычно парламент не вносит изменения в законопроекты. Если премьер-министр и другие министры не вправе вносить законопроекты как члены правительства, то фактически они делают это как
депутаты парламента. Кроме того, в парламентарных странах распространена практика делегированного законодательства, когда парламент
поручает правительству издавать нормативные акты, фактически имеющие силу закона.
Тем не менее в “государстве партий” в правовом поле деятельности институтов законодательной и исполнительной власти существует
свое специфическое разделение властей. Правда, функционально здесь
различаются не законодательная и исполнительная, а партийная и административная ветви власти. “Партийную” ветвь власти составляют
парламентское большинство (возможно, коалиционное) и образованное им правительство.
Административную власть осуществляет внепартийная профессиональная бюрократия. Состав функционеров административной власти
не меняется в зависимости от того, какая партия приходит к власти и
формирует правительство. Административная власть действует на ос-
137
новании и во исполнение законов (или актов, имеющих силу закона),
но не партийных решений. Она не подчиняется политическим решениям, не получившим законодательного оформления.
Таким образом, в парламентарных странах высшие государственные решения, прежде всего законодательные, принимаются номинальным законодателем, но фактически предопределяются правительством.
Исполняются эти решения бюрократическим государственным аппаратом, составляющим административную власть, аппаратом, которым
правительство (“партийная” власть, правящая партия) не может распоряжаться по своему усмотрению. Получается, что в парламентарных
странах нормоустановительную функцию выполняет не только парламент, но и правительство, институционально хотя и отделенное от парламента, но функционально выступающее “продолжением” нижней
палаты парламента, парламентского большинства. Вместе с тем правительство выполняет и правообеспечительную функцию. Последнюю,
однако, осуществляет не только правительство, но и система органов
административной власти, и в правовом государстве правительство не
может вмешиваться в компетенцию этих органов.
Основной принцип парламентарного государства – это не юридическая фикция, которая называется “верховенство парламента”, а парламентская ответственность правительства. Именно этим парламентарное государство отличается от президентской республики, в которой правительство институционально не зависит от парламента.
В парламентарных странах правительство ответственно перед парламентом, т.е. нижняя палата вправе выразить правительству недоверие или отказать в доверии. Это означает, что недоверие (отказ в доверии) неизбежно влечет за собой прекращение полномочий правительства; прежде всего, возможна его незамедлительная отставка. Но возможно и другое развитие событий: в ответ на недоверие премьер-министр вправе рекомендовать номинальному главе государства досрочно распустить нижнюю палату парламента и назначить новые парламентские выборы. В этом случае правительство слагает свои полномочия после избрания нового парламента. Хотя фактически оно может
сохраниться, если в новом составе нижней палаты парламента прежний премьер-министр получит поддержку абсолютного большинства.
Формально решение о роспуске, как и решение о назначении премьерминистра, принимает номинальный глава государства, но при этом он
связан мнением премьер-министра или решением лидеров парламентских фракций, если правительство не сформировано.
Досрочный роспуск нижней палаты парламента как противовес
требованию отставки правительства имеет свою логику. По существу,
138
это не столько роспуск парламента, сколько роспуск “партийной” власти или попытка сформировать “партийную” власть.
Досрочный роспуск происходит в тех случаях, когда в парламенте
нет “партийной” власти, или в случае, когда сама “партийная” власть
заинтересована в незамедлительном роспуске нижней палаты. (1) Когда “партийная” власть не сформировалась, т.е. ни одна из партий или
образующихся коалиций в нижней палате не располагает большинством, необходимым для формирования правительства, тогда такой неработоспособный состав палаты следует распустить и назначить
новые выборы. (2) Если коалиционное правительство утратит поддержку нижней палаты в результате распада правящей коалиции, и при
этом не возникнет новая коалиция, располагающая абсолютным большинством, то правительство может сохраниться как “правительство
меньшинства”. Если такому правительству выражено недоверие или
его решения не получают необходимой законодательной поддержки,
то на этот случай у премьер-министра должно быть право рекомендовать главе государства распустить нижнюю палату и назначить новые выборы. (3) Когда однопартийное правительство утрачивает поддержку абсолютного большинства вследствие внутрипартийных разногласий и недостаточной партийной дисциплины, то премьерминистр, как фактический лидер правящей партии, должен решать вопрос о дальнейшей судьбе правительства.
Досрочный роспуск нижней палаты возможен просто постольку,
поскольку правящая партия (премьер-министр, кабинет) считает целесообразным проведение досрочных выборов – независимо от правительственного кризиса. Причем мотивы могут быть противоположными. Либо руководство правящей партии предвидит существенное падение ее популярности и инициирует досрочные выборы, с тем чтобы
ее поражение на выборах было минимальным. Либо, наоборот, политика правящей партии, имеющей шаткое большинство в парламенте,
столь популярна, что, по прогнозам, будь выборы сегодня, она победила бы оппозицию со значительным перевесом; однако в этом случае
досрочные выборы сопряжены с риском.
Возможность такого произвольного роспуска вытекает из самой
сущности парламентарной формы правления. Ибо, по существу, здесь
для роспуска нижней палаты достаточно желания правящего большинства: руководимое премьер-министром, это большинство может по
любым конъюнктурным соображениям формально выразить своему
правительству недоверие, и в ответ последует роспуск нижней палаты.
Все это подчеркивает, что досрочный роспуск парламента в “государстве партий” не следует расценивать как роспуск законодательного
139
органа по решению органа исполнительной власти. Роспуск и досрочные выборы или отставка правительства – это внутреннее дело “партийной” власти.
Как правило “партийная” власть не допускает раскола в своих рядах. В большинстве современных парламентарных стран простое непринятие предложений правительства не считается автоматически выражением недоверия и не влечет за собой отставку правительства или
роспуск парламента. Обычно представители правительственной партии, имеющей незначительное большинство, соглашаются с предложениями правительства по принципиальным вопросам, так как понимают, что не могут идти на риск новых выборов.
Смешанная республика (в прошлом – Веймарская республика, в
настоящее время – Пятая республика во Франции, Португалия, некоторые посттоталитарные страны Европы) соединяет в себе институты
президентской и парламентарной республик. От президентской республики заимствуется институт избираемого народом президента, обладающего полномочиями исполнительной власти. От парламентарной
формы берется парламентская ответственность правительства, возглавляемого премьер-министром.
Такая система исполнительной власти называется бицефальной. В
действительности она не бицефальная, а скорее дуалистическая – такая, в которой как бы конкурируют два источника правительственных
полномочий, парламент и президент. Она дуалистическая не в том
смысле, что власть президента и власть парламента формально имеют
разные источники (как это имеет место в дуалистической монархии,
где считается, что монаршая власть – от Бога). Она дуалистическая в
том смысле, что президент и парламентское большинство могут быть
разными политическими субъектами – представителями разных, конкурирующих партий.
Принцип смешанной республики, отличающий ее от других форм
правления, заключается в следующем: если в президентской республике правительство существует при президенте, а в парламентарных
странах формирование правительства является прерогативой парламента, то в смешанной республике президент и парламент могут конкурировать за право формировать правительство. И они реально конкурируют, если они – политические оппоненты.
Казалось бы, логику парламентаризма и президенциализма совместить нельзя: если правительство несет ответственность перед парламентом, оно непременно должно опираться на поддержку парламентского большинства; если же президент вправе реально формировать правительство, то оно может и не опираться на поддержку парла-
140
ментского большинства (“разделенное правление” в США).
Это противоречие разрешается следующим образом. Прежде всего,
правительство реально формируется президентом, т.е. он реально может назначить премьер-министром того, кто не пользуется поддержкой
парламентского большинства. Далее события могут развиваться по
двум разным конституционно-правовым “сценариям”.
Если президент и парламентское большинство принадлежат к одной и той же партии (коалиции), и, очевидно, президент является реальным политическим лидером этой партии, то президент становится
фигурой, аналогичной премьер-министру в парламентарных странах.
Он становится лидером “партийной власти”, а формальный премьерминистр фактически осуществляет лишь такие полномочия по руководству правительством, которые возлагает на него президент. Очевидно, что в этой ситуации нет никакой “бицефальности”.
Если же президент и парламентское большинство принадлежат к
разным партиям (коалициям), то – в силу парламентской ответственности правительства – оппозиционное президенту большинство в нижней
палате парламента выразит президентскому правительству недоверие,
и президенту, в конечном счете, придется назначить премьерминистром своего политического оппонента.
Но в этот момент вступает в силу и может быть реализовано важнейшее для смешанной республики конституционно-правовое положение: в одной и той конфликтной ситуации президент вправе один раз
распустить парламент и назначить новые выборы. (Например, в Пятой республике во Франции Национальное Собрание не может быть
распущено в течение года после его избрания). Это право предоставлено президенту с целью один раз попытаться убедить избирателей отдать большинство мест в парламенте президентской партии. Тем самым президент выносит свой спор с оппозиционным ему парламентским большинством “на суд народа”.
Это положение принципиально отличает смешанную республику
от других моделей взаимоотношений государственно-властных институтов. По логике президентской республики, парламент принципиально не влияет на формирование и дальнейшую судьбу правительства, а
поэтому он не должен и не может быть распущен в случаях парламентско-правительственных коллизий. По логике парламентарного государства, парламент нужно распускать до тех пор, пока не сформируется устойчивая “партийная” власть.
По логике же смешанной республики, парламентскому большинству дается право один раз вмешаться в президентскую (правительственную) политику, после чего могут состояться новые парламент-
141
ские выборы (этот вопрос решает президент). Если партия, составлявшая большинство в прежнем составе парламента, выиграет выборы,
она получит право формировать правительство независимо от президента; если проиграет, т.е. на парламентских выборах победит президентская партия, то будет реализован первый сценарий.
Реально президент может распустить нижнюю палату парламента в
связи со спором по вопросу о правительстве лишь тогда, когда он избран на свой пост после парламентских выборов. В этом случае есть
вероятность того, что в новом составе нижней палаты оппозиция президенту не получит абсолютного большинства.
В итоге получается как минимум четыре варианта отношений президента и парламента в связи с формированием правительства.
I. Парламентское большинство и президент принадлежат к одной и
той же партии. В этой ситуации либо сохраняется status quo, либо президент, не имевший ранее такой возможности, теперь назначает “своего” премьер-министра. (Правительство опирается на партию президента).
II. Парламент избран после президента, причем парламентское большинство и президент принадлежат к разным партиям. В этой ситуации
президент вынужден назначить премьер-министром одного из лидеров
парламентского большинства. (Правительство опирается на партию, оппозиционную президенту).
III. Президент избран после парламента, причем парламентское
большинство и президент принадлежат к разным партиям. В этой ситуации президент распускает парламент и после новых выборов располагает поддержкой парламентского большинства. Развитие ситуации
приводит к первому варианту.
IV. Президент избран после парламента, причем парламентское
большинство и президент принадлежат к разным партиям. В этой ситуации президент распускает парламент, но его партия проигрывает
выборы, и развитие ситуации приводит ко второму варианту.
Следовательно, в конечно счете правительство всегда опирается на
парламентское большинство, но формируется либо партией президента, либо партией, оппозиционной президенту. В последнем случае сам
президент оказывается в оппозиции парламентскому большинству и
правительству. Но у него остаются реальные властные полномочия, о
которых будет сказано ниже. Именно такая ситуация имеется в виду,
когда говорят о бицефальной системе правительственной власти.
Таким образом, дуализм смешанной республики означает, что правительство должно быть либо при президенте (президент правит вместе
с правительством), либо при парламенте (правительство правит отчасти
142
вместе с президентом).
Из примера Пятой республики видно, что в республике со смешанной формой правления нет разделения властей на законодательную и
исполнительную. Поскольку здесь правительство всегда должно опираться на парламентское большинство, то для смешанной республики
базовой моделью разделения властей является не классическая триада, а
разделение властей на “партийную”, административную и судебную.
Даже когда правительство формируется президентом, это происходит не
потому что президент независим от парламента-законодателя, а потому
что президентская партия располагает парламентским большинством.
Поэтому смешанную республику можно сравнивать лишь с такой ситуацией в президентской республике, в которой президент – лидер некой
дисциплинированной партии – контролирует парламентское большинство, правит через свое правительство и через парламентское большинство.
Если в смешанной республике президент и парламентское большинство принадлежат к одной партии, то складывается мощная “партийная” власть, в рамках которой главную роль играет президент. При
этом роль премьер-министра оказывается второстепенной в сравнении
с президентом. Французский опыт показывает, что такой “президентско-партийной” власти должны противостоять неполитизированная
бюрократия и сильная независимая судебная власть – к чему Франция
лишь постепенно приближается.
Все оценки положения французской бюрократии сходятся на том,
что во Франции есть всемогущая административная машина, и она
находится в распоряжении французской правящей элиты.
Что касается судебной власти, то в целом во Франции есть независимое правосудие и особенно развита административная юстиция. Но
французский Конституционный Совет (аналог конституционного суда)
обладает полномочиями в основном предварительного конституционного
нормоконтроля. Правда, компетенция Конституционного Совета
неуклонно расширяется. Что касается предварительного нормоконтроля,
то он превратился в настоящего цензора над законодателем, защищающего права человека. В меньшей мере Конституционный Совет осуществляет правомочия инцидентного конституционного контроля – по жалобам граждан проверяет конституционность нормативных актов, примененных или подлежащих применению в процессе судебного разбирательства.
Следует подчеркнуть, что положение цензора не соответствует разделению властей и превращает орган конституционного контроля в
“суперзаконодателя” или “негативного законодателя”. Задача судебной
143
власти в системе разделения властей – разрешать споры о праве, а не
надзирать за законодателем.
Итак, смешанная республика все же предполагает принцип разделения властей, а именно, в условиях бицефальной правительственной власти, в ситуации так называемого сожительства президента и премьерминистра. Если президент и парламентское большинство принадлежат
к разным партиям, и президент вынужден назначить премьер-министром одного из лидеров парламентского большинства, то в такой ситуации уже можно говорить о разделении властей, но не на законодательную и исполнительную, а на “парламентско-правительственную” и
“президентскую”. Первую осуществляет правящая партия, а оппозиционная партия (основная оппозиционная партия или коалиция) действует не только в качестве парламентской оппозиции, но имеет доступ к
власти в лице президента. В этой ситуации, как свидетельствует практика Пятой республики, президент политически относительно “слаб”.
Тем не менее, он, по меньшей мере, может противопоставить “парламентско-правительственной” власти свое право издавать регламентарные акты. Так что “парламентско-правительственная” власть вынуждена учитывать позицию президента.
Тема 12. Государственное устройство
Вопросы для обсуждения
1. Федерализм как правовая форма принципиальной децентрализации государственной власти.
2. Разделение властей “по вертикали”.
3. Реальность федерализма: федерализм и государственный режим.
Из лекции: В развитой правовой ситуации происходит территориально-поселенческое рассредоточение государственной власти, ее распределение между центральными и региональными (местными) органами. При этом государство может сохранять унитарную форму (относительно децентрализованное государство), и в этом случае компетенция региональных (местных) органов власти определяется центральным правительством. Возникновение же федеративной формы означает принципиальную децентрализацию государственной власти.
Децентрализация государственной власти служит одним из институциональных компонентов правовой государственности, в то время
как централизм является необходимым условием авторитарного правления. В неразвитой правовой ситуации
144
Федеративное – это сложносоставное государство, одно государство, но с двухуровневой организацией власти и распределением компетенции между властными уровнями. Принцип надлежащего распределения компетенции в федеративном государстве гласит: к компетенции федеральных органов относятся только те государственновластные функции и задачи (и соответствующие предметы ведения и
полномочия), которые должны и могут осуществляться только на общегосударственном уровне, а все остальные относятся к компетенции
органов субъектов федерации.
Этот принцип считается частным выражением так называемого
принципа субсидиарности: социальная ассоциация должна брать на себя достижение только тех целей, которые не могут быть достигнуты
усилиями отдельных индивидов, а союз ассоциаций (федерация) –
только тех, которые не могут быть достигнуты усилиями отдельных
ассоциаций. Однако, хотя буквальное значение федерации – “союз”,
применительно к федеративному устройству правильнее говорить не
об ассоциациях и союзах, а об уровнях, или подсистемах, государственной власти: не следует отдавать более дорогостоящей и труднее
контролируемой подсистеме государственной власти
Смысл федерализма: разделение властей “по вертикали”. Принципиальная децентрализация государства происходит посредством
конституционного распределения компетенции между федеральной и
региональными подсистемами (уровнями) государственной власти.
(Первичным источником федерализма может быть только конституция, так называемая договорная федерация – это фикция). Субъекты
федерации – составные части государства – создают свои законодательные и исполнительные органы (реже – суды), действующие в соответствии с конституционным и, возможно, договорным (вторичным)
разграничением предметов ведения и полномочий между федерацией и
ее субъектами.
Конституционное распределение компетенции в федеративном
государстве называется разделением властей “по вертикали”. При этом
разграничиваются, прежде всего, (1) предметы ведения федерации и
(2) предметы совместного ведения федерации и субъектов федерации,
а далее разграничиваются полномочия федерации и субъектов федерации по предметам совместного ведения.
Кроме того, федеральные органы и органы отдельных субъектов
федерации вправе заключать уточняющие, конкретизирующие конституцию договоры о разграничении предметов ведения и полномочий в
сфере совместного ведения. В исключительных случаях органы отдельных субъектов федерации могут на договорной основе делегиро-
145
вать федеральным органам свои конституционные полномочия по
предметам совместного ведения, однако такая практика свидетельствует о неготовности страны к федеративному государственному устройству.
Компетенция разграничивается так, что законотворчество осуществляется, главным образом, федеральным законодателем. Ибо почти
все предметы государственного законодательства подлежат единообразному регулированию на всей территории одного и того же государства, будь то государство унитарное или федеративное.
Полномочия же исполнительной власти (правообеспечительная
функция государства) в большей мере осуществляются органами субъектов федерации. Именно в этом и заключается основной момент децентрализации государственной власти: если исполнение федеральных
законов возлагается не только на федеральные исполнительные органы, но и на органы исполнительной власти субъектов федерации.
Например, в Германии земли самостоятельно исполняют федеральные
законы, поскольку иное не устанавливается или не допускается Основным законом ФРГ.
Система правосудия в федеративном государстве должна быть
единой. Единство судебной системы обеспечивает равный доступ к
правосудию и равную судебную защиту на всей территории государства. Поэтому обычно судебная власть осуществляется федеральными
судами. Если создаются суды субъектов федерации, то, вместе с федеральными, они образуют единую судебную систему. Для разграничения юрисдикции это означает, что суды субъектов федерации не должны обладать исключительной юрисдикцией по каким бы то ни было
категориям дел. Подсудность дел судам субъектов федерации не должна исключать апелляционное или надзорное производство по этим делам в соответствующих федеральных судах. Иначе говоря, должен
быть механизм обжалования решений высших судов субъектов федерации в верховный или иной компетентный федеральный суд.
С точки зрения предметов ведения разграничение компетенции выглядит следующим образом.
Предметы, считающиеся наиболее важными, относятся к ведению
федерации. Это значит, что государственно-властные решения в этой
сфере регулирования принимаются только федеральными органами.
Причем федеральные органы не могут делегировать органам субъектов
федерации полномочия по предметам ведения федерации, ибо предполагается, что последние нуждаются в единообразном регулировании.
Все остальные предметы государственно-властного регулирования
относятся к совместному ведению федерации и субъектов федерации
146
(не может быть предметов исключительного ведения субъектов федерации, ибо последние – это не суверенные субъекты, а лишь части одного государства). По предметам совместного ведения государственновластные полномочия осуществляют и федеральные органы, и органы
субъектов федерации, но при этом приоритет отдается решениям федеральных органов.
В зависимости от соотношения законодательных полномочий федерации и субъектов федерации различаются четыре вида компетенции.
По предметам ведения федерации осуществляется исключительная
федеральная компетенция. Это означает, что по этим предметам принимаются только федеральные законы и основанные на них другие федеральные нормативные акты.
В сфере совместного ведения возможны три варианта распределения полномочий между федеральным законодателем и законодателями
субъектов федерации. Для простоты их можно назвать совместной,
конкурирующей и договорной компетенциями.
Совместная компетенция означает, что по предметам совместного
ведения федерации и субъектов федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы субъектов федерации. При совместной компетенции субъекты федерации не вправе издавать законы, не основанные на федеральных законах. При этом
предполагается, что федеральный законодатель издает “рамочные” законы, оставляя все частные вопросы на усмотрение законодателей в
субъектах федерации.
Конкурирующая компетенция федерации и субъектов федерации
означает, что субъекты федерации вправе принимать законы по предметам совместного ведения постольку, поскольку нет соответствующих федеральных законов. При конкурирующей компетенции субъекты федерации, с одной стороны, обладают большей свободой в выборе
законодательных решений, чем при совместной компетенции. Но, с
другой стороны, федеральный законодатель может урегулировать
практически все вопросы в сфере конкурирующей компетенции, если
он считает, что это нужно для обеспечения единого экономического и
правового пространства или что эти вопросы не могут эффективно регулироваться законодательством отдельных субъектов федерации.
Что касается предметов ведения субъектов федерации, то последние вправе делегировать федеральному законодателю полномочия по
регулированию отдельных вопросов, которые не относятся к их исключительной компетенции. В таких случаях возникает договорная
компетенция федерации и субъектов федерации. При этом федераль-
147
ные законы, издаваемые в рамках делегированных полномочий, не
должны противоречить законам и иным нормативным актам, которые
субъекты федерации самостоятельно издают по предметам их ведения.
Спорные вопросы договорной компетенции подлежат согласованию
путем перераспределения делегированных полномочий.
Наконец, исключительная компетенция субъектов федерации
предполагает круг вопросов, в решение которых федерация вмешиваться не вправе. Договорное делегирование полномочий по этим вопросам федеральному законодателю недопустимо, так как оно означало бы умаление конституционной самостоятельности субъектов федерации и нарушение федерализма. Если в конкретном федеративном
государстве существует такая компетенция, то применительно к такому государству нельзя говорить о безусловном приоритете федерального законодательства.
Наоборот, ведение субъектов федерации означает, что их органы
обладают приоритетом в решении соответствующих вопросов. Принятие федеральных решений по предметам ведения субъектов федерации
допускается только в рамках полномочий, делегированных субъектами
федерации.
Федерализм может быть важным элементом в системе разделения
властей “по горизонтали”, в механизме сдержек и противовесов в “государстве партий”. Так, в ФРГ в правовом поле деятельности законодательной и исполнительной властей на федеральном уровне взаимодействуют “партийная власть” (партийное большинство в Бундестаге, нижней палате парламента, и ответственное перед ним правительство) и Бундесрат, аналог верхней палаты парламента. Бундесрат состоит из представителей земельных правительств. Партия, имеющая
большинство в Бундестаге, может оказаться в меньшинстве в Бундесрате. Такое произойдет, если большинство избирателей в землях
будет недовольно политикой федеральной “партийной власти”. Тогда
Бундесрат превратится в “партийную контрвласть”, которая сможет
блокировать некоторые решения “партийной власти”. Более того, в
ФРГ возможна ситуация, когда будет действовать правительство, не
имеющее поддержки абсолютного большинства в Бундестаге, но опирающееся на поддержку Бундесрата.
Образование федеративных государств. Федерация образуется,
как правило, в результате децентрализации власти в одном государстве, а не путем объединения нескольких государств в одно новое, децентрализованное государство. Ибо для того, чтобы уже существую-
148
щие государства объединились, добровольно отказавшись от своего
суверенитета, необходимы, как минимум, две причины, сочетание которых – явление уникальное. Во-первых, объединяющиеся в федеративный союз нации должны приобретать нечто большее взамен утраченного государственного суверенитета. Во-вторых, эти нации должны
этнополитически тяготеть друг к другу, т.е. этнические общности, лежащие в основе наций, должны стремиться не к политическому
обособлению, а к интеграции, политическому самоопределению в рамках федеративного союза; в противном случае о добровольном объединении наций не может быть и речи.
Поэтому в тех случаях, когда образуется союзное государство, по
существу происходит объединение не самостоятельных наций, а близких друг другу этнополитических сообществ, которые еще не обособились в качестве наций и стремятся к совместному внешнеполитическому самоопределению в рамках одной нации. Если такой объединительной тенденции нет, то речь должна идти не о правовом, а о силовом объединении наций, в результате которого федерализм может
лишь имитироваться (СССР, СФРЮ и т.п.).
В этом контексте понятно, что федеративное государство – если
это не фикция – возникает, как правило, на мононациональной основе.
Полиэтнические государства в основном складываются как государства унитарные, в которых есть “титульная нация” и этнические
меньшинства. В ходе исторического развития полиэтническое государство под влиянием этнополитического фактора может трансформироваться из унитарного в федеративное, в рамках которого происходит
политическое самоопределение этнических меньшинств.
Децентрализация власти в унитарном государстве (унитарном политическом образовании) в зависимости от этнической структуры
населения может происходить по территориальному принципу (при
этнически однородном населении) и по этническому принципу (при
полиэтническом населении). Поэтому можно различать федерации, построенные по территориальному принципу, и федерации, образованные по этническому, или “национальному”, принципу.
Трансформация полиэтнического унитаризма в федерализм, построенный по этническому принципу, означает, что этносы стремятся к
самоопределению в качестве наций, хотя и не создают свои национальные государства, довольствуясь созданием государствоподобных
образований и сохраняя общую государственность. Примером может
служить Бельгия, где этносоциальные противоречия в конце ХХ в.
привели к децентрализации власти по этническому принципу. Некоторые черты федерализма проявляются даже в современной Великобри-
149
тании. Но такие федерации нетипичны.
В отличие от остальных реальных федераций, США и Швейцария
образовались в процессе интеграции, но не в результате интеграции
государств. И в Северной Америке (“стейты”), и в Западных Альпах
(кантоны) происходил такой национальный политогенез, в результате
которого формировались не множество, а одно государство. Это
утверждение бесспорно, по меньшей мере, в отношении США, где
“стейты” создавались этнополитическим и этнокультурным сообществом, осознававшим себя единой нацией, хотя и разделенной в территориальном аспекте, нацией, части которой имели культурные особенности. Иначе говоря, в Северной Америке не было государств до того,
как возникло государство США. “Стейты”, из которых образовались
США (интегративный процесс), были государствоподобными образованиями, но не государствами, ибо они не создавались разными нациями. “Стейты” оформились в процессе становления одной североамериканской нации (а не нескольких наций) как некий “промежуточный результат” политогенеза, и как независимые государствоподобные образования они существовали очень недолго. Они закономерно не стали
самостоятельными национальными государствами, так как их население ощущало себя частями одной нации. “Стейты” непременно должны были слиться в одно государство североамериканской нации, альтернативность в этом вопросе относится лишь к мере централизации
или децентрализации формировавшегося государства.
Смысл объединения кантонов и “стейтов” идентичен: не суверенные субъекты добровольно отказываются от своего суверенитета в
пользу нового суверенного образования, а государствоподобные ассоциации в процессе интеграции создают полноценное государство. Но
государство децентрализованное, гарантирующее относительную самостоятельность составивших его частей и местное самоуправление.
Возможно, политогенез в Западных Альпах мог привести к созданию не одного, а нескольких государств, так как этот процесс происходил в гетерогенном этнокультурном субстрате. Но действовавшая в
этом процессе центростремительная, или интегративная, тенденция
оказалась сильнее и привела к тому, что результатом политогенеза стало образование одной нации – швейцарцев и одного, хотя и сложносоставного, государства швейцарской нации.
Таким образом, и в случае США, и в случае Швейцарии не было
объединения наций, т.е. не было объединения государств в полном
смысле.
Типичным является построение федерации не по этническому, а по
территориальному принципу. Оно означает, что нация, образованная
150
преимущественно одним этносом или этнически однородным сообществом, состоит из территориально обособленных частей. Например,
отдельные части нации могут политически самоопределяться на исторически или географически обособленных частях территории государства. Такие территориально самоопределяющиеся сообщества образуют субъекты федерации.
Российская Федерация построена по этнотерриториальному принципу. Образованные в бывшей РСФСР (в рамках СССР) административно-территориальные единицы, населенные преимущественно русскими, в постсоветской России превратились в субъекты Федерации,
которые как бы созданы русской нацией – по территориальному принципу. Остальные административно-территориальные единицы, создававшиеся в РСФСР под видом политического самоопределения “советских народов”, превратились в субъекты Федерации, созданные по
национальному принципу: каждый этнос создает субъект РФ и тем самым формально конституируется в нацию, хотя и не образующую своего национального государства. Правда, ненцы и буряты номинально
образуют по три субъекта РФ, а некоторые российские этносы не имеют даже автономии в рамках субъекта Федерации.
Многонациональный состав Российской Федерации порождает регионализм и проблему сохранения этнополитической и территориальной целостности Российского государства. Будущее России зависит от
того, в какой мере ее население сохранится как русско-евразийское этнополитическое сообщество в едином правовом и экономическом пространстве. Причем неофеодальные процессы и явления в посттоталитарной России отнюдь не способствуют сохранению ее целостности.
От реального образования федераций путем децентрализации власти следует отличать конституционные модели образования федеративных государств, которые могут использоваться как юридические
фикции. Есть две основные модели, объясняющие первичное соотношение компетенций федерации и субъектов федерации.
Если считать, что федеративное государственное устройство складывается в процессе децентрализации государственной власти, тогда
действует презумпция компетентности федерации. Эта презумпция
означает, что федеральные органы вправе решать вопросы, поскольку
они не отнесены к компетенции субъектов федерации. В этом случае в
федеральной конституции должны быть перечислены все вопросы, которые находятся в ведении субъектов федерации.
Если считать, что федеративное государство возникло в результате
объединения нескольких государств, передавших часть своей компетенции в пользу федерации, то действует презумпция компетентности
151
субъектов федерации. Она означает, что в ведении субъектов федерации находятся все вопросы, которые не отнесены к федеральной компетенции. В этом случае конституция федеративного государства должна давать исчерпывающее описание федеральной компетенции.
Презумпция компетентности субъектов Российской Федерации закреплена в ст.73 Конституции РФ 1993 г. Но это не значит, что до 1993
г. не было Российского государства и что Россия возникла в результате
объединения суверенных республик, краев, областей и т.д. Очевидно,
что это конституционная фикция, ибо Российское федеративное государство формировалось после августа 1991 г. путем децентрализации
власти в разрушавшемся сверхцентрализованном политическом образовании (СССР, РСФСР), а вовсе не путем объединения ранее суверенных государств.
Суверенитет в федеративном государстве не делится между федерацией и ее субъектами. Федерация – это одно государство, а не союз
суверенных государств, отдающих “часть суверенитета” в пользу федеральной власти. Суверенитет – это не количественная, а качественная характеристика публичной политической власти, государства. Это
качество верховенства и независимости государственной власти, и это
качество нельзя разделить между государством как целым и его частями. Суверенитет федеративного государства, на основе разграничения компетенции, осуществляют все его органы, т.е. федеральные государственные органы и государственные органы субъектов федерации. Все они входят в одну систему государственной власти. В федеративном государстве делится не суверенитет, а компетенция; причем делится таким образом, что суверенитетом обладает федерация (федеративное государство), а не субъекты федерации.
Тема 13. Государственный (политический) режим
Вопросы для обсуждения
1. Государственный режим – характеристика формы или содержания государственной власти?
2. Между либеральной демократией и полицейским государством:
“управляемая демократия”?
Из лекции: Признаком любой демократии, прежде всего, являются
хотя бы минимальные политические свободы, обеспечивающие формально равный доступ всех (или всех полноправных граждан) к формированию и осуществлению государственной власти, свободную по-
152
литическую конкуренцию.
Всеобщее формальное равенство в политике предполагает принятие государственных решений по принципу большинства или от имени
большинства. Но демократия – это не власть большинства как таковая
и не охлократия. Даже реальная власть большинства – сама по себе, не
ограниченная принципом верховенства прав индивида, вне развитой
правовой культуры – легко вырождается в тиранию меньшинства, в авторитарный режим.
Демократия как устойчивая государственная форма существует
лишь постольку, поскольку в национальной правовой культуре достигнут некий консенсус по поводу прав человека и соблюдается конституционный запрет отменять или умалять признанные в государстве
права и свободы человека и гражданина – запрет, действующий для
любого большинства. Таким образом, реально демократия возможна
лишь как правовая демократия, в которой “воля народа” или “власть
народа” ограничены требованием признавать, соблюдать и защищать
права человека. Декретирование политических свобод там, где эти
условия не соблюдаются, оборачивается “одноразовой” демократией –
закономерно приводит к тому, что, пользуясь политической свободой,
к власти приходят такие группы, которые первым делом ликвидируют
эту свободу и устанавливают авторитарный режим.
Либеральная демократия
В частности, К участию в выборах допускаются все полноправные
граждане и их объединения – за исключением тех, кто преследует цель
свержения демократического государственно-правового режима и
иные антиправовые цели.
Так называемая социальная демократия (аналог “социального правового государства”)
“Суверенная демократия” – это, на первый взгляд, плеоназм, такой
же как и “суверенное государство” – если исходить из понятия государственного суверенитета. Но если иметь в виду потестарную трактовку суверенитета (“власть суверенная – ничем не ограниченная”), то
на поверку оказывается, что эта вербальная конструкция, тесно связанная с идеей “народного суверенитета”, призвана обосновать неограниченность воли большинства (правящей группы, выступающей от имени большинства) при определении общественного и политического
строя. Идеология, пропагандирующая “суверенитет народа”, утверждает, что “народ” (некая абстрактная целостность) волен устанавливать такой режим государственной власти, какой ему выгоден и угоден, и при этом не связан никакими правами индивида: нет неотъемлемых прав и свобод, “народ” как суверен волен определять, что можно и
153
что нельзя в рамках правовой свободы, и никто не может навязывать
“суверенному народу” какое-то иное видение демократии.
Действительно, реальная демократия не может быть выше уровня
правовой культуры в стране, демократию нельзя “экспортировать”, и в
неразвитой правовой культуре не может быть демократии. Но в науке,
следуя завету Конфуция, нужно называть вещи своими именами, и если в стране формируется авторитарный режим, не нужно обзывать его
“суверенной демократией” – от этого он не перестанет быть авторитарным.
Принято различать непосредственную (прямую) и представительную формы демократии. Представительной демократией называют
осуществление государственной власти избираемыми представителями
народа. По существу, представительная демократия – это и есть демократия в современном смысле. В современном демократическом государстве власть осуществляется “от имени народа” и “в интересах народа”. Причем демократические выборы – это не прямая демократия, а
необходимая предпосылка и процедура представительной демократии.
В демократическом государстве легитимность (рационально-правового типа) обеспечивается представительным характером высших
органов государственной власти. “Представительный” не значит обладающий прерогативой нормотворчества. Однако демократия предполагает, что основные законотворческие полномочия принадлежат представительным органам. Представительными являются не только коллегиальные, но и единоличные органы государственной власти. Однако
между ними есть различие. Единоличный орган (избираемый народом
президент) является представителем большинства избирателей, участвовавших в выборах. В коллегиальных же представлены и меньшинства. Правда, и в коллегиальных органах, например парламенте, представители большинства могут игнорировать интересы меньшинства
(фактически это вопрос политической культуры).
Непосредственная демократия (“прямое народоправство”) означает
принятие политических решений, непосредственное осуществление
государственной власти всей совокупностью полноправных граждан
или их большинством (в данном контексте народ – это совокупность
полноправных граждан). Такая форма демократии характерна для государства типа античного полиса (гражданской общины), т.е. для исторически неразвитой государственности республиканской формы при
относительно малой численности населения, проживающего на малой
территории. Признаком прямой демократии является народное собрание, в котором участвуют все полноправные граждане. Прямая демократия не характерна для современного территориального государства
154
и возможна скорее как форма местного самоуправления.
Элементы прямой демократии сохранились, например, в некоторых швейцарских кантонах, в которых раз в году проводится собрание граждан, имеющих право голоса. Такое собрание открытым голосованием принимает решения по вопросам компетенции кантона и выбирает должностных лиц кантона. Но и в таких кантонах действуют
кантональные парламенты. В других кантонах, как и на уровне федерации, существует представительная и так называемая полупрямая демократия. Последняя означает, во-первых, право на референдум по
инициативе народа: правительство представляет народу все намеченные законопроекты, и в случае инициативы определенного числа граждан законопроект или закон, принятый парламентом, но еще не вступивший в силу, выносится на референдум. Во-вторых, “полупрямая
демократия” гарантирует права на законодательную и конституционную инициативу народа: население кантона путем сбора необходимого
количества подписей может потребовать изменения или отмены существующего закона либо принятия нового закона; также население может потребовать изменения конституции кантона. На уровне федерации действует только право на конституционную инициативу народа.
Плюрализм (полицентризм) и “народовластие”. Обычно демократию объясняют как “народовластие”. В этом контексте понятие
“народ” не имеет этнического смысла и не совпадает с понятием
“население”. Имеется в виду народ как некая абстрактная целостность
– субъект власти. Однако такого субъекта в действительности не существует, и то, что называется народом, состоит из индивидов (граждан),
образующих группы с разными и даже противоположными интересами. В процессе формирования и осуществления государственной власти сталкиваются политические элиты, представляющие эти интересы.
Если этот процесс происходит по принципу свободной конкуренции
множества групп с разными интересами, то это и есть реальная демократия, в условиях которой никакая группа не претендует на то, что
она якобы осуществляет “власть народа”. Если же одна из групп монополизирует формирование и осуществление государственной власти,
то она может, с целью легитимации своего господства, называть его
“народовластием”, отождествлять себя с народом-целостностью, объявлять себя выразителем “общенародных интересов”, представлять себя в качестве руководящей и направляющей части “всего народа”.
“Народовластие”, как и “непосредственная власть народа”, “народный суверенитет”, в современном государстве – это фикции, призванные легитимировать реальное господство отдельных групп.
Реально в современном демократическом государстве нет никакой
155
“власти народа”, тем более – “непосредственной власти народа”, а есть
демократически организованная государственная власть – система отношений повеления-подчинения, объединяющая людей (народ) в государство. Строго говоря, идея народовластия и понятие народного суверенитета искажают смысл государственной власти, создают впечатление дуализма власти: есть государственная власть, а есть еще и власть
народа, и обе они суверенные.
Так называемым источником власти (источником – в смысле демократической легитимации) является не “народ” (абстрактное целое),
а большинство (часто относительное большинство) политически активных граждан – большинство тех, что реально участвуют в формировании государственной власти и, возможно, составляют лишь
меньшинство народа-совокупности граждан. На выборах конкурируют
группы или партии, каждая из которых представляет лишь часть народа – нередко очень малую часть. Побеждают партии, не обязательно
выражающие интересы большинства граждан, но имеющие большие
ресурсы влияния на избирателей. Попутно заметим, что при тоталитарных режимах народ тоже провозглашается источником власти, а
механизм тотальной власти изображается как “народовластие”.
Смысл демократии не в том, что народ провозглашается источником власти, и не в том, что через органы государственной власти якобы “народ осуществляет свою власть”, а в том, что все полноправные
граждане (их объединения, организованные группы) формально в равной мере допускаются к власти. Такой формально равный доступ означает фактически неравную меру политического участия граждан, фактически неравное выражение государством интересов разных групп.
Существует неравенство ресурсов политического влияния: есть группы
с малыми ресурсами (безработные, пенсионеры, инвалиды и т.п.), а некоторые финансово-промышленные группы способны чуть ли не предопределять результаты выборов. Но пока сохраняются формальное равенство и свободная конкуренция множества групп, пока политическое
участие не является привилегией какой-то одной группы, в государстве
будет не моноцентризм, а полицентризм, не “народовластие”, не олигархия и не “моно-архия”, а полиархия (как предложил называть реальную демократию Р. Даль).
Далее, поскольку государственная власть осуществляется аппаратом, то “осуществление народом своей власти непосредственно” (следовательно, помимо аппарата государственной власти) – это нонсенс. В
современной демократии не может быть “прямого народоправства”.
Выборы должностных лиц государства и референдум – это не “высшее
непосредственное выражение власти народа”, а лишь участие полити-
156
чески активных граждан и их объединений в процессе формирования
государственной власти (выборы) и в процессе принятия государственно-властных решений (референдум).
Так, сами по себе выборы и выборность государственных органов
являются атрибутом республиканской формы правления, а не демократии. О демократическом характере выборов свидетельствует то, в какой мере все политически активные граждане и их объединения допущены к участию в выборах. Выборы могут быть прямыми и косвенными; прямые выборы означают большую меру участия граждан, но
вовсе не “прямое народоправство”. Депутаты реально могут и не выражать интересы своих избирателей: на свободных выборах побеждает
не тот, кто представляет интересы большего числа избирателей, а тот,
чья программа будет составлена и представлена так, что она окажется
для избирателей более привлекательной нежели другие программы.
Так что демократические выборы – это отнюдь не “осуществление
народом своей власти непосредственно” (такого субъекта просто нет),
а конкуренция за доступ к власти внутри народа-совокупности граждан.
Референдум – это принятие государственно-властного решения
непосредственно гражданами. Но и в этом случае следует говорить
лишь об участии граждан: вопрос, выносимый на референдум, формулируется компетентным государственным органом. И только если референдум проводится по инициативе граждан, это – элемент “полупрямой демократии” швейцарского типа. Однако референдум “в порядке народной инициативы” – это редкость для демократических
стран. Практика показывает, что обычно референдум проводится тогда, когда компетентный государственный орган заинтересован в его
проведении, а вопрос референдума формулируется так, чтобы гарантировать нужный ответ.
Иначе говоря, иногда в представительной демократии высшие
государственные органы при решении некоторых вопросов ссылаются
на прямое волеизъявление большинства (референдум), и в этом случае
они выступают не только как номинальные, но и как реальные представители этого большинства.
Авторитаризм означает такой способ властного управления, при
котором сигналы обратной связи, показывающие реакцию общества на
управление, блокируются и не воспринимаются аппаратом власти. Сама управляющая система (аппарат авторитарной власти) перекрывает
каналы движения этих сигналов, исходящих от управляемой системы.
А именно: в условиях авторитарных государственных режимов действует предварительная цензура, нет свободы выражения мнений, сво-
157
бодных выборов, свободы объединений и других политических свобод
(либо они существенно ограничены). Здесь – в меру авторитарности –
либо просто нет легальных оппозиционных политических партий, не
контролируемых властью профсоюзов, либо правящие группы препятствуют деятельности оппозиции. Средства массовой информации формально могут быть и негосударственными, но реально они контролируются авторитарной властью.
Практически любой авторитарный режим представляет собой диктатуру меньшинства над большинством граждан (подданных). Устойчивость диктатуры меньшинства над большинством обеспечивается
благодаря тому, что государство (правительство) строго контролирует
и ограничивает возможности самоорганизации в обществе: весьма
ограниченно санкционирует создание и деятельность общественных
институтов и формирований, средств массовой информации, проведение любых публичных мероприятий и т.д., а также применяет жесткие
полицейские меры для пресечения несанкционированной публичной
активности. В результате власть меньшинства оказывается непреодолимой для неорганизованных или недостаточно организованных индивидов и социальных групп из состава большинства, поскольку они по
отдельности противостоят всему организованному меньшинству.
В зависимости от иерархии в правящей политической группе различаются авторитарные режимы автократические и олигархические.
Авторитарные режимы можно различать и по их социальной ориентации: они могут быть направлены либо на изменение существующей социальной системы, либо на ее консервацию. Эти два вида авторитарных государственных режимов можно обозначить как прогрессистские и консервативные.
Прогрессистские режимы в XX в. возникали в условиях неразвитого гражданского общества. Цель таких режимов – модернизация, догоняющее индустриальное развитие на основе экономического принуждения (например, антикоммунистический режим А. Пиночета в
Чили).
Консервативные режимы (например, мусульманские фундаменталистские режимы) возникают в условиях разрушения традиционного
общества под влиянием индустриальной цивилизации. Они представляют собой реакцию традиционно правящей политической элиты на
ослабление ее господства.
Авторитарное воздействие на общество, даже самое прогрессивное, происходит независимо от воли большинства членов общества
(диктатура). Но самый прогрессивный авторитарный режим, тем не
менее, имеет вероятность успеха 50%. Это вытекает из самого смысла
158
государственного авторитаризма, разрушающего механизмы обратной
связи между государством как управляющей и обществом как управляемой системами. Управляющая система воздействует на управляемую, не обладая при этом достаточной информацией о результатах
воздействия, имея ограниченные возможности для корректировки воздействия.
Известны менее жесткие (легитимные) и более жесткие (нелегитимные и поэтому репрессивные) авторитарные режимы. Так, автократия в условиях неразвитой правовой культуры, при традиционном типе
легитимного господства опирается не столько на силу, сколько на
культурно-политическую традицию и согласие подданных, для большинства которых политическая свобода не имеет ценности. И если при
таком режиме еще и обеспечивается благосостояние (например, в современных нефтедобывающих странах), то нет радикальной оппозиции
режиму, и режим не прибегает к репрессиям. (Присущий неразвитым
правовым культурам авторитарный режим всегда является правонарушающим, поскольку авторитаризм не дает гарантий прав и свобод в
частной сфере – гарантий от полицейского произвола. Иначе следует
оценивать авторитаризм с точки зрения политической свободы. Если
отстающая правовая культура не доросла до политических прав и свобод, то нельзя говорить и о нарушении этих прав авторитарным режимом). Наоборот, режим Ф. Франко в Испании и подобные, возникавшие в ХХ веке в условиях кризиса европейской правовой культуры (с
ее традициями политической свободы), противостоявшие либеральнодемократическим тенденциям, – это более жесткие авторитарные режимы, сопровождавшиеся массовыми грубыми нарушениями прав человека.
Современные авторитарные режимы могут имитировать демократические выборы и тем самым создавать иллюзию легитимности режима. Так, в посттоталитарных странах, с неразвитым гражданским
обществом, с неразвитой правовой культурой нет достаточной политической свободы, чтобы считать их либерально-демократическими. Это
так называемая управляемая демократия (эвфемизм, за которым скрывается “полуавторитарный” режим, разновидность менее жесткого авторитаризма), при которой имитируются многопартийная система и
свободные выборы. И “партийное строительство”, и выборы высших
государственных органов происходят под контролем олигархической
группы. Таким образом, формально соблюдаются некоторые демократические процедуры, но реально власть остается у олигархии – той самой, которая “управляет демократией”.
Реальная оппозиция, если таковая здесь существует, заведомо про-
159
игрывает, не может прийти к власти, действуя по “правилам игры”,
установленным при таких режимах. Во-первых, в условиях неразвитого гражданского общества оппозиция недостаточно организованна и не
консолидирована. В то же время олигархия формирует хорошо организованную и консолидированную “партию власти”, опирающуюся на
государственные ресурсы – политические и экономические. Вовторых, законодательство о партиях и о выборах строится так, чтобы
максимально способствовать победе на выборах “партии власти” и
препятствовать реальной оппозиции. Используются избирательные
технологии, позволяющие срежессировать выборы таким образом,
чтобы получить нужный результат. В-третьих, олигархические группы
используют в процессе выборов так называемые административные
ресурсы, в силу чего “партия власти” и оппозиция оказываются в формально неравном положении, причем последняя – в явно невыгодном.
Наконец, на крайний случай, когда избирательные технологии не срабатывают, у режима есть возможность фальсифицировать результаты
выборов.
В итоге оказывается, что реальная оппозиция может прийти к власти не в рамках легальных процедур, а лишь революционным путем –
когда в результате массовых акций гражданского неповиновения олигархические группы утрачивают контроль за проведением выборов и
подсчетом голосов избирателей. Однако такого рода революционные
события, хотя и заключают в себе некий элемент прогресса правовой
свободы, вовсе не означают какой-то радикальный переход от авторитаризма к реальной демократии. Государственный режим не может
быть выше уровня развития политической и правовой культуры, гражданского общества. Посттоталитарная культура такова, что группы,
находящиеся у власти и в силу этого имеющие возможность перераспределения национального дохода в свою пользу (такова посттоталитарная действительность), добровольно не пойдут на смену власти демократическим путем. И эта культура не меняется от того, что правители вынуждены уйти под давлением “снизу”. На месте старых олигархических групп формируются новые, и авторитарный режим, имитирующий демократию, по существу сохраняется. Переход от посттоталитарного авторитаризма к либеральной демократии – длительный
исторический процесс, невозможный без модернизации и надлежащего
развития правовой культуры.
Тема 14. Общество и государство
Вопросы для обсуждения
160
1. Общество и государство как “наводящиеся” системы.
2. Гражданское общество как саморегулирующаяся система.
3. Либерализм и этатизм о пределах саморегулирования и государственном интервенционизме.
Из лекции: По мере исторического прогресса свободы, государственности и права, в индустриальном обществе происходит дифференциация экономических и политических отношений, сферы собственности, частных интересов и сферы публичных интересов, политической власти, частного права и публичного права. Общество становится относительно независимым от государственного управления,
государственно-властного вмешательства. Возникает феномен гражданского общества – система социальных отношений, не опосредствованных государственной властью.
Феномен гражданского общества предполагает исторически развитую правовую ситуацию, в которой реально достигнуто верховенство прав человека. Посттоталитарное общество переходного типа, неразвитое в экономическом и правовом аспектах, нельзя характеризовать как гражданское общество.
1. Освобождение общества от государственного управления происходит по мере исторического прогресса. Следовательно, гражданское
общество, в сравнении с государственно-управляемым обществом,
является более прогрессивным – с точки зрения общественного благополучия, удовлетворения потребностей людей в социальной системе.
Если это суждение верно, то как объяснить усиление государственного
интервенционизма в ХХ веке, переход наиболее развитых стран к социал-капитализму, с его перераспределяющим государством?
Управление социальным объектом, при условии, что управляющий
субъект существует за счет этого объекта, осуществляется, во-первых,
в целях благополучия объекта. Абсурдно предполагать, что управляющий намеренно разрушает объект, за счет которого он существует.
Другое дело, что намерения и результаты управления могут и не совпадать. Во-вторых, управляющий субъект всегда управляет в своих
интересах, т.е., хотя и заботится о социальном благополучии, но, в конечном счете, ради удовлетворения своих частных интересов.
Управление является оптимальным, когда выгоды от управления
больше, чем издержки. Это суждение справедливо для любых социальных систем. Однако эти выгоды и издержки имеют разный смысл в
социумах системоцентристского типа и персоноцентристского типа.
В первом случае (системоцентризм) управляющий субъект (правитель, правящая группа) выступает как “хозяин” (деспот – “хозяин до-
161
ма”), а управляемый социальный объект – как принадлежащее ему “хозяйство”. Разумеется, в такой ситуации эффект от управления определяется выгодами и издержками для “хозяина”, но не обязательно для
людей, занятых в этом “хозяйстве”. Последние могут просто использоваться и расходоваться как “людские ресурсы”, наряду с ресурсами материальными. Таким образом, здесь управление ради благополучия
управляемого объекта не означает управление ради “общего блага” –
благополучия людей интегрированных в социальную систему. Здесь
нет общего блага, но есть благо правителя или правящей группы.
Наоборот, в социуме персоноцентристского типа социальное благополучие и эффект от управления измеряются выгодами и издержками для всех людей, интегрированных в социальную систему. Только
здесь управление подчиняется требованию общего блага. Здесь издержки существуют в форме налогов на осуществление социального
управления (государственного управления, государственной власти), а
выгоды проистекают из возможности для индивидов удовлетворять
свои потребности в условиях порядка, создаваемого этой властью –
правопорядка.
Причем исторический переход от государственно управляемого к
гражданскому обществу свидетельствует, что последнее является более предпочтительным с точки зрения общего блага: социальная система, в которой общество достигает некой степени независимости от
государственного управления, добивается оптимального соотношения
выгод и издержек, связанных с государственным управлением. Оптимальность здесь означает, что более широкое и интенсивное государственное управление может давать и большие выгоды для индивидов,
но издержки при этом вырастут больше, чем выгоды.
Итак, переход к гражданскому обществу и ограничение государственного управления происходят ради общего блага, т.е. соответствуют интересам индивидов, интегрированных в социальную систему
персоноцентристского типа. Почему? Потому что чем больше государственное управление, тем больше нарушается формальное равенство
интересов, а это противоречит общему благу.
В реальности управляющие интерпретируют общее благо, исходя,
в той или иной мере, из своих частных интересов, действуют, исходя
из своего небескорыстного понимания общего блага.
Управление социальной системой осуществляют те, кто интегрирован в эту систему и преследует в этой системе свои частные интересы.
В неправовой, потестарной ситуации управление присваивается
отдельными группами по силовому принципу (точнее, аппарат управ-
162
ления, “исполнитель” функционирует в интересах властвующей группы, выступающей в качестве “заказчика”). Властвующие, задающие
параметры управления, подчиняют остальных своим интересам, выступают по отношению к остальным как “хозяева”. В такой ситуации
интерпретация общего блага определяется, прежде всего, потребностями властвующих, а затем уже, “по остаточному принципу”, интересами других групп, в зависимости от их значимости с точки зрения
властвующих. Фактически общее благо подменяется благополучием
властвующих групп. Соответственно устраивается вся социальная система.
В правовой ситуации, в условиях формального равенства всех
частных интересов, социальное управление является общим делом
всех граждан (в исторически неразвитой правовой ситуации – всех
полноправных), и государство формируется как res publica, res populi
(первоначально все полноправные были обязаны участвовать в управлении общими делами, исполнять властные должности). В развитой
правовой ситуации, при свободной конкуренции частных интересов,
их носители не позволяют друг другу узурпировать власть и подменить управление ради общего блага управлением в интересах самих
управляющих. Здесь в качестве “заказчика” социального (государственного) управления выступают все граждане, избирающие органы
государственной власти, а политические лидеры конкурируют по
принципу формального равенства за право выступать от имени народа,
т.е. за доступ к формированию и осуществлению государственной власти. Граждане “нанимают” профессиональных политиков и других
управляющих, “исполнителей” – для управления ради общего блага.
Они контролируют управляющих на предмет соответствия управления
общему благу и употребления власти в частных интересах. Для них
общее благо – тогда, когда соблюдается справедливость, всеобщее
формальное равенство, отдельные частные интересы не получают
предпочтений.
2. Гражданское общество – это сфера частных интересов, отделенная от государства, сфера свободной конкуренции частных интересов. Разделенность общества и государства означает, что государственная власть не вмешивается в свободную конкуренцию частных
интересов и не используется для поддержки одних частных интересов
против других. В идеале государственная власть должна осуществляться только в общих (всеобщих) интересах, не должна служить никаким социально значимым частным интересам, будь то интересы меньшинства или даже большинства.
В этом контексте государство предстает как сфера общих интере-
163
сов, или система публично-властных отношений, в которых повелевающие субъекты (государственно-властные институты, органы государственной власти) обязаны действовать в общих интересах.
В юридической интерпретации общий интерес заключается в обеспечении всеобщего формального равенства (формального равенства
всех частных интересов, равной свободы частных интересов, равной
защиты прав и свобод каждого человека и гражданина) и общей безопасности.
Объясняемый таким образом общий интерес не противостоит частным, не отчужден от них как интерес некоего абстрактного целого.
Наоборот, он заключается в максимальной возможности удовлетворения частных интересов.
Строго говоря, только формальное равенство частных интересов,
(их свободная конкуренция по принципу формального равенства) может быть объектом общего интереса (общим благом) – причем, и для
конкурентных, и для неконкурентных групп. Разумеется, последние
предпочитают формальному равенству потребительские привилегии.
Но это уже групповые, а не общие интересы.
Проблема заключается в том, что общая безопасность в условиях
существенного имущественного неравенства не может быть реально
обеспечена без нарушения формального равенства. Ибо не все способны платить налоги, необходимые для обеспечения безопасности. Особенно, если налоговое бремя распределить поровну. Поскольку общая
безопасность – неделимое общее благо, реальные налогоплательщики
платят и за так называемых “безбилетников” (дифференцированное
налогообложение). Это неизбежно.
Но – и это принципиально важно – нет никакого иного неделимого
общего блага, которое было бы объектом общего интереса и обеспечение которого по этой причине было бы задачей государства. (Даже интерес к обеспечению общей безопасности утрачивает качество всеобщности в той мере, в которой ее могут заменить институты частной
безопасности).
(1) Не может быть объектом общего интереса любое перераспределение ресурсов жизнедеятельности от одних групп к другим. Перераспределяющее государство действует в частных интересах отдельных групп, пусть даже это социально значимые интересы.
(2) Принцип субсидиарности опровергает интерпретацию в качестве неделимого общего блага (и соответственно общего интереса)
всего того, что люди могут достичь собственными инициативой и усилиями. Необходимые жизненные блага, включая жилье, здравоохранение и образование, приобретаются частными усилиями. У некоторых
164
людей ресурсов для этого недостаточно. Однако из последнего обстоятельства отнюдь не вытекает, что, например, образование или здравоохранение можно интерпретировать как общее благо, доставляемое
государством; это противоречит принципу субсидиарности.
(3) В государственно-правовой ситуации нет никакого государства
– как некоего реального субъекта – помимо людей, составляющих это
государство. Нет государства (общества, страны, народа, нации и т.д.)
как некоего абстрактного и самодовлеющего целого, существующего
вне людей с их интересами. И за пределами формального равенства
частных интересов и общей безопасности нет никакого специфического интереса государства, отчужденного от частных интересов. Когда
правители и обслуживающие их идеологи утверждают, что есть интересы государства как целого и эти интересы стоят выше всех остальных интересов, выше интересов отдельных людей и групп, то они лгут.
Они просто сами ставят превыше всего свои частные олигархические
интересы (управленческие, полицейские корпоративные интересы или
интересы личной безопасности, личного комфорта, личного обогащения) и поэтому выдают их за государственные (“дело государево”), одновременно отождествляя с государством самих себя или олигархическую группу. Они противопоставляют свои “государевы” интересы интересам “подвластного населения”.
Такая олигархическая интерпретация государственных интересов
находится в прямом противоречии с юридической интерпретацией
государственного (общего) интереса как формального равенства всех
частных интересов. Не являются общими и, следовательно, государственными интересами ни великодержавные амбиции правителей (“величие государства” – это величие государя), ни интересы обеспечения
полицейского порядка или “государственной безопасности” за счет
прав и свобод. Безопасность государства – это безопасность всех
граждан, а не только олигархов, окружающих себя тайной полицией.
Следует различать общие интересы и интересы большинства. И те, и
другие являются публичными интересами. Любая группа, придя к власти
от имени некоего (возможно, случайного) большинства, провозглашает
публичными, государственными свои групповые (корпоративные) интересы и стремится выдать их за общие. Но интерес большинства – это
интерес лишь части населения, пусть большей части, и он может противоречить общему интересу. Единственным средством против злоупотребления властью большинства служит принцип либеральной демократии: правительство вправе и обязано действовать в интересах большинства лишь до тех пор, пока эти интересы не сталкиваются с общим интересом, т.е. пока они не нарушают права человека.
165
Однако последовательная либеральная демократия (идеальное правовое государство, или “либертарное государство”) – это скорее утопия,
так как в условиях всеобщего избирательного права группы, выступающие за социализм и перераспределительное государство, “социальную
демократию” всегда будут составлять большинство, волю которого не
может игнорировать ни одно демократическое правительство.
В правовом государстве публичным интересом, который отстаивает правительство, должен быть интерес только общий. Противоправно
выдавать за публичный интерес частные интересы, даже если это интересы социально значимых групп.
Если правительство законно, публично действует в частных интересах, то это противоречит принципу гражданского общества, требованию разделения общества и государства; в такой, неразвитой в правовом отношении или правонарушающей, ситуации за публичный интерес выдаются частные интересы, причем последние – это, в той или
иной мере, интересы правящих групп. Если же должностные лица государства незаконно используют властные полномочия в частных интересах, то это называют коррупцией. В обоих случаях происходит одно и то же: общий интерес подменяется частными, но в первом случае
это может называться “социальная справедливость” и “социальное
государство”. Чем меньше объем функций, выполняемых государством, чем меньше у власти возможностей для вмешательства в дела
общества, тем меньше вероятность и коррупции, и “социальной справедливости”.
3. Гражданское общество (система обмена) и государство (система
государственно-властных отношений) образуют относительно самостоятельные системы. В этом контексте государство и общество можно
рассматривать как управляющую и управляемую системы. Государство (государственный аппарат) – это управляющая система по отношению к гражданскому обществу как управляемой системе.
Вместе с тем гражданское общество функционирует как саморегулирующаяся социальная система, детерминирующая государство.
Саморегулирующаяся – это такая система, которая организуется
самостоятельно, независимо от внешнего воздействия (управления).
Она сама закрепляет в себе полезные для нее элементы и связи и отторгает все вредное. Полезным же для любой системы является то, что
делает ее более устойчивой и конкурентоспособной.
Что касается социальных систем, то для них полезными и целесообразными являются те формы жизнедеятельности, которые позволяют
максимально удовлетворять потребности максимального числа отдельных членов общества при минимальных затратах. Гражданское обще-
166
ство обеспечивает такое удовлетворение потребностей по принципу
формального равенства.
В том, что гражданское общество – система саморегулирующаяся
и одновременно управляемая, нет противоречия. Саморегулирование
означает, в частности, что гражданское общество само формирует для
себя управляющую систему – аппарат государственной власти. Саморегулирующееся общество задает параметры и пределы государственного вмешательства, предопределяет функции и задачи государства. В этом заключается демократический принцип взаимоотношений
гражданского общества и государства. В этом смысле можно говорить
и о праве гражданского общества на формирование государственной
власти, участие в ее осуществлении.
Но есть и иные варианты соотношения государственного регулирования и общественного саморегулирования. Государство как управляющая система способно и к авторитарному силовому воздействию на
управляемую систему. Относительная самостоятельность государства
допускает и такое вмешательство в дела гражданского общества, которое происходит независимо от воли большинства членов общества или
большинства граждан. Этот авторитарный принцип составляет противоположность демократическому. Причем авторитарное регулирование
свидетельствует о неразвитости гражданского общества, о недостаточной разделенности публичной и частной сфер, государства и общества.
Механизмы саморегулирования гражданского общества. Саморегулирование гражданского общества возможно лишь тогда и постольку, когда и поскольку достигнута всеобщая равная свобода. Свободная
конкуренция формально равных интересов внутри общества как системы позволяет выявлять и сохранять наиболее конкурентоспособные
социальные группы и интересы, наиболее предпочтительные элементы, структуры и связи.
История показывает, что социальные системы, в которых достигнута всеобщая правовая свобода, более конкурентоспособны. Они более
устойчивы и жизнеспособны в сравнении с теми системами, в которых
нет формального равенства взаимодействующих субъектов и властные
институты могут произвольно вторгаться в общественные сферы.
Есть три основных механизма саморегулирования гражданского
общества, в которых проявляется принцип формального равенства:
свободный рынок, свободная экономическая конкуренция (экономический механизм), либеральная демократия, свободная политическая конкуренция (политический механизм) и правовой способ разрешения конфликтов – свободная конкуренция сторон спора о праве перед лицом независимого, беспристрастного суда (судебно-правовой
167
механизм).
Свободный рынок выявляет интересы, полезные для гражданского
общества. Либеральная демократия позволяет создавать и корректировать такую систему публично-властного управления, которая будет
поддерживать эти интересы или, по меньшей мере, не будет им вредить. Независимое правосудие в случаях столкновения интересов защищает те интересы, которые наиболее полезны для общества.
Свободный рынок. Саморегулирующиеся социальные системы обладают механизмом, который позволяет им минимизировать и рационализировать потребление ресурсов, заставляет их элементы стремиться к такой минимизации и отторгает элементы, которые не способны рационализировать потребление ресурсов. В экономической
сфере гражданского общества таким механизмом является свободный
рынок, предполагающий равную для всех экономическую свободу
(свободу предпринимательства).
Субъекты гражданского общества руководствуются частными интересами. Эти интересы могут быть более или менее эффективными или
полезными с точки зрения экономической системы и гражданского общества в целом. Экономическая эффективность в данном контексте означает
максимальное удовлетворение потребностей максимального числа субъектов гражданского общества при рациональном потреблении природных
и социальных ресурсов. Поэтому для гражданского общества полезны и
предпочтительны те интересы, для удовлетворения которых требуется
относительно меньше ресурсов.
В условиях свободного рынка конкурируют формально равные
субъекты – производители и потребители социальных благ. Цена на
товары и услуги складывается свободно, в зависимости от соотношения спроса и предложения. В то же время есть их себестоимость, разная у разных производителей. Если цена неких товаров существенно
выше средней себестоимости, то их производство становится выгодным для большинства производителей. Поэтому предложение этих товаров растет и соответственно снижается цена. Когда цена станет ниже
себестоимости у части производителей, последние либо прекратят
производство этих товаров и переориентируют свое производство, либо разорятся и перестанут существовать как хозяйствующие субъекты.
Так или иначе, предложение сократится, а цена стабилизируется.
Благодаря такому механизму рыночная экономика без государственного регулирования производит все, что требуется для потребления в гражданском обществе, по ценам, соответствующим платежеспособному спросу. Причем относительная себестоимость постоянно
снижается: либо абсолютная себестоимость снижается при сохранении
168
качества, либо она сохраняется, но при одновременном повышении качества. Ибо производители являются конкурентоспособными постольку, поскольку они способны снижать себестоимость относительно цены и соответственно повышать рентабельность производства.
Свободный рынок обеспечивает такое удовлетворение потребностей гражданского общества, при котором достигается оптимальное
расходование ресурсов социальной системы – природных и человеческих. Так, в процессе свободной конкуренции выигрывают те производители, у которых себестоимость продукции ниже цены, определяемой
соотношением спроса и предложения. Чем ниже себестоимость – тем
выгоднее для системы, так как снижение себестоимости означает экономию ресурсов.
Снижение себестоимости не может происходить путем занижения
цены рабочей силы, так как это цена рыночная, и рост производства
сопровождается ростом цены рабочей силы. Конкуренция заставляет
производителей заботится о модернизации и рационализации. Следовательно, в условиях свободного рынка в конкурентной борьбе побеждают те субъекты, которые добиваются экономии ресурсов системы
путем рационализации производства. На такой базе достигается научно-технический и экономический прогресс в индустриальном обществе.
В условиях свободной экономической конкуренции постоянно
“выбраковываются” те хозяйствующие субъекты, которые для удовлетворения своих потребностей расходуют больше ресурсов системы,
нежели другие хозяйствующие субъекты. Следовательно, свободный
рынок – это самая эффективная форма общественного производства.
Либеральная демократия. Развитое, саморегулирующееся гражданское общество предполагает демократическую организацию государственной власти. Субъекты гражданского общества одновременно
являются гражданами государства. При демократии граждане формируют государственный аппарат (участвуют в формировании государственной власти) и требуют государственно-властного обеспечения
своих интересов.
Демократия означает политическое равноправие граждан и свободную политическую конкуренцию их интересов (формальное равенство в политике). Она позволяет выявлять признаваемые большинством интересы, которые должны обеспечиваться государственной
защитой как интересы общие или общеполезные.
Либеральной является демократия, при которой воля большинства
конституционно ограничена правами человека. В либеральной демократии интересы большинства получают государственную защиту
169
лишь при условии, что они не нарушают права человека.
Демократия заключает в себе механизм обратной связи между
управляющей системой (государственным аппаратом) и управляемой
системой (обществом). С одной стороны, аппарат управляет обществом (устанавливает правовые нормы и обеспечивает их реализацию,
проводит определенную налоговую, кредитную, таможенную и т.д.
политику). С другой стороны, демократические процедуры позволяют
большинству, доминирующему в обществе, “запрограммировать”
управляющий аппарат на такой режим управления, который требуется
обществу. Саморегулирующееся общество, реагируя на государственное воздействие, корректирует параметры управления – если положение в обществе ухудшается, то правящая партия проигрывает очередные выборы, а выигрывает та партия, которая сможет убедить большинство в своей способности улучшить положение. Благодаря такой
связи общество направляет и контролирует государственно-властное
вмешательство в общественные процессы.
Следует подчеркнуть, что формально равные активные субъекты
демократического процесса (партии и политические лидеры) обладают
фактически разным политическим весом и существенно разными ресурсами политического влияния. В демократическом процессе сталкиваются интересы тех, кто выдерживает экономическую конкуренцию
(социально сильных), и интересы тех, кто проигрывает, находится в
экономически невыгодном положении (социально слабых). Существенно большими ресурсами политического влияния обладают социально сильные и контролируемые ими партии. Поэтому в демократическом процессе, как правило, побеждают лидеры и партии, выражающие примерно те же интересы, которые доминируют в экономике.
Политические выразители тех или иных интересов, придя к власти,
задают – в зависимости от их позиций в экономике – определенный
режим государственного управления общими делами субъектов гражданского общества.
Интересам массы конкурентоспособных субъектов соответствуют
сохранение свободного рынка и минимальное вмешательство в дела
общества. Выражающие эти интересы партии стремятся сохранить
правовой принцип функционирования общества и государства. Иначе
говоря, интересам конкурентоспособных субъектов, а значит и потребностям гражданского общества в целом, соответствуют либеральная
демократия и демократическое правовое государство.
Однако по воле большинства к власти могут прийти партии, выражающие интересы массы неконкурентоспособных субъектов (аутсайдеров). Эти партии используют государственно-властные ресурсы для
170
перераспределения национального дохода в интересах социально слабых. В этом случае устанавливается режим социальной демократии.
При социальной демократии правительство существенно ограничивает собственность и свободную конкуренцию, поддерживает неконкурентоспособные интересы, вмешивается в общественные процессы, управляет рынком. Но государственно регулируемый рынок не
столь эффективен, как свободный. Правительственное вмешательство
в дела общества может иметь позитивные результаты, но при этом оно
всегда вредит саморегулированию.
Чем больше социальное государство будет вмешиваться в общественные процессы в интересах социально слабых, тем больше оно будет вредить саморегулированию. И механизмы саморегулирования отреагируют так, что общество и государство повернутся в сторону либеральной демократии.
Судебно-правовой механизм означает правовой способ разрешения
конфликтов между субъектами гражданского общества. Этот механизм
включает в себя независимость правового суда от других органов государства, формальное равенство всех перед лицом суда, свободный и
формально равный доступ к правосудию для всех субъектов гражданского общества.
Разумеется, отправление правосудия входит в сферу государства.
Но это вовсе не значит, что государство регулирует конфликты, возникающие в сфере гражданского общества. Беспристрастный суд (nemo
judex in propria causa), не регулирует, а разрешает эти конфликты как
состязание по принципу формального равенства.
Саморегулирование гражданского общества в рассматриваемом
аспекте происходит не посредством правосудия, а благодаря правосудию. А именно: поскольку право защищает конкурентоспособные интересы и поскольку конфликты разрешаются по принципу формального равенства, постольку в судебном состязании выигрывают конкурентоспособные субъекты. Конкурентоспособные нуждаются в независимом правосудии, и демократический законодатель, выражающий интересы, полезные гражданскому обществу, организует судебную систему
так, чтобы обеспечить беспристрастный правовой суд.
Возможны два способа разрешения социальных конфликтов – силовой (властно-приказной) и правовой. При силовом способе конфликт
разрешается произвольно и может быть разрешен в пользу неконкурентоспособного субъекта, если, например, за этим субъектом стоит
политическая сила. В частности, если неких хозяйствующих субъектов
поддерживают государственные институты, действующие властноприказными методами, то эти субъекты будут побеждать конкурентов,
171
не имеющих такой поддержки, независимо от их полезности. Общество, в котором властные институты действуют на стороне отдельных экономических конкурентов, непременно проиграет соревнование
с правовым гражданским обществом. Добросовестные производители
будут вывозить капитал туда, где государство гарантирует добросовестную конкуренцию и равные для всех правила конкурентной борьбы.
Правовой способ означает, что конфликт рассматривается как спор
о праве, и стороны конфликта в процессе формально равны. Это требует беспристрастного правосудия, а беспристрастным оно может быть
лишь тогда, когда суд независим от сторон спора, равно как и от любых других субъектов, от других государственных органов и должностных лиц.
Беспристрастное правосудие в конфликтных ситуациях позволяет
защищать интересы, полезные для общества в целом. Например, некий
предприниматель, добившийся снижения себестоимости, разоряет
конкурентов низкой ценой своей продукции. В этом конфликте беспристрастный суд будет исходить из того, что есть свобода предпринимательства и что каждый предприниматель имеет право продавать товар по любой цене, даже если это разорит конкурентов. Но если предприниматель, обладающий существенно большими ресурсами нежели
его конкуренты, искусственно снижает цену на свою продукцию с целью монополизировать рынок, то беспристрастный суд признает такую
деятельность недобросовестной конкуренцией.
Из этих рассуждений ясно, что беспристрастное правосудие возможно лишь в таком обществе, которое в основном состоит из конкурентоспособных собственников (а не из людей, зависимых от распределительной политики правительства и нуждающихся в опеке). Действуя по равным для всех правилам, они оказываются в выгодном положении. Их действия правомерны, и поэтому они заинтересованы в
разрешении конфликтных ситуаций независимым правосудием.
Если же общество таково, что выгодный или невыгодный статус в
нем определяется наличием или отсутствием привилегий, предоставляемых правительством, то сильные субъекты такого общества не нуждаются в независимом правосудии.
Отсюда следует вывод относительно перспективы правосудия в
посттоталитарном обществе. Пока здесь, с одной стороны, преобладает
экономическое люмпенство, с другой – господствуют привилегированные хозяйствующие субъекты, пока сохраняются криминализованные экономические отношения и структуры, пока правящие группы
культивируют и консервируют такое состояние общества и тем самым
172
обеспечивают свое господство, не может быть независимого правосудия.
Тема 15. Правовое государство и перераспределяющее государство
Вопросы для обсуждения
1. Признаки (компоненты) правовой государственности.
2. Система прав человека в правовом государстве.
3. Принцип законности и верховенство правового закона. Внутригосударственные механизмы и международные механизмы обеспечения прав и свобод. Marbury v. Madison (1803).
4. Понятие и основные черты современного перераспределительного государства (“социального правового государства”).
Из лекции: В общем и целом правовое государство – это такая модель организации государственной власти, которая дает надлежащие (с
сегодняшней точки зрения) гарантии правовой свободы, прав человека.
Эта модель основывается на исследованиях исторических проявлений
права и государственности в наиболее развитых правовых культурах.
Есть три основные характеристики правового государства – (1)
господство права, (2) надлежащие формальные и (3) надлежащие институциональные гарантии правовой свободы. Также можно говорить
о трех компонентах (признаках) правового государства. В этом контексте В.С. Нерсесянц предлагал различать нормативно-правовой, гуманитарно-правовой и институционально-правовой признаки правового
государства. В конечном счете объяснение всех эти компонентов сводится к правам человека. Господство права означает приоритет прав
человека. Надлежащие гарантии правовой свободы – это конституционное закрепление прав человека и рассредоточение государственной
власти (разделение властей) в целях предотвращения тирании, авторитарных ограничений и нарушений прав человека.
Господство права предполагает преимущественно правовой способ соционормативной регуляции – законодательное регулирование по
принципу права, “правление” правовых законов. Такое состояние достигается в развитой правовой культуре – когда высшей ценностью
признаются права человека, а задачей государства считается их соблюдение и защита.
Речь идет не о верховенстве закона (необходимое, но не достаточное условие правовой свободы), а о верховенстве права в системе со-
173
ционормативной регуляции, о приоритете права по отношению к иным
способам соционормативной регуляции – уравнительным, силовым,
моральным, религиозным.
Господство права достигается при соблюдении следующих принципов и требований.
1. Требование правового характера законов запрещает издавать законы правонарушающие, а критерием правового характера законов
служат права человека. Например, ч.2 ст.55 Конституции РФ гласит:
“В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и гражданина”.
Закон, нарушающий права человека, может быть оспорен в компетентном суде, который вправе объявить закон недействительным и
лишить его юридической силы.
2. Законодательное установление пределов свободы исключительно по принципу формального равенства – обеспечения равной свободы
для всех: свобода каждого кончается тогда, когда нарушается свобода
других; осуществление прав и свобод не должно нарушать права и
свободы других.
3. Из вышесказанного вытекает приоритет прав человека по отношению к иным ценностям, защищаемым в государстве. Законодатель не вправе ограничивать права человека под предлогом защиты
других, даже конституционно гарантированных ценностей. Например,
законодатель не вправе ограничивать свободу информации под предлогом защиты нравственности, но обязан запретить навязывание такой
информации, которую потребители информации расценивают как противную их морали.
4. Верховенство конституции, закрепляющей права человека, по
отношению к остальным источникам права. Правовое государство –
это конституционное государство, а поэтому неверно приписывать
правовому государству верховенство закона. В правовом государстве
закон подчинен конституции, и если конституционный суд установит,
что закон ей противоречит, такой закон утратит силу.
5. Равное подчинение праву всех, включая органы государственной
власти. В правовом государстве властные полномочия существуют как
правомочия и осуществляются исключительно в пределах дозволенного конституцией и издаваемых в соответствии с ней законов.
6. Презумпция правомерного поведения. Как уже говорилось, господство права достигается лишь в развитой правовой культуре, когда
реально преобладает правомерное поведение людей. Поэтому здесь законодатель (и другие государственные органы) руководствуется презумпцией правомерности, правомерного поведения каждого человека,
174
в частности – презумпцией невиновности. Закон в правовом государстве запрещает только то, что несовместимо со свободой всех и каждого, но не ограничивает права человека из полицейских соображений –
например, ради более эффективного полицейского контроля.
Напротив, в полицейском государстве, в условиях неразвитой правовой культуры, законодательство позволяет подозревать каждого в
правонарушениях. Это такое государство, в котором существует презумпция злоупотребления свободой, презумпция неправомерного поведения.
Режиму господства права, с одной стороны, не противоречит трудовое законодательство, ограничивающее свободу предпринимательства в интересах наемных работников (см. тему 21), так как оно “выбраковывает”, прежде всего, неконкурентоспособных предпринимателей, что соответствует потребностям гражданского общества. Но, с
другой стороны, оно защищает интересы не работников вообще, а неконкурентоспособных работников, позволяет их объединениям (профсоюзы, трудовые коллективы) навязывать предпринимателям (обязательность коллективного договора на предприятии, забастовка, многочисленные запреты на увольнение и т.д.) условия труда вопреки общественным потребностям и возможностям, что негативно сказывается
на положении всех остальных, в частности конкурентоспособных работников.
Польза от трудового законодательства для общества в целом весьма сомнительна: если некое перераспределение благ в рыночной практике не встречается, значит, оно неэффективно, “иначе рациональные
экономические агенты не упустили бы возможность заключения добровольной сделки, отвечающей интересам всех ее участников; поэтому
когда государство осуществляет его на принудительной основе, это не
может не сказываться отрицательно на уровне благосостояния общества” (Р.И. Капелюшников).
Господству права однозначно противоречит уравнительное социальное законодательство, которое гарантирует человеку минимум социальных благ просто за то, что он – человек. Это произвольное законодательство, и реализуется оно произвольно – в зависимости от экономической конъюнктуры и политики конкретного правительства. Потребительские привилегии, предоставляемые социально слабым,
нарушают право собственности и разрушают господство права. Они
требуют дорогостоящего аппарата распределяющей бюрократии, что
порождает перегруженность государства и нерациональное расходование общественных ресурсов.
С учетом последнего трудовое законодательство оказывается не
175
столь уж безвредным для режима господства права. Тот, кто мог бы
заниматься малым бизнесом, нанимая работников на условиях худших,
чем это допустимо по трудовому законодательству, и те работники, которые согласились бы на такие условия, вместо этого исключаются из
процесса производства и “садятся” на социальное обеспечение. Не
случайно в США до 1937 г. трудовое законодательство считалось недопустимым ограничением свободы договора.
Современному социал-капитализму соответствует не господство
права, а конкуренция правового и уравнительного способов соционормативной регуляции, не правовое, а правонарушающее – перераспределительное государство. Для господства права необходимо, чтобы реальные собственники (люди, способные за счет своей собственности
удовлетворять все основные потребности и не нуждающиеся в услугах
перераспределяющего государства) составляли бы абсолютное большинство населения (если не две трети). Такая социальная структура в
обозримом будущем не предвидится. Поэтому правовое государство
пока остается идеальной моделью.
Надлежащие формальные гарантии правовой свободы означают,
что конституция и законы гарантируют все права человека, признаваемые в современной, наиболее развитой правовой культуре.
Правовое государство – это государство, наиболее развитое в
смысле признаваемых на сегодняшний день прав человека. Каталог
прав человека, признанных в стране, которая провозглашает себя правовым государством, должен удовлетворять стандартам наиболее развитых в правовом отношении стран. Например, по современным европейским стандартам, правовым государством может считаться страна,
которая, как минимум, присоединилась к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с последующими протоколами).
Кроме того, права человека должны быть закреплены в конституции так, чтобы законодатель и другие органы государства не могли бы
– злонамеренно или благонамеренно – нарушать эти права. Формулировки конституционных прав должны исключать возможность чрезмерных законодательных ограничений. Негативным примером здесь
может служить ст.25 Конституции РФ, которая утверждает, что жилище неприкосновенно, если иное не предусмотрено законом. Получается, что правовая свобода производна от закона и что сама Конституция
неприкосновенность жилища не гарантирует. Наличие в Конституции
ст.25 равносильно ее отсутствию.
Однако в общем и целом либеральная Конституция РФ соответствует требованию формальных гарантий правовой свободы. Она содержит перечень прав человека, соответствующий стандартам наибо-
176
лее развитых стран. В ч.1 ст.17 Конституции говорится, что права человека в России гарантируются “согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей
Конституцией”. Это положение нужно понимать так, что признаваемые Россией международно-правовые положения о правах человека
входят в российскую правовую систему независимо от того, сформулированы ли они в Конституции и законах.
Следовательно, неприкосновенность жилища в России все же гарантируется – но не в силу ст.25 Конституции, а в силу того, что Россия присоединилась к международным пактам, требующим гарантий
неприкосновенности жилища.
Надлежащие институциональные гарантии правовой свободы достигаются в результате рассредоточения социального управления и
государственной власти.
Концепция правового государства утверждает, что все государственные органы, все властные институты должны соблюдать и защищать права и свободы индивидов. Но что произойдет, если какие-либо
властные институты или должностные лица станут действовать в
нарушение прав человека? Не смогут ли эти лица или институты разрушить господство права, установить тиранию, авторитарный, правонарушающий режим?
Для того чтобы обеспечить защиту от авторитарных тенденций,
нужно организовать аппарат государственной власти так, чтобы никакой государственный орган и никакое лицо в государстве не обладали бы властью или силой, достаточной для установления тирании.
Правовое государство – это минимальное государство, аппарат которого организован по принципу разделения властей.
В правовом государстве, во-первых (в силу рассредоточения социального управления), государственные институты обладают лишь такими властными ресурсами, которые необходимы для эффективного
выполнения минимальных функций государства – установления и
обеспечения правопорядка. Во-вторых (в силу рассредоточения государственной власти), государственно-властные компетенции, предметы ведения и полномочия распределены между разными государственными институтами – центральными и местными, федеральными и региональными, законодательными, исполнительными и судебными.
Для развитой правовой культуры характерен “оборонительный
менталитет” по отношению к государственной власти, желание оградить личность от авторитарного вмешательства, от возможности злоупотреблений властью, даже если это власть большинства. Отсюда – с
одной стороны, конституционное ограничение функций государства, с
177
другой – всевозможные формы общественного самоуправления: территориальное, коммунальное, корпоративное, этнокультурное и т.д.
Минимальное государство не должно заниматься делами местного
значения. Для этого должно быть местное самоуправление (самостоятельное решение населением вопросов местного значения). При этом
можно не создавать местные органы государственной власти, а передавать некоторые государственно-властные полномочия (например, в области охраны правопорядка) органам местного самоуправления.
Разделение властей “по горизонтали” может быть классическим –
на законодательную, исполнительную и судебную ветви (отрасли) власти. Но возможны и другие варианты. Главное, чтобы при этом были
разграничены функции государства – установление правовых норм,
разрешение споров о праве и обеспечение правопорядка публичновластным принуждением.
Разделение властей “по горизонтали” препятствует авторитарным
тенденциям исполнительной власти, воплощающей в себе принудительную силу государства. В правовом государстве исполнительная
власть вправе действовать только на основании и во исполнение законов и судебных решений.
Например, в случаях, когда действия исполнительной власти связаны с ограничениями личной свободы и собственности, эти действия
должны основываться на законе и сопровождаться предварительным
или последующим судебным контролем за их законностью и обоснованностью. Этого требует современное международное право в области прав человека. Статья 5 Европейской конвенции 1950 г. устанавливает, что (1) арест (заключение под стражу), задержание, содержание под стражей возможны лишь на законном основании и в порядке, предусмотренном законом; (2) эти ограничивающие свободу
административные действия допустимы лишь с санкции суда или для
выполнения соответствующего судебного решения; (3) несанкционированные судом арест (заключение под стражу), задержание нуждаются в незамедлительной судебной проверке их законности и обоснованности; (4) содержание под стражей допустимо лишь на основании
обвинительного приговора суда.
Российская Конституция установила, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (ч.3 ст.35). Например, таможенная конфискация запрещена; таможня лишь задерживает
имущество, которое по закону должно перейти в собственность государства. В течение законного срока собственник вправе оспорить таможенное решение в суде, и лишь последний вправе принять решение
о конфискации.
178
Судебные институты в правовом государстве контролируют исполнительную и законодательную власти на предмет соблюдения конституции и режима господства права. Судебный контроль осуществляется в пределах задачи правосудия (юрисдикции) – в процессе разрешения споров о нарушенном праве.
Правовое положение человека в государстве. Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека исходит из того, что свободные индивиды, создавая организацию государственной власти, отчуждают в пользу государственно-властных институтов часть своей
свободы и в этих пределах обязуются подчиняться власти. Объем отчужденной свободы эквивалентен объему правомочий государственной власти, закрепленных в конституции и законах. Оставшаяся
правовая свобода состоит из:
1) фундаментальных прав и свобод, которые формулируются,
прежде всего, в конституции и не подлежат отчуждению;
2) других прав и свобод, существование и значение которых не отрицается и не умаляется перечислением фундаментальных прав и которые впоследствии также могут быть сформулированы наряду с перечисленными.
В такой теоретической конструкции правовое положение человека
модельно описывается двумя фундаментальными публично-правовыми
отношениями между человеком (индивидом, гражданином) и государством – аппаратом государственной власти, представляющим всю совокупность граждан.
В первом правоотношении у человека есть права (права и свободы
– основные неотъемлемые права), а у государства – безусловная обязанность признавать, соблюдать и защищать эти права. В этом правоотношении у государства нет прав по отношению к человеку, и у последнего нет обязанностей по отношению к государству, т.е. нет какихлибо обязанностей человека, исполнением которых обусловлена реализация его прав и свобод.
По своей сущности основные права – это безусловные притязания
индивида на свободную самореализацию в обществе и государстве.
Это не притязания на предоставление каких-то социальных благ –
оплачиваемой работы, жилья по доступной цене, социального обеспечения и т.д. Это требования признавать, соблюдать и защищать равные
возможности каждого свободно устраивать свою жизнь и своими усилиями приобретать социальные блага. Такие требования адресованы,
прежде всего, государственно-властным субъектам: все субъекты обязаны признавать и соблюдать права каждого, но государственновластные субъекты обязаны не только признавать и соблюдать, но и
179
защищать права человека, обеспечивать правовую свободу. Таковы
предназначение и смысл организации государственной власти.
Второе правоотношение вытекает из факта суверенной организации власти, которая обладает принудительной силой для защиты правовой свободы. В рамках этого отношения государство выступает как
аппарат власти, обладающий правом на принуждение. В этом отношении у государства есть право устанавливать законы и принуждать к их
соблюдению, к законопослушности, а у человека, как и любого субъекта права, – обязанность соблюдать законы, быть законопослушным.
Итак, есть только одна обязанность человека по отношению к государству. Это абстрактная обязанность выполнять конкретные обязанности, установленные законами. Причем нельзя говорить об обязанности соблюдать правовые законы, хотя в правовом государстве предполагается именно правовой характер законов. Человек-субъект права
должен быть законопослушным постольку, поскольку законы в общем
и целом обеспечивают его права.
Иначе говоря, в правовом государстве, где власть в общем и целом
соблюдает права человека, действует презумпция правового характера
законов и, в частности, презумпция конституционности законов. В авторитарном государстве такой презумпции нет, и если власть своими
законами грубо нарушает права человека, то народ может воспользоваться своим неотъемлемым правом на гражданское неповиновение
вплоть до восстания.
Презумпция правового характера и правового содержания законов
не исключает возможности отдельных правонарушающих законов и
других противоправных властных актов. Но пока закон не отменен, его
придется соблюдать. Если человек считает, что закон или основанный
на законе административный приказ нарушает его права, он, тем не
менее, обязан выполнять предписания закона (законные требования
административных органов), и государство в лице административных
органов вправе принуждать его к законопослушности. Противное
означало бы анархию. Обязанность всех субъектов права быть законопослушным является безусловной обязанностью – до тех пор, пока
речь не идет о праве на гражданское неповиновение.
Другое дело, что обязанность быть законопослушным не исключает право оспаривать законы в компетентном суде. В правовом государстве человек, считающий, что его права нарушаются решениями или
действиями государственной власти, конечно же, не вправе препятствовать осуществлению власти, например административным действиям, особенно, если это законные действия. Но после того, как эти
действия совершены, он вправе использовать юридические механизмы
180
и процедуры для защиты своих прав. При этом он вступает в спор о
нарушенном праве с государственно-властными субъектами (включая
законодателя) – обращается с иском (жалобой) в компетентный суд,
который вправе признать государственно-властный акт, включая закон, противоправным и не имеющим юридической силы и, таким образом, восстановить нарушенное право.
Итак, есть два фундаментальных правоотношения: в первом у человека – права, а у государства – обязанность их признавать, соблюдать и защищать; во втором у государства – право принуждать, а у человека – обязанность быть законопослушным. Понятно, что право государства принуждать к законопослушности обусловлено тем, что государство и законы обеспечивают правовую свободу. Лишь при такой
трактовке государственно-властной деятельности можно говорить о
праве принуждать к законопослушанию.
Эти два правоотношения неверно объединять в одно правоотношение, в котором человек и государство связаны взаимными правами или
взаимными обязанностями. Нельзя представлять их как некое договорное правоотношение, в котором государство обязуется обеспечивать
права индивидов, а индивиды обязуются быть законопослушными. Если соединить их в одно, то получится конструкция “общественного договора” в духе Руссо – юридическая фикция, порожденная исторически неразвитыми представлениями о правах человека. Согласно такой
конструкции народ и правитель (государь) заключают соглашение о
взаимных правах и обязанностях, по которому подданные вправе требовать от власти обеспечения своих прав в обмен на законопослушность.
Юридическая конструкция взаимных прав и обязанностей применима только в сфере частного права – к отношениям обмена. Только в
обменных правоотношениях стороны связаны взаимными правами и
взаимными обязанностями. Например, обязанность продавца передать
товар обусловлена обязанностью покупателя заплатить цену; соответственно право покупателя получить товар обусловлено его обязанностью заплатить цену, и если покупатель не выполняет эту обязанность,
то и продавец не обязан передавать товар покупателю.
В сфере публичного права (в отношениях отдельного человека и
государственно организованного сообщества, гражданина и государственного аппарата) нет никакого обмена и поэтому не может быть
взаимных прав и обязанностей. Индивид и государство ни чем не обмениваются и не принимают на себя взаимные обязательства.
Правовая свобода возможна лишь в государственно организованном сообществе и при условии подчинения каждого общим для всех
181
законам. Когда речь идет о государственной власти (а не о произволе)
и, тем более, о правовом государстве, предполагается, что власть, с ее
законами, в общем и целом обеспечивает правовую свободу. Поэтому
каждый отдельный человек обязан быть законопослушным независимо
от того, как обеспечиваются его права и свободы. Если же некий индивид считает, что его права нарушаются, недостаточно обеспечиваются
государством, не соблюдаются государственно-властными субъектами,
то он должен искать законные способы защиты своих прав. И правовое
государство дает достаточные законные возможности для отстаивания
прав в споре с государственно-властными субъектами, включая законодателя.
Государство же обязано признавать, соблюдать и защищать права
человека независимо от того, как конкретный человек выполняет обязанность быть законопослушным.
Иная точка зрения по этому вопросу означает, что человек, нарушающий обязанность быть законопослушным, может быть лишен
прав. Но фундаментальные права не “даются” в обмен или в награду за
законопослушность. Это права не дарованные государством (“государем”), права неотъемлемые, и государство не может их отнять.
Государство вправе ограничить осуществление индивидом своих
прав – в качестве наказания за совершение преступления (по существу,
то, что называется лишением свободы, – это временное или пожизненное ограничение возможности использовать некоторые права и свободы). Государство, применяя правовую санкцию, например, может
осуществить конфискацию, т.е. лишить человека права собственности
на конкретное имущество. Но оно не вправе, даже в наказание за преступление, лишить человека неотъемлемого права быть собственником
или отказать ему в признании его человеческого достоинства.
Система прав человека. Совокупность основных прав и обязанность человека соблюдать законы составляют его общий правовой
статус. В первом приближении общий правовой статус подразделяется на правовой статус человека-индивида и правовой статус человекагражданина.
Более подробный анализ показывает, что общий правовой статус
складывается из трех составляющих: status negativus, status activus, status positivus.
1. Status negativus – это права, которые очерчивают сферу свободной жизнедеятельности, в которую не вправе вмешиваться ни частные
лица, ни государство. Сюда входят:
– право на уважение достоинства личности (включая запрет подвергать человека унижающему человеческое достоинство обращению
182
или наказанию);
– право на личную свободу и неприкосновенность (включая запрет
силового принуждения к труду);
– право частной собственности (право каждого быть собственником и право собственника свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом) и право наследования;
– неприкосновенность собственности, включая запрет конфискации в виде наказания; если имущество нажито преступным путем, то
потерпевшие, включая государство, вправе требовать возмещения вреда, но не конфискации;
– неприкосновенность частной жизни; в разных правовых культурах, в меру их развитости, действуют разные стандарты: в США несанкционированный поиск вещественных доказательств в мусорном
баке подозреваемого считается нарушением неприкосновенности частной жизни, а в России законная полицейская слежка (оперативнорозыскная деятельность) без возбуждения уголовного дела не считается вмешательством в частную жизнь;
– право на защиту своей чести и доброго имени; этим полагается
предел свободе выражения и распространения мнений и убеждений;
– тайна коммуникаций;
– неприкосновенность жилища;
– право на этническую и культурную самоидентификацию (право
каждого определять свою этническую принадлежность, пользоваться
родным языком и свободно выбирать язык общения);
– свобода передвижения и выбора места пребывания и жительства
(при условии, что человек законно находится на территории государства);
– свобода совести и вероисповедания;
– свобода предпринимательства (экономической деятельности);
– право на свободный доступ к образованию и культурным ценностям, находящимся в публичной собственности;
– свобода творчества и преподавания.
“Право на жизнь” (включая право не быть подвергнутым смертной
казни) провозглашено в Европейской конвенции, гарантируется Конституцией РФ 1993 г. (правда, Конституция одновременно признает
право на жизнь и допускает смертную казнь), однако такого права не
существует. Жизнь не есть такое благо, на которое можно иметь право
или не иметь права. Жизнь, как и смерть, есть судьба, фатальность,
счастливая или несчастная, но отнюдь не право. Любое право можно
нарушить, а потом восстановить, а “право на жизнь” нельзя нарушить
в том же смысле. И т.д. Из запрета смертной казни – по соображениям
183
гуманизма, ее неэффективности и т.п. – вовсе не вытекает “право на
жизнь”.
2. Status activus образуют права на участие в формировании и осуществлении государственной власти и местного самоуправления, на
участие в публичной жизни как индивидуально, так и совместно с другими, а также право на самозащиту:
– свобода выражения мнений и убеждений;
– свобода информации и средств массовой информации;
– право на объединение, включая право создавать профессиональные и конфессиональные союзы;
– право граждан на проведение публичных мероприятий, свобода
собраний и манифестаций;
– избирательные права граждан;
– право на референдум;
– право петиций;
– право на местное самоуправление;
– право на самозащиту и пресечение правонарушений; необходимая оборона.
Не существует прав граждан на участие в управлении делами государства, в отправлении правосудия, на равный доступ к государственной службе. В управлении делами государства участвуют не граждане,
а должностные лица государства, так что это идеологическая фикция,
популистский лозунг. В отправлении правосудия участвуют не граждане, а процессуальные фигуры, определенные законом. Доступ к государственной службе обставляется длинным рядом условий, так что не
достаточно быть просто гражданином, чтобы получить доступ к государственной службе, причем наравне с другими. Как сказал судья О.У.
Холмс (в 1892 г. судья Верховного суда штата Массачусетс), “податель
[рассматриваемой] петиции имеет конституционное право говорить о
политике [все, что он хочет], но он не имеет конституционного права
стать полицейским”.
3. Status positivus образуют права на государственную защиту правовой свободы (полицейскую и судебную), права на государственновластное обеспечение безопасности. Эти права можно рассматривать и
как гарантии прав и свобод, названных выше. К ним относятся
– права на защиту от правонарушений, особенно преступлений, на
защиту прав, нарушенных преступлением или иным правонарушением;
– право на государственно-властное обеспечение компенсации
ущерба, причиненного правонарушением, включая право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов государст-
184
венной власти или их должностных лиц;
– права, обеспечивающие доступ к правосудию (на обжалование в
суд решений и действий государственных органов и должностных лиц,
право на защиту прав и свобод судом административной или конституционной юрисдикции); право лица на решение судом вопроса о правомерности его задержания (правило habeas corpus);
– основные процессуальные права; права на справедливое судебное
разбирательство, на беспристрастный суд (включая запрет возлагать
доказывание невиновности на обвиняемого, толкование неустранимых
сомнений в виновности в пользу обвиняемого, право не давать показания показания против себя и своих близких, недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление), права на “своего судью” и
на рассмотрение дела судом присяжных; право на пересмотр приговора вышестоящим судом; право на квалифицированную юридическую
помощь.
Во второй половине ХХ века понятие безопасности, обеспечиваемой государством, расширилось вследствие глобального экологического кризиса; сегодня признается право на экологическую безопасность,
которому соответствует обязанность государства осуществлять специфическими государственно-властными средствами защиту окружающей среды и обеспечивать граждан достоверной информацией о ее состоянии.
Однако нет и не может быть “права на благоприятную окружающую среду” (это нечто аналогичное “праву на жизнь”), как не может
быть “права на дождь”, “на хорошую погоду”, “на урожайный год” и
т.п. Хотя экологический кризис – результат человеческой деятельности, государственно-правовое регулирование этой деятельности не
может создать “благоприятную окружающую среду”. Государственноправовыми средствами можно лишь препятствовать дальнейшему уничтожению человеком экосистем и природы в целом, но нельзя препятствовать природным явлениям – ураганам и засухам, землетрясениям и
“озоновым дырам”, влиянию космоса и периодическим глобальным
изменениям климата.
Права на безопасность следует отличать от притязаний социально
слабых на так называемую социальную защищенность – потребительские привилегии.
Судебная защита прав человека – надлежащий правовой способ
защиты (надлежащая правовая процедура). В суде лицо, права которого нарушены, как равноправная сторона вступает в спор о праве с
любым частным или должностным лицом, с любым государственным
органом. Перед лицом суда все формально равны – и частные лица, и
185
носители публично-властных полномочий. В правовом государстве
каждому гарантируется свободный доступ к правосудию и право на
справедливое судебное разбирательство.
Различаются суды общей, административной и конституционной
юрисдикции.
Суды общей юрисдикции рассматривают споры о праве, возникающие между формально равными субъектами. Это гражданско-правовые
споры, возникающие между частными лицами, и уголовные дела. В
последних формально равными субъектами (сторонами спора о праве)
выступают обвиняемый (подсудимый) и государство как совокупность
граждан (народ), от имени которого действуют компетентные органы
государства.
Суды административной юрисдикции рассматривают споры о
праве, возникающие между частными лицами и органами исполнительной власти по поводу законности их решений (включая подзаконные нормативные акты), которыми, по мнению частных лиц, нарушены их права. Если суд признает такое решение незаконным, оно утрачивает силу. Если суд установит, что административное решение законно, но закон, лежащий в его основе, противоречит конституции, то
он признает административное решение недействительным. Однако в
последнем случае суд не вправе объявлять недействительным сам закон.
Суд конституционной юрисдикции рассматривает споры о праве
между гражданином и законодателем по поводу конституционности
закона, нарушающего, по мнению гражданина, его конституционные
права. Он проверяет конституционность законов, т.е. контролирует их
правовой характер. Закон, признанный судом противоречащим конституции, утрачивает силу полностью или частично. При этом не требуется отмена закона законодателем.
Суд в первую очередь обязан дать такое толкование проверяемого
закона, которое не противоречило бы конституции. И лишь тогда, когда суд считает такое толкование невозможным, он объявляет закон не
соответствующим конституции.
Различаются европейская (австрийская) и американская модели
конституционной юрисдикции.
По европейской модели специально создается судебный орган –
конституционный суд, который один обладает правом признавать законы неконституционными. Он рассматривает только конституционноправовые дела. В основном это проверка конституционности законов и
других актов высших органов власти и разрешение споров о конституционной компетенции. При этом используется множество процедур,
186
которые, прежде всего, подразделяются на конституционный контроль
и конституционный надзор.
Абстрактный конституционный надзор означает, что суд может
по собственной инициативе, возбудить процедуру проверки конституционности нормативного акта. Нетрудно заметить, что в этом случае
он выступает как судья в своем деле, что противоречит природе правосудия и одному из основополагающих правовых принципов. Это наглядно продемонстрировала деятельность первого Конституционного
Суда РФ (РСФСР), обладавшего полномочиями абстрактного надзора
и использовавшего их в политических целях. Деятельность этого Суда
была приостановлена (силовым путем) в октябре 1993 г. Ныне действующий Конституционный Суд РФ такими полномочиями не обладает.
Конституционный контроль допускает проверку конституционности лишь при наличии спора о праве – в случае обращения в конституционный суд с запросом о конституционности или с иском о защите конституционных прав (в России такой иск называется жалобой).
Различаются абстрактный и конкретный, предварительный и последующий конституционный контроль.
Конкретный контроль осуществляется в отношении закона, который применен или подлежит применению в конкретном деле, в связи с
его применением. Абстрактный контроль осуществляется по запросам
компетентных государственных органов – независимо от того, применяется закон или нет.
Предварительный осуществляется в отношении законов, не вступивших в силу, или законопроектов. Соответственно последующий – в
отношении законов, вступивших в силу. Абстрактный контроль может
быть как предварительным, так и последующим, конкретный – только
последующим.
Конкретный контроль возможен в двух вариантах. Во-первых, это
инцидентный контроль, т.е. проверка конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, по запросу суда, рассматривающего это дело и полагающего, что этот закон
противоречит конституции. В силу презумпции конституционности законов, принятых после конституции, суд, сомневающийся в конституционности закона, должен его применять пока остаются сомнения (сомнения – в пользу применения закона).
Во-вторых, граждане вправе обращаться в конституционный суд с
иском о признании недействительным закона, который нарушает их
конституционные права. Такое правомочие выражает сущность и предназначение конституционной юрисдикции, осуществляемой по евро-
187
пейской модели. Если создается орган, компетентный признавать законы недействительными, в этом смысле – стоящий над законодателем, то это оправдано лишь тем, что гражданин обладает неотъемлемыми правами по отношению к законодателю и должен иметь возможность защищать их от законодательных нарушений. В этом контексте
непонятна логика процедуры “ампаро” (в Испании и некоторых латиноамериканских странах), допускающей удовлетворение иска о нарушении прав человека лишь с последствиями inter partes, т.е. без решения общего вопроса о соответствии закона конституции. Если не факт
нарушения прав индивида, то что должно быть основанием для признания закона не соответствующим конституции?
Конституционный суд называют “негативным законодателем” – в
том смысле, что законы действуют постольку, поскольку конституционный суд не признает их недействительными. Фактически конституционные суды превратились в “суперзаконодателей”, которые не только проверяют конституционность законов, но и дают нормативное толкование конституции и проверяемых законов. Кроме того, признавая
закон не противоречащим конституции, конституционный суд может
дать ему такое толкование, которое изменяет смысл закона.
С одной стороны, нет оснований считать, что этот “суперзаконодатель”, узкая коллегия юристов – назначаемых судей высшего суда –
будет защищать права граждан надежнее, чем избранные гражданами
законодатели. Какова правовая культура, таковы и депутаты парламента, и судьи конституционного суда. Но, с другой стороны, законодатели всегда лоббируют интересы своих избирателей, от которых зависит
избрание на новый срок, в то время как конституционный суд в правовом государстве – а конституционное правосудие реально только в
правовом государстве, в развитой правовой культуре – от такого давления избавлен.
По американской модели (США) конституционную юрисдикцию
осуществляет верховный суд – суд общей юрисдикции, выступающий,
как правило, высшей апелляционной или надзорной инстанцией.
Американская модель имеет свою предысторию. Еще в XVII в.
британские высшие суды создавали прецеденты неприменения законов, противоречащих общепризнанным принципам права. Так возник
инцидентный надзор за правовым содержанием закона – проверка судом правомерности закона, примененного или подлежащего применению в том деле, которое рассматривает этот суд.
Существует мнение, что в Великобритании нет и не может быть
конституционной юрисдикции, ибо в этой стране якобы нет конституции или, во всяком случае, нет конституции в форме “основного зако-
188
на”, и конституционное право устанавливается (и изменяется) простыми парламентскими законами (статутами) или прецедентами высших
судов. По этой логике, невозможно ставить вопрос о конституционности закона, если нормы конституционного права установлены такими
же законами. Это формалистическая трактовка конституционности и
конституционной юрисдикции. И поскольку наличие или отсутствие
конституции не зависит от ее формы, в Великобритании есть конституционная юрисдикция, и она осуществляется Палатой Лордов, выполняющей, в частности, функции верховного суда страны. Судебная
коллегия, образованная Палатой Лордов, исходя из принципа максимального соблюдения прав человека, может создать прецедент конституционно-правового характера, признав закон нарушающим или не
нарушающим права человека.
Верховный Суд США не занимается абстрактным конституционным контролем. Нижестоящие суды не обращаются в Верховный Суд
США с запросами по конкретному поводу, они должны сами решать
вопрос о конституционности закона, применяемого или подлежащего
применению в конкретном деле. Здесь нет специального института
конституционного иска, которую можно было бы подавать только в
Верховный Суд, и граждане вправе обращаться за защитой любых своих прав в нижестоящие суды (по подсудности).
Верховный Суд США, осуществляя инцидентный конституционный надзор, проверяет конституционность закона или иного нормативного акта, примененного или подлежащего применению в деле, которое он сам рассматривает. Нетрудно заметить, что при этом Суд выступает как судья в своем деле – выбирает законы, которые, по его
мнению, неконституционны (правда, он редко пользуется этим правом). Вместе с тем Суд связан инцидентом – делом, спором о праве, в
связи с рассмотрением которого возникает повод проверить конституционность применяемого закона. Тем самым Верховный Суд устанавливает обязательный для всех судов прецедент применения или,
наоборот, неприменения закона по причине его соответствия или несоответствия Конституции США. По существу, то же самое может делать и любой другой суд. Но только Верховный Суд создает общеобязательный прецедент недействительности закона. Это право Верховного Суда не предусмотрено в Конституции США. Верховный Суд
приобрел его своими действиями в результате создания прецедента по
делу Мэрбери против Мэдисона (1803 г.).
Содержание этого дела сводится к следующему. Дж. Адамса, второго Президента США, представителя партии федералистов, в 1801 г.
сменил республиканец Т. Джефферсон. Но прежде, стремясь сохранить
189
влияние федералистов в государственных органах, Адамс расставил
своих сторонников в судах разного уровня. Так, федералистами были
судьи Верховного Суда, а председателем Суда стал Дж. Маршалл, ранее занимавший пост Государственного секретаря в администрации
Адамса. Кроме того, Адамс добился учреждения новых судебных
должностей, в частности – в результате принятия закона о федеральном округе Колумбия (столица США город Вашингтон). Это довольно искусственное образование в федеративной структуре США.
Его создание объясняется, в частности, тем, что выделяя столицу в самостоятельную единицу, Адамс создал судебные вакансии и добился
назначения федералистов. Голосование в Сенате по их кандидатурам и
оформление судейских патентов затянулось до полночи в последние
сутки пребывания Адамса в должности (отсюда название – “полуночные судьи”). Когда они обратились уже к новой государственной администрации за получением судейских патентов, Дж. Мэдисон – Государственный секретарь в администрации Джефферсона – отказал им,
откровенно нарушив свои обязанности. Тогда один из “полуночных судей”, У. Мэрбери, обратился в Верховный Суд с иском, в котором требовал обязать Мэдисона выдать судейский патент. При этом он ссылался на Акт о судоустройстве 1789 г., позволявший Суду отдавать
распоряжение администрации, если она не выполняет свои обязанности.
Председатель Суда Маршалл исходил из того, что заставить Мэдисона выдать патент фактически невозможно, и если решение будет
принято в пользу Мэрбери, а республиканцы его не выполнят, то престиж Суда упадет, и позиции федералистов в политике ослабеют. Поэтому Маршалл пожертвовал сиюминутными интересами, но выиграл
в долгосрочной перспективе. Решение было принято в пользу Мэдисона, но с таким расчетом, чтобы извлечь из него пользу для Верховного
Суда, а значит – и для федералистов. А именно: Маршалл, формулируя
мнение Суда, указал, что Мэрбери имеет право на назначение, и по закону (Акт о судоустройстве) Суд вправе дать предписания администрации о выполнении требований истца. Но по Конституции, подчеркнул Маршалл, власть разделена на законодательную, исполнительную, и судебную, и нигде в Конституции не сказано, что одна
ветвь власти может вмешиваться в компетенцию другой. Поскольку
для конституционных органов власти не разрешенное Конституцией
вмешательство в чужую компетенцию запрещено, Маршалл сделал вывод: если какой-либо закон дозволяет вмешательство в компетенцию
другой ветви власти, то он противоречит Конституции и его следует
считать недействительным.
190
Таким образом, Мэрбери было отказано в иске по формальным основаниям: положение закона, позволяющее отдать предписание Мэдисону, недействительно. Тем самым Верховный Суд ограничил свою
юрисдикцию в отношении права отдавать предписания. Но одновременно Суд приобрел право признавать акты, противоречащие Конституции, недействительными.
Гражданское общество – среда, благоприятная для частных лиц; в
гражданском обществе доминируют индивиды, которые как частные
лица оказываются наиболее конкурентоспособными. В политическом
обществе доминируют субъекты, составляющие политический (управляющий) класс – в зависимости от их места в политической иерархии;
они используют свою политическую позицию для личного обогащения, но в основной массе они неконкурентоспособны как частные лица, и они не имели бы подобного общественного положения, если бы
выступали как частные лица и не опирались на организованное, публично-властное принуждение.
Гражданскому обществу соответствует правовое государство, в котором принадлежность человека к аппарату политической власти не
дает ему общественных преимуществ. Политическому обществу – если
это не тотально политизированная система – соответствует авторитарное государство. Но есть и промежуточный или смешанный вариант.
Современный социал-капитализм породил гибрид гражданского общества и политического общества и соответствующую политическую систему – перераспределяющее государство, которое причудливо сочетает в себе черты правовой государственности и авторитаризма. В социал-капиталистическом (смешанном) обществе действуют два “правила
игры”, одновременно идут два процесса: общественное богатство распределяется по принципу права, в пользу более конкурентоспособных,
но государство (управляющая система) перераспределяет общественное богатство в пользу менее конкурентоспособных и в пользу самой
перераспределяющей бюрократии, управляющего класса.
Понятно, что такое перераспределяющее государство нельзя
назвать правовым государством, но его нельзя назвать и однозначно
авторитарным, поскольку оно устроено демократически и действует по
воле большинства – массы менее конкурентоспособных или просто неконкурентоспособных членов общества. И все же оно имеет существенный авторитарный элемент: волей большинства определяется,
главным образом, то, что государство должно быть перераспределяющим, но никакое большинство не определяет и не может определять, в
чью именно пользу и каком объеме нужно перераспределять общественное богатство. Перераспределяющему государству адресованы
191
взаимоисключающие требования: все хотят получать через государство за счет своих конкурентов, но никто не хочет платить налоги;
лоббируются противоположные интересы. В результате определяет
перераспределяющая бюрократия, особенно, ее верхушка.
Социальное правовое государство. В постиндустриальном обществе, которое складывается в ХХ в. в наиболее развитых индустриальных странах, малоквалифицированный труд в производстве заменяется
автоматизированным, высококвалифицированным. Существенно большая часть членов общества реально исключается из процесса производства и потенциально – из сферы экономической активности вообще
При этом эффективность производства становится качественно более
высокой, а национальный доход – достаточным для удовлетворения
растущих потребностей практически всех членов общества (возникает
“общество потребления”).
В таком обществе возникает “социальное государство” или “социальное правовое государство”, которое, по замыслу его идеологов,
должно обеспечивать не только правовую свободу, но и социальный
мир (смягчать социальные противоречия), создавать условия, позволяющие социальным аутсайдерам добиваться благополучия. Такое государство признает и гарантирует уравнительной политикой потребительские привилегии, или, по позитивистской классификации, “права
человека второго поколения”. Сюда включаются минимум оплаты и
других условий труда (за счет работодателя), выплаты безработным и
расходы на профессиональное обучение или переобучение, социальное
обеспечение по возрасту или инвалидности, обеспечение малоимущих
бесплатным или частично оплачиваемым жильем, бесплатными или
частично оплачиваемыми услугами в области образования, здравоохранения (за счет всех налогоплательщиков) и т.п. После второй мировой войны “права второго поколения” в документах ООН включаются в число общепризнанных прав человека.
“Права второго поколения” в основном складываются в результате перераспределительной деятельности государства. В этом их сущностное отличие от “прав человека первого поколения” – естественных
и неотчуждаемых прав и свобод. “Права первого поколения” объективируются по мере исторического прогресса свободы, а их государственно-политическое признание является вторичным. Что касается
“прав второго поколения”, то здесь, наоборот, сначала утверждается
редистрибутивная, уравнительная государственная политика, а уже затем констатируется факт, что в результате этой политики складывается
система защищаемых законами интересов – “права второго поколения”.
192
Эти “права” – октроированные. Это права в кавычках, так как в
действительности они суть привилегии, которые предоставляются не
каждому, а лишь тому, кто оказывается в экономически невыгодном
положении. Для того чтобы обеспечивать эти привилегии, правительство должно в виде налогов отнимать у других часть имущества. Это
значит, что общество делится на тех, в чью пользу перераспределяется
национальный доход, и тех, за чей счет он перераспределяется. Причем
привилегии устанавливаются произвольно (в нейтральном смысле) и
также произвольно реализуются – в зависимости от объективных возможностей экономики и политики конкретного правительства (левой
или правой ориентации).
Таким образом, принцип социального государства – уравнительный, правонарушающий, противоречащий праву собственности.
Понятно, что в демократическом государстве уравнительное ограничение собственности происходит с согласия самих налогоплательщиков. Однако большинство налогоплательщиков, соглашаясь с такого
рода ограничениями, делают это не потому что им хочется поделиться
своим имуществом, а потому что они сами рассчитывают воспользоваться услугами социального государства (например, лишь частично
оплачивать медицинские услуги, не платить за обучение детей и т.д.).
Они голосуют за ту партию, которая на сегодняшний день кажется
наиболее убедительной в своих обещаниях рационализировать систему
налогов и сделать блага, которые “дает” социальное государство, доступными для всех. “Система удержаний дополнена системой выплат,
скидок и вычетов, так что выделить нетто-плательщиков и неттополучателей невозможно… Можно сказать, что значительная часть
населения и бизнеса практически во всех странах мира подкуплена подачками и/или сбита с толку ожиданиями таковых” (Г.Г. Сапов).
Следовательно, так называемое социальное правовое государство –
это не разновидность правового государства. (Как утверждают легисты, в XIX веке правовое государство было либеральным, а в ХХ оно
стало социальным). Это перераспределительное государство, в котором уравнительное начало государственной политики конкурирует с
правовым началом.
Другое дело, что социальное правовое государство – это государство, в котором ранее механизмы господства права уже были развиты
настолько, что они способны удержать редистрибутивный произвол в
жестких рамках, не дать уравнительной политике существенно навредить правовому способу регуляции.
В социальном правовом государстве, образно говоря, действуют
разные и взаимоисключающие “правила игры”. По правилам “право-
193
вой игры” человек удовлетворяет свои потребности, вступая в отношения эквивалентного обмена. Он может “играть” и по “социальным правилам”. Но в “социальной игре” человек получает лишь некий минимум социальных благ. Эти “игры” неравноценны, и по “социальным
правилам” нельзя получить то, что можно получить в случае удачной
“правовой игры”. Обычно человек он вступает в “социальную игру” в
том случае, если разоряется, действуя по правилам “правовой игры”.
Чрезмерная ориентация государства на редистрибутивную политику, в ущерб господству права, приводит к перегруженности, непомерному разбуханию и неэффективности государственного аппарата, а в
экономике – к снижению производства, оттоку капитала и инфляции. В
результате механизмы саморегулирования гражданского общества
срабатывают таким образом, что большинство избирателей голосует за
политические элиты, которые больше ориентируются на правовое
начало государственности. При новом правительстве уменьшается
налоговое бремя, сокращаются расходы на социальные программы,
растет рентабельность производства и начинается приток капитала. Но
после оздоровления экономики к власти опять приходят партии, выступающие за редистрибутивную политику. Так социальное правовое
государство действует по принципу маятника, колеблющегося между
правовым и уравнительным регулированием: при правительстве правой ориентации происходит накопление ресурсов, а при правительстве
левой ориентации эти ресурсы растрачиваются, и политический “маятник” начинает движение “вправо” и т.д.
Основная проблема заключается в том, что редистрибутивное государства – это паллиатив: если людям платить за то, что они безработные, бедные и больные, то доля таковых в населении страны будет
расти. Оно не решает социально-экономических проблем, которые
возникают при рыночной экономике, в правовом государстве. Все попытки совершенствования социального правового государства оборачиваются лишь ростом издержек по осуществлению перераспределительной деятельности, неэффективной растратой общественных ресурсов, отвлечением массы квалифицированных и энергичных людей от
действительно полезной деятельности. “Всякого рода привилегии выгодны для частных лиц, которые их получают, и ложатся бременем на
нацию, которая их дает” (Ж.-Ж. Руссо).
Кто же заинтересован в сохранении и усилении редистрибутивного
государства? “Главными бенефициарами процесса являются получатели того, что, так сказать, оседает на стенках сосудов перекачки богатства от одних членов общества к другим” (Г.Г. Сапов).
Посттоталитарное государство не может быть социальным право-
194
вым государством западноевропейского типа. В посттоталитарной ситуации еще нет гражданского общества, и редистрибутивное государство может быть только авторитарным, в котором национальный доход
перераспределяется независимо от воли налогоплательщиков.
Третий раздел. ЮРИДИЧЕСКАЯ
ДОГМАТИКА
Тема 16. Феноменология права
Вопросы для обсуждения
1. Правовые явления и нормы права как содержание правовых явлений.
2. Способы бытия правовых норм.
3. Форма права.
Из лекции: Правовые явления классифицируются следующим образом: (1) поведение, подчиненное праву; (2) проявления права в сознании; (3) авторитетные тексты, в которых формулируется право и,
прежде всего, официальные юридические тексты – правовой “продукт”
публично-властной деятельности.
Других видов правовых явлений не существует. В частности, нормы права – это не самостоятельный вид правовых явлений, а правила
должного, которые проявляются посредством правовых явлений, объективируется в правовых явлениях. Правовые явления – это способы
бытия правовых норм.
Итак, все многообразие правовых явлений сводится к трем видам.
Во-первых, это правоотношения, т.е. отношения, подчиненные правовым нормам; сюда входит поведение субъектов, связанных субъективными правами и юридическими обязанностями, а также действия и
решения, направленные на установление правоотношений. Во-вторых,
это правосознание, т.е. представления о праве, существующие в сознании субъектов права. В-третьих, это источники или носители информации о праве – авторитетные юридические тексты, письменные и
устные, к которым относятся и авторитетные высказывания о праве, и
официальные юридические документы (законы, судебные решения и
т.д.), и оформленные договоры частных лиц.
195
Может возникнуть впечатление, что существуют и другие правовые явления: например, субъект права, правовые обычаи, правовые
процедуры (правовой порядок приобретения прав и обязанностей, разрешения споров о праве), правовая доктрина и т.д. Но это не самостоятельные виды, а лишь частные проявления, элементы или сочетания
названных видов правовых явлений. Так, субъект права – это субъект,
обладающий качеством правосубъектности (способный участвовать в
правоотношениях) и участвующий в правоотношениях. Субъект права
не существует вне правоотношения. Субъект права и субъект правоотношения суть одно и то же. Правовые процедуры суть особые, процессуальные правоотношения. Правовая доктрина представляет собой одно из проявлений правосознания (теоретическое правосознание). Правовой обычай (правовые нормы в форме обычая) как явление означает
обычные правоотношения – отношения, подчиненные нормам, сложившимся в обыденном правосознании.
Государство – это тоже правовое явление (институциональная
форма правовой свободы людей). В этом смысле государство можно
рассматривать и как систему публичноправовых отношений (властеотношений), и как феномен правосознания (представления о формах и
содержании властеотношений, о пределах властвования и подчинения), и как систему публичноправовых законов.
Содержание правовых явлений. Содержание правовых явлений,
или содержание права, можно представить как (1) субъективные права
и юридические обязанности, (2) правовые статусы и (3) правовые нормы. Причем, как будет показано ниже, в развитых правовых системах
нормы права, заключают в себе почти всю информацию о содержании
правовых явлений.
Субъективные права и корреспондирующие им юридические обязанности суть простейшие элементы содержания всех правовых явлений. Совокупность исходных, первичных субъективных прав и юридических обязанностей, определяющих правовое положение субъектов в
обществе и государстве, называется правовым статусом. Правовой
статус – это тоже содержательная характеристика правовых явлений.
Правовые нормы абстрактно описывают субъективные права и юридические обязанности, следовательно, и правовые статусы.
Следует еще раз отметить, что норма права сама по себе – это еще
не (правовое) явление. Ибо любая социальная норма – это не явление, а
правило должного, модель, эталон социальных явлений (социального
сущего). Так, норма права, сформулированная в законе, тем самым
объективируется – обретает способ своего бытия, внешнего выражения. Но правовым явлением в данном случае будет не само правило
196
должного, а особая разновидность социального сущего – закон, содержащий формулировку правовой нормы, нормативно-правовой текст
закона.
Нормы права объективируются в правовых явлениях. Они составляют содержание правовых законов и правовых обычаев. Они содержатся в правосознании. Они описывают (и предписывают) содержание
правоотношений, воплощаются, реализуются в их содержании, и в
этом смысле они содержатся в правоотношениях.
Причем субъективные права и юридические обязанности, составляющие содержание типичных (нормальных) правовых явлений, всегда можно обобщить в виде правовых норм – будь то первичных или
вторичных. Можно сказать, что существующие правовые нормы в
обобщенной форме заключают в себе почти все многообразие существующих и возможных прав и обязанностей. Поэтому и содержание
правовых явлений может быть описано и описывается нормами права.
Социальное бытие правовой нормы (онтология права). Норма права, как и всякая социальная норма, есть правило должного (модель,
эталон поведения), а правило должного не обладает самостоятельным
(идеальным) бытием. Способы бытия социальной нормы – это объективирование (проявление) нормы в общественном сознании, общественных отношениях и авторитетных текстах, в частности, в церковных канонических текстах или официальных текстах, изданных органами государственной власти.
Социальные нормы возникают постольку, поскольку определенное
содержание общественных отношений (сущее) признается должным
быть, оценивается в общественном сознании как нечто нормальное.
Нормы вырабатываются и фиксируются общественным или хотя бы
групповым сознанием. Получаются мыслительные конструкции нормального поведения, модели нормальных отношений. В процессе обмена информацией они приобретают словесно-знаковую форму выражения. Получается текст нормы – устный или письменный. Текст социальной нормы формулируется авторитетными, в частности официальными, властными выразителями общественного (или хотя бы группового) сознания, например законодателями. Авторитетно (официально) сформулированная норма не просто фиксирует некое сущее как
нормальное, но и требует, чтобы поведение людей соответствовало
сформулированному правилу.
Любые социальные нормы, в том числе и правовые, нельзя рассматривать в отрыве от отношений, регулируемых этими нормами. Когда норма складывается, то определенное содержание отношений,
фиксируемое сознанием как должное быть, выступает как предпосылка
197
этой нормы. Норма – это правило должного, которое отражает определенное сущее; в своей основе правила должного исходят из сущего –
полезного, ценного, привычного, традиционного или устоявшегося.
Само понятие социальной нормы предполагает нормальное социальное
сущее. Нормы не порождают, а фиксируют определенное сущее с модальностью долженствования. Если же законодатель предписывает новое правило должного, которое еще не действует в общественной жизни, то это еще не социальная норма, а просто воля законодателя. Когда
пожелание законодателя воплотится в общественных отношениях, тогда и можно будет говорить о норме, а до тех пор это будет нечто
предполагаемое, желаемое, требуемое, но еще не нормальное. Если законодатель повелел считать нечто нормальным, то это еще не значит,
что он действительно создал или сформулировал норму. Ибо возможно, что в ситуациях, предусмотренных законом, в действительности будет происходить – как правило – не то, что предписано законодателем, а нечто иное.
Социальные нормы (модели, эталоны, правила поведения) существуют в трех “ипостасях”: как определенное содержание общественных отношений, признаваемое нормальным; как содержание общественного сознания, вырабатывающего и хранящего норму; как содержание устного или письменного авторитетного текста, в котором
сформулированы нормы (в частности, содержание официального текста, закона).
Не может быть таких социальных норм, которые объективируются
посредством лишь одного или двух способов бытия.
Во-первых, социальная норма не может объективироваться только
в общественном сознании. В противном случае это будет не норма, а
идея, установка, пожелание, ожидание, мечта и т.п.
Во-вторых, абсурдно говорить о норме (правиле должного), проявляющейся только в фактических общественных отношениях. Если в
них и проявляются некие объективные закономерности (т.е. такие, которые не зависят от воли и сознания участников отношений), то это –
не социальные нормы, а некие “правила сущего”, аналогичные законам
природы. Так, социальное поведение людей подчиняется не только социальным нормам, но и естественным, т.е. инстинктивным, генетически запрограммированным диспозициям поведения. Причем эти
диспозиции могут противоречить правовым нормам цивилизованного
общества, и тогда они выступают как одна из причин правонарушений,
преступности.
В-третьих, любая социальная норма предполагает ее формулирование в авторитетном устном или письменном тексте (авторитетном для
198
адресатов нормы). Иначе нормативные представления в общественном
сознании не будут иметь достаточной определенности – а норма не может быть неопределенной по содержанию. Следовательно, должны быть
авторитетные субъекты, определенно формулирующие норму и поддерживающие ее своим авторитетом. Степень авторитета и авторитетности текста нормы может быть разной, но без них нет нормы. Авторитетными выразителями нормы могут быть просто люди, уважаемые в
круге лиц, в котором действует норма. Что касается общесоциальных
норм, то с возникновением публичной политической власти почти все
общесоциальные нормы, обязательные для всех членов властно объединенного сообщества, формулируются в официальных текстах, издаваемых публично-властными субъектами.
Однако если некое правило предписано официальным текстом,
например законом, но при этом оно отвергается общественным сознанием или не отвергается, но и не реализуется, или, наконец, никак не
проявляется ни в общественном сознании, ни в общественных отношениях, то это – не норма, а авторитетное требование нормы, которое не
стало нормой и, возможно, никогда не станет нормой. Если приказ законодателя о новом правиле так и остается на бумаге, то нет никаких
оснований утверждать, что законодатель создал социальную норму. В
этом случае была неудавшаяся попытка законодателя создать социальную норму, или можно говорить о псевдонорме и даже о “притворной
норме” – законодательном установлении без намерения создать норму,
о котором заранее известно, что выполнить его нельзя. Тем не менее у
всех народов встречаются официальные предписания, которые они обходят или открыто нарушают, но отказываются отвергнуть. В таком
случае нормой является не официальное предписание, а его нарушение.
В то же время возможны законоположения, которые сначала отвергались общественным сознанием, противоречили ценностным установкам большинства, поддерживались только принуждением, но стали
нормами. Законоположения могут быть реализованы в общественной
практике чисто силовым путем, насилием или угрозой его применения.
Ибо власть может быть столь сильной (например, в тоталитарном обществе), что она способна заставить выполнять любой приказ.
И все же социальные нормы не могут держаться только на силе.
Либо норма, вводимая силовым путем, так и не станет социальной
нормой в собственном смысле и прекратит свое существование, как
только ослабеет поддерживающая ее сила. Либо она постепенно изменится, адаптируется к установкам общественного сознания. Либо изменится само общественное сознание.
199
Правовые нормы объективированы в правосознании, правоотношениях и авторитетных юридических текстах.
Правовые нормы, не сформулированные в официальном тексте
(хотя и зафиксированные в иных авторитетных текстах, устных) – это
нормы в форме обычая; они не имеют официальной формы. В развитых правовых системах почти все правовые нормы формулируются в
официальной форме законов, прецедентов и т.д. Но социальное бытие
официально установленных норм права не сводится к правовым законам. Не может быть правовой нормы, которая установлена в законе, но
не объективирована в правосознании и правоотношениях.
Здесь нужно сделать следующую оговорку. Законодатель может не
только регулировать (пытаться регулировать) повседневные отношения, но и предусматривать регулирование гипотетических социальных
ситуаций – таких, которые могут возникнуть (но могут и не возникнуть) в будущем. Если законодатель связывает установленное им правило с возникновением обстоятельств, которые встречаются в повседневной жизни, то законоположение, чтобы быть нормой, должно
быть реализовано в повседневной жизни. Но если законодатель имеет
в виду обстоятельства, которых еще не существует, или случаи, которые возникают редко (например, отрешение президента от должности
или принятие новой конституции), то он предписывает правило, которое может быть реализовано постольку, поскольку соответствующие
обстоятельства могут возникнуть в будущем. Вместе с тем такое правило должно быть реализовано при наступлении соответствующих обстоятельств. В отношении таких законов действует презумпция нормотворчества законодателя.
Правовые законы, правовые отношения и правосознание – это правовые явления, которые следует рассматривать как равнозначные способы бытия правовых норм. Ошибочность распространенной в постсоветской легистской литературе конструкции “правовая система” заключается, прежде всего, в том, что правовые нормы рассматриваются
как специфические правовые явления и ставятся в один ряд с другими
правовыми явлениями. Между тем нормы – не самостоятельные правовые явления, а лишь содержание правовых явлений. Получается, что
в теоретической конструкции “правовая система” нормы права (как
элементы этой системы) фигурируют дважды: нормы как таковые и те
же самые нормы, но уже в виде правовых явлений – правоотношений,
правосознания и т.д.
Из того, что правоотношения и правосознание являют собой способы бытия правовых норм, не следует, что все содержание этих правовых явлений сводится исключительно к правовым нормам. В право-
200
отношении его участники (стороны) связаны субъективными правами
и юридическими обязанностями. Совокупность типичных правовых
отношений, множество правоотношений с одинаковым содержанием –
это одно из проявлений, или один из способов бытия правовой нормы.
Вместе с тем возможны такие правоотношения, содержание которых не описывается существующими правовыми нормами. Точнее – не
всегда правоотношения возникают постольку, поскольку есть норма
права. Правоотношение возможно и тогда, когда нет нормы. Имеется в
виду, что нет не только соответствующего закона (нормативного установления), но и обычая.
Так, частноправовое отношение (правоотношение между частными
лицами) обычно возникает в результате заключения правового договора. Договор, как правило, заключается на основе правовой нормы, зафиксированной в законе или существующей в форме обычая. Однако в
отношениях частных лиц действует принцип “все, что не запрещено
правом, разрешено”. Поэтому даже в развитых правовых системах возможны и нетипичные, ранее не встречавшиеся и в этом смысле “ненормальные” договоры. Такие договоры могут предшествовать появлению
новой нормы права – обычной или официальной.
Кроме того, для возникновения правоотношений нередко требуются официальные правоустановительные акты (судебные или административные решения). Это не нормативные, а индивидуальные акты
(приказы, распоряжения, приговоры, постановления и т.д.). Их издают
государственно-властные субъекты, которые, в силу своего законного
правового статуса, компетентны устанавливать права и обязанности
сторон правоотношения.
Индивидуальные акты должны быть нормоприменительными,
должны быть актами, основанными на норме права. Но возможно и издание индивидуального акта (принятие правового решения) ad hoc.
Это означает установление прав и обязанностей, исходя лишь из обстоятельств самого административного или судебного дела, по которому принимается решение. Решения ad hoc принимаются тогда, когда
нет соответствующей нормы права. Поэтому такие решения характерны для исторически неразвитых правовых систем. В развитых правовых системах, особенно, в романо-германских, издание индивидуальных актов ad hoc допускается как исключение из общего правила. В то
же время решение ad hoc может стать нормативным прецедентом, т.е.
может привести к появлению новой нормы. В странах общего права
решениями ad hoc являются креативные судебные прецеденты.
Таким образом, правоотношения и порождающие их официальные
акты и договоры – это правовые явления, содержание которых должно
201
быть предусмотрено правовыми нормами. Но есть исключения – акты,
изданные ad hoc, и “ненормальные” договоры. Причем (1) и те, и другие не характерны для развитых правовых систем, и (2) обычно они
предшествуют появлению новой нормы права или даже создают новую
норму (в виде прецедента). Следовательно, и здесь понятие правовой
нормы остается ключевым для объяснения содержания правовых явлений.
Правосознание – один из способов бытия правовых норм наряду с
текстами правовых законов и правовыми отношениями. В нормах права фиксируются нормальные, полезные, юридически ценные модели
поведения субъектов права. Они устанавливаются постольку, поскольку правосознание оценивает содержание тех или иных отношений как юридически должное, нормальное или, наоборот, юридически
вредное, ненормальное. Поэтому правовые нормы, закрепленные законом или обычаем, выражают содержащуюся в общественном правосознании и в правосознании законодателей оценку предшествующего
опыта правового общения.
Вместе с тем правосознание – многомерное явление, и его содержание не исчерпывается нормами права.
В частности, правосознание включает в себя знание о действующих правовых нормах. Но это знание производно от правового опыта
конкретных индивидуальных и групповых субъектов, от их знания
правовых законов, от уровня их правовой культуры и т.д. В правосознании отдельных групп и, тем более, индивидов реально существующие нормы права могут искажаться. Для некоторых же групп характерна правовая неграмотность.
Кроме того, индивидуальное, а иногда и групповое, правосознание
выражает эмоции, настроения, чувства и другие проявления субъективно-иррационального восприятия права, которые могут не иметь никакого нормативно-правового характера.
Наконец, наиболее прогрессивное индивидуальное или групповое
правосознание может выражать притязания на такую правовую свободу, ее объем и содержание, которые еще не достигнуты и не стали
нормой в существующей правовой культуре. Речь идет именно о правовых притязаниях – требованиях свободы, равной для всех. Так, в Новое время в западноевропейской правовой культуре в правосознании
третьего сословия постепенно вызревали фундаментальные правовые
притязания, которые лишь сегодня признаны европейскими стандартами правовой свободы. Сначала эти групповые правопритязания (на
равноправие независимо от религиозных и сословных различий, на
государственное признание и защиту равной для всех личной свободы,
202
безопасности и собственности, на политическую свободу) опережали
уровень развития общей правовой культуры и не могли определять
государственно-правовую действительность. Пока они оставались революционным правосознанием части общества, они не могли быть
всеобщей нормой.
Периодически возникающие в любой правовой культуре новые
притязания на официальное признание и защиту большей правовой
свободы служат проявлением исторического прогресса права и государства. Это нормативные притязания, т.е. такие, содержание которых
может и должно трансформироваться в систему правовых норм. Но
первоначально они существуют только в правосознании, следовательно, еще не существуют как социальные (правовые) нормы.
Формой права называются формы, или способы, установления
(внешнего выражения) правовых норм, субъективных прав и юридических обязанностей. Различаются официальная и неофициальная формы
права.
Официальная форма права – это официальные государственновластные акты, нормативные или индивидуальные. Право может быть
выражено и должно выражаться в форме государственно-властного акта – в форме акта волеизъявления государственно-властного субъекта,
каковым может быть законодательный орган, суд и даже народ (совокупность граждан), если официальный акт принимается путем референдума.
Неофициальная форма включает в себя обычай и договор частных
лиц. Правовая норма может быть выражена в форме обычая – в форме
согласия некоего круга субъектов права относительно правил их поведения, в форме признания и одобрения субъектами права определенного круга некой общей для всех модели поведения. Конкретные субъективные права и юридические обязанности могут быть выражены в
форме договора. Сила договора, прежде всего, в том, что договоры
должны соблюдаться, а иначе они бессмысленны. В случае же нарушения договора санкции к нарушителю должны применять государственно-властные субъекты, если они признают договор действительным, не противоречащим праву.
Договор частных лиц и официальный индивидуальный акт – это
простейшая форма права. Форма выражения правовых норм – это уже
более сложная форма права. В нормах права абстрактно описываются
права и обязанности. Следовательно, форма выражения правовой нормы (например, закон) – это одновременно форма выражения прав и
обязанностей, абстрактно описанных в этой норме.
Нормы права реализуются и конкретизируются в индивидуальных
203
актах и договорах. В этом смысле индивидуальные акты и договоры
представляют собой форму реализации норм права. Но индивидуальные акты ad hoc и нетипичные (“ненормальные”) договоры уже нельзя
рассматривать как форму реализации правовых норм. Права и обязанности могут устанавливаться в индивидуальных актах и договорах
независимо от наличия нормы. Следовательно, эти акты представляют
собой самостоятельную форму права. В форме индивидуальных актов
и договоров может быть установлено право, не предусмотренное законами или обычаями.
С точки зрения легистов, форма выражения правовых норм – это
только официальные государственно-властные акты, в которых властно устанавливаются нормы. Легисты не признают самостоятельной неофициальной формы права и единственно возможной формой права
считают законы, нормативные прецеденты и другие официальные акты
нормативного характера. У этих актов в юриспруденции есть другое
название – источники права в формальном смысле. По существу, легисты отождествляют форму права с источниками права в формальном
смысле. Они сводят форму права к официальной форме признания,
установления или выражения социальных норм. Обычай они признают
формой права лишь тогда, когда он складывается в процессе осуществления власти или когда он официально санкционирован. Они считают
правовым любой официально признанный обычай независимо от его
содержания. Неправовой, но властно признанный обычай они назовут
правовым обычаем. Наоборот, если обычай не санкционирован, то легисты не признают его формой права.
Тема 17. Норма права
Вопросы для обсуждения
1. Нормы права, правоположения и законоположения.
2. Принцип и структура соционормативной регуляции и структура
отдельной правовой нормы.
Из лекции: Отождествление норм и законоположений – проявление вульгарного легизма, неспособности различить нормы и иные
суждения, нормативные и иные законоположения. Здесь срабатывает
примерно следующая логика: право – нормы, установленные в законе,
независимо от содержания; следовательно, все содержание закона –
это право, т.е. нормы права; следовательно, все законоположения суть
нормы права. Правда, оказывается, что эти “нормы” (законоположе-
204
ния) бывают самые разные – “нормы-правила”, “нормы-цели”, “нормыпринципы”, “нормы-определения” и т.д.
Следует различать понятия “официальная правовая норма”, “официальное правоположение” и “законоположение” (“официальное установление”).
Во-первых, не все официальные правоположения, содержащиеся в
нормативных юридических текстах (в правовых законах), являются
нормами права. Нормы (правила) в абстрактной генерализованной
форме описывают субъективные права и юридические обязанности.
Во-вторых, не все законоположения являются правовыми. Официально могут быть установлены и неправовые положения (моральные
нормы, технические нормы, привилегии и т.д.), и даже противоправные положения.
В-третьих, не все законоположения являются нормативными. В
официальной форме могут быть выражены рекомендации, декларации,
заклинания, просто бессмысленные положения, оценочные суждения,
не порождающие субъективных прав и обязанностей, и подобные положения, наличие которых в юридическом тексте в лучшем случае
равносильно их отсутствию.
Например, ч.1 ст.37 Конституции РФ гласит: “Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию”. Если это правоположение, то оно ничего не добавляет к уже провозглашенному в Конституции РФ (ч.1 ст.22) праву на свободу и личную неприкосновенность:
каждый вправе распоряжаться собой в целом и всеми своими способностями, а не только своей способностью к труду. С таким же успехом
можно заявлять о праве каждого свободно распоряжаться своими физиологическими способностями, выбирать род пищи и время для гигиенических процедур и т.д. Причем “право выбирать род деятельности и
профессию” не порождает чьей бы то ни было обязанности предоставить человеку оплачиваемую работу по выбранной им профессии. Работа по найму определяется не столько свободой, сколько соотношением спроса и предложения на рынке труда.
Более того, это конституционное положение предполагает свободу
трудового договора: никто не вправе препятствовать человеку, свободно распоряжающемуся своими способностями к труду. Но в таком
случае трудовое законодательство, запрещающее договоры, ухудшающие положение работника в сравнении с законом, следует расценивать
как антиконституционное, нарушающее право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду.
Таким образом, наличие ч.1.ст.37 Конституции в лучшем случае
205
можно было бы считать равносильным ее отсутствию. Однако подобные декларации в главе о правах человека вредят авторитету Конституции, девальвируют содержащиеся в ней правоположения, вызывают
впечатление, что и другие конституционные положения о правах человека имеют декларативный характер.
Содержание официальных юридических текстов составляют, прежде всего, правоположения. Но не все правоположения официальных
текстов суть нормы права. В числе правоположений важную роль играют правовые дефиниции, т.е. правоположения, которые объясняют
термины, используемые в нормах, но сами не предусматривают субъективные права и юридические обязанности. Они не имеют логической
структуры нормативного регулирования (гипотеза и диспозиция).
Также к правоположениям относятся правовые принципы. Последние суть абстрактное выражение смысла некоего множества правовых
норм. Знание принципов права позволяет судить о существующих
нормах (иных законоположениях) как о соответствующих либо противоречащих принципиальным правоположениям. Но принцип не заменяет норму. Руководствуясь принципиальными правоположениями,
зная какими “в принципе” должны быть правовые нормы, эти нормы
еще нужно сформулировать в процессе правоустановительной деятельности. Например, принцип соразмерности наказания преступлению заставляет законодателя при составлении уголовного кодекса
устанавливать наказание за грабеж, более суровое нежели наказание за
кражу, но каким именно должно быть наказание, из этого принципа
еще не ясно, и законодатель формулирует множество норм, устанавливающих наказание за грабеж и его отдельные виды. Исходя из принципа “никто не может быть судьей в своем деле”, следует признать противоправной норму, обязывающую суд при установлении определенных фактов возбуждать уголовное дело; но из этого принципа не ясно,
кто при наличии этих фактов и в каком порядке обязан возбудить уголовное дело. Вообще, когда некая норма признается противоправной,
поскольку она противоречит правовому принципу, возникает пробел в
праве, который должен быть устранен законодателем или преодолен
(восполнен) решением высокого суда; в обоих случаях формулируется
новая норма – теперь уже такая норма, которая не противоречит правовому принципу.
В правоприменительной деятельности, при осуществлении правосудия принципы права применяются, по меньшей мере, как критерий
правомерности нормы закона и допустимости ее применения (в странах прецедентного права высокие суды формулируют новые нормы
права путем толкования правовых принципов ad hoc). Например, суды
206
не должны применять законоположения, противоречащие конституционным принципам. Поскольку нормативное законоположение устанавливает права и обязанности, то суд, придя к выводу, что закон установил обязанность в нарушение конституционного принципа, должен
объявить законоположение недействительным и считать, что юридической обязанности нет. Так, Конституционный Суд РФ постановил, что
в правовом государстве законы о налогах должны содержать четкие и
понятные нормы. Поэтому необходимые элементы налогообложения
(налоговых обязательств) должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги и сборы, когда и в каком
порядке он обязан платить, а все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются
в пользу налогоплательщика, плательщика сборов (Постановление № 5
2000 г.). Формальная определенность налоговых норм предполагает их
достаточную точность, чем обеспечивается их правильное понимание
и применение. Расплывчатость налоговой нормы может привести к
произвольному и дискриминационному ее применению и тем самым –
к нарушению принципа юридического равенства и вытекающего из него требования равенства налогообложения, а потому предусмотренный в дефектных – с точки зрения требований юридической техники –
нормах налог не может считаться законно установленным в смысле
статьи 57 Конституции РФ (Постановления № 13 и № 16 1997 г.).
Наконец, правовые принципы позволяют надлежащим образом
толковать юридический текст, уяснять смысл содержащихся в нем
правовых норм. Например, если нормативное правоположение в равной мере допускает два варианта логического толкования, то следует
выбрать тот вариант, который соответствует релевантному принципу
права.
Аналогично в процессе толкования используются правоположения
о целях юридического текста.
Структура нормы права. В советской доктрине утвердилось ошибочное представление о логической структуре нормы права – так называемая трехчленка (гипотеза–диспозиция–санкция). Поскольку нормативные законоположения (статьи закона), как правило, не формулируются по принципу “если…, то…, иначе…”, т.е. не содержат всех трех
названных элементов, предлагалось логически домыслить недостающий элемент правовой нормы или искать его в других законоположениях или законах (даже в законах, относящихся к другой отрасли права: например, гипотеза и диспозиция в конституции, а санкция в уголовном кодексе?!).
В последние десятилетия стала распространяться иная теоретиче-
207
ская позиция по этому вопросу – как реакция на явную несостоятельность “трехчленки”. А именно: с точки зрения структуры различаются
два вида норм – регулятивные и охранительные. Первые состоят из гипотезы и диспозиции, вторые – из диспозиции и санкции. Есть несколько модификаций такой теоретической позиции.
Хотя такая позиция выглядит более привлекательной, у нее есть
существенный недостаток: все нормы права, рассмотренные с формальной точки зрения, должны иметь одинаковую структуру.
И в основе “трехчленки”, и в основе попыток разделить ее на две
“двучленки” лежит одно и то же недоразумение. Сторонники и той, и
другой позиции перепутали норму права (правило поведения, формулирующее права и обязанности) и логическую структуру, логический
принцип соционормативной регуляции. “Если…, то…, иначе…” – это
не структура отдельной правовой нормы. Это структура, или принцип,
соционормативной регуляции в целом.
Как объясняет нормативная логика, принцип соционормативной
регуляции заключается в следующем. Во-первых, описывается ситуация, в которой поведение признается значимым для данной системы
соционормативной регуляции. Во-вторых, формулируется правило поведения в этой ситуации, права и обязанности. В-третьих, предусматриваются негативные последствия для тех, кто нарушает установленное правило. Получается “если…, то…, иначе…”, причем, что именно
будет “иначе”, зависит от того, что именно будет сделано “не то”.
Этот принцип ошибочно интерпретировали как логику построения,
логическую структуру отдельной правовой нормы.
В действительности принцип соционормативной регуляции реализуется не установлением одной нормы для каждой отдельной ситуации, а посредством множества норм, каждая из которых нуждается в
дополнении другими. Именно в этом заключается системная связь
норм права.
В нормативной логике давно известно, что норма права состоит из
двух элементов – гипотезы и диспозиции. Никакого третьего элемента
(санкции) в одном ряду с гипотезой и диспозицией быть не может.
Гипотеза правовой нормы – это описание регулируемой ситуации,
точнее – описание ситуации в которой возникают права и обязанности
у тех, кто оказывается в этой ситуации, или описание определенного
вида субъекта права, у которого всегда, в любой ситуации есть определенные права и обязанности.
Диспозиция правовой нормы – само правило поведения, абстрактно формулирующее права и обязанности.
Отдельная правовая норма гласит: “если (гипотеза)…, то (диспози-
208
ция)”. Например, если вы в ситуации А, то вы вправе… и обязаны…
Или: если вы субъект Х, то вы вправе… и обязаны… Причем гипотеза
не является обязательным элементом правовой нормы. Гипотеза объясняет, когда действует диспозиция, на кого она распространяется. Если некие права (и обязанности) всегда есть у каждого индивида (фундаментальные права человека), и поскольку индивид есть исходный
субъект права, то диспозиции об этих правах не нуждаются в гипотезе
(“каждый” – это не гипотеза, нормативная логика в таких случаях говорит о нулевой гипотезе). Если речь идет о правах гражданина, то
здесь уже появляется гипотеза – “гражданин”. Также многие правовые
запреты (убивать, воровать, оскорблять и т.д.) адресованы всем и каждому, следовательно, имеют нулевую гипотезу.
Согласно описанному выше принципу соционормативной регуляции, правовое регулирование (регулирование посредством системы
правовых норм) происходит следующим образом (имеет следующую
структуру). Во-первых, для некой исходной юридически значимой ситуации устанавливается (складывается, формулируется, санкционируется и т.д.) первая норма (Н): если Г, то Д. Эта норма предписывает,
что должно или что не должно делать с точки зрения обеспечения правовой свободы. Далее устанавливается Н 1, которая предполагает, что
Д будет нарушена в варианте Г 1, и гласит: если Г 1, то Д 1. Затем
устанавливается Н 2, которая предполагает, что Д будет нарушена в
варианте Г 2, и гласит: если Г 2, то Д 2, и т.д.
Нормы, начиная с Н 1, вплоть до Н n, (нормы второго ряда) представляют собой негативную реакцию правовой системы на разные варианты нарушения, условно говоря, позитивной диспозиции (нормы
первого ряда). Диспозиции норм второго ряда устанавливают негативные последствия для тех, кто нарушает норму (нормы) первого ряда.
Совокупность норм второго ряда, по существу, означает то, что в
“трехчленке” называется санкцией.
Причем, как правило, есть множество вариантов нарушения нормы
первого ряда, поэтому очень редко санкцию можно исчерпывающе выразить одним правоположением “иначе…”. Например, Н: никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (Г: если
нет соответствующего решения суда, Д: запрещается лишать субъекта
его имущества). Санкция для состоит из множества норм, прежде всего, уголовного права. Г 1: если кража, т.е. тайное похищение имущества, то Д 1; Г 1а: если квалифицированная кража в варианте (а), то Д
1а; Г 1n: если квалифицированная кража в варианте (n), то Д 1n; Г 2:
если грабеж…, то Д 2; и т.д. Кроме того, есть множество норм гражданского права, устанавливающих последствия нарушения Н без при-
209
знаков состава преступления. Таким образом, рассмотренную норму,
гарантирующую собственность, и нормы, обеспечивающие ее действие, с точки зрения юридической техники крайне затруднительно (и
не нужно) описывать по принципу “если…, то…, иначе…”.
Противоположный пример: запрет превышения скорости (Д) при
езде на автомобиле (Г) можно нарушить лишь в одном, максимум, в
двух вариантах – превысить скорость несущественно или существенно.
Нормы второго ряда гласят: если скорость превышена несущественно
(Г 1), то Д 1, если существенно (Г 2), то Д 2. Такую простую нормативную конструкцию можно выразить одним законоположением типа
“если…, то…, иначе…”: превышение скорости наказывается штрафом…, существенное превышение скорости – штрафом…
Наконец, есть нормы, которые логически допускают единственный
вариант их нарушения, и поэтому всегда формулируются по принципу
“если…, то…, иначе…”. Это нормы, которые запрещают делать “не
так”, независимо от того, как именно будет сделано не так. Например,
Г: внешнеэкономическая сделка, Д: требует письменной формы, С:
иначе она недействительна. Таково законоположение (“Несоблюдение
простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки”). Но на самом деле здесь две нормы: Г:
внешнеэкономическая сделка, Д: требует письменной формы; Г 1: если
требование Д не соблюдено, Д 1: сделка недействительна.
Таким образом, санкциями в юридической догматике называют
определенные диспозиции правовых норм, а именно, такие, которые
описывают негативные последствия для тех кто нарушает диспозицию
другой нормы. В этом контексте можно называть нормы регулятивными и охранительными. Но следует иметь в виду, что поскольку все
нормы права находятся в системной связи, то можно выстраивать не
два, а множество системно связанных логических рядов правовых
норм, и при этом норма определенного ряда будет “охранительной” по
отношению к норме предыдущего ряда, и она же будет “регулятивной”
для нормы следующего ряда. Например, в первый ряд входит запрет
убивать (Н), во второй – соответствующие нормы уголовного права (Н
1, Н 2, …Н n): “если судья (суд) установил, что Н нарушена способом
Г n, то он обязан назначить наказание, предусмотренное в Д n”. В третий же ряд входят нормы (Н 01, Н 02, … Н 0n), устанавливающие негативные последствия для судьи, нарушающего обязанности Д n: “если
судья нарушил обязанность Д n в варианте Г 01, то Д 01” (например,
приостановление или прекращение полномочий, наказание за вынесение заведомо неправосудного приговора), и т.д. Следовательно, Н n
является “охранительной” нормой для Н, но “регулятивной” нормой
210
для Н 0n. Кроме того, все нормы что-то регулируют, поэтому их деление на регулятивные и охранительные представляется терминологически неточным.
В доктрине есть множество классификаций правовых норм. При
этом нередко различаются разновидности не собственно норм, а нормативных законоположений.
Виды собственно норм права различаются в зависимости от отраслевой принадлежности: нормы конституционного, административного,
гражданского, уголовного (материального права) и процессуального
права. Кроме того, из вышесказанного вытекает возможность, с оговорками, различать регулятивные и охранительные нормы. Охранительная – это норма, гипотеза которой предусматривает определенное
нарушение диспозиции другой нормы права.
По сфере действия различаются нормы общие и специальные,
устанавливающие исключение, изъятие, частный случай первых. А
именно, гипотеза специальной нормы составляет частный случай того,
что описано в гипотезе общей нормы.
Наконец, можно различать нормы в зависимости от их юридической силы, связывая ее с видом источника права и компетенцией государственного органа, создающего или санкционирующего юридический текст. В этом контексте Р. Давид писал о первичных и вторичных
нормах, имея в виду что вторичные по отношению к закону юридические тексты, которые создаются судами, судебной практикой, de facto
могут содержать нормы права, отличные от нормативных законоположений.
Все иные классификации относятся к нормативным законоположениям. Например, запрещающие, обязывающие и управомочивающие –
это не нормы права, а способы изложения диспозиций и соответствующие законоположения. Все нормы права являются обязывающими.
Если из законоположения не вытекает чья-либо обязанность, то в этом
законоположении нет диспозиции. Соответственно, не бывает правовых норм “поощрительных” и, тем более, “рекомендательных”. “Поощрительная” норма права предполагает юридическую обязанность
“поощрить”, т.е. выполнить определенные действия в пользу субъекта,
отвечающего требованиям, сформулированным в гипотезе. В противном случае речь должна идти не о норме права, а о произволе: могут
поощрить, а могут и не поощрить (как известно, “Государь жалует нас
не по заслугам”).
В доктрине есть устоявшиеся, хотя и неудачные, термины “императивные нормы” и ”диспозитивные нормы”. Во-первых, любая норма
права императивна, ибо она не “рекомендует”, а предписывает, импе-
211
ративно устанавливает определенные права и обязанности для определенной ситуации. Во-вторых, она диспозитивна в том смысле, что в
ней есть диспозиция определенного поведения, выраженная в предписании обязанностей, корреспондирующих правам. Но дело не только в
терминологии.
По существу речь идет о двух способах (методах) государственновластного, законодательного воздействия в сфере правового регулирования. Первый способ (“императивные нормы”) исключает усмотрение, свободное волеизъявление субъектов права и подчиняет их поведение обязательному правилу. Второй способ (“диспозитивные нормы”) допускает такое усмотрение и свободное волеизъявление по
принципу “не запрещенное разрешено”.
При втором способе соответствующее законоположение содержит
по существу не одну, а две нормы. Первая норма имеет неопределенную диспозицию, т.е. предлагает сторонам некоего отношения, описанного в гипотезе, самостоятельно определить права и обязанности по
принципу “не запрещенное разрешено”. Вторая норма имеет определенную диспозицию (предписывает определенные права и обязанности) и кумулятивную гипотезу (во-первых, описание некоего отношения и, во-вторых, предположение, что стороны не установили иные
права и обязанности). Первая норма логически поглощается второй
нормой: вторая норма предполагает наличие первой. Поэтому в диспозитивном законоположении, по правилам законодательной техники,
достаточно сформулировать лишь вторую норму.
Признаком диспозитивного законоположения служит формулировка “если иное не установлено (не предусмотрено) договором…”. Но
возможна и более сложная формулировка: “если иное не предусмотрено законом или договором…”. Последняя означает, что законодатель
устанавливает общее правило, но предполагает иное регулирование
специальным императивным законом. Общее правило действует лишь
тогда, когда, во-первых, нет специального императивного закона и, вовторых, иное не установлено договором.
Тема 18. Доктринальные принципы права
Вопросы для обсуждения
1. Доктринальные принципы права и неразвитые правовые системы.
2. Принцип “последующее отменяет предыдущее” в прецедентном
праве.
212
3. Dr. Bonham’s Case (1610).
Из лекции: 1. Общие доктринальные принципы.
1.1. В отношениях, стороны которых формально равны, все, что не
запрещено правом, разрешено.
1.2. Государственно-властным субъектам запрещено все, что прямо
не разрешено правом. Разумеется, им запрещено все то же, что запрещено всем субъектам права (например, в ноябре 2003 г. в Норвегии
компетентный административный орган запретил использование специального автомобиля, предназначенного для премьер-министра страны, так как вес автомобиля незначительно превышал допустимый по
закону). Как и частным лицам, государственно-властным субъектам –
запрещено не дозволенное правом применение силы. Произвольное использование власти, злоупотребление властью, применение силы за
пределами дозволенного правом – это, хотя и организованное, но, по
существу, такое же преступное насилие, как и неправомерное применение силы частными лицами.
1.3. Договоры должны соблюдаться.
1.4. Субъективному праву всегда соответствует юридическая обязанность. Правовая норма должна быть сформулирована так, чтобы эта
формулировка достаточно четко и определенно описывала меру должного поведения обязанного субъекта. Если закон провозглашает нечто
как субъективное право, но этому декларированному “праву” не соответствует чья-либо юридическая обязанность, то это – юридически
бессмысленное установление. Например, не может быть “права на
труд”. Ибо нет и не может быть юридической обязанности частных
лиц нанимать кого-либо на работу только потому, что желающие работать по найму имеют “право на труд”. Если правительство, обязанное
действовать во общих интересах, берет на себя обязанность создавать
рабочие места, оно действует противоправно: за счет налогов, взимаемых с одних граждан, создает рабочие места для других.
1.5. Всякое правонарушение предполагает юридическую ответственность. Поскольку юридическая обязанность всегда корреспондирует какому-либо субъективному праву, то невыполнение юридической обязанности – это всегда противоправное деяние, и оно должно
предусматриваться законом как правонарушение. Следовательно,
наличие юридической обязанности предполагает установление ответственности за ее невыполнение или ненадлежащее выполнение. В тех
случаях, когда законы устанавливают некие обязанности, но не предусматривают ответственность за их невыполнение (leges imperfectae),
этих обязанностей в юридическом смысле не существует.
213
2. Доктринальные принципы правового закона.
2.1. Последующее отменяет предыдущее. Это правило относится и
к законам, и к судебным прецедентам. В частности, если по одному и
тому же вопросу есть два решения одного и того же авторитетного суда, то нормативное значение имеет прецедент, установленный позднее.
Другое дело, что ни новый закон, ни новый прецедент, сами по себе
формально не отменяют прежние законы и прецеденты. Точнее, новый
закон может специально определить, какие из прежних законоположений утрачивают силу. Остальные законоположения формально сохраняются, но не применяются судом.
Что касается судебного прецедента, то само по себе судебное решение, содержащее нормативный компонент, во-первых, имеет силу
inter partes и, лишь во-вторых, носит нормативный характер. Понятно,
что решение с последствиями inter partes формально не может отменять другое подобное решение. И когда высокий суд отказывается от
нормативно-правовой позиции, выраженной в старом прецеденте, и
встает на другую позицию, он может не заявлять об этом, но истолковать рассматриваемое дело так, как будто обстоятельства этого дела
существенно отличаются от ранее решавшихся дел, а поэтому к нему
неприменимы имеющиеся прецеденты, и следует создать новую норму
(установить новую нормативно-правовую позицию). Фактически же
такая ситуация будет означать, что прежний прецедент утратил нормативный характер, хотя его никто не отменял. Разумеется, нижестоящие суды будут ссылаться на поздний прецедент.
2.2. Приоритет специального закона по отношению к общему закону. Предполагается, что общий и специальный законы (законоположения) установлены одним и тем же законодательным органом. Например, специальный закон, принятый до вступления в силу Конституции
РФ 1993 г. (закон СССР, закон РСФСР, закон РФ), не может применяться после того как вступит в силу общий закон (федеральный закон,
федеральный конституционный закон), принятый новым законодательным органом – Федеральным Собранием РФ. Если в таком общем
законе ничего не говорится о действии специальных законов, принятых прежним законодателем, то следует руководствоваться принципом
“последующее отменяет предыдущее”.
Если нормативные акты, содержащие общую норму и специальную
норму находятся в иерархической соподчиненности, то акт низшей силы может устанавливать специальные нормы лишь в том случае, если
это прямо предусмотрено актом высшей силы.
2.3. Незнание закона не освобождает от ответственности.
2.4. Неопубликованные законы не применяются. Этот само собой
214
разумеющийся правовой принцип включен в основы конституционного строя Российской Федерации: “Законы подлежат официальному
опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения” (ч.3 ст.15 Конституции
РФ). В этом контексте следует обратить внимание на то, что не бывает
нормативных правовых актов, не опубликованных для всеобщего сведения. Если нормативный акт, тем более – затрагивающий права, свободы и обязанности, не опубликован, то он не является правовым, не
имеет юридической силы. Публичность нормативных актов – это одно
из требований господства права в формальном смысле.
2.5. Отягчающий закон обратной силы не имеет. Если закон устраняет ответственность, т.е. устанавливает, что соответствующее деяние
не является правонарушением, то он должен применяться ex tunc – ко
всем деяниям, которые были совершены с момента принятия прежнего
закона. Все наказанные по прежнему закону должны быть реабилитированы. Если же закон только смягчает юридическую ответственность,
т.е. не отрицает, что деяние является правонарушением, то он должен
применяться, по меньшей мере, к тем уже совершенным деяниям, ответственность за которые еще не наступила.
Приданием обратной силы отягчающему закону является и такой
случай, когда (1) закон увеличивает срок, в течение которого повторное совершение преступления признается опасным рецидивом, и (2)
такой отягчающий закон применяется в делах о преступлениях, которые были совершены, хотя и после его вступления в силу, но по прошествии столь большого срока, что по ранее действовавшему закону
они не считались бы опасным рецидивом.
3. Принципы надлежащей правовой процедуры.
3.1. Никто не может быть лишен жизни, свободы или имущества
иначе как по решению суда. Злоупотребления властью можно реально
ограничить лишь в том случае, если властное принуждение осуществляется не просто по закону, а в рамках четко регламентированной законом беспристрастной процедуры. Надлежащая правовая процедура
должна соблюдаться, как минимум, когда человеку по закону грозит
лишение жизни, личной свободы или имущества. Это судебная процедура, беспристрастная постольку, поскольку суд независим от сторон,
и от любых институтов власти, и поскольку все перед лицом суда формально равны.
3.2. Никто не может быть судьей в своем деле. Если суд полномочен возбуждать дело по своей инициативе, то он выступает как су-
215
дья в своем деле.
Если закон ставит кого-либо в положение судьи в своем деле, то
это правонарушающий закон. Сталкиваясь с таким законом, суд должен признавать его недействительными. Прецедент такого рода был
установлен в решении по делу врача Томаса Бонхэма против Врачебной палаты (1610 г.).
В Англии существовала Врачебная палата – орган цехового самоуправления врачей. Палата рассматривала споры между врачами и жалобы на врачей. По закону Врачебная палата могла наложить на врача
штраф, причем половина суммы штрафа поступала председателю Палаты. Врач Томас Бонхэм, приговоренный Палатой к уплате штрафа,
счел решение необоснованным и обжаловал его в Суд королевской
скамьи. Знаменитый судья Эдуард Коук (Sir [Lord] Edward Coke), рассмотрев дело, установил, что Врачебная палата не вышла за пределы
своей законной компетенции. Однако, заявил судья, есть общеизвестный правовой принцип “никто не может быть судьей в своем деле”, и
никакой парламент, никакой закон не могут отменить этот принцип.
Если же закон нарушает этот принцип, то такой закон противоречит
праву, а значит – является недействительным и не применяется судом.
Закон (парламентский акт), дозволяющий председателю Врачебной палаты получать в свое распоряжение половину суммы назначенного
штрафа, ставит председателя и подчиненных ему судей Палаты в положение судей в своем деле. Ибо председатель и судьи Палаты прямо заинтересованы во взыскании штрафа, и в каждом подобном деле они
фактически выступают не только как судьи, но и как сторона. Закон
был признан недействительным, и тем самым был установлен судебный прецедент, в соответствии с которым, любой закон, противоречащий требованию “никто не может быть судьей в своем деле”, не применяется судом. Впоследствии суды в странах общего права неоднократно признавали законы недействительными со ссылкой на прецедент 1610 г.
Между тем, в России требование nemo judex in propria causa нарушено в таком официальном акте, который должен быть чистым воплощением права, – Конституции РФ 1993 г. По Конституции, Правительство РФ несет ответственность только перед Президентом РФ, т.е.
Правительство – это орган, подчиненный Президенту. Но, в соответствии с ч.4 ст.111 Конституции, между Президентом и Государственной
Думой может возникнуть спор по кандидатуре Председателя Правительства; причем, если Дума трижды отклонит предложенную Президентом кандидатуру, то Президент распускает Думу и назначает Председателя Правительства уже без ее согласия. Тем самым, по Конститу-
216
ции, Президент в этом споре с Думой оказывается судьей в своем деле.
Можно предположить, что если бы аналогичное положение было
включено в конституционный акт в стране общего права, то высший
суд страны признал бы его недействительным. Российский же Конституционный Суд полагает, что Дума, трижды отклоняя предложенную
кандидатуру, препятствует деятельности главы государства по формированию Правительства, а поскольку Президент должен обеспечивать
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, то, для согласованного функционирования самого себя и Думы, он должен распускать последнюю, если она не согласна с
его политикой (Постановление № 28 1998 г.).
3.3. Пусть будет выслушана и другая сторона. Заочное разбирательство в суде уголовного дела противоречит требованию audiatur et
altera pars – даже тогда, когда обвиняемый скрывается от правосудия.
Ибо уголовное дело – дело обвиняемого, а не обвиняющей стороны. И
если обвиняемый скрывается, то суд не может осуществлять правосудие в этом деле (до тех пор, пока обвиняемый не предстанет перед судом). Следовательно, при заочном разбирательстве не может быть вынесен правосудный приговор. Аналогично в суде второй инстанции
разбирательство дела в отсутствие подсудимого противоречит требованию надлежащей правовой процедуры. Поэтому нельзя признать
надлежащей формулировку ч.2 ст.123 Конституции РФ: “Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев,
предусмотренных федеральным законом”. Никаких правовых оснований для заочного разбирательства судом уголовных дел не существует.
3.4. Нельзя наказывать дважды за одно и то же. Правовое наказание должно быть соразмерно правонарушению (преступлению), и если
человек наказан по праву, т.е. правосудно, то повторно наказываться
(по праву) он уже не может. Следовательно, если правосудный приговор вступил в законную силу, то повторное судебное разбирательство
исключается.
Но неправосудный приговор, даже если он вступил в силу, должен
быть пересмотрен в порядке судебного надзора. В этом случае нельзя
говорить, что человек уже наказан по праву. Он избежал правового
наказания. Если имеются сведения о новых или вновь открывшихся
обстоятельствах или в предыдущем разбирательстве были допущены
существенные ошибки, которые могли повлиять на исход дела, право
требует нового судебного разбирательства. При этом не имеет значения, будет ли дело пересматриваться по основаниям, улучшающим или
же ухудшающим положение осужденного (оправданного).
3.5. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не
217
доказана. Это лишь один из группы принципов-презумпций, действующих при надлежащей правовой процедуре. Так, есть презумпция правомерности: обвинитель должен доказать, что обвиняемый совершил
преступление, истец – что ответчик не выполнил обязательства или
причинил вред. В административном процессе – презумпция законности административных актов, изданных на основании и во исполнение
закона: истец (заявитель) должен доказать, что административный акт
не соответствует закону. В конституционном процессе – презумпция
конституционности закона, принятого после вступления в силу конституции: заявитель должен доказать, что закон не соответствует конституции.
Понятие невиновности не сводится к отсутствию вины человека,
обвиняемого в совершении преступления. Вина (сознательно-волевой
компонент содеянного) – это лишь один из элементов состава преступления или состава правонарушения. В данном контексте невиновность
означает не просто отсутствие вины, но признание человека не совершавшим преступление. Обвиняемый в совершении преступления считается не совершившим преступление, пока противное не установлено
компетентным судом и обвинительный приговор не вступил в силу
(презумпция невиновности).
Презумпция невиновности обвиняемого в уголовном деле (подсудимого) вытекает из самого принципа формального равенства. Ибо
уголовное дело – это спор о праве, формально равными сторонами которого выступают обвиняемый (подсудимый) и обвиняющая сторона в
лице компетентного государственного органа. С точки зрения права заявление одной из сторон спора о совершении другой стороной преступления, даже если это официальное заявление компетентного государственного органа, имеет ту же юридическую силу, что и заявление
другой стороны о том, что она не совершала преступления. Противоположная точка зрения по этому вопросу означала бы, что обвиняющая
сторона оказывается судьей в своем деле.
Аналогично в гражданском процессе лицо, против которого подан
иск, не обязано доказывать, что оно не является надлежащим ответчиком. Оно признается таковым лишь в том случае, если истец предъявит
доказательства того, что лицо, привлеченное по данному делу в качестве ответчика, не выполнило обязательство или причинило вред.
В посттоталитарной России суды в случае возникновения сомнений вместо вынесения оправдательного приговора нередко направляют
дело для проведения дополнительного расследования. Тем самым грубо нарушается презумпция невиновности.
3.6. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Это
218
частная формулировка презумпции невиновности. Аналогично в гражданском процессе лицо, привлекаемое в качестве ответчика, не обязано
доказывать, что оно не является должником, не выполнившим обязательство, или причинителем вреда.
Другое дело – доказательство вины ответчика. В гражданском деле
лицо, уже признанное должником, не выполнившим обязательство,
или причинителем вреда, обязано выполнить требования истца, либо
доказать, что оно не обязано выполнять эти требования. Поэтому отсутствие вины, в частности, наличие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего, доказывается самим лицом, нарушившим обязательство
или причинившим вред.
3.7. Никто не обязан свидетельствовать против себя. Уже в римском праве было признано, что человек не может быть надлежащим
свидетелем в своем деле (nullus idoneus testis in re sua). В частности,
отсюда вытекает, что признание обвиняемого не может считаться достаточным свидетельством его виновности в совершении преступления. Следовательно, не может быть никаких юридических оснований
для того, чтобы требовать от человека свидетельств против самого себя.
В российской практике нередко встречаются случаи, когда лицо, на
которое падает подозрение, и причастность которого к преступления
проверяется, процессуально не ставится в положение подозреваемого и
допрашивается в качестве свидетеля, с предупреждением об обязанности давать правдивые показания. Между тем, даже привлеченный к
участию в деле в качестве свидетеля вправе отказаться от дачи показаний, мотивируя это тем, что показания могут быть использованы против него.
Тема 19. Источники права
Вопросы для обсуждения
1. Классификации источников права.
2. Первичные и вторичные источники права.
3. Акты судебной власти как источники права.
Из лекции: Источники права в формальном смысле (текстуальные
источники права) – это официальные юридические тексты: официально сформулированные (созданные, изданные) или санкционированные
(признанные) тексты, в которых содержатся нормы права и другие
правоположения. “Юридический текст” и “правовой текст” – синони-
219
мы.
Источник права – это нормативный юридический (нормативноправовой) текст. Из него “проистекает” или “черпается” информация о
норме права. Официальный текст, который не содержит норму, а лишь
формулирует права и обязанности конкретных субъектов, – это, как
правило, не источник права, а такой юридический текст (акт), который
“вытекает” из источника права.
Но и ненормативный текст можно своего рода источником права –
для конкретной правовой ситуации. Когда нет соответствующей нормы права, в ненормативном тексте, тем не менее, могут быть установлены права и обязанности конкретных субъектов (такие случаи более
характерны для исторически неразвитых правовых систем). Это судебные решения ad hoc и договоры частных лиц с последствиями inter
partes, не основанные на существующих нормах права (“ненормальные” договоры).
Классификации источников права. Прежде всего, источники права
классифицируются по видам (формам) юридических текстов: нормативный акт, нормативный прецедент, официально санкционированная
доктрина, официально санкционированный обычай. Их соотношение и
официальная сила существенно различаются в разных правовых культурах (правовых семьях) и в разные исторические периоды.
Нормативный акт – это (в современных государствах) письменный текст, документ, издаваемый компетентным государственным органом специально для того, чтобы официально сформулировать общеобязательные нормы. В демократических государствах важнейшие
нормативные акты могут приниматься путем референдума.
Нормативный судебный прецедент – вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого становится правилом,
обязательным для других судов при решении аналогичных дел. Прецедент как источник права выражает нормативно-правовую позицию высокого суда, обязательную для нижестоящих судов и, с некоторыми
оговорками, для самого суда, создавшего прецедент.
Не следует полагать, что судебный прецедент является источником
права только в странах общего права, а в странах романо-германской
правовой семьи он таковым не признается. Судебный прецедент является источником права везде, где (1) судьи признают очевидное требование последовательности и единообразия судебной практики и (2)
есть реальное разделение властей, реальная независимость судебной
власти, и никакие “административные ресурсы” не могут заставить суд
толковать и применять законы так, как угодно властям предержащим.
Доктрина как источник права. Правовая доктрина – это учение
220
(суждения, мнения) авторитетных юристов о нормах действующего
права, их применении и толковании. Доктрина может быть источником
права в той мере, в которой она формулирует нормы права и иные правоположения, официально признаваемые в юридической практике.
Обычай – это устоявшаяся практика соблюдения неписаных, официально не сформулированных социальных норм.
В частности, обычай может сложиться на основе соглашения, т.е.
соблюдение соглашения станет обычаем. Получаются правила, конвенциональные по своему происхождению и существующие в форме
обычая. Такие правила возможны в сфере публичного права (например, роспуск палаты общин и другие конституционные институты в
Великобритании).
Если государственная власть лишь признает или допускает некий
обычай, но не желает придавать нормам этого обычая силу закона, то
обычай превращается в самостоятельный вид источников права – официально санкционированный обычай. Нормы такого обычая остаются
неписаными и действуют, поскольку они и так известны участникам
соответствующих отношений. Но обычай приобретает новое качество
– официально признается наравне с законом и даже может конкурировать с законом. Например, в случаях предусмотренных законом, субъекты права могут руководствоваться не нормой закона, а местным
обычаем, морским обычаем и т.д.
Легисты называют “правовым” любой санкционированный обычай, независимо от его содержания. Между тем, в странах, неразвитых
в правовом отношении, государственная власть санкционирует доправовые обычаи населения отдельных регионов.
Интересно отметить, что по логике легизма обычай превращается в
норму права лишь тогда, когда он принимается как таковой судами и
когда воплощающие его судебные решения принудительно реализуются властью государства. Но до того, как обычай признается судами, он
не является правовой нормой, поскольку его сила держится лишь на
общем неодобрении в отношении тех, кто его нарушает. В то же время
норму, созданную посредством законодательства, легисты признают
правовой и до ссылки на нее в судебном решении.
Субъекты права могут следовать санкционированному обычаю, но
могут и отказаться от него. Специфика обычая как источника права заключается в том, что он действует до тех пор, пока субъекты права желают его соблюдать. Поэтому обычай не пользуется официальной защитой, когда отступления от обычая становятся нормой. В этом случае
нельзя говорить, что обычай нарушается, он просто прекращается.
Например, в сфере частного права можно следовать торговому обы-
221
чаю, но можно и заключить договор по принципу “незапрещенное разрешено”; во всяком случае, частное лицо не вправе навязывать другому частному лицу сделку по правилам обычая, даже если этот обычай
официально признается.
В публичном праве обычай действует, поскольку с ним согласны
компетентные государственно-властные субъекты. Например, судебный обычай действует постольку, поскольку с ним согласен верховный
суд. Другой пример: в парламенте может сложиться такой обычай, когда присутствующие депутаты голосуют посредством карточек для
электронного голосования за отсутствующих. Такой обычай возможен
лишь постольку, поскольку президент с ним согласен и промульгирует
законы, вотированные “обычным образом”. Но, тем не менее, у президента остается право изменить свою позицию и заявить, что закон не
принят конституционным большинством депутатов. При такой негативной позиции президента сложившийся обычай голосования существовать не сможет: либо такая практика просто прекратится, либо соответствующие обычаю правила будут установлены в законе. Таким
образом, если компетентные государственно-властные субъекты заинтересованы в сохранении нормы обычая, то эта норма официально
формулируется в письменной форме и приобретает силу закона.
Итак, когда норма обычая признается важной для правовой системы, то государство защищает эту норму, формулируя ее в законе. Если
же норма обычая просто признается государством, но не трансформируется в закон, то это значит, что государство допускает прекращение
действия этой нормы.
Не существует других видов нормативно-правовых текстов. Так,
в одном ряду нельзя ставить нормативный акт и нормативный договор.
Последний есть лишь разновидность нормативного акта, не самостоятельный вид, а “подвид” юридических текстов.
Принципы права или естественные права человека никак не могут
быть источниками права в формальном смысле, поскольку это не форма, а содержание права. И принципы права, и права человека содержатся в официальных юридических текстах, в частности, в официально признаваемой доктрине.
Источник, обозначаемый как “религиозные памятники” (“священные книги”), очевидно, следует считать источником религиозных норм.
Другое дело, что в “религиозном памятнике” могут быть фрагменты с
юридическим содержанием. Именно последние, т.е. юридические тексты, можно считать специфическим источником права (юридические
тексты священных книг). Такие тексты религиозным сознанием воспринимаются как закон (установленный “Высшим Законодателем”), но
222
для светского сознания они – лишь специфическая разновидность доктрины. Специфическая в том смысле, что ее авторство приписывается
Богу, пророкам и т.п., в то время как толкованием этой фундаментальной доктрины занимается доктрина человеческая (богословская).
Источники права и гражданско-правовой договор. Если гражданско-правовой договор (договор с последствиями inter partes) не основан на нормативном юридическом тексте, законе или обычае, то этот
“ненормальный” договор можно рассматривать как источник права. Но
это будет источник права в ином смысле – “индивидуальный источник
права”, источник прав и обязанностей сторон договора, ненормативный юридический текст.
В ст.426 ГК РФ неудачно использован термин “публичный договор” применительно к договору частных лиц. Законодатель объяснил,
что это “договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или
оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.)” (ч.1. ст.426 ГК РФ). Такой договор назван “публичным” в том смысле, что условия этого “договора”, определяемые в
одностороннем порядке коммерческой организацией, рассчитаны на
неопределенное множество возможных потребителей, выступающих в
качестве абстрактной “публики”.
Но по существу речь идет о типовых договорах, содержание которых произвольно определяют (и, по мере надобности, изменяют) сами
коммерческие организации. Разумеется, такие договоры не являются
источником права (нужно различать понятия “фиксированные цены” и
“цены, фиксированные продавцом”). Просто законодатель ограничил
свободу договора тем, что обязал соответствующие коммерческие организации применять определяемые ими условия договора в равной
мере ко всем потребителям, за исключением тех случаев, когда законом допускаются льготы для отдельных категорий потребителей (ч.2
ст.426 ГК РФ).
Иная точка зрения по этому вопросу означала бы, что одно частное
лицо (коммерческая организация) навязывает другим частным лицам
(потребителям) условия договора. В действительности же наличие типового договора означает лишь следующее: если в конкретном договоре не установлено иное, то применяются условия типового договора,
причем конкретный договор не может ухудшать положение потребителя в сравнении с условиями типового договора. Это принцип in fa-
223
vorem, хорошо известный в трудовом праве: например, если в индивидуальном трудовом договоре не установлено иное, то применяются
условия коллективного договора, причем индивидуальный договор не
может ухудшать положение работника в сравнении с условиями коллективного договора.
Другое дело, что в случаях, предусмотренных законом, Правительство РФ может издавать правила (типовые договоры), обязательные для “публичных договоров” (ч.4 ст.426 ГК РФ). В этих случаях,
во-первых, источником права является типовой договор (нормативный
акт), имеющий силу постановления Правительства РФ, и, во-вторых,
коммерческие организации уже не могут произвольно устанавливать и
менять условия “публичного договора”, а именно, ухудшать положение потребителей в сравнении с правилами, установленными Правительством.
Аналогично корпоративные нормы (нормы любых негосударственных организаций, частных юридических лиц, включая предприятия), точнее – нормативные тексты корпораций (организаций), следует рассматривать как разновидность договора. Источником права,
прежде всего, являются не эти корпоративные тексты, а официальные
юридические тексты, которым корпоративные тексты противоречить
не могут. Но в той мере, в которой корпоративные тексты развивают и
конкретизируют официальные правоположения, они могут быть источником права – если (1) субъекты вступают в договорные отношения
в соответствии с корпоративными нормами, и (2) корпоративные нормы, определяющие условия договора, признаются судом (официально
санкционируются). Опять же, это источники права sui generes: корпорация лишь предлагает, но она не вправе обязывать кого-либо вступать
с ней в договорные отношения на условиях, определенных корпоративными нормами; и только если договор заключен, т.е. обе стороны
обязались соблюдать корпоративные нормы, корпоративный текст становится источником права – как уже сказано, если он официально
санкционирован. Корпоративные тексты могут быть источником права
как в отношениях между корпорацией и лицом, заключившим с ней
договор, так и в отношениях между лицами, заключившими договоры
о регулировании их отношений нормами корпорации. Например, таким
источником права могут быть спортивные правила, установленные организацией, проводящей спортивные соревнования; если спортивный
судья нарушает эти правила, то лицо, права которого нарушены, вправе обратиться за защитой в официальный суд, который будет рассматривать дело о нарушении договора, условия которого определены
спортивными правилами.
224
Помимо классификации по видам (формам) юридических текстов,
их следует классифицировать по содержанию. В этом смысле различаются первичные и вторичные источники права.
Первичный источник права – это оригинальный юридический
текст, в котором нормы права официально формулируются впервые.
Вторичным источником права являются производные от первичных
официальные правовые тексты, в которых интерпретируется содержание первичных источников права, уточняется смысл правовых норм и,
таким образом, формулируются “вторичные нормы”. В частности, акты нормативного толкования первичных юридических текстов – вторичные источники права.
В рассуждениях о первичных и вторичных источниках права следует различать форму и содержание правовых текстов. Закон (нормативный акт), прецедентное судебное решение, обычай и доктрина являются формой правовых текстов. Поэтому, например, называя закон
источником права, нужно помнить, что источником права является
правовой текст в форме закона, а не законная форма правового текста.
Рассмотрение источников права как первичных и вторичных относится
не к форме, а к содержанию правовых текстов.
Последнее означает, что не существует строгого соответствия
между подразделением источников на виды в зависимости от их формы (закон и т.д.) и различением первичных и вторичных источников
права. Прежде всего нельзя утверждать, что нормативный акт всегда
является первичным источником права. Даже закон (как правило, это
первичный правовой текст) может воспроизводить и интерпретировать
содержание других источников права, например, нормы конституции
или международного договора. Так, ФКЗ о Конституционном Суде РФ,
в частности, воспроизводит и интерпретирует текст ст.125 Конституции РФ, и в этой части он выступает как вторичный источник права.
Далее, судебный прецедент (правовой текст в форме судебного
решения по конкретному делу) может быть источником права как первичным (креативный прецедент), так и вторичным (деклараторный,
интерпретативный прецедент, или прецедент толкования).
То же самое относится к обычаю. Например, обычай, сложившийся
в отношениях между органами государственной власти на основе конституционного соглашения, является первичным источником права. Но
обыкновение правоприменительной практики (обычай толкования и
применения закона) является вторичным источником права.
Другое дело, что первичные правовые тексты, чтобы быть источником права, требуют надлежащей формы. Понятно, например,
что первичные правовые тексты не должны издаваться в форме норма-
225
тивных актов исполнительной власти. Из соображений разделения властей и правовой законности вытекает, что для первичных правовых
текстов предназначен закон, хотя законодатель может делегировать
президенту или правительству полномочия по изданию первичных
правовых текстов по определенным вопросам.
Само понятие вторичных источников права имеет смысл постольку, поскольку, во-первых, некие вторичные правовые тексты не просто
воспроизводят первичные тексты, а интерпретируют первичные тексты и, во-вторых, эта интерпретация конкурирует или может конкурировать с положениями первичного текста (de jure интерпретация не
меняет смысл первичного текста, но de facto может его изменить, de
jure такой вторичный текст имеет силу первичного текста, но de facto –
большую силу).
Если закон просто воспроизводит фрагмент текста конституции,
подзаконный акт, в частности локальный нормативный акт, – фрагмент
закона, то в этой части они являются вторичными текстами, но не являются вторичными источниками права. Ибо простое воспроизведение
не может ничего добавить к первичному правовому тексту ни de jure,
ни de facto.
Вторичный источник права – интерпретация первичного правового
текста erga omnes – реально действует, порождает правовые последствия, и для того чтобы признать такую интерпретацию недействительной (не имеющей юридической силы), нужно официально объявить ее противоречащей первичному источнику права, например, пересмотреть нормативно-правовую позицию конституционного суда,
признать незаконным или просто отменить положение правительственного постановления или акта местного самоуправления и т.д.
Классификация нормативных актов возможна по разным основаниям. Во-первых, нормативные акты могут быть как первичными,
так и вторичными источниками права. Первичные, например законы, –
это правоустановительные нормативные акты; de jure в них могут
быть установлены и устанавливаются новые правоположения, новые
нормы права. Во вторичных de jure лишь формулируются (конкретизируются, интерпретируются и т.д.) уже существующие нормы, хотя de
facto иногда устанавливаются новые правоположения.
Во-вторых, по субъектам, издающим нормативные акты, и функциям этих субъектов в механизме государственной власти, следует
различать нормативные акты законодательные, исполнительные и судебные. Причем, с точки зрения функционального разделения властей,
приоритет принадлежит законодательным актам, а судебные нормативные акты могут быть только вторичными источниками права – ак-
226
тами нормативного толкования первичных источников права.
В-третьих, по числу субъектов, участвующих в издании акта, следует различать нормативные акты односторонние и двух- или многосторонние. В одностороннем порядке происходит издание официального акта (особый случай – принятие нормативного акта путем референдума). В результате согласования воль нескольких публичновластных субъектов создание официального акта путем заключения
международного или федеративного договора.
Нормативные акты – это не обязательно акты, которые издаются в
одностороннем порядке. В юриспруденции различаются акты, вопервых, односторонние и, во-вторых, двух- или многосторонние, т.е.
договоры. Договоры частных лиц сами по себе могут порождать только последствия inter partes, они не устанавливают нормы. Но договоры
официальных субъектов (государств, государственных органов и других субъектов публичного права) порождают последствия erga omnes.
Обычно нормативными актами называют только односторонние
нормативные акты, а нормативные договоры считают самостоятельным видом источников права. В действительности нормативные
договоры в рамках национальной правовой системы не имеют самостоятельной официальной силы (юридической силы), отличной от силы односторонних нормативных актов, и не могут быть самостоятельным видом источников права. Нормативные акты в традиционном понимании и нормативные договоры – это не два самостоятельных вида,
а два подвида, составляющих один вид источников права.
Коллективные соглашения о труде – это договоры частных лиц с
последствиями erga omnes. Они санкционированы законом, и стороны
коллективных соглашений о труде обязаны заключать эти соглашения
по вопросам, предусмотренным трудовым законодательством.
Это нормативные договоры. Но они могут лишь изменять содержание норм трудового законодательства по принципу in favorem (норма соглашения о труде имеет силу закона и применяется лишь тогда,
когда ставит работника в лучшее положение, нежели норма трудового
законодательства). Таким образом, это вторичные источники права.
Коллективные соглашения о труде, особенно крупномасштабные,
более напоминают нормативные акты, нежели договоры частных лиц.
Стороны этих соглашений заключают их в силу того, что законодатель
наделяет их таким правом. Эти соглашения не имеют самостоятельной
юридической силы и порождают правовые последствия лишь постольку, поскольку они предусмотрены трудовым законодательством. Иначе
говоря, законодатель делегирует компетенцию по нормативному регулированию трудовых отношений коллективным субъектам этих отно-
227
шений и придает установленным ими нормам силу закона (с оговоркой
in favorem).
Среди всех источников права, не только среди нормативных актов,
высшую силу имеет конституция. Следует различать конституцию в
материальном и в формальном смысле (консолидированный или кодифицированный нормативный акт).
Конституция в материальном смысле (конституционное право) –
это совокупность норм, устанавливающих правовые пределы государственной власти (по определению: государственная власть – власть,
ограниченная конституцией, писаной или неписаной). А именно, конституция определяет правовой статус человека и гражданина (в исторически неразвитой правовой ситуации – правовые статусы разных категорий субъектов права) и устанавливает порядок формирования и
компетенцию высших государственных органов.
Следовательно, конституция в материальном смысле может быть
объективирована в правовых текстах разной формы – в обычаях, доктрине, прецедентах и нормативных актах.
Отсюда ясно, что даже тогда, когда в государстве есть консолидированный конституционный нормативный акт (конституция в формальном смысле) и есть суд конституционной юрисдикции, который
применяет и толкует этот нормативный акт, конституция государства
не исчерпывается конституцией в формальном смысле и развивается в
форме судебных решений (судебных прецедентов и даже судебных
нормативных актов). Конституция государства может меняться по мере исторического прогресса правовой свободы, в то время как соответствующие положения (текст) конституции в формальном смысле
остаются неизменными. Пример – расовая сегрегация в США, которая
до 1954 г. считалась не противоречащей конституции, а после решения
по делу Браун против Комитета по образованию была объявлена не
соответствующей конституции.
Различение конституции в материальном и формальном смысле
позволяет, в частности, внести ясность в вопрос о конституции Великобритании. Разумеется в этой стране есть конституция в материальном смысле, но нет конституции в формальном смысле, т.е. нет конституции в форме консолидированного нормативного акта.
Конституция как нормативный акт – это не закон, и даже не основной закон. Это фундаментальный нормативный акт, учреждающий
государство и обладающий высшей юридической силой. Конституция
предшествует закону и законодателю, связывает законодателя. Поэтому законодатель и субъект, принимающий конституцию, должны быть
“разведены”.
228
В развитых национальных правовых системах конституции обычно
принимаются не законодательным органом, а специально созываемым
конституционным собранием (учредительным собранием) или путем
референдума. Такие способы принятия конституции, “разводящие” законодателя и субъекта, принимающего конституцию, подчеркивают
особую учредительную природу конституции. Кроме того, изменения
(поправки) вносятся в конституцию в особом порядке. С этой точки
зрения различаются конституции “жесткие” и “гибкие”. “Жесткие” не
могут быть изменены законодателем. “Гибкими” называют конституции, поправки к которым принимаются законодателем в рамках особой
процедуры, усложненной в сравнении с законодательным процессом.
В российской литературе конституцию, по советской традиции,
называют “основной закон”. Однако называть конституцию законом,
пусть даже основным, можно лишь тогда, когда термин “закон” употребляется в широком смысле. Например, когда говорят о различении
права и закона или для краткости обозначают термином “закон” все
виды нормативных актов государства. Но это неуместно при рассмотрении различных видов нормативных актов. Таким образом, конституция является законом не в большей мере, чем, скажем, подзаконный
нормативный акт. И объяснять конституцию как основной закон – это
значит принижать юридическую силу и правовое предназначение конституции.
Подзаконные нормативные акты исполнительной власти – это акты конкретизации закона. В правовом государстве, при надлежащем
разделении властей, они могут издаваться лишь постольку, поскольку
они предусмотрены конкретизируемым законом, а не просто в силу
компетенции того или иного органа исполнительной власти, позволяющей вообще издавать такие акты. В противном случае законы будут
фиктивными, и фактически большую силу будут иметь нормативные
акты формально низшего уровня.
Нормативные акты судов – это акты нормативного толкования
права (конституции или закона), которые издаются высшими судами
именно с целью толкования. Они порождают последствия erga omnes в
силу компетенции соответствующего высокого суда.
Судебный нормативный акт, как и любой акт нормативного толкования, – это вторичный источник права. De jure он имеет силу толкуемого нормативного акта, а de facto – большую силу, ибо при наличии
акта нормативного толкования правоприменители руководствуются
уже не самим текстом, получившим авторитетное толкование, а положениями акта толкования.
Различаются судебные нормативные акты, издаваемые на основе
229
абстрактного и на основе конкретного нормативного толкования.
Первые (например, постановления Конституционного Суда РФ о толковании Конституции) не связаны с разрешением споров о праве, вторые обобщают толкование законов, данное при разрешении конкретных споров о праве – таковыми должны быть, например, постановления Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющие вопросы судебной
практики.
Абстрактное нормативное толкование противоречит природе правосудия. Судебное толкование права с последствиями erga omnes допустимо лишь в контексте разрешаемого спора о праве (конкретное
или инцидентное нормативное толкование).
Судебный нормативный акт следует отличать от судебного прецедента – решения по конкретному спору о праве, в котором формулируется норма или дается толкование конституции или закона, имеющее
нормативное значение. Прецедентом толкования называют индивидуальный акт, решение, обязательное inter partes, в котором одновременно дано толкование конституции или закона, обязательное erga omnes.
Акт нормативного толкования имеет лишь последствия erga omnes. И в
прецедентах толкования, и нормативных актах-разъяснениях по вопросам судебной практики дается конкретное нормативное толкование, но
в разных формах и в разной мере авторитетное. В случае прецедента
это – толкование, данное малой судебной коллегией, предназначенной
для разрешения конкретных дел, т.е. такое, которое могут и не разделять другие судьи высшего суда; а поэтому оно автоматически не становится нормативным толкованием. В случае же разъяснения мы имеем дело с толкованием, которое санкционирует пленум высшего суда, а
поэтому все судьи обязаны придерживаться этого толкования.
Нормативные акты органов местного самоуправления – это локальные нормативные акты. Они являются обязательными постольку,
поскольку закон (законодательство о местном самоуправлении) наделяет муниципальные органы государственными нормотворческими
полномочиями по вопросам местного значения. Если считать, что в
этих пределах акты местного самоуправления служат источниками
права, то это будет некое “местное (локальное) право”, различное в
разных местностях государства.
Локальные нормативные акты не могут самостоятельно, автономно
устанавливать новые нормы права, т.е. не могут устанавливать меру
правовой свободы помимо закона. Они могут лишь вводить в действие
на территории муниципалитета нормы права, содержание которых
прямо предусмотрено законом, но вступление в силу, по закону, зависит от усмотрения муниципалитета.
230
Например, муниципалитет самостоятельно не вправе обязать всех
лиц на его территории пользоваться услугами только муниципального
предприятия по уборке мусора (а также иными подобными муниципальными услугами) и тем самым фактически запретить деятельность
соответствующих частных предприятий. Это было бы неправомерным
ограничением собственности, свободы предпринимательства и свободы договора, так как подобные ограничения допустимы только путем
издания закона и только по мотивам защиты других прав и свобод
(прав и свобод других лиц). Следовательно, исключительно законодатель вправе установить такую норму – из соображений охраны здоровья населения, т.е. по мотивам защиты прав и свобод других лиц. Но
при этом законодатель должен исходить из того, что и частные предприятия могут эффективно оказывать услуги по уборке мусора, а муниципалитеты и надзорные полицейские инстанции могут эффективно
контролировать эти предприятия. Поэтому целесообразно установить в
законе, что названная норма вводится в действие по решению органа
местного самоуправления при условии настоятельной общественной
потребности.
Таким образом, нормативные акты местного самоуправления (локальные нормативные акты) могут быть лишь вторичными источниками права. Посредством этих актов органы местного самоуправления
могут вводить в действие нормы, предусмотренные законом – первичным источником права.
Регламент палаты парламента – это нормативный акт, которым
палата регламентирует вопросы внутреннего распорядка своей деятельности. Это корпоративный нормативный акт, в котором сами депутаты устанавливают свои права и обязанности (и обязанности аппарата палаты) в отношениях внутри палаты парламента. Но он не может
устанавливать какие бы то ни было права и обязанности субъектов, не
входящих в состав палаты парламента, и права и обязанности депутатов за пределами отношений внутри парламента. Парламентский регламент – это официальный акт, установления которого обязательны
только внутри парламента.
Регламент палаты парламента не может быть источником права.
Правовые нормы, установленные парламентом, издаются в форме закона, а не в форме нормативного акта отдельной палаты парламента.
Законы принимаются парламентом в целом в рамках урегулированного
конституцией законодательного процесса, а регламент – большинством
депутатов палаты, причем это большинство может произвольно изменять регламент. Иначе говоря, регламент палаты – это нормативный
акт, но такой, который не предназначен для использования в качестве
231
источника права.
Тема 20. Правоустановление
Вопросы для обсуждения
1. Виды правоустановительной деятельности.
2. Законодательный процесс и юридическая техника.
3. Пробелы в праве и практика высших судов.
Из лекции: Правоустановление (правотворчество) – это создание
официальных юридических текстов – источников права, выражение и
закрепление нормативно-правового содержания источников права.
Виды правоустановительной деятельности: издание нормативного акта (включая заключение и ратификацию нормативного договора),
создание судебного прецедента, санкционирование обычных норм и
положений правовой доктрины.
Издание нормативного акта, иначе – нормотворчество, равно как и
законодательное санкционирование обычая или доктрины, представляет собой правоустановительную деятельность с целью нормативноправового регулирования. Это прямое правоустановление.
Создание нормативного судебного прецедента – это, прежде всего,
юрисдикционная деятельность, “побочным результатом” которой является формулирование правовой нормы. Это правоустановление в
процессе разрешения спора о праве.
Юридические тексты, для того чтобы быть источником права в
формальном смысле, должны издаваться или санкционироваться в
надлежащей форме. В странах романо-германской правовой семьи
первичные тексты издаются в форме закона, т.е. правоустановительного акта, специально предназначенного для формулирования первичных
нормативно-правовых текстов. В странах прецедентного права первичный правовой текст может быть создан как в форме закона, так и в
форме прецедента высокого суда (креативный прецедент).
Нормотворчество, прямое правоустановление должно быть, прежде всего, законотворчеством, происходить в форме законодательного
процесса. Однако самое строгое разделение властей на законодательную и исполнительную не исключает нормотворчество исполнительной власти на основании и во исполнение закона – например, делегированное законодательство. Последнее оправдано общепризнанным фактом, что законодатель просто не в состоянии осуществлять нормотворчество по всем вопросам государственно-правового регулирования.
232
На первый взгляд, конституционное распределение нормотворческой компетенции в пятой республике во Франции противоречит разделению властей на законодательную и исполнительную. Но это распределение нормотворческой компетенции можно рассматривать как
своего рода делегирование законодательных полномочий исполнительным органам. Такое “конституционное делегирование” по существу ничем не отличается от того, что обычно понимается под делегированием законодательных полномочий. Если исходить из того, что,
несмотря на провозглашенное разделение властей, правительственное
нормотворчество все равно будет иметь место (причем оно может конкурировать с нормотворчеством законодателя), то не лучше ли уже на
уровне конституционного распределения компетенции определить, какие вопросы регулируются исключительно законами, а какие – нормативными актами президента или правительства? Очевидно, что такое
распределение строго ограничивает возможности нормотворчества исполнительных органов и заставляет законодателя контролировать исполнительные органы на предмет их возможного вмешательства в исключительную законодательную компетенцию. Во всяком случае, такое распределение нормотворческой компетенции более соответствует
разделению властей, нежели распределение компетенции по Конституции РФ 1993 г., допускающей конкурирующие нормотворческие
компетенции Федерального Собрания и Президента РФ.
Таким образом, бессмысленно оспаривать нормотворческие
(правоустановительные) полномочия исполнительной власти как таковые, и дискуссия может идти лишь о природе этих полномочий
(например, о возможности автономного, первичного или конкретизирующего нормотворчества исполнительной власти) и о месте нормативных (правоустановительных) актов исполнительной власти в системе источников права.
Нормотворческая практика в постсоветской России такова, что
многие законоведы считают ведомственное нормотворчество делом
обычным и даже необходимым. Они убеждены, что нормы законов реализуются не “напрямую”, а посредством принятия других нормативных актов и что законы нуждаются в конкретизации в подзаконных актах. Причем считается само собой разумеющимся, что законы могут
конкретизироваться не только при наличии в них соответствующего
предписания, но и в любом случае, когда орган, уполномоченный издавать подзаконные акты, полагает необходимым издать такой конкретизирующий акт (правда, подразумевается, что нет прямого запрета на
регулирование соответствующих отношений подзаконными актами).
Сторонники такого подзаконного регулирования убеждены в том, что
233
нет никаких общих пределов конкретизации законов подзаконными
актами, что в российской правовой системе они не определены (такие
пределы могут быть установлены в каждом отдельном законе, но в отношении именно этого закона). И якобы отсутствие таких пределов
позволяет конкретизировать закон любым органам и должностным лицам, причем не только нормативными актами Президента РФ и Правительства РФ, но и актами министерств, иных ведомств.
Очевидно, что такая практика и отражающая ее доктрина ведомственного нормотворчества противоречат конституционно закрепленному разделению властей на законодательную, исполнительную и судебную. Общие пределы ведомственной “конкретизации” закона установлены разделением властей: исполнительные органы должны исполнять законы, а не подменять его собственными, более удобными для
них нормативными актами.
В правоустановительной деятельности так или иначе участвуют и
законодатели, и суды, и ученые, создающие правовую доктрину. В исторически неразвитой правовой ситуации законодатель санкционировал первичные тексты, сформулированные доктриной, придавая им силу источников права. В современных развитых правовых системах
доктрина уже не считается надлежащей формой для первичных правовых текстов. Первичный текст, сформулированный доктриной (de lege
ferenda), может быть воспроизведен законодателем без существенных
изменений, и, тем не менее, первичным юридическим текстом de lege
lata является текст закона, а не доктрины. Далее, доктрина комментирует, интерпретирует, уточняет и конкретизирует законоположения с
учетом практики применения закона. Но создаваемый таким образом
вторичный правовой текст не считается источником права, поскольку
сегодня уже не принято официально ссылаться на доктрину (неофициальное толкование права), хотя фактически судьи обращаются к помощи доктрины, особенно в сложных делах.
Судебная практика выступает не только как юрисдикционная деятельность, но и включает в себя правоустановительный элемент. В
частности, и в странах общего права, и в романо-германском праве
вторичными источниками права являются акты судебного толкования
законов – первичных юридических текстов. Законодатель стремится
сформулировать норму наиболее обобщенно, следовательно, делает ее
менее точной и предоставляет судьям дискреционные полномочия в
применении этой нормы. В целях большей определенности судебная
практика уточняет нормы, сформулированные наиболее общим образом, причем верховные суды осуществляют контроль за тем, как нижестоящие суды толкуют закон. “В этих условиях норма, созданная зако-
234
нодателем, – это не более чем ядро, вокруг которого вращаются вторичные правовые нормы” (Р. Давид).
Правоустановительная деятельность судебной власти включает в
себя создание источников права первичных (креативные прецеденты) и
вторичных (прецеденты толкования, судебный обычай и нормативные
акты судебной власти – акты нормативного толкования). С точки зрения разделения властей, правоустановительная деятельность судебной
власти может осуществляться лишь в рамках ее специфической функции (юрисдикционной функции государства) – функции разрешения
споров о нарушенном праве. Судебная власть в лице высших судов
может принимать правоустановительные решения, не подменяя при
этом законодателя и оставаясь в пределах судебных задач. Если нормотворческая деятельность высших судов осуществляется посредством
абстрактного нормативного толкования конституции или закона, то
они выступают уже не как суды, а как законодатели. Высшие суды могут наделяться правомочием нормативного толкования, но оно должно
быть связано с разрешением конкретного спора о нарушенном праве, с
судебной практикой. Иначе говоря, с точки зрения разделения властей,
допустимо лишь конкретное (в частности инцидентное) нормативное
толкование конституции или закона, в результате которого создается
прецедент толкования или издается нормативный акт (например, постановление Пленума Верховного Суда РФ, в котором даются разъяснения по вопросам судебной практики).
Вторичное конкретизирующее правоустановление, судебное “развитие права” (Rechtsfortbildung) является необходимым продолжением
абстрактного законодательного нормотворчества.
Законодательный процесс. При двухпалатном парламенте законодательный процесс распадается на пять основных стадий. Первая –
внесение законопроекта. Независимо от того, вносится ли законопроект в нижнюю палату парламента или же он может быть внесен в любую палату, эта стадия имеет общие черты для всех стран. Она включает в себя разработку законопроекта субъектами законодательной
инициативы. Вторая – обсуждение законопроекта в нижней палате.
Третья – вотирование закона нижней палатой. Четвертая – одобрение
вотированного закона верхней палатой парламента. Пятая – промульгация закона.
Субъектами законодательной инициативы, прежде всего, являются
отдельные депутаты нижней палаты, а также группы депутатов, комитеты, комиссии и другие депутатские объединения. Если парламент
имеет двухпалатную структуру, то правом законодательной инициативы обладают отдельные депутаты верхней палаты, их группы и верх-
235
няя палата в целом.
Законодательная инициатива верхней палаты означает, что сначала
депутат верхней палаты или группа депутатов вносят “проект законопроекта” – ставят законопроект на рассмотрение в самой же верхней
палате. Палата рассматривает такой законопроект, вносит поправки,
одобряет и, наконец, выступает с законодательной инициативой – вносит законопроект в нижнюю палату парламента. По существу такие
действия верхней палаты относятся не столько к первой, сколько к четвертой стадии законодательного процесса. Во всех остальных случаях
законодательной инициативы верхняя палата выражает свою позицию
в законодательном процессе лишь после того, как закон будет вотирован нижней палатой. Но в случае законодательной инициативы верхней палаты последняя как бы заранее выражает свою будущую позицию по поводу содержания закона. Осуществляя законодательную
инициативу, верхняя палата тем самым заявляет, что закон скорее всего будет ею отклонен, если при прохождении через нижнюю палату он
претерпит изменения. И если нижняя палата не согласна с законопроектом верхней палаты, то она должна сразу же его отвергнуть (отклонить в первом чтении). Если же она принимает его в первом чтении, то
в дальнейшем она должна ограничиться минимальными поправками,
не затрагивающими существа законопроекта. Если закон, вотированный нижней палатой, будет существенно отличаться от законопроекта
верхней палаты, то последняя отвергнет такой результат деятельности
нижней палаты.
Кроме того, в федеративном государстве право федеральной законодательной инициативы должно принадлежать законодательным
органам субъектов федерации, особенно, по предметам совместного
ведения федерации и ее субъектов.
Строгое разделение властей на законодательную, исполнительную
и судебную исключает право законодательной инициативы для судов и
органов исполнительной власти. Ибо подготовка законопроекта,
например, органом исполнительной власти означает, что будущий исполнитель закона закладывает его фундамент, задает содержание закона номинальному законодателю.
Наделение этих государственных органов правом законодательной
инициативы может показаться допустимым или несущественным
нарушением разделения властей. Ибо, с одной стороны, законодатель
может отклонить или существенно изменить негодный законопроект,
составленный в интересах властных субъектов, которые должны его
применять и исполнять. С другой стороны, нет ничего плохого в том,
что легислатура примет к рассмотрению законопроект, подготовлен-
236
ный квалифицированными специалистами, даже если он внесен исполнительным органом или судом. Тем более, что законоприменительные
органы достаточно хорошо знают потребности законодательного регулирования.
В действительности законодательная инициатива исполнительных
органов и судов грубо противоречит такому разделению властей, при
котором легислатура отделена от исполнительной и судебной ветвей
власти. Разумеется, законодатель вправе отклонить законопроект, если
он сочтет его негодным. Но законодатель связан концепцией законопроекта, и он не может “исправить” негодный законопроект, изменить
его концепцию (интенцию), т.е. не вправе существенно изменить законопроект без согласия автора (субъекта законодательной инициативы).
Изменить законопроект по существу – значит отклонить его и составить новый законопроект. Создатель законопроекта – это всегда по
меньшей мере соавтор принятого закона. Иначе говоря, либо законодатель отклоняет законопроект, внесенный законоприменителем, либо
принимает такой закон, который угоден законоприменительному органу. В первом случае законодательная инициатива законоприменителя
бессмысленна, во втором она противоречит требованию функционального разграничения законодателя и законоприменителя.
Законодательная инициатива исполнительного органа целесообразна при парламентской ответственности правительства, т.е. тогда, когда этот орган формируется парламентом (номинальным законодателем). Так, в парламентарных странах основным субъектом законодательной инициативы является правительство. Но при парламентской ответственности правительства нет функционального разделения
властей на законодательную и исполнительную.
В России помимо депутатов двухпалатного парламента (Государственной Думы и Совета Федерации) и верхней палаты в целом (Совета
Федерации), помимо законодательных органов субъектов РФ, правом
законодательной инициативы обладают институты исполнительной
власти (Президент РФ и Правительство РФ), а также три высших федеральных суда. Независимо от целесообразности столь широкого круга
субъектов законодательной инициативы, их состав противоречит
функциональному отделению легислатуры от исполнительной и судебной ветвей власти.
Рассмотрение законопроекта в нижней палате, как правило, в трех
чтениях. Необходимость трех чтений вызвана самой логикой демократической процедуры законотворчества.
Первое чтение означает первое формальное ознакомление законодателей с законопроектом. В первом чтении законодатели оценивают
237
основные положения законопроекта, его концепцию (интенцию). При
этом они должны решить, нужен ли вообще закон по вопросам, которые регулируются в законопроекте, а если нужен, то можно ли принять
(принять за основу) внесенный законопроект. По итогам обсуждения
законопроекта в первом чтении нижняя палата вправе либо отклонить
законопроект, либо принять его в первом чтении. В случаях, когда необходимое большинство депутатов нижней палаты безоговорочно согласно с текстом законопроекта и он не нуждается в юридикотехническом редактировании, закон может быть вотирован (принят
нижней палатой) уже после первого чтения. Если законопроект принят
в первом чтении, то во втором чтении происходит обсуждение конкретных положений законопроекта и голосуются внесенные законодателями поправки к тексту законопроекта. Второго чтения, как
правило, недостаточно для вотирования закона. Ибо в тексте законопроекта, измененном в процессе второго чтения, могут обнаружиться
противоречия. В любом случае измененный текст законопроекта нуждается в юридико-техническом редактировании, после чего он выносится на заключительное третье чтение, по итогам которого законопроект голосуется в окончательном виде.
Вотирование закона нижней палатой – это голосование по законопроекту, в результате которого либо закон считается не принятым, либо вотированный закон направляется в верхнюю палату парламента.
Таким образом, вотирование еще не означает принятие закона: закон
принимается не нижней палатой, а парламентом. Обычно для вотирования простых законов требуется простое большинство голосов от
общего числа депутатов нижней палаты. Для органических или конституционных законов требуется квалифицированное большинство.
Четвертая и пятая стадии – это “сдержки и противовесы” в законодательном процессе. Как правило, если простой закон в течение определенного срока не рассмотрен верхней палатой, то он считается
“одобренным по умолчанию”. Органические или конституционные законы, а также законы по определенным вопросам, указанным в конституции, не могут быть “одобрены по умолчанию”. Рассмотрев закон,
верхняя палата может одобрить его требуемым большинством голосов
либо не одобрить (отклонить, заявить возражения). Во втором случае
закон, как правило, направляется в нижнюю палату парламента, которая вправе преодолеть возражения верхней палаты квалифицированным большинством голосов. Кроме того, палаты могут создавать
согласительные комиссии для преодоления их разногласий или выносить повторное голосование на совместное заседание палат. В любом случае, если возражения верхней палаты не преодолены, закон
238
считается не принятым.
Закон, принятый палатами парламента, не вступает в силу автоматически. В условиях разделения властей номинальный глава государства или глава исполнительной власти, на которого возложены обязанности номинального главы государства, должен подписать закон и
опубликовать его для всеобщего сведения. Если иное не предусмотрено в самом законе, то он вступает в силу с момента его опубликования. Если государственный орган, промульгирующий законы, обладает
правом отлагательного вето, то он вправе отклонить закон в случаях,
когда он считает, что закон противоречит конституции или иному акту,
имеющему большую юридическую силу. Палатам парламента дается
право преодолевать отлагательное вето квалифицированным большинством голосов при повторном голосовании закона в каждой из палат. Существующее в некоторых монархических государствах (дуалистические монархии) абсолютное вето не может быть преодолено парламентом.
Возможно и более дробное вычленение стадий законодательного
процесса. Например, считается, что в США законодательный процесс
распадается на 15 стадий.
При выработке правовых норм, издании нормативных актов и последующей их систематизации используется ряд правил. Совокупность
всех этих правил, средств и приемов образует законодательную технику. С учетом правил, средств и приемов формулирования индивидуальных актов получается юридическая техника.
Требования юридической техники.
1. Нормативность законодательного текста. Закон должен нормативные правоположения, а также необходимые дефиниции и технические правила, если соблюдение или несоблюдение последних порождает юридические обязанности и, особенно, юридическую ответственность.
2. Максимально возможная ясность текста нормы, единство терминологии, использование общепризнанных (общеупотребительных,
специальных юридических и специальных неюридических) терминов.
3. Требование оптимальной формы юридического текста – минимум объема текста при максимуме его содержания. Отсюда вытекают принципы минимизации текста для выражения определенного нормативного содержания и максимизации нормативного содержания,
вкладываемого в формулировки текста.
В этом смысле юридический текст выступает как информация, “закодированная” с помощью приемов юридической техники. Знание этих
приемов и правил позволяет разным интерпретаторам одинаково “рас-
239
кодировать” текст. При этом для интерпретатора действует презумпция использования автором текста той же юридической техники, которой владеет интерпретатор.
Так, принцип минимизации текста требует не формулировать правоположения, очевидные или понятные в силу простой логической интерпретации. Например, ч.5. ст.125 Конституции РФ устанавливает
правомочие Конституционного Суда давать толкование Конституции
по запросам компетентных субъектов. Знание юридической техники
позволяет логически установить, что имеется в виду нормативное толкование Конституции, т.е. толкование с последствиями erga omnes.
Для казуального толкования не требуется конституционное или законное дозволение, ибо это толкование, имманентное правоприменительной деятельности.
4. Юридическая техника требует включения в нормативный акт
только однородного материала. Лучше издать несколько актов, но не
издавать разнородного по содержанию акта.
5. Правила структуры. Нормативные акты должны подразделяться
на статьи, в которых могут выделяться части, абзацы или пункты. Кодифицированные акты могут делиться на общую и особенную части,
разделы, главы.
Приемы формулирования норм включают абстрактный (выражение
всей совокупности юридических фактов обобщенными понятиями) и
казуистический (перечисление конкретных фактических обстоятельств, порождающих правовые последствия). Первый характерен для
нормативных актов, второй – для судебных прецедентов.
Различение так называемых способов формулирования норм (прямой, отсылочный и бланкетный) представляется сомнительным с точки
зрения юридической техники. Во-первых, прямой способ, когда норма
полностью сформулирована в одном законоположении (статье закона),
практически не встречается. Всегда для уяснения значения тех или
иных понятий (например, “имущество”, “юридическое лицо”, “лишение свободы” и т.п.) необходимо обратиться к другим законоположениям.
Во-вторых, отсылочного способа формулирования норм быть не
может, существуют отсылочные (ссылочные) законоположения, т.е.
такие которые отсылают к другим законоположениям того же самого
или иного определенного закона.
В-третьих, так называемый бланкетный способ по существу означает, что законодатель либо не знает гипотезу, либо не устанавливает
диспозицию. В обоих случаях нельзя считать, что таким “способом”
формулируется норма права. В случае “бланкетной гипотезы” законо-
240
датель, например, устанавливает наказание за нарушение правил, имеющих силу подзаконного нормативного акта, которые он, законодатель, может и не знать; во всяком случае, эти правила легко изменить
путем издания подзаконного акта после принятия закона об ответственности за их нарушение. Получается, что фактически ответственность устанавливается не законом, а подзаконным актом. В случае же
“бланкетной диспозиции” нормы просто нет.
Систематизация нормативных (правоустановительных) актов.
Инкорпорация – публикация нескольких актов в одной книге (по хронологическому, тематическому или иному принципу), новый правоустановительный акт не принимается. Консолидация – официальное
издание вместо нескольких правоустановительных актов одного нового – консолидированного. При этом все консолидируемые акты утрачивают силу. Возможно исключение из консолидированного акта
устаревших норм и установление ряда новых. Кодификация – переработка и обновление нормативно-правового материала, в результате которых издается собрание всех норм одной отрасли или подотрасли
права (например, уголовный кодекс или гражданский процессуальный
кодекс) или собрание всех основных (но не всех остальных) норм одной отрасли права (например, гражданский кодекс устанавливает, что
другие нормы гражданского права не могут противоречить нормам
гражданского кодекса).
Восполнение судом пробелов в законодательстве и в правовом регулировании (правовосполнительная деятельность суда) – это разновидность правоустановительной деятельности.
Ситуация, которая называется пробелом в праве, означает несовершенство законодательства или пробел в договоре. Для того чтобы
установить наличие “пробела в праве”, судья должен сначала столкнуться со спором о праве. Например, если истец утверждает, что
нарушено его субъективное право, то судья должен установить, есть ли
у истца такое право. Если оно есть, т.е. оно вытекает из закона или договора, то уже в этом смысле “пробела в праве” нет. Если же судья не
сможет установить наличие права, о котором утверждает истец (оно не
вытекает ни из закона, включая конституцию, ни из договора, то тем
более нет “пробела в праве”. То, что называется квалифицированным
молчанием законодателя, означает что субъективного права в рассматриваемой ситуации просто нет (нет и “пробела в праве”).
Далее, судья, установив субъективное право, которое подлежит
защите, не находит положение договора или законоположение, которое можно было бы применить для защиты нарушенного субъективного права. Именно в этом моменте правоприменительной деятельности
241
судья сталкивается с тем, что называется “пробелом в праве”.
В этом случае судья должен применить закон по аналогии или
принять решение ad hoc. В последнем случае используется неудачный
термин “аналогия права” – применение к неурегулированному отношению “общих начал и смысла права”. Имеется в виду, что дело нужно
разрешить аналогично тому, как право вообще регулирует подобные
отношения.
Пробел в законодательстве или отсутствие подходящего нормативного прецедента не обязательно означает пробел в правовом регулировании соответствующих отношений (пробел в праве), который может
быть или должен быть восполнен судом. В сфере гражданского (частного) права наличие договора, не противоречащего закону, уже не позволяет говорить о пробеле в праве.
Так, сталкиваясь с “ненормальным” договором, не противоречащим закону, и установив пробел в законодательстве, суд должен
считать источником права для спорного отношения сам договор. И
лишь в том случае, когда суд затрудняется в разрешении спора о праве
из-за того, что нет ни нормы (закона, прецедента, обычая), ни договора, суд должен считать такое положение пробелом в правовом регулировании и самостоятельно восполнить этот пробел, т.е. установить
права и обязанности сторон спора ad hoc.
Кроме того, суд всегда должен защищать права человека. Это относится и к сфере частного, и, особенно, к сфере публичного права.
Если нет нормы публично-правового законодательства, которую можно применить по аналогии, то суд должен непосредственно применять
положения конституции и международного права о правах человека –
если в противном случае будут нарушены права человека. В частности,
суд (и административный орган), установив пробел в законодательстве, не вправе заявить, что этот пробел должен устранить законодатель, если такой отказ восполнить пробел в законодательстве повлечет
за собой нарушение прав человека. Например, отсутствие закона об
альтернативной гражданской службе не может быть препятствием для
реализации конституционного права гражданина РФ на отказ от военной службы и замену ее альтернативной гражданской службой. Здесь
пробел в законодательстве означает лишь неполноту правового регулирования, и суд обязан восполнить этот пробел, если в противном
случае будет нарушено конституционное право гражданина.
Однако в сфере юридической ответственности действует принцип
“нет ни правонарушения, ни юридической ответственности, не предусмотренных законом”. Поэтому, например, в особенной части уголовного кодекса не может быть пробелов, которые могут быть восполнены
242
судом. То же самое относится и к законодательству об административных правонарушениях. Суд не вправе считать не предусмотренное законом деяние правонарушением даже тогда, когда суд считает, что такого рода деяния нарушают права человека.
Если в случае пробела в административном законодательстве, тем
не менее, для защиты прав человека нужно принять административное
решение, не связанное с юридической ответственностью, то административный орган в такой ситуации должен принимать решение ad hoc,
руководствуясь нормами о правах человека. Суд административной
юрисдикции должен санкционировать такой административный прецедент, если он придет к выводу, что в противном случае были бы
нарушены права человека.
В сфере процессуального права суд, столкнувшись с пробелом в
законодательстве (или отсутствием процессуального прецедента),
должен руководствоваться правоположениями конституции, а также
требованиями европейского права в области прав человека и другими
положениями международного права. Например, суд обязан дозволять
(санкционировать) процессуальные действия сторон, если в противном
случае будет нарушено право на равный доступ к правосудию или право на справедливое судебное разбирательство либо требования надлежащей правовой процедуры (право на открытое судебное разбирательство в присутствии сторон, право на “равенство оружия” или равенство средств защиты, право на состязательный судебный процесс и
т.д.).
Установить и восполнить пробел в конституции может только конституционный суд. Причем для того, чтобы официально установить и
восполнить пробел, конституционный суд должен прийти к выводу,
что в противном случае будут нарушены права человека или права
других субъектов конституционно-правовых отношений.
Например, норма ч.3 ст.117 Конституции РФ предусматривает право Государственной Думы выразить недоверие Правительству РФ и
обязанность Президента РФ объявить об отставке Правительства либо
распустить Думу, в случае если недоверие будет выражено дважды в
течение трех месяцев. В ситуации, когда Дума не может быть распущена, Президент должен принять решение об отставке Правительства.
Но срок, в течение которого Президент должен принять решение, в ч.3
ст.117 не установлен. Если такая ситуация станет предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ, то последний вправе установить
наличие пробела в рассматриваемом фрагменте Конституции, исходя
из следующих соображений. Если считать, что Президент сам определяет срок принятия решения, предусмотренного в ч.3 ст.117, и может
243
сколь угодно долго затягивать принятие этого решения, то это означает, что он вправе, а не обязан объявить об отставке Правительства либо
распустить Думу. При таком толковании решение Думы о недоверии
Правительству утрачивает всякий смысл, ибо Президент и без Думы
вправе принять решение об отставке Правительства. Такое толкование
нарушает право Думы добиваться отставки Правительства путем повторного в течение трех месяцев выражения Правительству недоверия.
Следовательно, налицо пробел в ч.3 ст.117. Этот пробел легко восполнить применением Конституции по аналогии. В ч.4 ст.117 содержится
аналогичная норма, которая устанавливает обязанность Президента в
течении семи дней принять решение об отставке Правительства или о
роспуске Думы, если Дума отказывает в доверии Правительству.
Другой пример связан с необходимостью принятия решения о временном отстранении от должности Генерального прокурора РФ в случае возбуждения против него уголовного дела. Ч.2 ст.129 Конституции
определяет, что Генеральный прокурор назначается на должность и
освобождается от должности Советом Федерации по представлению
Президента. Но Конституция ничего не говорит об отстранении Генерального прокурора от должности на период рассмотрения возбужденного против него уголовного дела. Принятие такого решения не относится ни к компетенции Президента, ни к компетенции Совета Федерации. Однако принятие такого решения обязательно, ибо в противном
случае Генерального прокурора невозможно привлечь к уголовной ответственности, что означало бы его неприкосновенность, Конституцией не предусмотренную. Здесь опять налицо пробел в Конституции. Но
приведенных аргументов недостаточно для того, чтобы Конституционный Суд мог официально установить и восполнить этот пробел. Ибо
неприкосновенность, вопреки Конституции, Генерального прокурора
нельзя рассматривать как нарушение прав человека. Поэтому здесь
Конституционный Суд должен был бы ограничиться официальным
толкованием Конституции и, воспользовавшись принципом a fortiori,
отнести принятие решения о временном отстранении от должности Генерального прокурора к компетенции Совета Федерации. В действительности Конституционный Суд принял совсем другое решение, и, по
существу, восполнил пробел в Конституции, установив, что Президент
как гарант Конституции вправе и обязан отстранять Генерального прокурора от должности на период рассмотрения возбужденного против
него уголовного дела.
Тема 21. Система права и система законодательства
244
Вопросы для обсуждения
1. Системный характер правового регулирования.
2. Отраслевая структура права.
3. Комплексные отрасли правового законодательства и межотраслевые правовые институты.
4. Трудовое право и социальное законодательство.
Из лекции: Право как соционормативный регулятор представляет
собой систему норм. Системность права выражается, во-первых, в том,
что диспозиции одних правовых норм обеспечиваются диспозициями
других – так называемыми санкциями, т.е. диспозициями правовых
норм, установленных как реакция права на нарушение первых диспозиций. Во-вторых, и это вытекает из первого обстоятельства, для правового регулирования требуется системное взаимодействие норм разного рода, норм, играющих разные роли, выполняющих разные функции в системе правового регулирования. Иначе говоря, для регулирования некой юридически значимой ситуации недостаточно одной или
нескольких однородных норм, предписывающих определенное поведение в этой ситуации, и нужны нормы, прямо или косвенно обеспечивающие регулирующее воздействие первых норм – так называемые
охранительные нормы, позволяющие пресекать и наказывать правонарушения в регулируемой ситуации, нормы разрешения споров, возникающих в регулируемой ситуации, и другие.
Исторически правовой способ соционормативной регуляции складывается по мере возникновения и развития свободного эквивалентного обмена. Но это не значит, что вначале правогенез ограничивается
частным правом, нормами, непосредственно регулирующими отношения обмена. Для того чтобы отношения обмена, равно как и любые
иные отношения, регулировались правом, требуется система правовых
норм. В этой системе есть не только (1) частное, но и публичное право,
а именно:
(2) право конституционное, которое определяет правовой статус
индивидов, других субъектов и устанавливает пределы публичной власти;
(3) право уголовное, “наказательное”, защищающее правовую свободу угрозой наказания за посягательства на правовые ценности;
(4) право полицейское (административное) – право администрировать в целях всеобщего соблюдения порядка правовой свободы, прежде всего позволяющее властным субъектам пресекать правонарушения
и привлекать правонарушителей к ответственности;
245
(5) право процессуальное, устанавливающее процедуру разрешения споров о нарушенном праве.
Таковы функционально определяемые составные части системы
права (системы правовых норм), нормативные компоненты, необходимые и достаточные для правового регулирования, надлежащего нормативного обеспечения правовой свободы. Совокупность этих пяти компонентов достаточна для правового регулирования в любых сферах социальной жизни людей, и какое-то иное законодательное регулирование, за пределами этих компонентов, например, законодательство о
социальном обеспечении или особое законодательство о труде, отличное от частного (гражданского) права, означает уже выход за пределы
правовой соционормативной регуляции. Все эти пять компонентов
необходимы и существуют в любой правовой ситуации, развитой или
неразвитой, в любой правовой культуре. Так, не следует полагать, что
конституционное право возникает лишь в новое время, в относительно
развитых правовых культурах; в любом государственно-правовом сообществе организация государственной власти ограничена конституцией, писаной или неписаной.
Эти компоненты, совокупности норм, выполняющих разные функции в системе правового регулирования, обозначаются как отрасли
права.
Следует различать отрасли права и отрасли законодательства. Первые разграничиваются наукой (отраслевая структура права относится к
числу доктринальных выводов в науке европейского континентального
права). Вторые создаются законодателем по мере развития правовых
систем в соответствии с выводами науки об отраслях (и подотраслях)
права, об их соотношении и взаимодействии.
Совокупность отраслей права и совокупность отраслей правового
законодательства объемлют один и тот же нормативно-правовой материал, но структурируют его по-разному. Отраслевая структура правового законодательства выражает более дробное и более сложное структурирование права.
Существует всего пять отраслей права. Во-первых, это частное,
или гражданское, право. Во-вторых, есть четыре отрасли публичного
права – конституционное (“государственное”), уголовное, административное и процессуальное.
Нормы гражданского права описывают права и обязанности, характерные для типичных отношений свободного эквивалентного обмена, и гарантируют установление субъективных прав и юридических
обязанностей по принципу “незапрещенное разрешено”. Предназначение конституционного права – установление общих правовых рамок
246
публичной политической власти. Современные конституции, прежде
всего, гарантируют первичные права индивида (общий правовой статус человека и гражданина). Далее, конституционное право устанавливает организацию государственной власти, необходимую ради правовой свободы. Нормы уголовного права угрозой наказания охраняют
ценности, гарантированные конституционным правом. Прежде всего,
они защищают индивида от посягательств на его жизнь и здоровье,
личную свободу, честь и достоинство, собственность, защищают его
неприкосновенность – духовную и физическую, неприкосновенность
жилища, тайну частной жизни, тайну коммуникаций, а также защищают естественную среду обитания человека, общественную безопасность и общественный порядок, конституционный строй, порядок
государственного управления и другие социальные блага. Смысл административного права заключается в установлении полицейских
полномочий, предназначенных для защиты тех же ценностей, которые
гарантируются конституционным правом и охраняются правом уголовным. Это специфическая отрасль права – дозволенные правом полицейские полномочия, т.е. правомочия, позволяющие осуществлять
публично-властное принуждение вплоть до насилия. Поскольку это –
правомочия, а не произвольно установленные полномочия, они должны устанавливаться ради обеспечения и защиты правовой свободы, но
не наоборот. Нормы процессуального права устанавливают надлежащую правовую процедуру разрешения споров, а также правила уголовного преследования и компетенцию органов, осуществляющих процессуальные действия. Надлежащая правовая процедура разрешения споров препятствует произвольному ограничению свободы и собственности. Это судебная процедура: перед лицом суда формально равны
любые субъекты, выступающие в качестве сторон спора, любые участники процесса.
Нормы отраслей права официально формулируются в законах и
других источниках права. При этом отраслевая структура права не
совпадает с отраслевой структурой правового законодательства, существующей в развитых правовых системах. Отрасль правового законодательства – это совокупность правовых норм, обособленных (систематизированных) законодателем в соответствии с доктринальным делением права на отрасли и подотрасли и в соответствии с потребностями законодательного регулирования. В рамках отрасли законодательства нормы систематизируются путем кодификации или консолидации нормативных актов, относящихся к одному предмету регулирования. Помимо правового существуют трудовое и социальное законодательство.
247
Одной отрасли права могут соответствовать как одна, так и несколько отраслей правового законодательства. Так, нормы конституционного права содержатся только в конституции и конституционноправовом законодательстве, нормы уголовного права – только в уголовном законодательстве (обычно – в уголовном кодексе). Но другим
отраслям права обычно соответствуют несколько отраслей законодательства.
По мере исторического развития национальных правовых систем
происходит разветвление отраслей законодательства, соответствующих гражданскому, административному и процессуальному праву.
При этом, во-первых, отдельные подотрасли гражданского, процессуального и административного права кодифицируются как самостоятельные отрасли правового законодательства. Во-вторых, формируются комплексные отрасли правового законодательства, состоящие, в основном, из норм гражданского и административного права.
Например, подотрасли гражданского права выделяются в отдельные отрасли законодательства, и существует несколько отраслей
частноправового законодательства: “собственно гражданское законодательство” (гражданский кодекс), а также торговое и брачно-семейное законодательство, которые кодифицируются отдельно от гражданского кодекса. По существу, торговое и брачно-семейное законодательство – это подотрасли гражданского права. Кроме того, нормы
гражданского права содержатся в комплексных отраслях законодательства, в которых они сочетаются с нормами административного
права.
Разветвление отраслей правового законодательства – это не произвольное творчество законодателя, оно имеет объективные предпосылки. В ходе исторического развития усложняется структура общественных отношений, подлежащих правовому регулированию. Соответственно усложняется и отраслевая структура системы права: накапливается нормативный материал, и в рамках отраслей обособляются подотрасли права. Эти подотрасли приобретают самостоятельное значение, и законодатель может выделить их в самостоятельные отрасли
правового законодательства. Отрасль законодательства, которая состоит из норм одной подотрасли права, имеет свой особенный предмет,
выделяющийся из общего предмета соответствующей отрасли права.
Комплексные отрасли правового законодательства не только имеют
особенный предмет, но и сочетают в себе методы регулирования, характерные для частного права и публичного (административного) права. Это отрасли частно-публичного правового законодательства.
История права демонстрирует разные варианты обособления
248
подотраслей права в качестве самостоятельных отраслей законодательства. Так, для гражданского (частного) права характерно наличие основной отрасли законодательства – кодифицированного “собственно гражданского” законодательства, наряду с которым возможно
самостоятельное торговое законодательство – нормы гражданского
права, регулирующие торговые отношения, кодифицированные отдельно от гражданского кодекса. Кроме того, в ХХ в. во многих странах от “собственно гражданского” отделяется брачно-семейное законодательство, и во всех правовых системах с развитой отраслевой
структурой некоторые институты гражданского права составляют основу комплексных отраслей правового законодательства (земельное,
хозяйственное и т.д.). При этом гражданский кодекс выступает как основная законодательная форма гражданского права. В нем сосредоточены общие нормы и большая часть специальных норм гражданского
права. Никакие нормы гражданского права, не могут противоречить
нормам гражданского кодекса.
В сфере процессуального права, напротив, нет основной, или “общепроцессуальной”, отрасли законодательства. Процессуальное право
традиционно развивается в форме двух отдельных отраслей законодательства – уголовно-процессуального и гражданского процессуального. Кроме того, возможно формирование новых отраслей процессуального законодательства – административно-процессуального и
конституционно-процессуального.
Административное право в ХХ в. приобретает форму множества
отраслей кодифицированного законодательства, соответствующих
подотраслям административного права. Отрасли административноправового законодательства – это законодательство об административных правонарушениях (административно-деликтное), об исполнительной власти, финансовое, налоговое, таможенное, уголовноисполнительное, экологическое и другие. Это не самостоятельные отрасли права; смысл правового регулирования во всех этих отраслях законодательства сводится к тому, что законодатель, с одной стороны,
устанавливает публично-правовые обязанности определенного круга
субъектов, с другой – компетенцию административных органов, позволяющую требовать выполнения этих обязанностей, контролировать
их выполнение, принуждать к их выполнению и т.д. Отдельные институты административного права (государственное регулирование земельных отношений, государственное управление хозяйственной деятельностью) развиваются в форме комплексного законодательства. Но
в сфере административного права обычно нет основной отрасли законодательства, т.е. нет административного кодекса, содержащего ос-
249
новные общие и специальные нормы административного права. Полная, всеобъемлющая кодификация административно-правовых норм
вряд ли возможна в принципе. Возможны лишь отдельные крупные законы, раскрывающие общие положения административного законодательства.
Комплексные отрасли правового законодательства сочетают в себе
нормы, которые, по сути, являются нормами гражданского права и административного права. В процессе их законодательного оформления
происходит систематизация норм гражданского и административного
права, одновременно регулирующих одни и те же группы отношений,
связанные с определенным объектом (например, земля, природные ресурсы) или с определенной деятельностью (хозяйственная, банковская)
Особое место в отраслевой структуре права занимает трудовое
законодательство. Его нельзя однозначно относить ни к правовому,
ни к социальному (неправовому) законодательству. Оно обладает своим особым содержанием, которое отличает его от всех остальных отраслей законодательства. Трудовое законодательство – это “полуправовое” законодательство, регулирующее трудовые отношения, т.е. отношения найма рабочей силы, отношения между работодателем и наемным работником.
Главное в трудовом законодательстве, его сущность и предназначение – это его неправовой компонент, а именно: привилегии наемных
работников в трудовых отношениях. Эти привилегии, прежде всего,
обязывают работодателя, независимо от его дохода, устанавливать
вознаграждение за труд не ниже определенного размера и обеспечивать условия труда и отдыха не ниже стандартов, установленных трудовым законодательством.
При гражданско-правовом регулировании трудовых отношений работники находятся в заведомо невыгодном экономическом положении.
При таком положении значительная часть промышленных рабочих
представляет собой устойчивое экономическое люмпенство, или “пролетариат”, которому “нечего терять, кроме своих цепей” (К. Маркс, Ф.
Энгельс). Это социальные группы, которые состоят из людей, не имеющих иного источника существования, кроме заработной платы, размер которой достаточен лишь для воспроизводства рабочей силы. Для
экономического люмпенства правовая свобода, права человека, общество, основанное на частной собственности, и государство, защищающее частную собственность, не представляют никакой ценности. Поэтому в раннем индустриальном обществе время от времени
происходят бунты, акции неповиновения промышленных рабочих –
вплоть до вооруженных восстаний.
250
В ХХ в. во всех индустриально развитых странах было признано,
что в трудовых отношениях не может быть полной свободы договора.
Но, в отличие от европейских стран, в США достаточно долго сохранялось регулирование трудовых отношений по принципу формального
равенства и защищался принцип свободы договора в сфере труда. Верховный суд США в прецеденте по делу Locher v. New York (1905) постановил, что Конституция не допускает вмешательство штата в право
работника свободно заключить контракт с работодателем. Штат не
вправе отнимать работу у работника на том основании, что условия
контракта слишком плохи для работника. Право работника заключать
такой договор, который он согласен заключить было объявлено фундаментальным и конституционным. И лишь в 1937 г. в решении по делу
West Coast Hotel v. Parrich Верховный суд аннулировал решение
Locher v. New York и установил, что штат может регулировать договорные отношения между работником и работодателем.
По смыслу трудового законодательства работник при заключении
трудового договора должен быть привилегированной стороной, которой государство гарантирует минимальные условия договора в ее
пользу (привилегированный минимум). От этих условий можно отступать лишь в сторону их улучшения для работника. Таким образом, договоры о труде подчинены принципу in favorem, который в данном
случае означает, что договор не может ухудшать положение работника
по сравнению с законодательством.
Закон устанавливает лишь “неприкосновенный минимум трудовых
прав” (привилегированный минимум). Все, что устанавливается в
пользу работника сверх этого минимума, устанавливается уже на основе свободы договора.
Трудовые отношения непосредственно регулируются не столько
нормами закона, сколько нормами, установленными в коллективных
трудовых договорах, имеющих силу закона. Сторонами, заключающими эти договоры, являются коллективные субъекты – коллективы работников и объединения работодателей (предпринимателей).
Эти договоры предусмотрены законодательством как источники трудового права, которые могут лишь улучшать положение работника по
сравнению с законом. Они имеют силу закона постольку, поскольку не
нарушают принцип in favorem. Индивидуальный трудовой договор не
может ухудшать положение работника, гарантированное трудовым законодательством и коллективными договорами.
Трудовое законодательство вводит в трудовые правоотношения
(признает, учреждает) новый вид субъектов права – коллектив работников (трудовой коллектив), вступающий через своих представителей
251
в коллективные переговоры и заключающий коллективные договоры.
Этот субъект, не являясь юридическим лицом, тем не менее, вступает в
частноправовые отношения с работодателем. Трудовой коллектив как
неопределенное множество физических лиц, работающих на предприятии, не может быть субъектом гражданского права, ибо последнее
признает договоры, которые заключаются только определенными лицами. Зато трудовой коллектив – это такой субъект, который действительно может выступать как формально равный в отношениях с работодателем, вступать в переговорные отношения и добиваться соблюдения экономических интересов работников.
Признавая трудовые коллективы и объединения профсоюзов субъектами переговорных и договорных отношений, трудовое законодательство “создает” такой вид субъектов права, которому ни отдельные работодатели, ни их объединения не могут диктовать условия договоров о
труде. Кстати, профсоюзы в США были легализованы Актом Вагнера
лишь в 1935 г., а до этого к ним в полной мере применялось антитрестовское законодательство.
Наконец, трудовое законодательство отличается от гражданского
права тем, что гарантирует право работников на коллективные трудовые споры, включая право на забастовку как способ разрешения этих
споров. С точки зрения гражданского права споры о праве возможны
только между отдельными лицами, а коллектив, множество лиц не может быть субъектом спора о праве. Трудовое же законодательство, наряду с индивидуальными, признает и коллективные споры, так как
фактическая зависимость отдельного работника от работодателя может
сделать индивидуальный спор нереальным.
Смысл забастовки состоит в том, что работодатель не вправе уволить бастующих и нанять других, если забастовка не признана незаконной. С точки зрения гражданского права забастовка – это монополистическое (правонарушающее) ограничение свободы предпринимательства. Но в условиях безработицы только забастовка может эффективно побуждать предпринимателей учитывать интересы работников. Но ради соблюдения правового равенства в этом вопросе,
трудовое законодательство гарантирует предпринимателям право на
“оборонительный локаут” – приостановление работы предприятия в
ответ на забастовку.
Признание коллективных субъектов частноправовых (договорных)
отношений, коллективных споров о праве, гарантии права на забастовку и права на локаут – в этом заключается специфика трудового законодательства.
Совсем иные представления об отраслевой структуре права быту-
252
ют в вульгарной легистской доктрине. Эта доктрина, способная лишь
описывать и комментировать, но не способная объяснять правовые явления (объяснять иначе как велениями верховной власти), отождествляет отрасли права и отрасли законодательства и считает в этом вопросе волю законодателя первичной по отношению к доктринальным выводам (как будто законодатель не опирается на доводы той или иной
доктрины!).
Для посттоталитарной легистской доктрины отрасли права – это
основные направления властно-приказного воздействия (организация
аппарата государственной власти, управление, финансовые отношения,
социальное обеспечение, природоохранная деятельность, преступление
и наказание, уголовное преследование, судебное рассмотрение дел и
исполнение судебных решений, отбывание наказание и перевоспитание преступников) и приложение властно-приказной деятельности к
отдельным сферам социальной жизни людей (имущественные, семейные, трудовые отношения, землепользование и землеустройство, предпринимательство и т.д.). При этом в одном ряду оказываются отрасли
и подотрасли права, например, административное право и финансовое
право или уголовно-исполнительное (подотрасли административного).
В один ряд попадают гражданское, административное и предпринимательское право, хотя предпринимательское право не добавляет ничего
нового к гражданскому и административному праву. Понятно, что легисты не делают различия между правовым, трудовым и социальным
законодательством. Такого рода представления об отраслевой структуре права не дают никакого представления о системном характере правового регулирования
Тема 22. Основы типологии национальных правовых систем
Вопросы для обсуждения
1. Закон и судебная практика в основных правовых семьях.
2. Исторические особенности становления английской правовой
культуры и тенденция к сближению основных правовых семей.
3. Конкурирующее (правовое и неправовое) регулирование в неразвитых правовых культурах.
4. Социалистическое законодательство. Смысл трудового и социального законодательства при социализме.
Из лекции: Национальные правовые системы объединяются по
сходным признакам в правовые семьи. С точки зрения либертарной
253
теории права и государства существуют две основные правовые семьи
– европейская континентальная правовая семья (ЕКПС), или страны
романо-германского права, и семья общего (прецедентного) права, которую иногда называют семьей англосаксонского права. Последнее
название неуместно, так как англосаксонским называется период в
правовом развитии Англии (период “варварского законодательства”),
предшествовавший нормандскому завоеванию и последующему формированию общего права.
Страны общего права – это Великобритания, Ирландия, а также
США, Индия и другие бывшие британские колонии. К странам романо-германского права относятся европейские континентальные страны
(включая Турцию, постсоветские страны Восточной Европы, Россию),
латиноамериканские страны – бывшие колонии Испании и Португалии, а также иные страны мира (например, Япония), которые в своем
правовом развитии ориентируются на романо-германское право.
В странах ЕКПС основным видом источников права являются законы (нормативные акты), в странах общего права – нормативные судебные прецеденты. Это внешнее, наиболее очевидное принципиальное различие основных правовых семей. За ним скрываются различные
способы формирования правовых норм и, в конечном счете, различия в
юридическом мышлении. Различия эти связаны с историческим становлением соответствующих правовых систем.
Нормативный судебный прецедент более характерен для исторически неразвитых правовых систем. Это суждение отнюдь не
опровергается тем, что английское право и право США относятся к
числу наиболее развитых правовых систем. Использование и сохранение судебного прецедента как основного источника права – это своего
рода плата за исторически “слишком ранее” правовое развитие в Англии.
Английская правовая система самостоятельно проходит весь путь
правового развития, который в свое время уже проделало римское право. Это путь от преимущественно индуктивного к преимущественно
дедуктивному способу правоустановления или формирования правовых норм. В результате английская правовая система приходит к тому,
что статутное право уже конкурирует с прецедентным.
Это не означает, что закон как источник права предпочтительнее
судебного прецедента. Всегда существовали и будут существовать два
взаимодополняющих способа формирования правовых норм – индуктивный и дедуктивный. В исторически развитых правовых системах
преобладает дедуктивный способ, но индуктивный сохраняется, поскольку судебная практика всегда и везде выполняла и будет выпол-
254
нять правоустановительную функцию. Поэтому доктрина в странах
ЕКПС ныне признает правоустановительную роль судебной практики,
и прецедент de jure признается источником права там, где он и был таковым de facto. Но это не значит, что в странах ЕКПС закон можно заменить прецедентами. То же самое следует сказать и о странах общего
права: хотя в этих странах исторически возрастает роль закона, это не
значит, что статутное право в итоге вытеснит прецедентное.
В классической английской правовой доктрине закон считался второстепенным источником права и не использовался как акт прямого
действия. Согласно этой доктрине, законы лишь вносят дополнения и
некоторые изменения в общее право или устанавливают исключения.
Они не устанавливают новые принципы права, а лишь уточняют принципы, выработанные судебной практикой.
Законы создаются парламентом, представляющим нацию, и поэтому должны применяться судьями. Но при этом закон в Англии никогда
не считался нормальной формой выражения права, был “инородным
телом в системе английского права”. “Судьи, конечно, применяют закон, но норма, которую он содержит, принимается окончательно, инкорпорируется полностью в английское право лишь после того, как она
будет неоднократно применена и истолкована судами, и в той форме, а
также в той степени, какую установят суды. В Англии всегда предпочтут цитировать вместо текста закона судебные решения, применяющие этот закон. Только при наличии таких решений английский юрист
будет действительно знать, что же хотел сказать закон, так как именно
в этом случае норма права предстанет в обычной для него форме судебного решения”.
Что касается прецедентного права в странах ЕКПС, то примером
здесь может служить правовое регулирование брачно-семейных отношений в Германии в 50-е годы.
Основной Закон ФРГ 1949 г. провозгласил принцип равноправия
мужчины и женщины (абз.2 ст.3). Это потребовало внесения существенных изменений в законодательство, поскольку ГГУ не гарантировало этого равноправия. Поэтому вступление в силу названного принципа было отсрочено. В Переходных и заключительных положениях
Основного Закона было установлено, что законодательство, противоречащее второму абзацу статьи 3, остается в силе впредь до приведения его в соответствие с Основным Законом, но не позднее 31 марта
1953 г. (абз.1 ст.117).
Но законодатель не уложился в срок, установленный Основным
Законом. В этой ситуации Верховный суд ФРГ постановил, что отныне
положение абз.2 ст.3 имеет прямое действие. Все положения граждан-
255
ского или семейного законодательства, противоречащие принципу
равноправия мужчины и женщины, утрачивают силу, и суд, сталкиваясь с такими положениями, должен непосредственно применять абз.2
ст.3 Основного Закона.
Наконец, в 1957 г. вступил в силу закон об уравнении в правах
мужчин и женщин. К этому времени в судебной практике ФРГ, в процессе самостоятельного судейского толкования принципа равноправия
мужчины и женщины, в основном уже сформировалось новое семейное право. При подготовке закона об уравнении в правах законодатель
опирался на ряд основополагающих норм, сформулированных Верховным Судом ФРГ в период 1953–1956 гг. в решениях по брачносемейным делам. По существу, это были креативные судебные прецеденты, сила которых поддерживалась авторитетом Верховного Суда.
Следует подчеркнуть, что это пример фактического прецедентного
права: ни конституционное законодательство ФРГ, ни процессуальный
обычай не обязывают немецкие суды ссылаться на прецедент. Эти
прецеденты восполняли пробел в законодательстве, возникший в условиях радикальной правовой реформы. Разумеется, после принятия соответствующего закона немецкие суды ссылались уже не на прецеденты Верховного Суда, а на нормы закона.
То же самое происходило и в других странах ЕКПС в аналогичных
ситуациях. Суды ссылаются на прецеденты постольку, поскольку нет
соответствующих законов. Но после принятия закона суды ссылаются
уже на закон. В этом особенность стран ЕКПС, отличающая их от
стран общего права.
Отсюда ясно, что такого рода креативные прецеденты не заменяют
закон. Речь идет о взаимодополняемости индуктивного и дедуктивного
способов формирования нормы права: новые нормы, выработанные
судебной практикой, на основе частных случаев, в странах ЕКПС
обобщаются законодателем.
Но вот пример другого рода. В России прецеденты толкования,
установленные пленумом или палатами Конституционного Суда РФ,
формально обязательны для палат этого суда. Пленум вправе установить новый прецедент вместо установленного ранее.
Правовые и неправовые культуры. Наука сравнительного правоведения (“юридическая компаративистика”) со своей позиции различает,
прежде всего, страны романо-германского права и общего права как
основные правовые семьи, а также еще несколько правовых семей, или
правовых кругов, за пределами двух основных правовых семей. Но с
точки зрения теории права романо-германская и “примыкающие” к ней
семьи, различаемые в компаративистике (например, латиноамерикан-
256
ское право), не имеют существенных правовых различий, и поэтому
они являются составными частями ЕКПС. Теория права не занимается
страноведением; поэтому те правовые различия, которые компаративистам представляются существенными, не являются таковыми с точки
зрения теории, оперирующей более общими категориями, нежели компаративистика. Другие семьи, выделяемые компаративистикой, действительно имеют существенные отличия от романо-германского и англосаксонского права, но это – не правовые отличия.
Традиционное господство в компаративистике позитивистских
подходов к праву, пагубное стремление компаративистов везде найти
право, а если его нет , то выдать за “право” или хотя бы назвать “правом” что-то совсем другое, нечто неправовое, подменяющее право
(В.С. Нерсесянц).
В рассматриваемой науке, сложившейся под влиянием позитивизма с его вульгарным эмпиризмом и феноменализмом, правом считаются любые нормы, действующие в обществе, если они установлены или
санкционированы властью. В том виде, в котором компаративистика
существует сегодня, она безосновательно именуется юридической. В
действительности это легистско-социологическая компаративистика.
Она чрезмерно расширяет объект типологии, рассматривает как особые правовые системы такие системы социального регулирования, которые имеют неправовые и даже антиправовые особенности. Она
называет “особым правом” то, что в действительности правом не является, например, “религиозное право” или “социалистическое право”.
“Социалистическое право” (тоталитарное законодательство) противостоит праву вообще, и его нельзя ставить в том же ряду, в котором
различаются общее право и романо-германское право. К тому же в
конце ХХ века “социалистическое право” кончилось.
Право и религия несовместимы, право не может быть религиозным, а религия не может быть правовой. Чем более религиозной является культура, тем менее она развита в правовом отношении, и, наоборот, наиболее развитая правовая культура должна быть преимущественно атеистической.
Именно Западная Европа стала наиболее развитой правовой культурой, поскольку в Новое время здесь восторжествовал атеизм. По существу Запад уже давно является “постхристианским”.
Все началось с протестантизма, отрицавшего посредническую роль
священнослужителей в отношениях человека с Богом. С юридической
точки зрения, это был протест правовой свободы, стесненной рамками
религии, против власти священнослужителей: прогрессирующее пра-
257
вовое сознание отвергло социально-регулирующую роль церкви. Последовавшие затем религиозные войны можно расценивать как крайнюю форму борьбы сознания религиозного и правового. Последнее
победило. Дальнейший прогресс правовой свободы выразился в официальном признании веротерпимости.
Но веротерпимость есть не что иное как первое проявление атеизма. Веротерпимость возможна лишь в сознании атеистическом, равноудаленном от любой религии: если вы веруете в “истинного Бога” и
одновременно допускаете, что ближние вправе “заблуждаться в вере”,
то вы впадаете в логическое противоречие, низводите своего “истинного Бога” до уровня “нечистых идолов”, а себя, правоверного, ставите
в один ряд с еретиками. Такое возможно только в том случае, если в
действительности вы не знаете никакой “истинной веры”. Тогда, рано
или поздно, вы перестанете относиться к религии серьезно. Следующие же поколения, самое большее, будут лишь отдавать дань уважения
культурной традиции, формально относя себя к той или иной конфессиональной группе.
Религиозное сознание не признает свободу вероисповедания; правовое же сознание, по мере его развития, закономерно приходит к веротерпимости, следовательно, становится атеистическим. Религиозное
сознание отрицает правовую свободу, неважно – христианское оно,
мусульманское, иудейское и т.д.
В ситуации конкурирующего регулирования (столкновение религиозного и правового способов соционормативной регуляции) человек,
формально свободный – как субъект права, одновременно подчиняется
авторитету священнослужителей, определяющих, как именно надлежит использовать возможности правовой свободы.
Отрицание и упразднение собственности при социализме означает
отрицание свободы и права, режим формального неравенства. Правовое регулирование заменяется силовым уравнительным регулированием.
Согласно марксизму, “социалистическое право” – это нонсенс. Социализм не порождает и не может породить какое-то новое право, отличное от буржуазного права. Последнее считается в марксизме высшей ступенью в историческом развитии права, так как при капитализме равная правовая свобода распространяется на всех членов общества. Дальнейший прогресс права считается невозможным, и по мере перехода общества к коммунизму право должно отмереть. Однако
марксизм утверждает, что право (по существу – буржуазное право), сохраняется при социализме как пережиток буржуазного общества – до
тех пор, пока сохраняются товарно-денежные отношения и необходи-
258
мость публично-властного принуждения. При социализме право должно постепенно вытесняться (уравнительными) нормами социалистического общежития и централизованным распределением социальных
благ.
Фиктивность социалистического законодательства. В 1922 г.,
ознакомившись с проектом первого советского уголовного кодекса
Ленин предложил ввести в УК РСФСР наказание за пропаганду или
агитацию, которая “объективно содействует” международной буржуазии, не признающей коммунистический режим и стремящейся к его
свержению. Этим понятием “объективной помощи” международной
буржуазии Ленин и его соратники заложили основы законодательства,
присущего тоталитаризму. Оно отличается от деспотического законодательства. Характерная черта деспотизма – жестокость, характерная черта тоталитаризма – фиктивность законодательства.
Фиктивность законодательства выражается в следующей закономерности: чем выше формальный уровень официального акта, тем
меньше его фактическая сила, меньше вероятность его непосредственного применения, прямого действия.
Конституция, официальный акт, который формально должен обладать высшей нормативной силой – это просто фиктивный акт. Конституция – это официальный фасад тоталитарной системы, и поэтому она
должна содержать псевдодемократические декларации, создавать видимость свободы и демократической организации власти. И уже поэтому формальная конституция тоталитарного режима не может действовать. Ее положения либо вообще не имеют отношения к реальной
жизни, либо трансформируются в более реальные нормы путем их
конкретизации в законах, но при этом смысл норм меняется. Например, конституция может гарантировать право выбора профессии, рода
занятий и места работы “с учетом общественных потребностей”; но
никакой свободной миграции рабочей силы при тоталитаризме быть не
может; поэтому в законах или подзаконных актах конституционное
положение будет конкретизировано как централизованное распределение рабочей силы, в частности, как обязательное распределение выпускников высших учебных заведений.
Законы здесь тоже принимаются в расчете на то, что они не будут
иметь прямого действия. Они будут конкретизироваться в постановлениях правительства, а последние – в нормативных актах министерств и
ведомств и далее – в приказах нижестоящих должностных лиц. При
этом смысл закона может измениться на противоположный. В конечном счете, фактически высшей силой здесь обладает приказ начальника – независимо от того, в какой мере он основан на законе. Главное,
259
что этот приказ соответствует воле вышестоящего номенклатурного
начальника – партийного руководителя, министра и, наконец, вождя.
Законодательные нормы конкретизируются в других актах так, как того требует конкретная политика, проводимая вождем или его окружением.
Законы, которые не конкретизируются в подзаконных актах, либо
не действуют вообще, либо их применение определяется неофициальными приказами. Так, уголовное законодательство официально нельзя
конкретизировать в подзаконных нормативных актах (правда в этих
актах можно устанавливать обязанности или запреты, нарушение которых будет подпадать под существующие статьи уголовного кодекса).
Можно достаточно быстро менять уголовное законодательство: постоянно действующий президиум законодательного органа по воле вождя
будет вносить в уголовный кодекс любые изменения, а периодически
собирающийся на короткие сессии формальный законодатель будет их
утверждать. Кроме того, вождь и высшая номенклатура определяют
политику применения уголовного законодательства путем официального издания разъяснений верховного суда по вопросам применения
отдельных статей уголовного кодекса (суд является придатком карательно-следящей подсистемы. Но при социализме власть не связана
официально установленными нормами. Поэтому в более или менее
важных делах “власть предержащая” не только решает вопрос о привлечении к уголовной ответственности, но и дает суду негласные указания, определяющие наказание (“телефонное право”). Чем больше
важность дела, тем выше уровень номенклатурного решения, определяющего исход этого дела.
Смысл уголовного закона при социализме – монополия власти на
неограниченное насилие. Всякий уголовный закон – и уголовноправовой, и деспотический – устанавливает наказание за нарушения
установленного или гарантированного властью порядка. При социализме же этот порядок таков, что безопасность и имущество не гарантированы человеку от посягательств самой власти. Но только власть
может здесь произвольно отнимать у человека его жизнь и имущество, подвергать его иным лишениям, насилию.
Социалистическое законодательство защищает не жизнь человека,
а монополию власти на силу, монополию неограниченно распоряжаться “человеческими ресурсами”, в частности жизнью людей. Это законодательство запрещает убивать частным лицам, из частных интересов, но оно допускает убийство и даже уничтожение целых категорий
населения из интересов системы.
При социализме человек как таковой не является субъектом права
260
на жизнь, здоровье и т.д. Он низводится до уровня объекта, которым,
от имени системы в целом, распоряжаются ее властные функционеры –
“начальники”. Они не ограничены в своей власти, но в то же время они
обязаны так распоряжаться вверенными им объектами, чтобы эти объекты приносили максимальную пользу “для народного хозяйства”.
Правда, в интересах “народного хозяйства”, часть этих объектов превращается в рабскую рабочую силу и, по существу, уничтожается в
процессе социалистического производства, так что этот процесс требует постоянного воспроизводства рабской рабочей силы. Жизнь и здоровье отдельного человека здесь ничего не стоят (“незаменимых людей
нет”).
Несанкционированное властью причинение телесных повреждений
рассматривается как причинение вреда трудоспособности человека, а
это уже причинение вреда социальной системе, ибо человек является,
хоть и “винтиком”, но полезным “винтиком” в этой системе. Но главное – это нарушение монополии насилия.
Трудовое законодательство регулирует отношения между работодателями и работниками в пользу последних. При социализме же сущность трудового законодательства извращается, ибо здесь законодатель
и работодатель совпадают в одном лице. Социалистическое законодательство защищает интересы работодателя, в роли которого выступает сама власть.
Смысл социального законодательства – перераспределение национального дохода в пользу социально слабых. Иначе говоря, сначала
происходит распределение национального дохода посредством рыночного механизма, и при этом кто-то оказывается в выгодном, а кто-то –
в невыгодном и даже в крайне невыгодном положении. Затем социальное государство своей уравнительной политикой исправляет “недостатки” такого распределения, т.е., по существу, отнимает часть дохода
у имущих и передает неимущим.
При социализме же нет никакого рыночного распределения национального дохода. Здесь все получают от социальные блага, предназначенные для потребления, в объеме, установленном властью. И если
кто-то получает больше, кто-то меньше, то только в результате властного регулирования.
Тема 23. Действие права
Вопросы для обсуждения
1. Механизм государственно-правового регулирования в легист-
261
ской и юридической интерпретациях.
2. Правоустановительная и правоприменительная деятельности.
3. Значение и роль судебной процедуры правоприменения в механизме действия права.
4. Коллизии в праве и их разрешение.
Из лекции: Механизм государственно-правового регулирования.
Регулирование – подчинение правилу. Правовое регулирование:
подчинение поведения нормам права.
Механизм правового регулирования:
– институционально-функциональный аспект: государственноправовое регулирование, системное единство правоустановительной,
правообеспечительной и юрисдикционной деятельности государства;
– нормологический аспект: системное взаимодействие правовых
норм, обеспечивающее выполнение юридических обязанностей
Легистская интерпретация: внешнее властное воздействие, логическая и онтологическая первичность регулирующей системы; принудительное “наложение” общеобязательных норм на регулируемые отношения, превращение их совокупности в систему, соответствующую законодательной модели (трансформация абстрактно-должного правопорядка в реальный правопорядок)
1. В сфере частного права. Норма складывается в форме обычая:
– суды признают “ненормальные” договоры;
– в групповом правосознании утверждаются представления о нормальности новых разновидностей отношений, договоров.
При этом законодатель
– либо молчит, т.е. санкционирует их по умолчанию, так как они
подпадают под законодательную отсылку к обычаю – если доктрина и
законодатель не считают нужным их уточнить, выделить в новых отношениях и сформулировать то, что, по мнению законодателя, является нормальным, соответствует началам правовой системы и т.д.;
– либо формулирует их юридическое содержание (права и обязанности сторон) в законе;
Если новая практика противоречива (т.е. обычай складывается, но
встречаются и отклонения от нормы, порождающие конфликты, приводящие к нарушению прав), если происходят коллизии обычных норм
(например, в одном месте складывается обычай, по которому перевозчик полностью несет риск утраты груза, в другом – кроме случаев, когда перевозчик не мог предотвратить утрату груза, а в третьем – только
в части, определенной договором) или если норма складывающегося
обычая нуждается в уточнении, авторитетном определении (например,
262
складывается обычай, по которому мелкие сделки заключаются в устной форме при свидетелях, а крупные – в письменной форме, но поскольку формально не определено, какие сделки уже нельзя считать
мелкими, то возникают конфликты, причем судебная практика противоречива), то доктрина и законодатель должны определить, что именно
из того, что складывается в практике, не противоречит праву, вписывается в правовую систему (императивные законоположения) и тем самым установить, что суды должны признавать и защищать только такие отношения.
Если новая практика демонстрирует не только некий типичный, но
и иные варианты отношений, которые, однако, не противоречат праву,
то законодатель может установить диспозитивное законоположение,
тем самым фактически заявляя, что обычно происходит так, как описано в законе, но стороны свободны определять содержание договора по
принципу “незапрещенное разрешено”.
Далее доктрина изучает практику, выявляет типичные правоотношения. Знание практики дает знание о существующих (“реально действующих”) нормах частного права, включая нормы обычая.
2. Норма устанавливается на основе закона (властного предписания). Публичное право.
Регулирование как властвование. В общем и целом: государственные институты предназначены для того, чтобы формулировать правовые нормы и обеспечивать их действие принудительной силой, здесь
проявляются функции государства – правоустановительная, правообеспечительная и юрисдикционная.
На основе правовой доктрины, выявляющей потребности правового регулирования, происходит создание и систематизация в процессе
правоустановительной деятельности официальных юридических (нормативно-правовых) текстов, устранение коллизий.
Далее, механизм установления нормы на основе закона включает в
себя меры, необходимые для того, чтобы нормативное законоположение действовало (информирование, опубликование, юридическое образование для должностных лиц государства и специалистов-правоведов
и просвещение населения, объяснение смысла и пользы законоположения и т.д.).
Реализация права, включая “самореализацию”, предполагает:
– полицейское обеспечение правовых запретов (пресечение правонарушений и преследование правонарушителей), надзор за законностью; без такой правообеспечительной невозможна “самореализация”
права;
– административное правоприменение;
263
– судебное разрешение споров о праве, установление субъективных прав и юридических обязанностей сторон;
– полицейское принуждение к исполнению правоприменительных
решений;
– изучение доктриной процесса и результатов правового регулирования, ее рекомендации для практики.
С социально-психологической точки зрения есть еще один аспект
механизма правового регулирования – правосознание, его регулирующая и другие функции.
Значение и роль судебной процедуры правоприменения в механизме
действия права. Понятие “действие права” предполагает, что правовая
норма как абстрактная модель поведения реализуется в субъективных
правах и юридических обязанностях конкретных субъектов правоотношений, причем обязанности исполняются. Действие права обеспечивается, в конечном счете, правоприменением, правоприменительной
деятельностью административных органов и судов. Причем надлежащей процедурой правоприменения является судебная процедура, поскольку перед лицом суда формально равны любые стороны спора о
праве. Решение, принятое в административной процедуре, может быть
оспорено в суде. Суд – последняя правоприменительная инстанция.
Подзаконные нормативные акты исполнительной власти, в которых конкретизируются и интерпретируются правоположения, установленные в законе (а также законы и иные нормативные акты субъектов
федерации, конкретизирующие и интерпретирующие положения федеральных законов), по существу представляют собой акты официального толкования законного права. Это авторитетное толкование. Но, само
по себе, это еще не нормативное толкование. Не исполнительные органы, а суды дают нормативное толкование законного права. Подзаконный акт исполнительной власти может быть оспорен в компетентном суде административной юрисдикции как одно из возможных толкований законного права, и в этом случае суд даст толкование, обязательное для всех субъектов права, подтверждающее или опровергающее позицию исполнительной власти.
Аналогичные рассуждения применимы и к самому закону, если
рассматривать его как конкретизацию и интерпретацию правоположений конституции: закон – это лишь одно из возможных толкований
конституции, и конституционный суд вправе либо подтвердить его,
либо опровергнуть. Однако есть существенное отличие: законодатель
осуществляет правоустановительную функцию государства, и, следовательно, закон нужно расценивать не просто как авторитетное, но как
нормативное толкование конституционных правоположений. Действу-
264
ет презумпция конституционности и правомерности закона: до тех пор,
пока не установлено иное, законоположения следует считать правоположениями, законным правом. Но аналогичной презумпции не может
быть в отношении нормативных актов исполнительной власти, ибо последняя предназначена не для правоустановительной, а для правообеспечительной деятельности. Поэтому, например, в части 1 статьи 120
Конституции РФ говорится, что судьи подчиняются только Конституции и федеральному закону. Это значит, что нормативные акты исполнительной власти (и законы субъектов федерации) применяются судом
лишь постольку, поскольку суд признает их нормативно-правовой характер.
В развитой правовой ситуации право (абстрактная модель) действует постольку и в той мере, поскольку и в какой мере оно применяется судом. Право действует так, как оно трактуется, интерпретируется
судом, в соответствии с определенной судебной политикой.
В процессе юрисдикции суд, применяя норму, сначала устанавливает, в чем состоит ее содержание и с этой целью исследует и интерпретирует все релевантные (применимые в рассматриваемом деле) источники права. Тем самым суд выбирает или вырабатывает и формулирует нормативно-правовую позицию, и, встав на эту позицию, он
разрешает дело по существу. Принцип правовой определенности требует, чтобы суд, заняв некую нормативно-правовую позицию, придерживался бы этой позиции и в дальнейшем (stare decisis). Если такую
позицию формулирует высокий суд, то, в меру централизации судебной системы, эта позиция является обязательной для нижестоящих судов при рассмотрении аналогичных дел. Таким образом, текст судебного решения (акт судебной власти), в котором сформулирована обязательная для других судов нормативно-правовая позиция, является источником права – первичным, если высокий суд вырабатывает эту позицию при отсутствии релевантных источников права, и вторичным,
если высокий суд в своем решении позиционируется по отношению к
релевантным источникам права.
Помимо решений высокого суда нормативно-правовая позиция судов по тем или иным вопросам может быть выражена и в форме обычая. О судебном обычае говорят тогда, когда имеется некое обыкновение судебной практики, причем нет ни прецедента, ни нормативного
акта, которые однозначно определяли бы это обыкновение. Как правило судебный обычай является вторичным источником права, первичные встречаются крайне редко.
В странах романо-германского права доктрина нередко отрицает
возможность креативного судебного прецедента и настаивает на том,
265
что при обнаружении пробела суды должны действовать по аналогии и
толковать закон. Но за видимостью толкования закона может скрываться творческая роль судебной практики (Р. Давид).
Нормативно-правовое позиционирование суда по отношению к
уже существующим источникам права (вторичная правоустановительная деятельность) имеет три разновидности.
1. Встречающееся в романо-германском праве абстрактное нормативное толкование, т.е. толкование правовых текстов вне контекста
конкретного спора о праве, абстрактно, по запросам компетентных
субъектов или по инициативе самого суда. Например, Конституционный Суд РФ дает такое толкование в силу части 4 статьи 125 Конституции РФ.
Вообще нормативное толкование нормативного акта – это издание
нового (вторичного) нормативного акта, который de jure имеет силу
толкуемого акта, а de facto – большую силу. Причем абстрактное нормативное толкование – это правоустановительная деятельность, оторванная от разрешения споров о праве, следовательно, не имеющая отношения к юрисдикции как таковой.
2. Иное дело – конкретное нормативное толкование, т.е. толкование правового текста, данное в конкретном деле (в связи с решениями
по конкретным делам), но с последствиями erga omnes. В странах общего права – это установление нормативной позиции судебной власти
посредством прецедента толкования.
Высшие суды в странах романо-германского права, разумеется,
тоже создают прецеденты толкования (вторичные источники права), но
в доктрине нет единого мнения относительно обязательности этих
прецедентов. Следует различать два вида прецедентов толкования в
романо-германском праве.
Во-первых, прецеденты, создаваемые в процессе нормоконтроля,
выражающие нормативные позиции конституционного суда или высшего суда административной юрисдикции. Это прецеденты толкования
базовых конституционных правоположений и проверяемых законоположений, базовых законоположений и проверяемых административных актов. Так, прецеденты конституционного суда показывают, как
следует толковать те или иные положения конституции, какого рода
законоположения следует считать не соответствующими конституции
и как следует толковать законоположения определенного рода, чтобы
толкование не противоречило конституции.
Во-вторых, прецеденты толкования закона, выражающие нормативные позиции высшего суда общей юрисдикции (верховного суда)
по делам гражданского и уголовного судопроизводства. Эти прецеден-
266
ты показывают, как следует толковать и применять закон в определенных категориях дел, и тем самым обеспечивают последовательность и
единообразие судопроизводства.
Но поскольку нижестоящие суды далеко не всегда следуют этим
прецедентам, вполне оправданным является используемый в России и
других постсоциалистических странах институт разъяснений по вопросам судебной практики, которые дают высшие суды. Иначе говоря, если позиция высокого суда, выраженная в его решениях, недостаточно
учитывается нижестоящими судами, то высокий суд подчеркивает эту
позицию посредством издания нормативного акта. Разъяснения даются
в форме постановлений – нормативных актов высших судов. Это, как
правило, акты конкретного нормативного толкования, которые обобщают нормативно-правовые позиции, выраженные в прежних решениях высшего суда по конкретным делам (обобщают содержание прецедентов). Так, разъяснения высших судов в смысле статей 126 и 127
Конституции РФ не следует рассматривать как акты абстрактного
нормативного толкования. Задачам судебной власти противоречит издание постановлений, разъясняющих новое законодательство, до того,
как возникнет соответствующая судебная практика.
3. Нормативная позиция судебной власти может сложиться в форме правоприменительного обычая (в законных пределах судейского
усмотрения). Судебный обычай как вторичный источник права возможен в той мере, в которой закон оставляет судьям свободу усмотрения.
Судебные обычаи применения и толкования закона поддерживаются авторитетом высших судов. Поэтому граница между “собственно
обычаями” и обыкновениями судебной практики, возникающими на
основе прецедента или разъяснения верховного суда, достаточно
условна. Если то, что можно рассматривать как обыкновение судебной
практики, было установлено “сверху”, то источником права считается
авторитетное решение в форме прецедента или нормативного акта.
Обычаем считается такое обыкновение, которое складывалось “снизу”,
а высокий суд лишь подкреплял его своим авторитетом, оставляя соответствующие обычные решения в силе. Но если, как это нередко имеет
место в России, на прецедент или разъяснение официально не ссылаются, а установленное “сверху” правило вошло в обычай, то почему
нельзя говорить о судебном правоприменительном обычае? И, наоборот, если правило, которое сложилось “снизу”, затем было сформулировано в разъяснении верховного суда, то источником права выступает
уже не обычай, а нормативный акт?
Коллизиями в праве называют противоречия двух или нескольких
нормативных актов или правовых норм (нормативных предписаний,
267
правоположений). Эти коллизии могут быть действительными и мнимыми.
Мнимые (кажущиеся) коллизии означают, что противоречащие
друг другу нормативные предписания имеют разную силу или разные
сферы применения. Следовательно, несмотря на кажущееся столкновение нескольких нормативных актов в одном деле, в действительности к этому делу применим лишь один из этих актов. Как правило,
встречаются мнимые коллизии. Они разрешаются путем правильного
установления юридической основы дела, например, путем правильного
определения силы нормативных актов.
Для разрешения мнимой коллизии нужно использовать положения,
выработанные правовой доктриной. Например, следует исходить из
иерархии нормативных актов, руководствоваться правилами о действии нормативных актов во времени, о приоритете специального закона и т.д. Для тех случаев, когда положений доктрины недостаточно
для разрешения мнимых коллизий, законодатель должен устанавливать
так называемые коллизионные нормы, определяющие силу сталкивающихся нормативных предписаний.
Правоприменитель сталкивается с действительными коллизиями в
тех случаях, когда для разрешения дела он может применить два или
более правоположений, противоречащих друг другу. Если такую коллизию не удается разрешить в процессе правоприменения, она должна
быть устранена посредством систематизации нормативных предписаний.
В современных правовых системах, особенно, в федеративных государствах, существует множество субъектов нормотворчества, компетенция которых может пересекаться. К тому же иногда они выходят за
пределы своей компетенции. Нередко это приводит к тому, что разные
субъекты нормотворчества издают акты, в которых по-разному регулируются одни и те же вопросы. Так возникают иерархические коллизии. Это мнимые коллизии, так как сталкивающиеся акты, изданные
разными государственными органами, имеют разную юридическую
силу. Нормативный акт высшей юридической силы ограничивает действие нормативного акта низшей юридической силы (lex superior
derogat legi interior).
Иерархическая коллизия возможна и в рамках одного нормативного акта. Примером такой коллизии является так называемое асимметричное федеративное устройство России по Конституции 1993 г. Согласно ст.5 Конституции все субъекты Российской Федерации, включая автономные округа, равноправны и, в частности, равноправны
между собой во взаимоотношениях с федеральными органами государ-
268
ственной власти. В то же время в ч.4 ст.66 Конституции говорится об
автономных округах, входящих в состав края или области. Эти конституционные положения несовместимы: если край (область) и автономный округ соотносятся как целое и часть, то они не равноправны; если
они равноправны, то они не могут соотноситься как часть и целое, т.е.
автономный округ, как субъект Федерации, не может входить в состав
другого субъекта Федерации. Налицо коллизия, но коллизия мнимая,
так как есть коллизионная норма, определяющая иерархию конституционных положений: положения ст.5 относятся к основам конституционного строя Российской Федерации, а “никакие другие положения
настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя” (ч.2 ст.16 Конституции). Таким образом, положения ч.4
ст.66 Конституции нужно толковать так, чтобы они не противоречили
принципу равноправия субъектов Федерации.
Огромные массивы нормативных актов в современных правовых
системах содержат такой объем информации, что, несмотря на ее систематизацию, субъектам нормотворческой деятельности не всегда
удается в должной мере учитывать все нормы права, относящиеся к регулируемому вопросу. Отсюда проистекает дублирование нормативных установлений, издание новых нормативных актов без достаточного учета последствий для ранее изданных актов. Появляются новые
нормы, в то время как прежние нормативные предписания формально
не отменены. Так возникают темпоральные коллизии – столкновения
актов, изданных одним и тем же субъектом нормотворчества, но в разное время. Это также мнимые коллизии, так как действует правило о
приоритете акта, изданного позднее.
Но если обнаруживается темпоральная коллизия между законоположениями, принятыми законодательным собранием одного и того же
созыва, то это, скорее всего, ошибка законодателя, а не намерение изменить закон. Следует считать такую коллизию действительной и подлежащей устранению.
Если темпоральная коллизия сочетается с иерархической, то действует правило о приоритете акта, стоящего выше в иерархии нормативных актов, даже если он был издан раньше.
Наконец, есть пространственные коллизии – столкновения норм
разных государств или норм, действующих в разных частях одного,
например федеративного, государства. На этот счет существует множество коллизионных норм, которые называются международным
коллизионным правом и соответственно федеральным коллизионным
правом (в федеративном государстве).
Коллизионные нормы – это официальные правила, установленные в
269
конституции или законе, которые предусматривают мнимые коллизии
нормативных актов. Они устанавливаются в расчете на те случаи коллизий, когда очевидно, что коллидирующие нормативные акты должны иметь разную силу, но при этом соотношение их силы неочевидно.
Например, в федеративном государстве законы федеральные и законы субъектов федерации должны иметь разную силу, но их иерархия
может быть различной. На этот счет устанавливаются коллизионные
нормы об иерархии законов (субординационные нормы). Наличие такой нормы делает возможную коллизию законов мнимой.
Если федеральный закон и закон субъекта РФ, изданные по предметам совместного ведения Федерации и субъектов Федерации, противоречат друг другу, то это – мнимая коллизия. Ибо есть коллизионная
норма (ч.5 ст.76 Конституции РФ), которая однозначно устанавливает,
что в таких случаях действует федеральный закон.
Более сложный казус – противоречие федерального подзаконного
нормативного акта и закона субъекта РФ по вопросу совместного ведения. На этот счет нет однозначной коллизионной нормы. Но и в этих
случаях коллизия может быть только мнимой. Ибо ч.2 ст.76 Конституции РФ устанавливает, что по предметам совместного ведения издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы
и иные нормативные акты субъектов РФ. Следовательно, если в федеральном законе нет прямого поручения федеральному государственному органу издать подзаконный нормативный акт, то в случае коллизии такого акта и законов субъекта РФ последние будут иметь приоритет.
Разновидность мнимых коллизий – это коллизия общей и специальной нормы. Когда общая и специальная нормы установлены в
нормативных актах, имеющих одинаковую силу, то коллизии просто
нет. Ибо здесь правоприменитель сталкивается не с разными нормами
по одному и тому же вопросу, а с разным регулированием разных вопросов – общего и специального. Поэтому действует правило: специальный закон ограничивает действие общего закона. Так же нет коллизии,
Мнимая коллизия может быть тогда, когда общая и специальная
нормы установлены актами разной силы (иерархическая коллизия) или
когда общая норма установлена позже специальной (темпоральная
коллизия).
Действительная (содержательная) коллизия означает столкновение
нормативных предписаний, имеющих одинаковую силу. Разновидностью действительной коллизии следует считать и такую ситуацию, когда отсутствует необходимая коллизионная норма.
270
Помимо установления коллизионных норм, есть два способа разрешения действительных коллизий – устранение и преодоление.
Устранение коллизии – отмена одного (или нескольких) из сталкивающихся нормативных предписаний. Преодоление – официальное нормативное толкование. Коллизия преодолевается посредством толкования сталкивающихся правоположений. Нужно истолковать одно из
сталкивающихся правоположений так, чтобы оно не противоречило
другому. При этом правоприменитель фактически будет исходить из
приоритета одного из сталкивающихся правоположений.
Так, Конституция РФ не допускает проверку конституционности
вступивших в силу (ратифицированных) международных договоров
России. Если правоприменитель сталкивается с проблемой соответствия такого договора положениям Конституции РФ, то, по общему
правилу, он должен исходить из приоритета Конституции и толковать
договорные положения так, чтобы они не противоречили конституционным положениям.
Другой пример: ст.17 Конституции РФ устанавливает, что права
человека гарантируются в России, во-первых, по стандартам международного права и, во-вторых, в соответствии с положениями самой Конституции РФ. Отсюда вытекает, что в случае коллизии международных
и конституционных положений о правах человека правоприменитель,
исходя из приоритета общепризнанных принципов и норм международного права, должен толковать конституционные положения так,
чтобы они не противоречили названным принципам и нормам.
Тема 24. Толкование права
Вопросы для обсуждения
1. Модели толкования права.
2. Автор и интерпретатор юридического текста: о понятиях легального и аутентичного толкования.
3. Виды толкования права.
4. Способы толкования.
Из лекции: Толкование – это уяснение и разъяснение смысла текста. Толкование юридических текстов иначе называется толкованием
права. Причем толкование права включает в себя не только толкование
нормативных юридических текстов, то также уяснение и разъяснение
юридического смысла договоров и индивидуальных официальных актов. Обычай, закон, договор, индивидуальный акт и т.д. суть разные
271
виды объектов толкования права.
Ниже речь пойдет о толковании нормативных юридических письменных текстов – законов и других официальных актов, содержащих
нормы права. Толкование таких текстов – это уяснение и разъяснение
смысла норм права, зафиксированных в этих текстах. Иначе говоря,
закон – это объект толкования права, а норма права, содержащаяся в
законоположениях, ее смысл, вытекающие из нее права и обязанности
– это предмет толкования. Толкование закона или иного нормативного
акта осуществляется на предмет установления смысла нормы права.
Важнейшую роль в толковании права играет субъект толкования
(интерпретатор). Последнего нужно отличать от автора толкуемого
текста. Например, судья, применяющий закон, выступает как субъект
толкования, интерпретатор, а законодатель выступает исключительно
как автор этого закона и не может его интерпретатором.
Толкование права, как и толкование любого текста, происходит в
процессе “соединения” субъекта (интерпретатора) с объектом (текстом). В объяснении этого процесса встречаются две крайние позиции
– объективизм и субъективизм. Объективизм утверждает, что интерпретатор должен установить объективную истину. Субъективизм полагает, что объективной истины не существует, и любое толкование всегда произвольно.
С позиции объективизма любой текст выступает как объект, смысл
которого не зависит от субъекта-интерпретатора. Считается, что этот
смысл существует объективно, а интерпретатор может лишь правильно
или неправильно его понять и выразить. Задача интерпретатора – установить подлинный смысл текста, например, истинное нормативное содержание законоположений.
Действительно, интерпретатор должен стремиться к истине. Но
разные субъекты по-разному понимают смысл одного и того же текста,
причем, чем сложнее текст, тем существеннее различия в понимании
его смысла.
Результат толкования всегда выражается в субъективном уяснении
и разъяснении смысла текста – в таких терминах, суждениях и понятиях, которыми способен оперировать данный конкретный интерпретатор. Следовательно, не существует никакого объективного смысла
текста, не зависящего от субъекта-интерпретатора.
Вместе с тем, в этом вопросе следует избегать другой крайности,
субъективизма. Толкование – это уяснение и разъяснение смысла уже
данного объекта, который не находится в распоряжении субъектаинтерпретатора, смысла, который не может определяться произвольно.
В частности, это выражается в том, что большинство интерпретаторов,
272
относящихся к одной группе (культурной, профессиональной, и т.д.),
примерно одинаково понимает относительно простые тексты. Например, большинство судей одинаково толкует законоположения в простых, типичных, привычных для них делах.
Современная юридическая герменевтика (наука о толковании юридических текстов) объясняет, что толкование закона правоприменителем (например, судьей) определяется не только текстом закона, но
также сложностью дела и личностью субъекта-интерпретатора (судьи).
В простых, рутинных делах субъективные качества разных судей практически не сказываются, и получаются примерно одни и те же результаты толкования. Но в сложных делах, когда возможны несколько вариантов толкования, многое зависит от уровня общей и правовой культуры судьи, уровня его профессиональной подготовки, жизненного и
профессионального опыта, идеологических и политических убеждений
и других субъективных факторов. Эти факторы порой определяют решение принципиальных вопросов – например, требует ли закон в подобных делах наказания или оправдания обвиняемого (подсудимого),
предполагает ли закон в таких делах возмещение вреда, устанавливает
ли конституция для таких случаев обязанность президента промульгировать закон, принятый парламентом, и т.п.
Для того чтобы избежать субъективизма и произвола судьи и другие интерпретаторы должны использовать сформулированные в правовой доктрине правила и приемы толкования, которые называются
“способы толкования права”.
Грамматический (языковой, лингвистический) – это самый простой и вместе с тем основополагающий способ толкования. Толкование права всегда начинается с грамматического. Принцип грамматического толкования гласит: чтобы правильно понять смысл текста, нужно
грамотно его прочитать. Для этого нужно знать язык, на котором
сформулирован текст, смысл слов и выражений, использование правил
языка. Классический пример грамматического толкования дает грамотное прочтение фразы “казнить – нельзя – помиловать”. В зависимости от места запятой смысл фразы меняется на противоположный.
Смысл законоположений может быть разным в зависимости от использования той или иной морфологической формы, от употребления
слова в единственном или множественном числе и т.д. Например, в ч.1
ст.5 Конституции РФ перечислены виды субъектов Российской Федерации. Причем положения этой статьи, как и все положения главы первой Конституции, не могут быть изменены поправками в Конституции.
Текст этот гласит: “Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, ав-
273
тономных округов…”. Как видно, названия пяти видов субъектов РФ
употреблены во множественном числе, а название “автономная область” – в единственном. Таким образом, грамматическое толкование
этого конституционного положения приводит к выводу, что в России
есть только одна автономная область.
Однако в действительности для такого вывода было использовано
не только грамматическое, но и логическое толкование (как правило,
ни один из способов толкования не применяется изолированно от других, а логический способ так или иначе используется при любом толковании). Данный вывод был сделан на основе грамматического толкования с использованием логических приемов – сопоставления и вывода от противного: если бы в России было множество автономных
областей, то название “автономная область” было бы употреблено во
множественном числе, как и названия других видов субъектов РФ.
Дополнение данного толкования системно-логическим, учитывающим системную связь норм Конституции, позволяет существенно расширить вывод, сделанный на основе грамматического
толкования. Поскольку это конституционное положение не может
быть изменено, то, покуда действует Конституция РФ 1993 г., в России
может быть и должна быть одна и только одна автономная область. В
ст.65 Конституции названа Еврейская автономная область. В силу Российской Конституции она не может изменить свой статус, например
стать республикой, если только одновременно какая-то республика в
составе России не станет автономной областью. Такие интересные выводы можно сделать на основе грамматического толкования.
Если для уяснения смысла законоположения грамматического толкования недостаточно (а при толковании больших сложных юридических текстов его всегда недостаточно), то оно дополняется логическим
толкованием. Неясное законоположение подвергается разным логическим операциям (выводы по аналогии, выводы от противного, доведение до абсурда и т.д.), включая системно-логический анализ (в учебной
литературе системное, или системно-логическое, толкование обычно
отграничивают от “собственно логического”, хотя для этого нет оснований).
Доведение до абсурда (reductio ad absurdum) – один из наиболее
распространенных приемов логического толкования неверно сформулированных законоположений. Например, положение ст.25 Конституции РФ гласит: “Никто не вправе проникать в жилище против воли
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения”. Грамматическое толкование этого текста позволяет сделать вывод, что неприкос-
274
новенность жилища может быть ограничена либо федеральным законом, либо судебным решением. Но такой вывод будет неверным. Если
ограничиться грамматическим толкованием данного текста, то легко
прийти к абсурду: проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц может быть либо законным (в этих случаях не нужна
судебная санкция), либо незаконным, если оно санкционировано судом
(?!). Абсурдно полагать, что Конституция дозволяет суду ограничивать
права человека в случаях, не установленных федеральным законом.
Следовательно, логическое толкование опровергает вывод грамматического толкования. Дальнейшее толкование данного текста, с учетом
других конституционных положений, приводит к выводу, что, по Конституции, федеральным законом могут быть предусмотрены случаи, в
которых судебной санкции не требуется, а в остальных случаях, установленных федеральным законом, неприкосновенность жилища может
быть ограничена только на основании судебного решения.
Еще один распространенный прием логического толкования – умозаключение степени (a fortiori, “тем более”). При толковании юридических текстов умозаключение степени выражается в виде правила: кто
управомочен или обязан к большему, тот управомочен или обязан к
меньшему. Разумеется, оно не означает, что компетенция вышестоящего государственного органа (“большая компетенция”) поглощает собой
компетенцию нижестоящего органа (“меньшую компетенцию”), установленную конституцией или законом. В правовом государстве никакой орган государственной власти не вправе вторгаться в компетенцию
других органов, даже нижестоящих. Это правило используется тогда,
когда при толковании обнаруживается пробел в описании компетенции
или коллизия компетенции.
Например, Конституция РФ устанавливает, что генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности
Советом Федерации по представлению Президента РФ (ч.2 ст.129). Но
ни Конституция, ни федеральный закон не определяют, какой орган
управомочен и обязан принимать решение о временном отстранении
Генерального прокурора от должности в случае возбуждения в отношении него уголовного дела. Руководствуясь принципом a fortiori,
следует полагать, что принимать (или не принимать) такое решение
компетентен Совет Федерации по представлению Президента. Правда,
Конституционный Суд РФ дал совершенно иное толкование.
Когда грамматически верное прочтение текста (законоположения)
приводит к выводу, который не согласуется с другими законоположениями или противоречит принципу права, можно предположить, что
автор текста не нашел надлежащей формулировки, для того чтобы
275
грамматически верно выразить свой замысел. Допустимость такого
предположения проверяется логическим путем – от противного. Для
этого нужно найти в том же тексте аналогичное законоположение. Если в нем использована грамматически надлежащая формулировка, то
предположение опровергнуто: грамматическое толкование было верным, и автор выразил в законоположении именно то, что он хотел выразить. Но если аналогичного законоположения нет или в нем использована подобная, предположительно ненадлежащая формулировка, то
предположение остается в силе. Далее его следует подтвердить или
опровергнуть другими логическими приемами или другими способами
толкования. Примером такого использования вывода от противного
может служить толкование ч.3 ст.107 Конституции РФ.
Системно-логическое толкование позволяет уяснить смысл отдельного законоположения в контексте закона как смыслового целого
или в более широком юридическом контексте. Системность права
предполагает непротиворечивость результатов толкования юридических текстов. Во-первых, смысл одних положений толкуемого текста
не должен противоречить смыслу других положений этого же текста.
Во-вторых, любой юридический текст следует толковать так, чтобы
результат не противоречил релевантному юридическому тексту, имеющему более высокую или высшую официальную силу. Например, закон или международный договор нужно толковать так, чтобы он не
противоречил конституции. Следует толковать подзаконный нормативный акт так, чтобы это не противоречило закону, и при этом понимать закон в соответствии с релевантными положениями конституции.
На примере Конституции РФ можно продемонстрировать требование непротиворечивости и в первом, и во втором значениях.
Конституция в целом имеет высшую юридическую силу по отношению ко всем остальным нормам российского права. Но положения,
содержащиеся в разных главах Конституции, имеют разную юридическую силу внутри самой Конституции (в смысле их соподчиненности).
Главы 1, 2 и 9 Конституции составляют ее неизменяемое “ядро”
(“жесткая” часть Конституции), их положения не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием (российским парламентом). К главам 3–8 (“гибкая” часть Конституции) принимаются поправки. Следовательно, положения глав 3–8 можно толковать только в соответствии
с положениями глав 1, 2 и 9 Конституции. Причем положения глав 2 и
9 можно толковать только в соответствии с принципами, составляющими основы конституционного строя (глава 1), ибо ч.2 ст.16 Конституции однозначно устанавливает: “Никакие другие положения настоя-
276
щей Конституции не могут противоречить основам конституционного
строя Российской Федерации”.
В данном контексте иерархическую структуру Конституции можно
представить как положения трех уровней, обладающие разной официальной силой. Во-первых, это глава 1, положения которой обладают
высшей силой по отношению ко всем остальным положениям Конституции. В частности, основы конституционного строя устанавливают
приоритет прав человека по отношению ко всем остальным конституционно значимым ценностям (ст.2 Конституции). Во-вторых, это положения глав 2 и 9, которые вместе с главой 1 относятся к неизменяемой части Конституции. В-третьих, это положения глав 3–8, к которым
можно принимать поправки.
Любое положение глав 2 и 9 следует толковать с учетом соответствующего принципа главы 1. Например, в контексте ст.2 Конституции, закрепляющей приоритет прав человека, рассмотренную
выше ст.25 Конституции (глава 2) следует понимать так, что законодательные ограничения неприкосновенности жилища должны устанавливаться ради обеспечения прав и свобод других лиц.
Положения глав 3–8 Конституции также следует толковать в контексте принципов главы 1, а также положений глав 2 и 9. Например, в
главе 4 Президент РФ провозглашается главой государства. Это положение нельзя толковать так, как будто Президент – реальный глава
государства. Такое толкование противоречит принципу разделения
властей, составляющему одну из основ конституционного строя (ст.10
Конституции). Ибо фигура реального главы государства исключает
разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Положения, содержащиеся в одной и той же главе Конституции
или в главах равной силы нужно толковать так, чтобы они не противоречили друг другу. Например, в рамках главы второй, с одной стороны,
гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от имущественного положения (ч.2 ст.19 Конституции). С другой
стороны, говорится, что малоимущим гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных и других жилищных фондов (ч.3 ст.40). С системнологической точки зрения возможно только следующее непротиворечивое толкование: поскольку граждане равноправны независимо
от имущественного положения, законодатель не обязан (в юридическом смысле) устанавливать для малоимущих привилегии.
Историческим называют толкование текста в историческом контексте его создания, формулирования. Этот контекст юридического
текста можно уяснить, (1) обратившись к историографическим источ-
277
никам (документам), которые объясняют условия и причины, поводы
создания толкуемого текста, (2) либо из документов, которые относятся к процессу создания юридического текста – из протоколов законотворческого процесса, пояснительных записок к законопроектам и т.д.
Историческое толкование используется в двух случаях. Во-первых,
оно сочетается с грамматическим толкованием. Грамматическое толкование старого юридического текста должно происходить по правилам, принятым во времена создания этого текста, так как со временем
изменяются грамматические формы, смысл слов и выражений. Когда
интерпретатор сталкивается со текстом старого закона, он должен, для
грамотного прочтения текста, обратиться к протоколам заседаний того
законодательного собрания, которым был принят этот закон. Из них
будет ясен смысл слов и выражений, использованных в тексте закона.
Кроме того, эти источники помогут уяснить смысл закона, сложного
даже с точки зрения интерпретатора, знающего старый язык.
В современных развитых правовых системах такие случаи, когда в
юридической практике приходится применять и толковать столь старые тексты, встречаются крайне редко. Такого рода историческое толкование используют, главным образом, историки. Но смысл специальных юридических терминов может измениться и в течение непродолжительного времени, особенно, в результате правовой реформы.
Например, в ч.1 ст.93 Конституции РФ установлено, что Президент
РФ может быть отрешен от должности на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Для правильного толкования
термина “тяжкое преступление” необходимо обратиться к Уголовному
Кодексу РСФСР 1961 г., действовавшему на момент принятия Конституции 1993 г. В УК 1961 г. в качестве “тяжких преступлений” выделялась категория преступлений наибольшей степени тяжести. Однако по
действующему ныне УК РФ 1996 г. преступления подразделяются на
преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести,
тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Понятно, что сегодня “тяжкими преступлениями” в смысле ч.1 ст.93 Конституции
нельзя считать “тяжкие преступления” в смысле УК РФ 1996 г. Историческое толкование приводит к выводу, что авторы текста Конституции имели в виду категорию преступлений наибольшей степени тяжести, а таковыми в смысле действующего ныне УК РФ являются особо
тяжкие преступления. Следовательно, “тяжкими преступлениями” в
смысле ч.1 ст.93 Конституции нужно считать “особо тяжкие преступления” в смысле УК РФ 1996 г.
Во-вторых, историческое толкование используется тогда, когда
278
нужно подтвердить или опровергнуть тезисы логического толкования
или объяснить смысл текста, который логически плохо укладывается в
более широкий юридический контекст.
Допустим, интерпретатор предполагает, что законодатель не смог
подобрать надлежащую формулировку для выражения своей мысли, и
не находит в тексте закона опровержений своего предположения. В таком случае он должен обратиться к материалам законотворческого
процесса, которые могут подтвердить или опровергнуть это предположение.
Когда интерпретатор считает, что некое законоположение не укладывается в логический контекст закона, то историческое толкование
может объяснить происхождение этого законоположения и его смысл.
Например, в главу 7 Конституции РФ (“Судебная власть”) помещена
статья 129 – о прокуратуре. Возникает впечатление, что Конституция
относит прокуратуру к судебной власти. В то же время из главы 7 явствует, что правосудие осуществляется только судом, а судебная власть
осуществляется исключительно посредством судопроизводства. Следовательно, прокуратура не относится к судебной власти. Этот вывод
подтверждается историческим толкованием. Первоначально в проекте
Конституции статьи о прокуратуре были выделены в отдельную главу.
Но непосредственно перед опубликованием проекта было принято решение, что компетенция прокуратуры будет регламентирована не Конституцией, а федеральным законом; вместе с тем в Конституции должна оставаться общая статья о прокуратуре. Эту статью поместили в
главу “Судебная власть”. Ибо, во-первых, институт прокуратуры имеет
столь же малое отношение к другим главам Конституции, а, во-вторых,
в постсоветском сознании суд и прокуратура тесно связаны, так как
при советской власти оба института были элементами единой карательной системы, и советский суд лишь завершал то, что начинала
прокуратура. Таким образом, наличие в главе о судебной власти статьи
о прокуратуре никак не влияет на конституционное положения об
осуществлении судебной власти только судом. Прокуратура же относится к исполнительной власти.
Иногда историческое толкование может показать, что наличие некоего законоположения равносильно его отсутствию. Так, в ст.8 Конституции РФ содержится тривиальное положение о том, что “в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств…”.
Возникает вопрос: разве в рамках государства, каковым провозглашается Россия, возможно иное? Может быть это конституционное положение имеет некий скрытый смысл? Но историческое толкование объ-
279
ясняет, что это положение ничего не добавляет к суверенитету Российской Федерации. Оно появилось в тексте Конституции как проявление
болезненной реакции на центробежные тенденции, которые в 1993 г.
разрушали экономическое и финансовое единство России и угрожали
самому существованию Российского государства.
Телеологическое (принципное) – это толкование на основе интенции текста – замысла, целей, намерений автора текста или принципов,
ценностей, которыми руководствовался автор толкуемого текста. Телеологический способ используется при толковании неоднозначных
текстов, когда другие способы толкования не позволяют уяснить
смысл законоположения.
Автору закона (юридического текста) не всегда удается подобрать
формулировки, точно выражающие замысел, интенцию закона. Если
законоположение сформулировано так, что оно допускает разные версии толкования, а грамматический, логический и исторический способы толкования не позволяют выбрать одну из версий в качестве адекватного толкования, то интерпретатор должен придерживаться той
версии, которая соответствует интенции закона.
Самое сложное при телеологическом толковании – уяснить интенцию закона или законоположения. Разные интерпретаторы могут определять ее по-разному, тем более что позитивисты допускают произвольную интенцию юридических текстов.
Но, с точки зрения либертарно-юридической доктрины, интенция
юридического текста не может быть произвольной, ибо юридический
текст формулируется, составляется в целях надлежащего обеспечения
правовой свободы.
Проще, когда принципы, на которых строится толкуемый текст
сформулированы в самом этом тексте. Например, ч.3 ст.81 Конституции РФ устанавливает, что одно и то же лицо не может занимать
должность Президента РФ более двух сроков подряд. Что означало это
ограничение для первого Президента России Б.Н. Ельцина? Мог ли
Ельцин, избиравшийся Президентом в 1991 г. (по Основному Закону
РФ 1978 г.) и в 1996 г. (по Конституции РФ 1993 г.) баллотироваться
на должность Президента в 2000 г.? С точки зрения конституционных
принципов республиканизма – нет.
Логически возможны два варианта толкования Конституции. Первый: Ельцин уже два раза подряд занимал должность Президента,
предусмотренную Конституцией 1993 г. – до 1996 г. и с 1996 г., когда
он впервые был избран в соответствии с Конституцией 1993 г. Второй:
Ельцин только один раз был избран Президентом по Конституции 1993
г.; следовательно, в 2000 г. Ельцин мог бы быть избран Президентом
280
на второй срок подряд.
Логически оба варианта допустимы в равной мере. Против первого
варианта можно возразить, что первый срок президентства Ельцина по
Конституции 1993 г. составил лишь 2,5 года, а не 4 года, предусмотренные Конституцией. Против второго – что Конституция запрещает
не избираться, а занимать должность Президента более двух сроков
подряд.
Один из принципов республиканизма – срочность (краткосрочность) магистратур – означает, что один и тот же человек не должен
долго занимать одну и ту же выборную должность. Поэтому из двух
логически равнозначных вариантов принципам республиканизма более
соответствует тот, который больше ограничивает возможность одного
и того же лица занимать должность Президента, в данном случае –
первый. Следовательно, принципное толкование ч.3 ст.81 Конституции
приводит к выводу, что Ельцин в 2000 г. не мог бы баллотироваться на
должность Президента.
Виды толкования. В зависимости от субъектов толкования различают официальное и неофициальное толкование права.
Официальное толкование юридических текстов либо происходит в
процессе правоприменения, либо, как абстрактное нормативное толкование, оно дается по конкретному поводу, в связи с обнаружившейся
неопределенностью в понимании юридического текста.
“Аутентичным” (“аутентическим”) в советской и постсоветской
литературе называют толкование, которое якобы дает сам автор юридического текста. Например, официальное толкование закона, которое
дает сам законодатель – это аутентичное толкование. Предполагается,
что законодателю не требуется специальное законное дозволение, чтобы толковать свой же закон. Соответственно “легальным” называется
такое официальное толкование, которое дает другой субъект, не тот,
который установил закон или иной толкуемый акт. Также редполагается, что такой субъект должен обладать особым “легальным основанием” для того, чтобы заниматься официальным толкованием права. “Легальное” толкование именуется также “делегированным”. Это означает, что автор текста, который якобы обладает прерогативой официального толкования своего текста, делегирует это полномочие другому
субъекту.
В действительности “аутентичного” толкования не бывает. Сама
конструкция “аутентичного толкования” свидетельствует о непонимании вопроса. Ибо толкование текста дает не автор, а интерпретатор.
Автор не может быть интерпретатором собственного произведения.
Если автор некоего текста создал новый текст, в котором предписал
281
“правильное” понимание первого текста, то это значит, что он попросту создал новый объект для толкования интерпретаторами. Если
правоустановительный орган считает, что смысл изданного им нормативно-правового акта недостаточно ясен или искажается правоприменителями, то он может внести изменения в этот акт или даже отменить
его путем издания нового нормативно-правового акта, в котором попытается избежать недостатков первого. Но этот правоустановительный орган не может обязать правоприменителей (интерпретаторов)
толковать эти акты только так, как угодно этому органу.
Отсюда ясно, что и понятие “легальное толкование” не имеет
смысла. Во-первых, сам термин “легальное толкование” следует признать негодным. Ибо официальное толкование не может быть нелегальным, не дозволенным законом. Государственным органом запрещено все, что не разрешено конституцией или законом. Во-вторых, это
понятие возможно только в паре с понятием “аутентичного толкования”: либо государственный орган дает официальное толкование нормативных актов в силу того, что он вправе их издавать, либо в силу закона, наделяющего его такими полномочиями. Но поскольку “аутентичного толкования” не существует, то получается, что для любого
официального толкования необходимо законное или даже конституционное основание.
Однако последнее не означает, что толковать право можно лишь в
силу специального законного дозволения. В этом контексте следует
различать казуальное и нормативное толкование. Казуальное толкование осуществляется государственными органами в силу их правоприменительной компетенции, а также в силу общей обязанности исполнительных и судебных органов применять право, например, действовать на основании и во исполнение конституции и законов.
Казуальное толкование бессмысленно называть легальным или делегированным, ибо это имманентное толкование. Оно внутренне присуще процессу правоприменения, и правоприменитель не нуждается
ни в каком специальном законном дозволении для казуального толкования.
Нормативное же формально возможно только в силу конституции
или закона, и в этом смысле его можно называть легальным. Но фактически оно происходит и в силу иерархии судов, т.е. в силу того, что
разъяснения высшей апелляционной или надзорной судебной инстанции de facto обязательны для остальных судов. В правовом государстве
они обязательны и для иных государственных органов и граждан, поскольку в правовом государстве последнее слово в вопросах права всегда остается за судом. “Легальное толкование” – это неудачный тер-
282
мин. Получается, что фактическое нормативное толкование, вроде
разъяснений по вопросам судебной практики, которое дает, например,
Верховный Суд РФ, – это “нелегальное” толкование.
Термин “делегированное толкование” понятен лишь в том случае,
если признавать аутентичное толкование: первично аутентичное толкование, в специальном дозволении оно не требуется; когда же официальный текст толкует не сам его автор, а иной государственный орган,
то последнему для этого требуется получить дозволение от автора, т.е.
автор должен делегировать свои полномочия по толкованию.
По объему толкования в доктрине различаются буквальное, расширительное (распространительное) и ограничительное толкование. Их
принято рассматривать в качестве видов толкования права. Но в данном контексте речь должна идти скорее о способах толкования.
Имеются в виду следующие соображения. Как правило, текст закона нужно понимать буквально. Отсюда и возникает выражение “буквальное толкование”. Хотя здесь можно говорить и о грамматическом
способе толкования (чтобы правильно понять текст, достаточно грамотно его прочитать). Но иногда из самого текста закона с очевидностью вытекает, что некоторые законоположения нельзя понимать буквально. Это бывает в тех случаях, когда законоположение сформулировано так, что буквальное его понимание приведет к ошибочному
толкованию (это должно с очевидностью вытекать уже из логического
толкования). В этих случаях говорят о необходимости расширительного (распространительного) или ограничительного толкования соответствующих законоположений.
Это не значит, что интерпретатор расширяет или ограничивает
права и обязанности, предусмотренные диспозицией, что он распространяет норму на отношения, не предусмотренные ее гипотезой, или,
наоборот, ограничивает ее действие. Просто интерпретатор приходит к
обоснованному выводу, что действительный смысл законоположения
иной нежели тот, который можно было бы придать тексту при буквальном его толковании. Интерпретатор не вправе расширять или
ограничивать смысл законоположений, он должен правильно уяснить и
точно разъяснить их действительный смысл.
Ограничительным толкованием называется такое понимание законоположения, при котором его действительное содержание оказывается уже того, которое, казалось бы, вытекает из этого законоположения.
Так, конституционное положение “Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории
Российской Федерации” (ч.2 ст.4 Конституции РФ) при буквальном
толковании означает безусловное верховенство федеральных законов
283
по отношению к законам субъектов РФ. В то же время Конституция
устанавливает разграничение федеральной компетенции и компетенции субъектов Федерации (ч.3 ст.5) и определяет, что федеральные законы, изданные за пределами федеральной компетенции, уступают по
силе законам субъектов РФ (ч.6 ст.76). Поэтому положение ч.2 ст.4
Конституции подлежит ограничительному толкованию (точнее – прочтению): имеют верховенство федеральные законы, изданные с соблюдением федеральной компетенции.
Иногда законоположения, содержащие общие нормы, формулируются так, как будто бы не предполагают наличие специальных норм
(не содержат оговорку “если иное не установлено законом”). Такие законоположения подлежат ограничительному толкованию, если есть законоположения, содержащие специальные нормы.
Расширительным (распространительным) толкованием называется
такое, при котором законоположению придается более широкое содержание в сравнении с тем, которое, на первый взгляд, вытекает из
этого законоположения. Например, нередко термин “гражданин”
(“граждане”) используется в тексте закона тогда, когда явно имеются в
виду не только граждане, но и любые физические лица (в гражданском
законодательстве термин “гражданин” используется как синоним термина “физическое лицо”). Так, согласно ч.4 ст.125 Конституции РФ,
Конституционный Суд РФ проверяет конституционность закона “по
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан”.
Буквальное понимание этого конституционного положения лишило бы
неграждан России доступа к конституционному правосудию, а это
противоречит равному праву каждого на судебную защиту. Более того,
есть доктринальное правило толкования, которое гласит, что из двух
допустимых вариантов толкования следует выбирать тот, который
дает большую защиту прав человека. Поэтому названное конституционное положение очевидно распространяется на всех физических лиц.
Более сложный пример расширительного толкования связан с тем
же конституционным положением: Конституционный Суд “проверяет
конституционность закона”. На первый взгляд, использование термина
“закон” исключает конституционные жалобы граждан на указы Президента РФ. Предполагается, что подзаконные указы Президента можно
обжаловать в другом компетентном суде. Но указы Президента могут
быть и неподзаконными, восполняющими пробелы в законодательстве,
имеющими силу федерального закона. Учитывая, что сам Конституционный Суд признал возможность издания таких указов, следует дать
расширительное толкование термина “закон” в контексте ч.4 ст.125
Конституции, распространяющееся и на неподзаконные указы Прези-
284
дента.
Во всех перечисленных случаях речь шла об адекватном толковании права, т.е. о таком толковании, которое наиболее соответствует
юридическому смыслу закона. Как правило адекватное толкование достигается при буквальном понимании законоположений, но иногда для
адекватного толкования требуется их расширительное или ограничительное понимание. Таким образом, нельзя отождествлять буквальное
и адекватное толкование, нельзя противопоставлять адекватному толкованию расширительное и ограничительное. Толкование всегда
должно быть адекватным – адекватным тому контексту, в котором
применяются законоположения.
В неофициальной оценке официального толкования следует руководствовать презумпцией адекватного официального толкования – до
тех пор, пока официально не дано иное толкование. Во всяком случае,
такая презумпция существует в правовом государстве.
Тема 25. Правоотношение
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и виды правоотношений.
2. Субъекты права.
3. Содержание правоотношений.
4. Юридические факты.
Из лекции: Первичный, исходный субъект права – это свободный,
автономный индивид, за которым признается равная с другими способность вступать в правоотношения, приобретать права и обязанности (т.е. правосубъектность). Возможность коллективного образования
(организации, объединения и др.) быть субъектом права производна от
признания правосубъектности индивида. В обществе, в котором не существует или не допускается свобода индивида, нет ни права, ни каких
бы то ни было иных (групповых, институциональных) субъектов права.
Субъекты права – это лица, физические и юридические. Юридические лица могут быть частными и публичными. Публичное юридическое лицо (“юридическое лицо публичного права”)
Как субъект права индивид или коллективное образование выступает в качестве лица (физического или юридического) – внешне
обособленного и персонифицированного субъекта, формально независимого от других субъектов. Государственные органы в частноправо-
285
вых отношениях выступают как юридические лица, в публичноправовых – как институциональные субъекты права, способные в рамках своей компетенции односторонними действиями порождать, изменять и прекращать правоотношения. Государство в целом в частноправовых отношениях выступает на равных началах с физическими и
юридическими лицами, в публично-правовых (абстрактных) отношениях – как особый, политический субъект права, который обладает по
отношению к индивидам (и другим лицам) правом принуждать к соблюдению закона и несет обязанность соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина.
Право во взаимоотношениях надындивидуальных объединений,
институтов, ассоциаций, государств возможно только там, где отдельные индивиды выступают как субъект права В международном праве
субъект права являются не только государства и международные организации, но и индивиды, и международные суды защищают их права
по отношению к государству.
Правосубъектность – это способность индивидов и коллективных
образований быть субъектами права, вступать в правоотношения. Общей предпосылкой правосубъектности является внешняя обособленность и персонификация (автономность), позволяющая выступать в правоотношении от собственного имени в виде единого лица.
Различается общая, отраслевая и специальная правосубъектность
физических лиц. Общая правосубъектность означает признание свободы индивида, его способности быть субъектом права вообще, в частности – субъектом права собственности на средства производства; в индустриальном обществе она признается возникающей с момента рождения человека. Объем и содержание общей правосубъектности определяются совокупностью естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина, гарантированных в данной стране. Это основные субъективные права, описывающие сферы жизнедеятельности,
в которых индивиды могут приобретать субъективные права и обязанности, предусмотренные нормами права.
Отраслевая правосубъектность означает способность быть субъектом правоотношений той или иной отрасли права (гражданского, административного, процессуального и т.д.) и представляет собой единство правоспособности и дееспособности. Под правоспособностью
понимается способность иметь предусмотренные нормами права субъективные права и обязанности, а под дееспособностью – способность
приобретать их и осуществлять своими действиями. Как правило, правоспособность и дееспособность неразрывны. Например, гражданин,
достигший 18 лет, правоспособный в области избирательных прав, не
286
может быть недееспособным. Так же бессмысленна трудовая правоспособность без дееспособности. Только в сфере гражданского права
имущественные права могут принадлежать одному лицу, но осуществлять их от его имени и в его интересах могут другие лица.
Специальная правосубъектность необходима для правоотношений,
субъектами которых могут быть лишь лица, соответствующие определенным требованиям. Например, для избрания Президентом РФ необходимо быть гражданином России не моложе 35 лет и постоянно проживать в России не менее 10 лет.
Правосубъектность физических лиц может быть ограничена только
по приговору суда в качестве основной или дополнительной меры
наказания. Любые соглашения об ограничении правосубъектность ничтожны.
Правосубъектность юридического лица может быть только специальной – в том смысле, что оно вправе иметь, приобретать и осуществлять только права и обязанности, не противоречащие его уставу. Правосубъектность органов государства и местного самоуправления в
сфере публичного права называется компетенцией. Она устанавливается законом и включает в себя возможность односторонними действиями порождать, изменять и прекращать правоотношения.
Частным случаем дееспособности является деликтоспособность –
способность быть субъектом правонарушения и нести юридическую
ответственность.
Субъективное право – это индивидуальная мера свободы, дозволяющая определенное поведение управомоченного субъекта либо позволяющая ему требовать определенного поведения от обязанного
субъекта. В случае нарушения субъективное право защищается путем
предъявления в суде (ином компетентном государственном органе)
притязания (иска, жалобы) к нарушителю. Невозможно субъективное
право, которое нельзя защитить в суде.
Юридическая обязанность – юридическая мера должного поведения, соответствующего в правоотношении субъективному праву. Не
существует субъективных прав, которым не соответствует чьи-либо
юридические обязанности.
Формально можно представить некоторые элементы общего правового статуса человека (и гражданина) как абстрактные абсолютные
правоотношения (их называют общерегулятивными). Например, праву
каждого на жизнь корреспондирует всеобщий запрет (и соответствующая обязанность) лишать человека жизни. Но это будет “правоотношение каждого с каждым”. Любое содержание такого рода правоотношения уже описано в универсальном требовании права: осуществление
287
прав и свобод не должно нарушать права и свободы других. Таким образом, юридическую конструкцию “абсолютному абстрактному праву
соответствует всеобщая обязанность не нарушать это право” не следует пытаться изобразить в виде правоотношения “всех со всеми и каждого с каждым”. Не следует доводить юридические категории до абсурда.
Реально можно говорить лишь об относительном абстрактном правоотношении, а именно, о фундаментальном правоотношении каждого
человека (и гражданина) с государством. Содержание этого общего
правоотношения составляют, с одной стороны, права и свободы человека и гражданина, с другой, обязанность государства признавать их,
соблюдать и защищать. Это общее правоотношение теоретически
можно рассматривать как совокупность отдельных абстрактных правоотношений. Например: праву граждан на равный доступ к правосудию
корреспондирует обязанность государства обеспечивать реализацию
этого права принятием необходимых законов и созданием достаточного числа компетентных и надлежащим образом организованных судов; праву каждого быть собственником соответствует
обязанность государства признавать, соблюдать и защищать это фундаментальное право каждого человека и осуществлять необходимые
меры для его соблюдения и защиты. Но по существу человек (и гражданин) состоит в одном общем абстрактном правоотношении с государством, а не во множестве отдельных абстрактных правоотношений.
Различаются права абсолютные (“права на свои действия”), и относительные (“права на чужие действия”). Абсолютному субъективному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц
(“всех остальных”) не препятствовать осуществлению права управомоченным лицом. Относительному праву корреспондирует обязанность
определенного лица (лиц) выполнить соответствующие действия в
пользу управомоченного лица.
Юридические факты – конкретные фактические обстоятельства,
обусловливающие возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Это традиционное определение не слишком корректно, поскольку предполагает, что юридические факты являются чем-то внешним по отношению к правоотношению, предшествуют ему. На самом
деле юридический факт – такое состояние правоотношения, “поворот”,
“момент” в его развитии, с которым связываются определенные юридические последствия.
Юридические факты подразделяются на события, состояния и действия. События происходят независимо от воли субъектов правоотношения (например, стихийное бедствие), а действия совершаются ими
288
осознанно. Состояние (например, беременность, алкогольное опьянение) не относится ни к событиям, ни к действиям.
Действия, в свою очередь, могут быть правомерными и противоправными.
Противоправные действия, содержащие признаки состава правонарушения, порождают охранительные правоотношения – юридическую
ответственность.
Правомерные действия, совершенные без намерения вызвать определенные юридические последствия (например, находка, создание литературного произведения, рождение ребенка), принято называть юридическими поступками, а правомерные действия, направленные на достижение определенных юридических последствий (обращение с иском в суд), – юридическими актами. Далее различают односторонние и
двух- или многосторонние юридические акты. Первые совершаются по
воле только одного из участников правоотношения (завещание), вторые предполагают согласование воль всех субъектов (договор).
В ряде случаев для возникновения, изменения или прекращения
правоотношения требуется одновременное наличие двух или более
юридических фактов (например, для назначения пенсии необходимо
достижение определенного возраста и обращение в компетентный орган). Такой сложный юридический факт называется фактическим составом.
Указание на юридические факты (фактические составы) содержится в гипотезах правовых норм.
Иногда роль юридических фактов выполняют специфические феномены, которые на самом деле ими не являются. Это – юридические
презумпции и фикции.
Юридическая презумпция – не сам юридический факт, а лишь
предположение о его существовании, тем не менее вызывающее определенные юридические последствия (например, презумпции невиновности, знания закона, добросовестности владения, происхождения ребенка от лица, состоящего в браке с его матерью). Обращение к презумпциям бывает обусловлено трудностью, а иногда и нецелесообразностью (в силу очевидности) доказательства того или иного юридического факта. Юридическая презумпция устанавливается исходя из социального опыта, часто в целях усиления защиты определенных прав.
Презумпция действует в качестве юридического факта до тех пор, пока
не будет опровергнута (пока не будет доказано обратное).
Под юридической фикцией понимается признание в качестве юридического факта некоего обстоятельства, о котором заведомо известно,
что оно не существует (юридическое лицо), либо обстоятельства, дока-
289
зать или опровергнуть наличие которого не представляется возможным
(признание гражданина умершим). Фикции используются для удобства
правового регулирования, в целях придания правоотношениям необходимой стабильности и определенности.
Тема 26. Правонарушение. Юридическая ответственность
Вопросы для обсуждения
1. Проблема разграничения административных правонарушений и
преступлений.
2. Критерии необходимой обороны.
3. Современная доктрина о требованиях, предъявляемых к нормам
о юридической ответственности. Юридически допустимые виды наказаний.
4. Проблема разграничения юридической ответственности и других
форм и мер государственного принуждения.
5. Юридическая ответственность и дисциплинарная ответственность.
6. Юридическая и политическая ответственность. Проблема конституционной ответственности.
Из лекции: Юридическая ответственность – это применение компетентным государственным органом санкции (диспозиции правоохранительной нормы), что выражается в негативных последствиях
для правонарушителя, наступающих в виде лишений или ограничений
личного или имущественного характера.
Содержание юридической ответственности – это негативные последствия, наступающие для правонарушителя. Смысл юридической
ответственности – возложение на правонарушителя таких обязанностей, которых у него не было до совершения правонарушения.
Необходимое основание юридической ответственности – правонарушения. В исключительных случаях закон предусматривает юридическую ответственность за совершение объективно противоправного деяния, например, невиновное причинение вреда. Так, согласно ч.1
ст.1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых
связана с повышенной опасностью для окружающих (использование
транспортных средств, механизмов, взрывчатых веществ и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы
или умысла потерпевшего.
Факт правонарушения порождает охранительное правоотношение,
290
в рамках которого государство вправе применить к правонарушителю
принуждение, но в пределах санкции, а правонарушитель обязан подвергнуться мерам государственного принуждения, назначенным компетентным органом государства с соблюдением надлежащей процессуальной формы.
Необходимый признак юридической ответственности – государственное принуждение. Причем гражданское, предпринимательское, трудовое законодательство предусматривают возможность
добровольного исполнения обязанностей, составляющих содержание
юридической ответственности (возмещение причиненного вреда,
убытков, уплата неустойки); в противном случае последует государственное принуждение.
Не являются юридической ответственностью принудительнообеспечительные меры (задержание, обыск, выемка, таможенный досмотр, наложение ареста на имущество и др.) и правовосстановительные меры (принуждение к исполнению договорных обязательств,
взыскание алиментов, налогов и др.), хотя они выступают в виде государственного принуждения на основе закона. Эти меры обеспечивают
возможное наступление юридической ответственности или выполнение обязанностей независимо от наступления юридической ответственности за их неисполнение.
В этом контексте смысл юридической ответственности – возложение дополнительных обязанностей, не существовавших до правонарушения. Например, Конституционный Суд РФ придерживается
именно такой позиции в решениях по налоговым вопросам. Первое:
недоимки взыскиваются в бесспорном порядке, поскольку обязанность
выплатить взыскиваемую сумму существовала до правонарушения, но
взыскание штрафа в бесспорном порядке невозможно. Второе: следует
разграничивать меры принуждения, с одной стороны, правовосстановительные, имеющие целью восполнить недоимки и устранить ущерб,
причиненный несвоевременной уплатой налога, с другой стороны,
штрафные, представляющие собственно меру юридической ответственности за виновное поведение (Постановление № 11 1999 г.).
Не следует отождествлять понятия юридической ответственности и
санкции. Последнее шире понятия юридической ответственности. Не
все санкции предусматривают юридическую ответственность.
Правовые нормы должны устанавливать санкции за любое неправомерное (противоправное) деяние, но юридическая ответственность
предусматривается санкциями только за правонарушения.
Санкции за неправомерные деяния, не являющиеся правонарушениями, предусматривают правовосстановительные меры – обязанность
291
восстановить нарушенное право. Это может быть обязанность сторон
возвратить друг другу все полученное по сделке, признанной недействительной, обязанность возвратить неосновательное обогащение,
отмена или признание недействительным акта государственного органа, нарушающего права граждан и т.д. Все эти правовосстановительные меры не являются мерами юридической ответственности.
Есть иная точка зрения по этому вопросу (О.Э. Лейст).
Принципы юридической ответственности.
1. Принцип правомерности. Меры юридической ответственности
не должны противоречить естественным неотчуждаемым правам человека. Прежде всего, признание права на жизнь предполагает запрет
смертной казни. Кроме того, ничто не может быть основанием для
умаления достоинства личности; никто не должен подвергаться пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
наказанию.
“Лучше ошибиться в милосердии, чем казнить невиновного”.
Смертная казнь характерна для исторически неразвитых правовых систем и соответствует примитивному общественному сознанию. Убийство преступника – это самый простой, примитивный способ воздаяния за преступление, который выражает нежелание или неспособность
государства (граждан, должностных лиц) обезопасить преступника,
контролировать его поведение.
Убийство преступника под видом его наказания выражает страх
перед ним, ненависть и другие негативные эмоции, но не имеет правового содержания.
В примитивном обществе смертная казнь выступает как “восстановление нарушенной гармонии” или эквивалентный акт возмещения
вреда – коллектив, которому причинен вред в виде убийства члена этого коллектива, в ответ причиняет вред коллективу, представитель которого первым причинил вред в виде убийства (в остальных случаях
смертная казнь в примитивном обществе не рассматривается как эквивалентный акт).
Но когда человек выступает как индивидуальный субъект права, то
его убийство в виде наказания уже не может рассматриваться как акт
эквивалентного возмездия. Смертная казнь индивидуального субъекта
– это уже не наказание, а уничтожения самого субъекта права, который
должен понести наказание.
Другое дело, что государство (совокупность граждан) может считать, что в некоторых случаях исправление преступника невозможно и,
пока он жив, сохраняется исходящая от него угроза для жизни других
людей. В таких случаях к преступнику следует применять самую стро-
292
гую меру юридического наказания – пожизненное “лишение свободы”,
т.е. пожизненную изоляцию человека от общества при существенном
ограничении всех его естественных прав. Причем последнее исключает
пытки, издевательство, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение с преступником (наказание). Что бы ни совершил
человек, это не может быть основанием для умаления достоинства
личности.
Признание, соблюдение и защита государством права на жизнь
означают, что безусловно правомерное лишение жизни возможно лишь
постольку, поскольку человек своими действиями ставит себя в положение, в котором его право на жизнь утрачивает абсолютный, неотъемлемый характер; а такое положение возможно лишь тогда, когда человек умышленно и без смягчающих вину обстоятельств посягает на
жизнь других людей. Единственной конституционно значимой целью,
ради которой можно полностью правомерно лишить человека жизни,
является защита права на жизнь других людей. Тот, кто умышленно и
без смягчающих обстоятельств угрожает жизни других, тот не признает их право на жизнь, и тем самым он своими действиями выводит себя
из правовой ситуации, в которой гарантировано и его право на жизнь.
2. Законность установления юридической ответственности. Речь
идет не о законности вообще, ибо законность является универсальным
правовым принципом государственной жизни, а о конкретизации этого
принципа применительно к юридической ответственности. В контексте
юридической ответственности принцип законности означает, что ответственность может наступать только на законном основании. Нет ни
правонарушения, ни юридической ответственности, не предусмотренных законом (поскольку речь идет о юридической ответственности,
подразумевается правовой характер закона); меры гражданскоправовой ответственности, предусмотренные договором, не должны
противоречить закону.
Причем речь идет о законе в собственном смысле. Например, подзаконные нормативные акты исполнительной власти не могут считаться законным основанием юридической ответственности. В России же
сохраняется такая практика, когда юридическая ответственность (административное и даже уголовное наказание) формально предусматривается законом, а фактически устанавливается подзаконными актами. А именно, в законе, устанавливающем ответственность, используется “бланкетная гипотеза”.
3. Справедливость юридической ответственности. Справедливость
есть выражение сущности права, отношений правового обмена. В этом
контексте можно рассматривать правонарушение и юридическую от-
293
ветственность как элементы негативного правового обмена.
Негативный правовой обмен складывается из “предоставления”,
причиняющего ущерб правовым ценностям (правонарушение), и “получения” в виде обязанности правонарушителя претерпеть лишения за
то, что “предоставил”.
Отсюда справедливость применительно к юридической ответственности означает, прежде всего, эквивалентность: компенсация
вреда должна быть полной; тяжесть наказания должна быть эквивалентной тяжести содеянного; нельзя повторно подвергать юридической ответственности за одно и то же.
Далее, справедливость требует беспристрастности и равного применения мер юридической ответственности к разным субъектам, совершившим одно и то же правонарушение.
4. Целесообразность. Юридическая ответственность требует целесообразного (соответствующего ее целям) применения закона. Особенно это относится к наказанию в уголовном праве.
Наказание – это не компенсация, у наказания иные цели – добиться
того, чтобы человек, совершивший правонарушение (преступление),
впредь этого не повторял, во всяком случае – снизить вероятность рецидива. Поэтому наказание должно быть целесообразным в том смысле, что правонарушитель (преступник) должен получить то, чего он заслуживает в силу его личных качеств.
Справедливость требует, чтобы наказание было адекватным содеянному. Целесообразность требует, чтобы наказание было адекватным
личности правонарушителя.
Целесообразность означает индивидуализацию и предполагает возможность смягчения наказания в сравнении с требованиями закона и
даже освобождение от наказания, если цель наказания уже достигнута.
Она требует по-разному применять меры наказания к разным субъектам, учитывать качества личности правонарушителя (преступника) как
влияющие на смягчение или ужесточение наказания. Например, раскаяние может расцениваться как смягчающее вину обстоятельство, а повторное совершение правонарушения – как отягчающее. Нельзя наказывать одинаково того, кто совершил преступление ради обогащения,
и того, кто совершил объективно такое же деяние вследствие нищеты.
Справедливость и целесообразность не противоречат друг другу.
Исходя из принципа целесообразности, например, человека, совершившего преступление впервые, и человека, ранее неоднократно
осужденного за такие же преступления, нужно мерить разной мерой. В
то же время справедливость требует мерить одной мерой всех, кто совершает некое преступление впервые, и точно так же мерить одной ме-
294
рой всех, кто совершает некое преступление повторно.
5. По общему правилу юридическая ответственность наступает
только при наличии вины. Без вины нет наказания.
Объективно противоправные деяния и противоправные действия
неделиктоспособных субъектов порождают обязанность возмещения
вреда (но не наказание) в случаях, когда закон возлагает бремя риска
на соответствующих субъектов.
Например, правовое сообщество граждан государства, учреждающее органы власти, несет риск того, что эти органы (их должностные
лица), действуя от имени государства, могут совершать противоправные деяний, причиняющие вред отдельным членам сообщества. Поэтому такой вред возмещается из казны государства (общего достояния
всех граждан). Причем это происходит независимо от вины должностных лиц, допустивших или совершивших противоправные деяния. Если после того как государство понесет расходы, связанные с возмещением вреда, будет установлена вина соответствующих должностных
лиц, то они должны возместить потери, понесенные государством, в
пределах, установленных законом.
Если в уголовном процессе человек неправомерно осужден из-за
судебной ошибки, то вред, причиненный неправомерным уголовным
наказанием, возмещается государством независимо от вины судьи. В
остальных случаях вред, причиненный лицу противоправным деянием
при осуществлении правосудия, возмещается виновным лицом.
6. Процессуальность. Юридическая ответственность наступает
только при условии соблюдения установленной законом (надлежащей
правовой) процедуры. Уголовная ответственность требует судебной
процедуры. При гражданско-правовой, административно-правовой ответственности, в случае несогласия правонарушителя с имущественными санкциями, применяемыми в административном порядке, требуется судебная процедура (никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда).
7. К вопросу о неотвратимости юридической ответственности.
Иногда одним из принципов юридической ответственности называют
ее неотвратимость. Это неверно уже потому, что правовые нормы, как
и любые правила должного, действуют не с неотвратимостью, а с модальностью долженствования. Юридическая ответственность, должна
наступать в случае правонарушения, например, преступления. Но для
этого нужно по меньшей мере, чтобы правоохранительные органы
установили факт преступления. Между тем, объективно существует и
всегда будет существовать латентная преступность.
Что касается незначительных правонарушений, например админи-
295
стративных, то характер этих правонарушений предполагает юридическую ответственность как возможное последствие. Так, превышение установленного предела скорости автотранспорта считается правонарушением не потому что превышение скорости реально нарушает
чьи-либо права, а потому что оно может иметь опасные последствия
(формальный состав). Но в тех случаях, когда оно не приводит к таким
последствиям, о факте правонарушения скорее всего никто не узнает.
Следовательно, в таких случаях можно говорить лишь о весьма малой
вероятности наказания за правонарушение.
Другое дело, что для достижения целей юридической ответственности и выполнения ее функций (настолько, насколько это возможно) ее угроза должна быть реальной, и она должна наступать в разумные сроки.
Видам правонарушений соответствуют виды юридической ответственности. По существу есть только два вида: (1) гражданскоправовые деликты; ответственность наступает в виде возмещения вреда или штрафа в пользу кредитора; (2) административные уголовные
правонарушения (проступки и преступления); ответственность в виде
наказания, включая штраф в пользу государства. Различие между административными правонарушениями и преступления чисто формальное, условное (например, преступление – это то, что предусмотрено
уголовным кодексом).
Дисциплинарная ответственность – это не юридическая ответственность, так как по своему смыслу она противоречит фундаментальному принципу “никто не может быть судьей в своем деле”. Собственно юридическая ответственность в сфере дисциплинарных отношений возможна лишь постольку, поскольку дисциплинарное взыскание, затрагивающее права наказанного лица, может быть обжаловано в
суд или иной государственный орган, независимый от дисциплинарной
системы, компетентный проверять законность и обоснованность дисциплинарных наказаний.
Представления о дисциплинарных правонарушениях и о дисциплинарной юридической ответственности характерны для неразвитой правовой культуры. Как правило, то, что называют дисциплинарными
проступками, нельзя считать особой разновидностью правонарушений.
Соответственно то, что называют дисциплинарной ответственностью,
нельзя считать особым видом юридической ответственности.
Вообще дисциплинарные проступки (и дисциплинарная ответственность) имеют место в отношениях специфической подчиненности
человека государственному органу или должностному лицу государства, например, в отношениях государственной служебной подчи-
296
ненности. Но к дисциплинарным правонарушениям в собственном
смысле можно относить нарушения дисциплины только:
в отношениях обязательной военной службы;
в отношениях, возникающих в процессе исполнения уголовного
наказания.
Юридическая ответственность и конституционная политическая
ответственность. Конституционное право предусматривает лишь политическую ответственность. Последняя означает ответственность
государственных органов и лиц, замещающих должности в государственных органах, перед субъектами, формирующими эти органы.
Политическая ответственность – это ответственность государственновластного субъекта за осуществление государственно-властной компетенции (эффективное или неэффективное, рациональное или нерациональное, целесообразное или нецелесообразное и т.п.). В отличие от
юридической ответственности, субъект, несущий политическую ответственность, не подвергается никаким лишениям или ограничениям в
правах. В частности, его отставка – это нормальное явление, которое
как правило не влечет за собой юридических негативных последствий
и даже понижения социального статуса.
Конституционная политическая ответственность включает в себя,
во-первых, необходимую при республиканской форме правления ответственность депутатов (партий) и избираемого народом президента
перед избирателями. Такая ответственность означает, что избиратели
на очередных выборах оценивают деятельность лиц, занимавших выборные государственные должности, и партий, участвовавших в осуществлении государственной власти. По итогам очередных выборов
эти лица и партии либо сохраняют, либо утрачивают, либо усиливают
свои позиции в выборных государственных органах, либо избираются,
либо не избираются на новый срок. Во-вторых, конституционная политическая ответственность – это предусмотренная конституционным
правом ответственность одного государственного органа перед другим, сформировавшим этот ответственный орган. Смысл такой ответственности – решение вопроса об отставке (освобождении от должности) соответствующих должностных лиц. Так, в парламентарных странах нижняя палата парламента (парламентское большинство, “партийная власть”) решает судьбу ответственного перед ней правительства. В
России по Конституции 1993 г. Правительство РФ несет политическую
ответственность только перед Президентом РФ. Генеральный прокурор РФ несет ответственность перед Советом Федерации, но лишь в
том случае, если Президент РФ вносит предложение об освобождении
от должности Генерального прокурора.
297
От конституционной политической ответственности следует отличать лишение неприкосновенности и отстранение от должности в порядке импичмента. Эти конституционные процедуры связаны с юридической, а не с политической ответственностью. Тем не менее, эти
процедуры не составляют особый вид юридической ответственности –
конституционную юридическую ответственность. Они лишь предшествуют возможной юридической ответственности, а именно: уголовной
ответственности. Они являются необходимым условием привлечения к
уголовной ответственности лиц, обладающих неприкосновенностью.
Так, депутатская неприкосновенность не означает абсолютный
иммунитет в отношении уголовной (юридической) ответственности на
срок депутатских полномочий. Если в палате парламента, членом которой является определенный депутат, компетентным органом будет
предъявлено обоснованное обвинение в совершении этим депутатом
преступления, то палата вправе решить вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности с целью привлечения его к уголовной ответственности. Но депутат не несет политической ответственности перед
парламентом, и палата не вправе лишить его депутатского мандата.
Также отстранение (отрешение) президента от должности в порядке импичмента не является актом политической ответственности президента перед парламентом или верхней палатой парламента. Избираемый народом президент – глава исполнительной власти – несет политическую ответственность только перед народом. В то же время гражданин, занимающий пост президента, обладает неприкосновенностью
и не может быть привлечен к уголовной (юридической) ответственности – до тех пор, пока он является президентом. Иначе говоря, президентская неприкосновенность означает абсолютный иммунитет в отношении уголовной ответственности и утрачивается только
вместе с должностью президента. Это связано с тем, что президент (в
отличие от депутата парламента) обладает верховными полномочиями
исполнительной власти. И если предполагаемый субъект преступления
после выдвижения против него обвинения, тем не менее, остается главой исполнительной власти, то и без президентского иммунитета он
сможет противодействовать уголовному преследованию. Поэтому даже при наличии серьезного и обоснованного обвинения, для того, чтобы подвергнуть его уголовному преследованию, недостаточно лишить
его неприкосновенности. Необходимо предварительно отстранить его
от должности.
Таким образом, верхняя палата парламента вправе отстранить от
должности президента (в США – других высших должностных лиц) в
порядке импичмента только по юридическим основаниям. Правда, не
298
исключено, что обвинение против президента, имеющее формальное
юридическое основание, фактически будет выдвинуто по чисто политическим мотивам. Поэтому участия в процедуре импичмента одних
лишь палат парламента недостаточно. Если президент и необходимое
большинство в обеих палатах парламента принадлежат к конкурирующим партиям, то можно представить такую ситуацию, когда
нижняя палата по политическим мотивам выдвинет формальное обвинение в совершении президентом преступления, а верхняя по тем же
мотивам примет решение об отстранении президента от должности.
Поэтому в России в состав институтов, участвующих в процедуре импичмента Президента, включен Верховный Суд РФ, который компетентен давать заключение о наличии в действиях Президента признаков преступления. В случае отрицательного заключения Верховного
Суда Совет Федерации РФ не может рассматривать вопрос об отрешении Президента от должности и обвинение считается отклоненным.
Роспуск регионального законодательного собрания федеральным
президентом – это неправовое принуждение, ибо пока избранный
народом государственный орган может выполнять свои функции, он
юридически не может быть распущен.
Избирательное право – это в основном нормы административного
права, которые, в частности, позволяют исключать гражданина из
списка зарегистрированных кандидатов на конкретных выборах. За
“избирательные правонарушения”, совершаемые гражданами, которые
пытаются реализовать свои избирательные права в нарушение установленных законом процедур, наступает не “конституционная”, а
обычная административная ответственность, в частности, в виде отстранения от участия в выборах в качестве кандидата на выборную
должность, т.е. в виде утраты приобретенного права быть внесенным в
списки для голосования. Но это не ограничение пассивного избирательного права, ибо последнее отнюдь не предполагает право непременно быть зарегистрированным кандидатом на конкретных выборах.
Пассивное избирательное право как одно из первичных прав гражданина означает лишь абстрактную возможность приобретать своими
действиями право быть зарегистрированным кандидатом на конкретных выборах (вторичное право). Аналогично право быть собственником есть лишь возможность приобретать право собственности на конкретное имущество; если человек в рамках юридической ответственности утрачивает некие приобретенные имущественные права, то это никак не затрагивает его право быть собственником вообще. Соответственно, если гражданин в рамках юридической ответственности утрачивает приобретенное право быть зарегистрированным кандидатом на
299
конкретных выборах, то это никак не отражается на его праве быть избранным на выборные должности вообще.
300