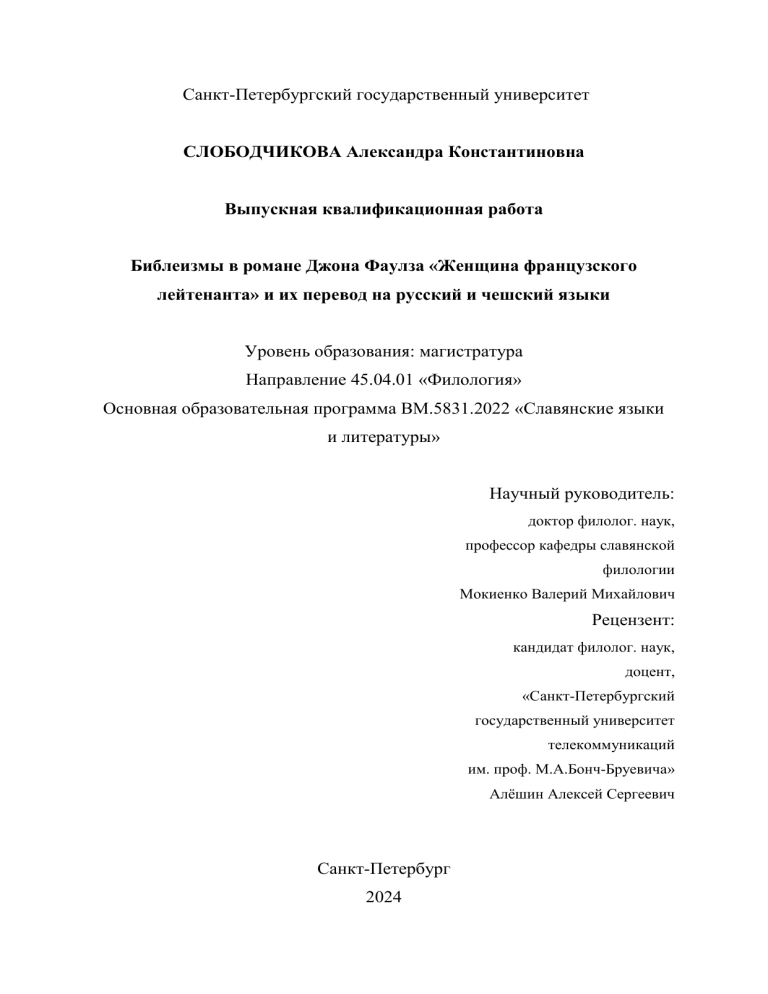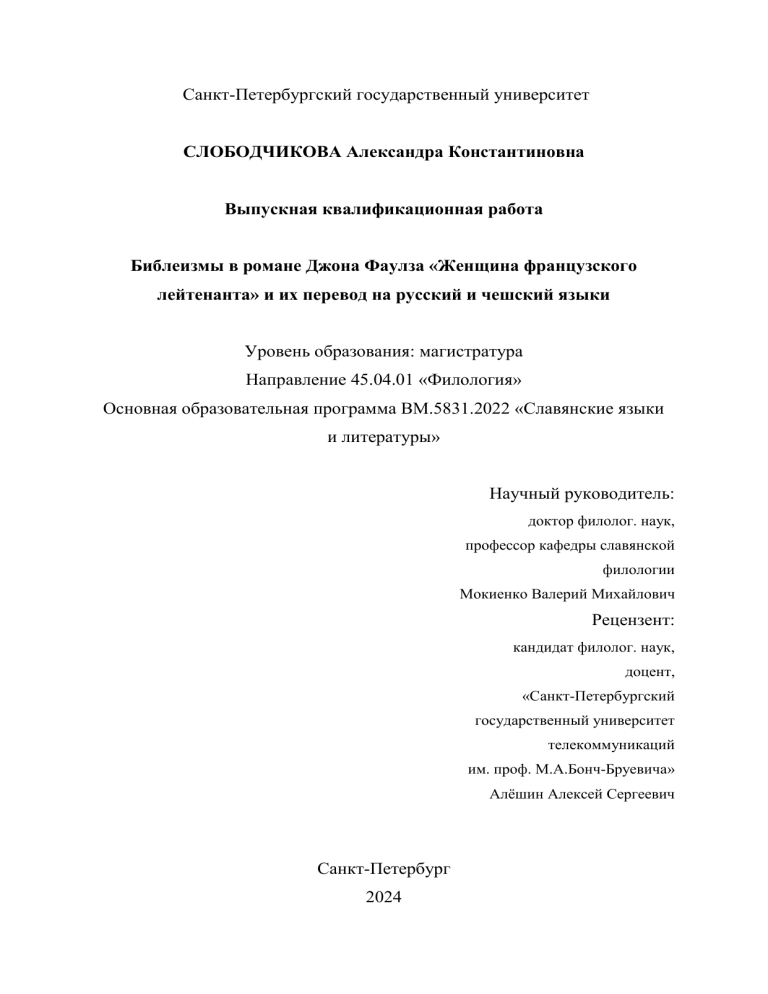
Санкт-Петербургский государственный университет
СЛОБОДЧИКОВА Александра Константиновна
Выпускная квалификационная работа
Библеизмы в романе Джона Фаулза «Женщина французского
лейтенанта» и их перевод на русский и чешский языки
Уровень образования: магистратура
Направление 45.04.01 «Филология»
Основная образовательная программа ВМ.5831.2022 «Славянские языки
и литературы»
Научный руководитель:
доктор филолог. наук,
профессор кафедры славянской
филологии
Мокиенко Валерий Михайлович
Рецензент:
кандидат филолог. наук,
доцент,
«Санкт-Петербургский
государственный университет
телекоммуникаций
им. проф. М.А.Бонч-Бруевича»
Алёшин Алексей Сергеевич
Санкт-Петербург
2024
Оглавление:
Введение
Глава 1. Типология библеизмов в художественном тексте
1. 1. Определение понятия библеизм
1. 2. Типология библеизмов
1.3. Религиозная лексика
1. 4. Библеизм как единица перевода
Выводы по первой главе
Глава
2.
Функционирование
библеизмов
как
интертекстуальных
элементов в художественном тексте
2. 1. Библеизмы в аспекте теории интертекстуальности
2. 1. 1. Интертекстуальность: к определению понятия
2. 1. 2. Библеизмы как интертекстуальные элементы
2. 2. Функционирование библеизмов в художественном тексте
2. 2. 1. Функции библеизмов в структуре художественного текста
2. 2. 2. Библеизмы в художественном тексте в аспекте перевода
Выводы по второй главе
Глава 3. Способы перевода библеизмов (на материале перевода романа
Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта» на чешский и
русский язык)
3. 1. Библеизмы в романе «Женщина французского лейтенанта».
3. 2. Способы перевода библеизмов-слов
3. 3. Способы перевода библеизмов-фразеологических единиц
3. 4. Способы перевода библеизмов-цитат
Выводы по третьей главе
Заключение
Приложение
Список использованной литературы
Введение
В современном мире, где глобализация становится все более значимым
явлением, перевод является неотъемлемой частью коммуникации между
различными языковыми и
культурными сообществами. Переводчики
сталкиваются с различными вызовами в процессе перевода, такими как
передача культурно-специфических терминов, идиом, а также библеизмов религиозных или культурных образов, связанных с Библией.
Каждая культура имеет свои уникальные концепции и понятия, которые
могут быть трудными для понимания в других культурных контекстах.
Переводчики должны не только перевести слова, но и передать значения и
нюансы, которые могут быть связаны с этими терминами.
Идиомы
также представляют собой
серьезное препятствие для
переводчиков. Идиомы - это выражения, значения которых не могут быть
поняты путем простого перевода слова за словом. Они часто имеют
культурные или исторические корни и могут быть непонятными для людей
из других культур. Переводчики должны искать эквивалентные идиомы в
целевом языке или прибегать к перефразированию, чтобы передать смысл.
Данная
магистерская
диссертация
посвящена
исследованию
особенностей перевода библеизмов с английского на русский и чешский
языки
на
материале
романа
Дж.
Фаулза
«Женщина
французского
лейтенанта». Данный роман, написанный в 1969 году на английском языке,
содержит множество библеизмов и отсылок к библейским текстам, и его
сюжет во многом строится на теме христианства, греха и покаяния, что
делает его особо интересным для переводчика.
Например:
Furthermore it chanced, while she was ill, that Mrs. Fairley, who read to
her from the Bible in the evenings, picked on the parable of the
widow’s mite. (Но что еще хуже, во время ее болезни миссис
Фэрли, которая по вечерам читала ей Библию, выбрала притчу о
лепте вдовицы.) - данная притча отсылает читателя к Евангелию
от Луки, глава 21:1-4.
The vicar felt snubbed; and wondered what would have happened had
the Good Samaritan come upon Mrs. Poulteney instead of the poor
traveler. (Священника обидел ее высокомерный тон, и он задался
вопросом, что было бы, если б доброму самарянину вместо
несчастного путника повстречалась миссис Поултни.) - данный
отрывок отсылает читателя к Притче о добром самарянине, к
Евангелию от Луки, глава 10:25-37.
It remains to be explained why Ware Commons had appeared to evoke
Sodom and Gomorrah in Mrs. Poulteney’s face a fortnight before.
(Остается объяснить, почему за две недели до описанных событий
при упоминании о Вэрской пустоши на лице миссис Поултни
выразился такой ужас, словно она увидела перед собою Содом и
Гоморру.) - данный отрывок отсылает читателя к истории о двух
известных библейских городах, которые, согласно Библии, были
уничтожены Богом за грехи их жителей, в частности, за
распутство.
Джон Роберт Фаулз — известный английский писатель, эссеист и поэт.
Один из выдающихся представителей постмодернизма в литературе. Автор
7-ми романов, 5-ти повестей, книг стихов, биографической прозы, эссе,
новелл, рассказов и статей. Также Джон Фаулз публиковал свои дневники.
Большинство его произведений
получило мировое признание, было
переведено на многие языки, а некоторые из них были экранизированы.
«Женщина французского лейтенанта» один из его главных и самых
известных романов.
События романа разворачиваются во второй половине XIX века в
уютном приморском городке Лайм-Реджис. Главный персонаж, Чарльз
Смитсон, наследник скромного аристократического рода, обручен с
девушкой из неблагородной, но состоятельной семьи коммерсанта по имени
Эрнестина
Фримэн.
Однажды,
прогуливаясь
по
набережной,
герои
натыкаются на Сару Вудрафф, известную как «женщина французского
лейтенанта». По слухам, у нее был роман с французским офицером, который
обещал жениться, но уехал и не вернулся. Сара стала изгоем, а ее приняла к
себе богатая, но лицемерная миссис Поултни. В свободное время Сара
приходит на мол и смотрит на море. Читателям предстоит следить за
сложным любовным треугольником, где Чарльз стоит перед выбором между
привлекательной, послушной и богатой Эрнестиной и зрелой, непокорной,
несчастной Сарой, репутация которой покрыта позором прошлых событий.
Этот смелый постмодернистский роман был выбран мной для написания
магистерской диссертации из-за множества библейских мотивов и отсылок, а
также за увлекательный сюжет.
Цель данной магистерской диссертации - проанализировать перевод
библеизмов в романе «Женщина французского лейтенанта» с английского на
чешский и русский языки. В работе будут рассмотрены различные подходы к
переводу библеизмов, а также проанализированы конкретные примеры
перевода библеизмов из романа Дж. Фаулза. Результаты исследования
помогут понять, каким образом библеизмы могут быть переданы в процессе
перевода, и как это может влиять на восприятие и понимание текста в
культурно-различных контекстах.
В рамках данной магистерской диссертации будут рассмотрены
различные теоретические подходы к переводу библеизмов, включая такие
аспекты,
как
соответствие
культурных
контекстов,
лексических
и
стилистических особенностей языков и т.д. Также будут проанализированы
конкретные
примеры
перевода
библеизмов
из
романа
«Женщина
французского лейтенанта» на чешский и русский языки.
Особое внимание в работе будет уделено анализу тех библеизмов,
которые являются основными мотивами и символами - семантическими
доминантами в романе. Кроме того, будут проанализированы различные
способы передачи библейских образов и смыслов в переводе на чешский и
русский языки, в том числе использование близких к библейскому тексту
фразеологизмов, а также связывание библейских образов с местными
культурными реалиями.
Основная задача работы заключается в том, чтобы выявить особенности
перевода библеизмов с английского на чешский и русский языки.
Результаты
данного
исследования
могут
быть
полезны
для
переводчиков, занимающихся переводом текстов, содержащих библеизмы, а
также для всех, кто интересуется проблемами перевода и межкультурной
коммуникации.
Для достижения цели исследования будут использоваться методы
сравнительного анализа, контекстуального и структурного анализа текста, а
также методы квалиметрической оценки и экспертных оценок.
В качестве теоретической базы работы будут использованы работы
известных переводчиков и лингвистов, посвященные проблемам перевода
библеизмов, а также исследования, посвященные роману «Женщина
французского лейтенанта» Дж. Фаулза.
Выводы данного исследования помогут улучшить качество перевода
библеизмов в культурно-различных контекстах и повысить эффективность
межкультурной коммуникации.
Научная новизна исследования продиктована возможным появлением
новых значений тех или иных слов, которые автор использовал для передачи
определенного смысла, анализ содержания произведений способствует
выявлению иных трактовок.
Теоретическая значимость исследования связана с тем, что в нем
представлен
ряд
наблюдений
и
выводов,
связанных
с
проблемой
соотношения языка и мышления, экспликации языковой картины мира,
различиями в лингвокультурах.
Практическая ценность исследования состоит в том, что результаты
работы могут использоваться в качестве иллюстративного материала на
семинарах по лексикологии, теории и практике перевода,
практическом
курсе чешского языка, а также для коррекции переводческих неудач и
улучшения качества перевода.
Глава 1. Типология библеизмов в художественном тексте
1. 1. Определение понятия библеизм
Одним из важных направлений в современной лингвистической науке
является исследование библейских выражений, которые составляют часть
общемирового фразеологического фонда и широко распространены в
различных европейских языках.
Это подтверждается множеством исследований как отечественных, так и
зарубежных ученых. Священное Писание стало ключевым источником
идиоматического материала для многих языков по всему миру. Переводы
Библии, которые создавались на протяжении многих столетий, и широкое
цитирование ее в европейской литературе содействовали интеграции
библейских выражений в речь.
Большое количество библейских идиом возникло на основе сюжетов,
цитат и выражений из Библии. Они получили широкое распространение в
европейских языках, особенно в странах, где христианство является
доминирующей религией. Библейские выражения можно встретить в устной
речи, на страницах газет и в художественных произведениях.
Это важное направление исследований открывает перед лингвистами
богатое поле для изучения влияния Библии на формирование фразеологии в
различных языках. Библейские выражения, ставшие частью повседневного
общения, проникают в языковую ткань, придавая ей глубину и культурные
оттенки.
Процесс перевода Библии, продолжавшийся в течение столетий, не
только сохранял текст, но и внедрял его в языковой контекст различных
культур.
Это
способствовало
формированию
общеевропейского
лингвистического наследия, где библейские образы и выражения стали
неотъемлемой частью лексического запаса.
Библейская идиоматика в языках Европы не только передает смысловую
нагрузку, но и отражает культурные особенности обществ, где эти
выражения используются. Она служит не только средством коммуникации,
но и своего рода мостом между различными эпохами и культурами,
объединяя их общими символами и метафорами.
Таким образом, исследование библейских выражений в языках мира не
только раскрывает лингвистические аспекты, но и позволяет более глубоко
понять влияние религиозных и культурных традиций на формирование
языковой картины мира.
Язык
Библии
оказывает
огромное
влияние
на
формирование
литературных языков многих народов, издревле знакомых с христианской
культурой. Переводы Священного Писания на национальные языки стали
основой книжных языков Европы, в том числе славянских [Мокиенко, 2013].
Исследованиями библеизмов в русской лингвистике занимались многие
ученые. Например, Е.И. Боллигер, Н.П. Жуковская, В.М. Мокиенко, Е.С.
Семенова и многие. другие.
Исследователи, занимающиеся исследованием библеизмов в зарубежной
лингвистике и литературе: Роберт Альтер, Нортроп Фрай, Гарольд Блум,
Филлис Трибл и другие.
По словам Ю.А. Гвоздарева, библеизм - закрепившееся в русском языке
выражение, состоящее из нескольких слов, регулярно воспроизводимое,
детерминированное семантически и лексически
библейским текстом»
[Гвоздарев 1994: с.26].
«Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой определяет этот
термин следующим образом: «Библеизм - англ. biblical expression. Библейское
слово или выражение, вошедшее в общий язык» [Ахманова 1966: с.5].
Е.
М.
Верещагин
представляет
более
конкретное
определение
библеизмов: «Библеизмы - это отдельные слова, устойчивые словосочетания,
целые выражения и даже фразы, восходящие по своему происхождению к
Библии,
которые
или
заимствованы
из
семантическому воздействию библейских
Библии,
или
подверглись
текстов, в том числе не
ассоциируемые с ней в современном языковом сознании» [Верещагин 1993:
с.97].
Однако точку зрения Е.М. Верещагина оспаривает Е.В. Сергеева, говоря
о том, что «лексическая единица, восходящая к церковнославянскому языку,
отнюдь не всегда ассоциируется у носителя современного русского языка с
Библией, ее сюжетами и персонажами, и, напротив, содержательно
соотносимые с Писанием номинации и микротексты не всегда связываются у
языковой личности со старославянским языком» [Сергеева 2010: с.54].
Исходя из представленных определений и точек зрения различных
авторов, библеизм может быть определен как устойчивое выражение или
лексическая единица в языке, происходящая из библейских текстов и
регулярно воспроизводимая в речи. Эти выражения могут включать
отдельные слова, устойчивые словосочетания или целые фразы, которые
заимствованы из Библии или подверглись семантическому воздействию
библейских текстов. Такие выражения могут быть частью общего языка и не
всегда ассоциируются носителями современного языка с Библией, что может
вызывать разногласия в интерпретации между лингвистами.
Дискуссии среди лингвистов относительно ассоциативности библейских
выражений с их источником подчеркивают важность контекста и различных
языковых личностей в интерпретации этих лексических элементов. Таким
образом, библеизм представляет собой интересное поле изучения, где
взаимодействие языковых, культурных и временных аспектов оказывает
влияние на восприятие и употребление этих выражений в языке.
1. 2. Типология библеизмов
К.Н.
Дубровина
фразеологические
выделяет
единицы,
«добиблейские
которые
в
тексте
фразеологизмы»
священного
-
писания
употребляются как метафорические образные обороты и «постбиблейские
фразеологизмы», среди которых можно выделить:
1. Фразеологические
единицы,
образованные
в
результате
метафоризации библейских свободных словосочетаний;
2. Фразеологические единицы, отсутствующие в тексте священного
писания, и появившиеся в языке не основе библейских сюжетов.
К.Н. Дубровина также представляет грамматическую классификацию
библеизмов, разделяя их на предикативные и непредикативные [Дубровина
2001: с.92].
В.Г. Гак также разработал развернутую классификацию библеизмов,
называя их библейскими фразеологизмами. Он работал непосредственно с
содержанием самой Библии и выделил такие библеизмы как:
1. Контекстуальные (цитатные, то есть прямые цитаты из библии) и
ситуативные (высказывания, которых нет в Писании, но которые
так или иначе отсылают к нему).
2. Наличие/отсутствие библейского фразеологизма в языке. Этот
пункт классификации связан с тем, что не всегда представляется
возможность найти эквивалент библейской цитате из одного языка
в другом.
Конечно, библеизмы существуют практически во всех языках, но это не
всегда одна и та же фразеологическая единица [Гак 1997: с.55].
В своих исследованиях В.Г. Гак подчеркнул, что библеизмы являются
универсальным языковым явлением, присутствующим практически во всех
языках мира. Тем не менее, даже если одна и та же библейская цитата
используется в разных языках, это не всегда приводит к абсолютному
совпадению фразеологических единиц. Различия в трактовке, тоне и
контексте могут придавать библейским фразеологизмам различный оттенок и
смысл в зависимости от культурных и лингвистических особенностей
языковых сообществ.
Н.В. Климович предложила следующую типологию библеизмов в
художественном тексте:
1. Библеизмы-слова (БС).
библеизмы-имена
собственные,
представленные
мужскими
и
женскими именами;
библеизмы-топонимы, представленные ойконимами, гидронимами,
оронимами;
библеизмы-религиозные реалии-слова, используемые в практике
отправления религиозных обрядов и наименовании предметов
церковного обихода, а также наименованиями божественных
существ (теонимы);
2. Библеизмы-фразеологические единицы (БФЕ).
Фразеологические
единицы
как
заимствованные
из
текста
Священного Писания, так и возникшие на основе библейских
сказаний и сюжетов;
3. Библеизмы-междометия (БМ).
Вокативные междометия, в состав которых входят библеизмыслова, представленные библеизмами-именами собственными и
наименованиями божественных существ;
4. Библеизмы- цитаты (БЦ).
прямая (немодифицированная) цитата из текста Священного
писания, как полная, так и сокращенная;
модифицированная цитата (цитата, намеренно измененная автором)
[Климович 2011: с.8].
При определении критериев выделения идентификации библеизмов Н.В.
Климович также выделяет группу слов религиозного происхождения, или
религиозной лексики. «Под религиозной лексикой понимаются слова, не
представленные в тексте Священного Писания, но используемые для
наименования предметов церковного обихода и при отправлении церковных
обрядов. Данная группа слов, не являясь библеизмами, рассматривается
более широко и имеет отношение не только к христианству, но и к другим
мировым религиям» [Климович 2011: с.8]
Поскольку Библия известна абсолютному большинству представителей
многих национальных культур, то текст Библии определяется как
прецедентный текст и рассматривается как один из главных источников
интертекстуальных элементов - библеизмов [Климович 2011: с.9].
Интертекстуальность – термин, введенный в 1967 теоретиком
постструктурализма Юлией Кристевой для обозначения общего свойства
текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым
тексты (или их части) могут многими разнообразными способами явно или
неявно ссылаться друг на друга.
В
зависимости
от
типа
библеизма
основными
способами
его
употребления в художественном тексте являются:
1. Референциальный:
маркерами
интертекстуальных
элементов
служат явные или скрытые аллюзии и реминисценции:
«He finally ceased his Jeremiads'» (J.Galsworthy, «The Forsyte Saga»).
2. Экспрессивно-номинативный: маркерами являются:
●
метафорические имена собственные (библеизмы-антропонимы
и теонимы):
«A jester night say this is just like Paradise. You are Eve, and I am
the Other One come to tempt you in the disguise of an interior
animal» (T. Hardy, «Tess of the D'Urbervilles».
●
заголовки,
в которых
могут
употребляться библеизмы-
фразеологические единицы, библеизмы-слова и библеизмы
цитаты. Заголовки – классификатор иного порядка: в отличие
от собственных имен, нарицательной лексики, междометий,
они – один из параметров текста; ИС и нарицательная лексика
могут
быть
частями
заголовка.
Например,
библеизмы-
религиозные реалии в названии романа Фрэнка Перетти
«Пророк» (Prophet) и в названии главы произведения Джорджа
Элиота «Адам Бид» - The Preaching, библеизм-сокращенная
цитата в названии произведения Д. Стейнбека «Гроздья гнева»
- (J. Steinbeck, «The Grapes of Wrath»).
●
библеизмы- междометия:
«Good God - how you can ask what is unnecessary!» ( T. Hardy,
«Tess of the D'Urbervilles».
«Jesus, where`s that Apperson come from, the Ark?» (J. Steinbeck,
«The Grapes of Wrath»).
3. Цитатный: маркерами являются библеизмы-цитаты, как прямые,
так и модифицированные:
«Take hold of shield and buckler and stand up for mine help»
(T.Dreiser, «An American Tragedy») [Климович 2011: с.9].
При анализе функционирования библеизмов как интертекстуальных
элементов в художественном тексте были выявлены следующие функции
библеизмов:
1. Стилистическая функция.
В художественном тексте различные типы библеизмов выполняют
стилистическую функцию. Так, библеизмы-слова, библеизмыфразеологические
единицы
и
библеизмы-модифицированные
цитаты выступают в художественном тексте в качестве аллюзий.
«The thunder crashed outside. It was like being in the little ark in the
Flood» (D.H.Lawrence, «The Portrait of a Lady»).
«Your desire shall be to your mate» (T.Dreiser, «An American
Tragedy»).
Прямые цитаты (полные и сокращенные) из текста Священного
Писания,
употребленные
в
архаичной
форме,
выступают
средством создания высокого стиля, а основной функцией
библеизмов- междометий является выражение экспрессии и
эмоций.
«Against Thee, Thee only I have sinned, and done this evil in Thy
sight, that Thou mightiest be justified when Thou speakest and be clear
when Thou judgest» (T.Dreiser, «An American Tragedy»).
«Thy
damnation
slumbereth
not»
(T.Hardy,
«Tess
of
the
D'Urbervilles».
«Dear Jesus, I hope it's awright,» she said» (J.Stainbeck, «The Grapes
of Wrath»)
«Oh Moses!» Elmon Ludlow exclaimed. «I hope she isn't going to
develop anymore!» (H.James, «The Portrait of a Lady»).
Библеизмы в структуре художественного текста чаще всего
выступают в роли эмоционально-риторических структур, которые
делают
текст
более
ярким,
эмоциональным,
насыщенным.
Функционирование библеизмов различных типов в прямой речи, в
разговорно-народных
формах
эмоционально
окрашено,
использование данных интертекстуальных элементов не только
называет описываемое событие, но и передает состояние его
очевидцев. Такое изложение преследует цель эмоционального
воздействия.
2. Композиционная функция. Библеизмы, являясь элементом любого
уровня
художественного
текста,
выступают
средством
организации
композиции
художественного
произведения.
Исследование показало, что библеизмы как интертекстуальные
элементы в художественном тексте могут быть представлены:
●
в названиях произведений; («Aaron's Rod», «Leviathan», «The
Grapes of Wrath»).
●
в названиях глав; («The Valley of Humiliation», «The Great
Temptation»).
●
в эпиграфах ко многим художественным произведениям, в
которых представлены прямые библеизмы- цитирования;
●
внутри текста художественного произведения могут быть
представлены любые типы библеизмов.
3. Прагматическая функция библеизмов, которая актуализирует:
●
субъект
речи
произведения
через
установку
посредством
автора
художественного
прагматического
значения
библеизма как интертекстуального элемента.
●
адресата речи - читателя художественного произведения
посредством воздействия высказывания, в котором употреблен
библеизм.
Выполняя
стилистическую,
композиционную
и
прагматическую
функции, библеизмы в художественных текстах являются неотъемлемыми
элементами, которые не только проявляют эстетическую информацию
произведения, но также придают ему актуальный художественный смысл.
В художественных текстах различных культур функционирование
библеизмов обнаруживает определенные особенности. Например, при
использовании в паре английского и русского языков выявляются
лексические различия, касающиеся значения библеизмов, их внешней и
внутренней формы, а также соотношения формы и содержания. Также стоит
отметить наличие стилистической маркированности, которая возникает при
выделении слова из общего стиля определенного текста. В русском и многих
других языках слова мужского рода могут обозначать как мужчин, так и
женщин, для особого выделения женщин же будет использовано другое
слово: например, студент (не маркировано) и студентка (маркировано).
Эти нюансы следует учитывать при переводе библеизмов как
интертекстуальных элементов из английского языка на русский, чтобы
сохранить и передать всю глубину художественного значения. Также стоит
отметить, что эти различия являются отражением культурных особенностей
и контекстов, что подчеркивает важность тщательного анализа при переводе
и передаче богатства смысла библеизмов в новом языковом контексте.
1.3. Религиозная лексика
Лексический
вклад
религиозной
лексики
оказал
значительное
воздействие на развитие лингвистики и культурологии. Этот обширный слой
лексических единиц обогащает языковую систему, внесенными в нее
сакральными и духовными смыслами. В свою очередь, религиозная лексика,
исходя из исторических и культурных аспектов, отражает духовные ценности
и убеждения общества, что делает ее ключевым инструментом для изучения
влияния религии на язык и общество.
В современной лингвистике возникают трудности в определении
термина религиозная лексика из-за нечеткой грани между ним и понятиями
церковная лексика и библейская лексика. Согласно С.В. Булавиной,
религиозная лексика включает в себя термины, обозначающие «основные
христианские понятия, большая часть из которых представлена в Библии основном
источнике
христианского
вероучения».
Отмечается,
что
религиозная лексика не связана с материальной стороной церковной жизни,
что выделяет ее от церковной лексики [Булавина 2003: с.9].
Эта разграничительная черта отличает религиозную лексику от термина
церковная лексика. Важно отметить, что хотя некоторые термины могут
встречаться как в религиозной, так и в церковной лексике, основное различие
заключается в фокусе на основных христианских понятиях, проистекающих
из Библии, в случае религиозной лексики.
Библейская лексика, с другой стороны, охватывает термины и
выражения, прямо связанные с текстами Библии. Это может включать в себя
архаичные или устаревшие слова, специфические для библейских текстов, а
также термины, которые приобрели особое значение в религиозном
контексте. Однако, несмотря на пересечения с религиозной лексикой,
библейская лексика более узко ориентирована на язык и выражения,
использованные в Священных Писаниях.
Таким образом, хотя термины религиозная лексика, церковная лексика и
библейская лексика могут быть взаимосвязанными, каждый из них
представляет собой уникальный аспект языкового явления, дополняя друг
друга и вместе образуя богатое лингвистическое поле, исследование
которого требует внимания к контексту, семантике и социокультурным
особенностям.
Тем не менее, этого подхода трудно придерживаться, так как, согласно
замечаниям А.М. Четыриной, всё, что связано с церковью, рассматривается в
контексте религии. Она подчеркивает, что церковная лексика представляет
собой лишь один из элементов религиозной лексики, являющейся более
обширным семантическим образованием [Четырина 2010: с.107].
Более того, ошибочно относить к религиозной лексике только
«основные христианские понятия», поскольку христианство - это одна из
мировых религий (наряду с мусульманством, буддизмом). Следовательно,
христианская религиозная лексика является лишь частью всей религиозной
лексики.
Это подтверждается и классификацией К.А. Тимофеева, согласно
которой выделяются три группы религиозной лексики: общая религиозная
лексика
(слова,
обозначающие
понятия,
свойственные
всем
монотеистическим религиям: Бог, душа, праведность, молитва и т.д.);
общехристианская лексика (слова, обозначающие понятия, свойственные
всем христианским конфессиям: Святая Троица, Святой Дух, Спаситель,
апостол, Евангелие, Церковь, исповедь и т.д.); частная христианская лексика
(слова, обозначающие понятия, свойственные отдельным христианским
конфессиям: батюшка, пастор, ксендз, кюре, аббат, кардинал, обедня, утреня,
всенощная, месса, лития, литания и т.д.) [Тимофеев 2001: с.5].
При дифференциации понятий религиозная лексика и церковная лексика
необходимо ориентироваться на семантическое содержание терминов
религия и церковь, а также на их парадигматические взаимосвязи.
В лексических определениях религии в русских словарях уточняется ее
двойное толкование. В более широком контексте религия рассматривается
как «одна из форм общественного сознания», представляющая собой
«совокупность
духовных
убеждений,
основанных
на
вере
в
сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые являются
объектом поклонения». В узком смысле религия определена как «одно из
направлений такого общественного сознания» [Ожегов, Шведова 1996:
с.675].
В словаре Ожегова-Шведовой церковь определяется как «объединение
последователей той или иной религии, организация, ведающая религиозной
жизнью и соответствующим культом; религиозная община» [Ожегов,
Шведова 1996: с.875].
В словаре Ушакова церковь описывается как христианская организация,
объединяющая представителей различных религий на основе общности
вероучения и культа, а также как руководство такой организации. Сравнение
определений религии и церкви позволяет утверждать, что термин религиозная
лексика охватывает более широкий семантический диапазон, включая
лексемы, относящиеся к понятиям всех религий мира (как современных, так
и древних, традиционных и нетрадиционных). В то время как церковная
лексика объединяет лексемы, связанные с определенным религиозным
направлением (согласно словарю Ожегова и Шведовой) или одним из
христианских направлений. Таким образом, церковная лексика является
составной частью религиозной лексики.
При разграничении терминов религиозная лексика и церковнославянская
лексика необходимо ориентироваться на функции церковнославянского
языка в целом. На современном этапе церковнославянский язык выступает
как язык Православной русской Церкви, средство воцерковления и введения
в храм православных христиан. Генетически церковнославянский язык
представляет собой последний этап становления старославянского языка,
который был использован святыми Кириллом и Мефодием для перевода
Священного Писания и богослужебных текстов в IX веке. На Руси
церковнославянский язык стал основой книжно-славянского литературного
языка, сосуществуя с народно-литературным. Таким образом, функции
церковнославянской лексики выходят за рамки обслуживания религиозной
сферы.
В контексте сравнения религиозной лексики и церковной лексики можно
дополнительно рассмотреть, как эти термины отражают разнообразие
языковых явлений, связанных с религиозной традицией. Религиозная лексика
действительно представляет собой более обширное понятие, включающее в
себя термины и выражения, присущие множеству различных верований и
культурных контекстов.
Понятие церковная лексика фокусируется на терминах, относящихся к
конкретной церковной организации или определенному «христианскому
направлению». Эта лексика отражает уникальные аспекты вероучения и
обрядности,
присущие
определенной
церковной
традиции.
Такое
ограничение области применения церковной лексики делает ее менее
всесторонней по сравнению с религиозной лексикой, которая охватывает
богатство
языковых
форм и
выражений, связанных
с различными
вероисповеданиями.
Если рассматривать церковнославянскую лексику, то мы видим, что она
выходит за пределы узкого контекста религиозных обрядов и таинств. Она
является важным элементом культурного наследия, и ее использование
простирается на уровень языковой нормы, литературного творчества и
вообще общественной коммуникации. Таким образом, церковнославянская
лексика, помимо религиозной функции, также играет роль в формировании
языкового богатства и литературной традиции.
Сравнение этих терминов и их контекстуализация в различных
лингвистических и культурных рамках подчеркивают глубокую взаимосвязь
между языком и религиозной культурой, а также динамику, в которой эти
термины могут изменять свою семантику и восприниматься в современном
обществе.
Одна
из
наиболее
распространенных
систем
классификации
религиозной лексики принадлежит К.А. Тимофееву, и ее обсуждение было
представлено выше. В учебном пособии под названием «Религиозная лексика
русского языка как выражение христианского мировоззрения» проводится
анализ семантики и этимологии религиозных слов, а также освещается
специфика их функционирования и взаимозависимость. Однако в данном
учебнике не проводится четкого разграничения религиозной лексики по
группам.
Тем более, что автор ограничивается анализом общехристианской
лексики,
не
уделяя
внимания
специфической
лексике
отдельных
христианских направлений, и не выходит за рамки общерелигиозного уровня.
Другая интересная классификация представлена Г.Н. Скляревской в
«Словаре
православной
церковной
культуры».
Автор
приводит
тематическую классификацию православной церковной лексики, которая с
некоторыми изменениями может быть спроецирована на религиозную
лексику в целом. При этом в классификации можно учесть и отнесенность
лексики к общерелигиозной и частнорелигиозной [Скляревская 2007: с.8].
Исходя из точки зрения И.В. Бугаевой, при проведении классификации
религиозной лексики важно выделить две основные категории: религиозные
термины, лишенные общепринятых эквивалентов (к примеру, такие слова,
как «ряса», «аналой», «зачало», «благочиние» и др.), и региолектизмы,
которые, напротив, имеют в русском языке устойчивые общелитературные
синонимы (например, слова «трапезная», «новолетие», «труждаться»,
которые имеют аналоги «столовая», «Новый год», «трудиться») [Бугаева
2010: с.29-30].
В труде Е.В. Бобыревой рассматриваются термины, принадлежащие
религиозной сфере, которые впоследствии стали частью общей лексики
(примерами являются слова рай, ад, храм). Группа региолектизмов в русском
языке не исчерпана, и поддается дополнению, также как и группа слов,
перешедших из категории религиозных терминов в разряд широко
употребляемых. В связи с этим возникает потребность в исследовании
механизмов изменения значения данных слов, их синтагматических и
парадигматических связей [Бобырева 2007: с.13].
Н.Б. Мечковская классифицирует религиозную лексику в соответствии с
классификацией религиозных представлений человека. Она выделяет 5 групп
религиозной лексики:
1. лексика, характеризующая представления о Боге (Абсолюте или
сонме богов), его истории и/или теории (учении) о боге;
2. лексика, характеризующая представления о воле Бога, о его Завете
или требованиях по отношению к людям;
3. лексика, характеризующая представления о человеке, обществе,
мире, зависящие от представлений о Боге;
4. лексика, характеризующая религиозно-этические и религиозноправовые представления и нормы;
5. лексика, характеризующая представления о должном порядке
культа, церковной организации, взаимоотношениях клира и мира и
т.п., а также представления об истории развития и решения этих
проблем [Мечковская 1998: с.33].
В современной лингвистике наблюдается разнообразие точек зрения на
определение сущности понятия религиозная лексика, что, в свою очередь,
подчеркивает актуальность и важность данного понятия для современных
лингвистических исследований.
В свете разнообразных подходов к определению религиозной лексики в
современной
лингвистике,
становится
ясным,
что
данное
понятие
представляет собой нечто большее, чем набор слов, связанных с
религиозными понятиями. Оно отражает глубокие взаимосвязи между
языком и религиозной сферой, а также динамику, с которой лексические
единицы проникают в языковую систему и обогащают ее.
Актуальность религиозной лексики в лингвистических исследованиях
проявляется в том, что она является неотъемлемой частью культурного кода
и наследия. Рассмотрение этого явления позволяет нам не только понять
механизмы передачи религиозных концепций через язык, но также
проследить влияние религии на формирование лексического состава языка в
различных исторических периодах.
Более того, разнообразие толкований религиозной лексики подчеркивает
ее
универсальность
вероисповедания,
но
и
изменчивость.
и
индикатор
Это
не
только
отражение
социокультурных
изменений,
протекающих в обществе. Активное внедрение религиозных терминов в
повседневную лексику свидетельствует о том, что религиозные концепции и
ценности продолжают оказывать влияние на менталитет и языковое
выражение людей.
Таким образом, изучение религиозной лексики является важным
аспектом
для
понимания
языковой
динамики,
социокультурных
трансформаций и глубинных связей между религией и языком в контексте
современного общества.
1. 4. Библеизм как единица перевода
Библия - священное писание ведущих мировых религий: иудаизма и
христианства, представляет собой уникальный текст с богатой историей,
охватывающей тысячелетия. История Библии берет свое начало с античности
и простирается вплоть до наших дней, оставляя непередаваемый отпечаток
на культуре, искусстве и мировоззрении.
Ветхий Завет, часть Библии, относящаяся к иудаизму, представляет
собой собрание древних писаний и законов, включая Тору, Псалмы и
Пророков. Эти тексты считаются священными для евреев и представляют
собой основу их религиозных учений и культуры. В Ветхом Завете
отражается история древних еврейских народов, их взаимоотношения с
Богом, история создания мира, законы и обетования.
Новый Завет, включающийся в священные тексты христианства,
фокусируется на жизни и учении Иисуса Христа, его посланиях и деяниях
апостолов. В Новом Завете также описаны события ранней церкви и
эпистолярные послания, адресованные первым христианским общинам. Эти
тексты служат духовным руководством для миллионов верующих по всему
миру.
Состоящая из 66 книг, Библия объединяет различные литературные
жанры - от истории и пророчеств до поэзии и мудрости. Ее тексты были
написаны разными авторами на разных языках, начиная с древних иврита и
арамейского и заканчивая греческим. Тем не менее, сотканная из этих
текстов книга формирует единое Священное Писание.
История перевода Библии также является важной частью ее наследия.
Сотни переводов на разные языки позволили Библии стать доступной
миллиардам людей во всем мире. Каждый перевод несет в себе особенности
культуры и времени, отражая богатство трактовок и интерпретаций
священного текста. Библейские переводы в различное время имели
различное значение и удовлетворяли различным потребностям.
Древние переводы Библии, порожденные церковно-практическими
нуждами и, следовательно, приобретшие характер церковно-официального
перевода, стали неотъемлемой частью религиозной и культурной истории. С
распространением иудаизма за пределы Палестины появилась необходимость
в переводе Ветхого Завета, а проповедь христианства среди народов, не
разделяющих языка оригинала Священного Писания, привела к созданию
переводов всей Библии.
Эти древние переводы представляют собой важный источник для
критики текста и библейской экзегезы, так как они относятся к периоду, для
которого нет рукописей оригинальных текстов. Они также имеют большое
значение для изучения истории богословских школ и доктрин, поскольку они
отражают понимание текста и его толкование древними переводчиками. Эти
переводы можно разделить на прямые, выполненные непосредственно с
оригинала, и косвенные, основанные на более ранних переводах.
Библейские выражения все еще широко используются в нашем
обществе, несмотря на то, что обстоятельства, которые привели к их
появлению,
давно
изменились.
Актуальность
нашего
исследования
обусловлена как сохранением библеизмов в современном языке, так и
важностью изучения их как части культурного наследия.
Понимание значений и сакральных смыслов библеизмов играет важную
роль, поскольку они оказывают влияние на наше моральное поведение.
Кроме того, в современном мире особенно актуально осознание важности
точного перевода библеизмов для верной передачи смысла первоисточника
во вторичном тексте без искажения их сакральной значимости.
На воспроизведение и перевод библеизмов влияют:
1. степень известности, обусловленная известностью/ небольшой
известностью
соответствующих
мифологий
и
религий,
их
сюжетов, легенд, образов;
2. совпадение/несовпадение сюжетов и образов в религиозных
культурах исходного и переводного языков, а, следовательно, и
различный
ассоциативный
фон
аллюзивных
библеизмов
в
исходных и переводных текстах;
3. их актуализация на различных контекстных уровнях, в частности,
на уровне микроконтекста;
4. трансформированность/нетрансформированность
в
исходном
тексте.
Выделяются следующие способы передачи ассоциаций библеизмов:
1. Транскрипция без комментария.
2. Русский орфографический вариант соответствующего имени.
3. Описательный перевод.
4. Перевод гиперонимом.
5. Внутритекстовой комментарий.
6. Подстрочный комментарий.
7. Комментарий в примечаниях к тексту [Кибизова, Бакина 2020:
с.104].
Понимание и перевод библеизмов усложнены тем обстоятельством, что
они редко используются в нейтральной стилистической форме. Библеизмы
часто
придают
контексту
либо
возвышенную
тональность,
либо
ироническую, юмористическую или другую окраску.
Точность передачи стилистической нагрузки в данном контексте важна
для верного перевода и для передачи намерений автора. От того, насколько
правильно понимается стилистическое значение данного выражения в
конкретном контексте, зависит, смог ли переводчик передать русскоязычной
аудитории положительное, отрицательное, ироническое, торжественное или
другое впечатление, которое оно производит на англоязычную аудиторию.
Преодолевая
эти
сложности,
переводчик
сможет
предложить
адекватный перевод. В случае неправильного понимания или неверного
распознавания библеизма результатом будет искаженный или ошибочный
перевод [Клюкина 2003: с.8-9].
Библеизмы - как стилистические элементы - способны вносить
разнообразные оттенки в текст. Они могут поднимать тональность, делая
высказывание более торжественным или, наоборот, добавлять иронии и
юмора. Понимание этих оттенков является ключевым аспектом успешного
перевода, поскольку оно позволяет передать не только буквальный смысл, но
и эмоциональный и стилистический подтекст оригинала.
В контексте перевода библеизмов важно также учитывать, что
некоторые из них могут быть неопределенными или непривычными для
целевой
аудитории,
что
усложняет
задачу
переводчика.
В
случае
неправильного распознавания или отсутствия у аудитории знаний о
библейских терминах и реалиях, перевод может утратить свою точность и
выразительность.
Несмотря на то, что фразеологизмы библейского происхождения имеют
определенный литературный источник, содержащий исходный контекст
употребления и мотивацию идиом, библейские словосочетания теряют с ним
связь, что подтверждается отсутствием соответствующих опущений во
фразеологических словарях [Smolyanskaya, 2019:c. 67].
Переводческие стратегии, применяемые при переводе библейских
выражений в качестве интертекстуальных элементов, не могут быть
абстрактно установлены или стандартизированы, а, напротив, формируются в
каждом конкретном случае в зависимости от переводческой ситуации. Эта
ситуация включает в себя прагматическую цель перевода, тип исходного
текста и характер предполагаемого адресата перевода. В этом контексте
важно подчеркнуть, что переводчик является, прежде всего, исследователем,
применяющим строгий научный метод в своей работе.
Согласно Г.В. Денисовой, требование, которое следует предъявлять к
переводческой деятельности, заключается в том, чтобы переводной текст,
взаимодействуя с другими семиотическими системами, порождал «третье»
интертекстуальное
пространство.
Это
пространство
считается
принципиально новым и непредсказуемым, а также является «генератором
новых смыслов» в рамках культурной общности на другом языке. [Денисова
2003, с.105].
При выборе способа перевода библеизма трудность для переводчика
будет заключаться в его идентификации в художественном тексте и его
соотнесении с определенным типом. Следование данной процедуре
представляется необходимым условием для сохранения библеизма в тексте
переводного произведения.
Перевод библеизма, как и любого интертекстуального элемента, «задача, бесспорно, сложная, так как требует от переводчика изучения
различных слоев «ядерных» текстов принимающей и передающей культур
наиболее энергетически сильных - как межкультурных и вневременных;
текстов, общих для нескольких культур; и национально специфичных
текстов» [Кузьмина 2001, С. 106].
При переводе интертекстуальных элементов, согласно И. С. Алексеевой,
возможны:
1. полная или частичная утрата интертекстуальности;
2. замена
интертекстуального
оригинальном
тексте,
вызывающий
аналогичные
на
элемента,
содержащегося
интертекстуальный
ассоциации
в
тексте
в
элемент,
перевода
[Алексеева 2004: с.13-19].
Однако, поскольку библеизмы представляют собой универсальные
интертекстуальные элементы, они могут выполнять одну и ту же функцию
как в тексте оригинала, так и в тексте перевода, где могут быть переданы как
интертекстуальные элементы.
Таким образом, согласно теории интертекстуальности, переводный текст
оценивается с учетом эстетических критериев, применяемых к литературе на
языке перевода, и в то же время включает знаки и индексы «материнской»
культуры, создавая напряжение между своим исходным и чужим в тексте
перевода.
Библеизм не только должен быть вставлен в определенный контекст в
тексте перевода, но и сохранять связь с текстом Священного Писания при
переводе. Таким образом, библеизм как интертекстуальный элемент должен
сохраняться в тексте перевода. Важным фактором при переводе библеизмов
как интертекстуальных элементов также является сохранение их функции в
тексте перевода.
Библеизм - как элемент интертекста, приносит с собой богатство
культурных ассоциаций и символики. Переводчик должен стремиться
сохранить этот контекст и, при необходимости, адаптировать его так, чтобы
новый текст соответствовал культурным особенностям языка перевода. При
этом важно учесть, что сохранение связи с оригиналом не должно приводить
к потере смысла или функции библеизма в контексте перевода.
Выводы по первой главе
В данной главе мы рассмотрели концепцию библеизма в лингвистике и
его влияние на язык и культуру. Библеизмы - это выражения из Библии,
используемые в различных контекстах, таких как устные разговоры,
печатные
издания
и
художественные
произведения.
Исследования
показывают, что библеизмы играют важную роль в художественных текстах,
добавляя им стилистическую и эмоциональную глубину. Различные типы
библеизмов, такие как слова, имена собственные, фразеологические единицы
и цитаты, имеют свои особенности в использовании. Понимание библеизмов
важно для анализа культурных и языковых аспектов.
Также в данной главе рассматривается религиозная лексика, которая
отражает духовные ценности общества и имеет различия от церковной
лексики. Религиозная лексика включает общие и специфические термины
различных христианских конфессий, и ее анализ требует учета контекста и
социокультурных особенностей. Обсуждается важность религиозной лексики
и библеизмов в языке и культуре. Религиозные термины проникают в
различные сферы общества и литературного творчества, важно их
классифицировать и изучать для понимания языковой динамики и
социокультурных изменений.
Библия, как священное писание, оказывает значительное влияние на
мировоззрение и культуру. Переводы Библии отражают культурные
контексты, а библеизмы продолжают использоваться в современном
обществе, несущие важное культурное наследие и моральные ценности.
Передача библеизмов при переводе включает различные методы и
стратегии, учитывающие стилистические и культурные особенности как
исходного, так и целевого текста. Некоторые из основных способов передачи
ассоциаций библеизмов включают транскрипцию, орфографический вариант,
описательный
перевод,
перевод
гиперонимом,
внутритекстовый
комментарий,
подстрочный
комментарий,
а
также
комментарии
в
примечаниях к тексту. Каждый из этих методов может быть использован в
зависимости от контекста и целей перевода.
Точность передачи стилистической нагрузки библеизмов важна для
верного понимания и интерпретации оригинального текста. Библеизмы, как
стилистические элементы, могут придавать тексту различные оттенки, от
возвышенности до иронии или юмора. Понимание этих оттенков является
ключевым аспектом успешного перевода, так как оно позволяет передать не
только буквальный смысл, но и эмоциональный и стилистический подтекст.
При переводе библеизмов важно учитывать их контекст и целевую
аудиторию. Некоторые библеизмы могут быть неопределенными или
непривычными для целевой аудитории, что усложняет задачу переводчика. В
таких случаях переводчик должен учитывать культурные особенности и
ожидания аудитории, сохраняя при этом связь с оригиналом. Перевод
библеизмов требует от переводчика глубокого понимания как исходного, так
и целевого языков и культур, а также способности адаптировать контекст и
сохранить функцию библеизма в тексте перевода. Это сложная задача,
которая требует от переводчика не только знаний языка, но и культурного
контекста и творческого подхода к решению проблем перевода.
Глава
2.
Функционирование
библеизмов как
интертекстуальных
элементов в художественном тексте
2. 1. Библеизмы в аспекте теории интертекстуальности
2. 1. 1. Интертекстуальность: к определению понятия
Современные исследования различных наук касаются влияния чужого
дискурса на авторские тексты, созданные при помощи естественного языка и
других знаковых систем. Этот феномен вызывает оживленный интерес со
стороны гуманитарных наук, что свидетельствует о его сложности,
многогранности и частичной неизученности. Термин интертекстуальность,
впервые предложенный французским ученым Ю. Кристевой в 1966 году,
описывает
способность
текста
устанавливать
связи
с
другими
произведениями культуры через различные отсылки, явные или скрытые,
создаваемые автором [Ильин 2001: с.103].
Следует
отметить,
что
концепция
интертекстуальности,
сформулированная Ю. Кристевой, базируется на переосмыслении идей М.М.
Бахтина. Бахтин утверждал, что «ничьих слов нет», и практически любой
текст можно рассматривать как «двуголосный», поскольку «нечто созданное
всегда создается из чего-то данного». Таким образом, каждый текст имеет не
только одного, а двух (или даже более) авторов [Бахтин 1997:227].
Данное явление было широко исследовано представителями различных
научных направлений, что привело к формированию множества подходов к
его трактовке. Обширное количество исследований посвящено анализу
интертекстуальности.
Например,
под
влиянием
теоретиков
структурализма
и
постструктурализма, таких как А.Ж. Греймас, Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко, Ж.
Деррида и др., была разработана теория, в рамках которой сознание человека
рассматривается как письменный текст, единственный способ его фиксации.
В результате чего все аспекты культуры, общества, истории и самого
человека стали рассматриваться как текст, что привело к представлению
человеческой культуры как единого «интертекста», служащего предтекстом
для новых текстов [Ильин 1989: с.186].
Подобный подход можно обнаружить и в работах Р. Барта, где он
определяет понятия «интертекстуальность» и «интертекст» следующим
образом: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют
в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты
предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст
представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат» [Барт 1980:
с.307].
Важно
отметить,
что
разнообразные
методы
установления
межтекстовых связей были широко распространены как среди составителей
текстов,
так
и
среди
интертекстуальность
в
ученых
задолго
до
научной
литературе,
появления
термина
представленного
Ю.
Кристевой. Например, в своей диссертации Д.Ф. Керимов упоминает об
известном жанре поэтического текста в античности, известном как «центон»,
а также отмечает цитатную природу текстов эпохи Средневековья [Рыжаков
2023,с].
В середине XX века эпоха постмодернизма зародилась как реакция на
традиционные идеи и ценности, которые доминировали в западной культуре.
Вместо стремления к единому истинообразию, постмодернизм предполагал
разнообразие и разнородность. В этот период писатели и художники начали
активно экспериментировать с формой и содержанием, часто обращаясь к
элементам чужого дискурса [Тимина 2013: с.150].
Одним из основных приемов постмодернистской литературы стало
использование интертекстуальности, т.е. включение в текст отсылок к
другим текстам, культурным явлениям, идеям и символам. Это создавало
множественные слои смысла и обогащало текст новыми контекстами, что
отражало хаос и множественность современного мира.
Таким образом, интерес научной мысли к сознательному введению
элементов чужого дискурса в тексты в середине XX века часто
ассоциируется с активным использованием этой практики в работах
писателей, принадлежащих к постмодернистской эстетической парадигме.
Они стали осознанно играть с культурными кодами и ожиданиями читателей,
создавая таким образом новые формы литературного искусства, которые
отражали сложность и разнородность современного мира.
На сегодняшний день существует множество подходов к пониманию
интертекстуальности, которые условно можно разделить на два направления.
Первое направление представлено сторонниками идеи о том, что ни один
текст не может быть создан или понят в отрыве от других произведений
культуры. Согласно этому взгляду, присутствие в тексте явных или скрытых
ссылок на другие культурные произведения является необходимым условием
как для создания, так и для понимания текста. Представители этого
направления считают, что каждое текстовое произведение является частью
общего культурного контекста и представляет собой сложную сеть
интертекстуальных отсылок к уже существующим культурным явлениям.
Следовательно, новый текст, войдя в эту сеть, становится источником
интертекстуальности для последующих культурных произведений [Кронгауз
2005: с.48].
Во
втором
направлении
выделяются
ученые,
которые
сужают
интертекстуальность до использования текстовых цитат и аллюзий. В.Е.
Чернявская также выделяла две категории подходов к интертекстуальности:
«широкие» и «узкие» [Чернявская 2009: с.180].
Можно сделать вывод о разнообразии подходов к пониманию и
интерпретации интертекстуальности в современной научной мысли. Они
представляют собой спектр взглядов, охватывающий отношение текста к
широкому культурному контексту, включая другие тексты и культурные
явления, до узкой фокусировки на использовании конкретных цитат и
аллюзий.
Один подход связывает интертекстуальность с неотъемлемой частью
культурного контекста, считая, что каждое текстовое произведение является
частью общего культурного диалога и содержит в себе сложную сеть
отсылок к другим текстам и культурным явлениям. Другой подход
сосредотачивается на использовании конкретных текстовых элементов, таких
как цитаты и аллюзии, в качестве средства создания интертекстуальных
связей.
Эти
подходы
отражают
глубину
и
многогранность
феномена
интертекстуальности и показывают, что он может быть истолкован и
исследован с разных точек зрения. Дальнейшее развитие исследований в этой
области может привести к новым перспективам в понимании взаимосвязей
между текстами и культурными явлениями, а также их роли в формировании
смысла и интерпретации текстовых произведений.
2. 1. 2. Библеизмы как интертекстуальные элементы
Интертекстуальность представляет собой основополагающий аспект
культурной динамики, воздействующий на формирование смысла и
интерпретацию текстов в широком спектре дисциплин. Библеизмы, как
интертекстуальные элементы, проникают в различные сферы культурной и
интеллектуальной деятельности, включая литературу, искусство, философию
и религиозные исследования. Понимание и анализ библеизмов позволяет нам
раскрыть их роль в формировании смысловой глубины и контекстуальной
значимости в различных текстах и культурных проявлениях.
Анализ механизмов взаимодействия библейских текстов с современной
культурой и исследовательскими практиками и исследования процессов
адаптации, реинтерпретации и использования библейских мотивов и
символов в современном интеллектуальном дискурсе раскрывает их роль в
формировании культурных идентичностей и смысловых конструкций.
Через анализ библеизмов мы сможем более глубоко понять влияние
библейских текстов на современные культурные практики и идеологические
конструкции, а также их роль в формировании общественных норм и
ценностей.
Интертекстуальное явление неразрывно связано с литературным
творчеством, где библейские мотивы встраиваются в пословицы и поговорки,
используются в качестве прямых цитат из Священного Писания, а также
выражаются через аллюзии
- косвенные отсылки к историческим,
литературным или мифологическим событиям [Климович 2013: с.141].
Таким образом, включая в текст аллюзии (косвенные отсылки) или
цитаты
(прямые
ссылки)
на
библейские
сюжеты,
библеизмы
в
художественном произведении выступают в качестве интертекстуальных
элементов. Согласно определению интертекстуальных элементов от Г.В.
Денисовой, они представляют собой «цитаты, сохраняемые в памяти
говорящего, которые осознанно или неосознанно включаются как «осколки»
другого текста» [Денисова 2001: с.114].
Использование аллюзий или прямых цитат из Библии в тексте является
одним из методов, с помощью которого можно внести интертекстуальные
связи с Священным Писанием. Теория интертекстуальности утверждает, что
между всеми текстами, созданными в рамках одной культуры, существуют
различные связи, и использование этих связей позволяет авторам расширять
и
обогащать
смысловые
аспекты
своих
произведений.
Сохранение
интертекстуальных элементов в переводе является одной из наиболее
сложных задач, с которыми сталкивается переводчик [Родионова, 1995].
Анализ библеизмов согласно теории интертекстуальности позволяет
идентифицировать их как элементы, входящие в мировую семиосферу.
Поскольку Библия широко известна в большинстве национальных культур,
её текст рассматривается как прецедентный и является одним из основных
источников интертекстуальных элементов - библеизмов.
Согласно И. С. Алексеевой, интертекстуальность занимает особое место
именно в художественном тексте, где она проявляется наиболее интенсивно
и разнообразно. Библеизмы, как «речевые стереотипы», часто выступают в
качестве
примеров
данного
явления,
поскольку
они
не
только
репродуцируются в речи уже готовыми, но и соответствуют критериям
оценки перцептивной и продуктивной маркированности интертекстуальных
элементов, предложенным Г. В. Денисовой. Эти критерии включают в себя:
1) необязательное использование;
2)
существование
исключительно
на
фоне
«нейтральных»
высказываний;
3) придание высказыванию дополнительного смысла;
4)
требование
адекватного
восприятия
со
стороны
адресата.
Использование библеизмов в качестве стереотипных цитат основано на
чувстве принадлежности к определенной лингвокультурной общности, что
придает им оттенок «универсальности» [Алексеева 2001: с.16].
Библеизмы
в
структуре
эмоционально-риторических
текста
элементов,
чаще
всего
которые
выполняют
делают
текст
роль
более
выразительным, эмоциональным и насыщенным. Использование различных
типов библеизмов в прямой речи и в разговорных формах придаёт
эмоциональное окрашивание, позволяя не только описать событие, но и
передать состояние его участников. Этот подход направлен на создание
эмоционального
воздействия.
Эмоциональность,
пронизывающая
художественный текст, зачастую достигается за счёт использования
библеизмов. Хотя библеизмы, как и другие элементы интертекста, не
являются обязательными, их отсутствие делает текст менее выразительным.
Таким образом, библеизмы, будучи частью эмоционально-риторической
структуры и обладая определенной выразительностью, способствуют
достижению главной функции художественного текста - эстетической.
При переводе библеизмов как элементов интертекста важным является
их распознавание и классификация переводчиком в оригинальном тексте, а
также их соотнесение с определенным типом. Библеизм не только должен
быть адекватно передан в тексте перевода, но и сохранить связь с текстом
Священного Писания. Таким образом, библеизмы в переводе как элементы
интертекста должны сохранить свою функцию. Кроме того, важно сохранить
функциональную нагрузку этих выражений в тексте перевода. При выборе
способа перевода также необходимо учитывать различия в использовании
библеизмов в языках.
2. 2. Функционирование библеизмов в художественном тексте
2. 2. 1. Функции библеизмов в структуре художественного текста
В художественных произведениях XIX века библейские мотивы
отражали духовное самосознание общества. Сегодня, после периода
официально прокламируемого забвения библейских истин, интерес к ним
возвращается, и это отражается в художественных текстах. Хотя библейские
образы по-прежнему служат выразительным средством авторского стиля, их
манера использования, способ введения и функции в тексте могут
измениться.
Функции библеизмов в структуре художественного текста представляют
собой фундаментальный аспект литературного анализа, особенно в контексте
культурно-исторического наследия. Библеизмы, или элементы библейского
языка, являются неотъемлемой частью литературного дискурса, проникая в
тексты
различных
эпох,
жанров
и
культур.
Их
присутствие
в
художественных произведениях не только обогащает языковую структуру
текста, но и несет в себе глубокий символический и культурный подтекст.
В данном исследовании мы сосредоточимся на разборе функций
библеизмов в художественных текстах, выявляя их роль в формировании
смысла,
создании
атмосферы
и
контекстуализации
произведения.
Рассмотрение данного вопроса позволит нам глубже понять влияние
библейского наследия на литературную культуру и понять, как эти
архаические образы и мотивы продолжают влиять на современное
литературное творчество.
Лингвисты многократно отмечали связь между религией, культурой и
языком (Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, Ю.Н. Караулов, В.Б. Касевич, В.А.
Маслова, Н.Б. Мечковская, В.М. Мокиенко, В.И. Постовалова, К.А.
Тимофеев и др.). В русской поэзии XIX века Бог и христианские ценности
занимали центральное место – от Пушкина до Соловьева и Блока. Хотя их
поэзия не всегда непосредственно связана с Богом, чаще она выражает
стихийные внутренние импульсы. В их творчестве отражается идея
первичности божественного смысла и чувственного опыта в познании мира;
эти стихи создаются не по законам рассудочной деятельности, а по законам
души, поэтому они обладают особой энергией духа.
Рассмотрение языка Библии как языка веры как основы духовного кода
культуры позволяет обратить пристальное внимание на глубинные и
иррациональные аспекты языка, почти недоступные для рационального
осмысления, но играющие огромную роль в формировании духовного кода
нации [Иванов, Маслова, Мокиенко 2022: с.5].
Библеизмы в художественном тексте выполняют важные функции стилистическую, композиционную и прагматическую. Они не только
придают произведению эстетическую выразительность, но и актуализируют
его художественный смысл.
Библеизмы, или использование библейских образов, мотивов и
выражений, играют важную роль в художественном тексте по нескольким
причинам. Во-первых, они обогащают текст своей многозначностью и
глубиной, несут за собой богатую историю и символические значения, что
придает произведению глубину.
Во-вторых, библейские тексты и образы встроены в культурное
наследие многих обществ, и использование библеизмов позволяет автору
связать свое произведение с культурными традициями и контекстом, делая
его более понятным и релевантным для читателей.
Библеизмы обладают эмоциональной силой и вызывают определенные
ассоциации у читателей, что помогает автору передать определенные
эмоции, настроения или идеи с большей интенсивностью.
Наконец,
библеизмы
могут
быть
использованы
для
создания
определенной атмосферы или стиля произведения, придавая ему архаический
или
торжественный
настроение.
характер,
устанавливая
определенный
тон
или
2. 2. 2. Библеизмы в художественном тексте в аспекте перевода
В настоящее время библеизмы, с их метафорическим содержанием,
выразительностью и глубоким моральным смыслом, далеки от того, чтобы
быть устаревшими или застывшими. Недавно интерес к библейским
выражениям не только не угас, а даже возрос, и даже наблюдается тенденция
к их чрезмерному использованию, к превращению в штампы. Часто люди
используют библейские выражения, не имея точного представления об их
значении. Это представляет вызов как для лексикографов, так и для
переводчиков, стоящих перед рядом теоретических и практических задач
[Есаян 2006: c.42].
В художественном переводе библеизмы регулярно служат ключевыми
единицами. Имея статус интертекстуальных элементов в оригинальном
тексте, библеизмы индуцируют использование соответствующих библейских
элементов в тексте перевода. Процесс перевода библеизмов включает их
идентификацию, определение типологии и функциональной роли, а также
выбор наиболее подходящего способа перевода с учетом особенностей
языковой пары.
Переводчики Библии, регулярно работающие с языками и культурами,
значительно
отличающимися
от
тех,
которые
находятся
в
центре
лингвистического и академического исследования, быстрее выражают свое
подозрение и рассматривают возможность того, что Принцип Кооперации и
его максимы не являются универсальными[Baker,2018:с.233].
При использовании традиционного или эквивалентного перевода
библеизм сохраняет свои характеристики из оригинала, выполняя те же
функции. В результате он также остается интертекстуальным элементом в
переводе. Однако если библеизм был опущен, заменен описательным
переводом или конкретизирован, то интертекстуальный эффект теряется, что
приводит к несоответствию между текстами оригинала и перевода на
различных уровнях: стилистическом, семантическом и прагматическом.
Перевод
с
использованием
антонимов
позволяет
сохранить
интертекстуальный элемент в тексте перевода, однако это приводит к
несоответствию с оригинальным текстом на уровнях смысла и стиля.
Добавление библеизмов в перевод также нарушает стилистическую
целостность текста, так как их присутствие в качестве интертекстуальных
элементов увеличивает экспрессивность перевода.
В культурной традиции Англии роль библейских текстов является
неоспоримой: с одной стороны, важное значение придается содержанию,
библейским истинам, которые закрепились в ценностных ориентирах и
основных понятиях культуры, оказывая влияние на мышление. С другой
стороны, в повседневной жизни широко используются прямые цитаты из
Библии,
включая
библейскую
лексику,
пословицы,
риторические
и
эстетические формы и т.д. Иногда связь библеизмов с их источником
теряется, и они функционируют как народная мудрость, «крылатые
выражения», лишенные прямого отношения к источнику.
Влияние Библии на английский язык и культуру проявляется в том, что
огромное количество высказываний, пословиц и поговорок стали частью
общего обихода благодаря текстам Библии. Английский фразеолог Л. П.
Смит подчеркивает значение Библии, называя её наиболее читаемой и
цитируемой книгой в Англии на протяжении веков. Он отмечает, что не
только отдельные слова, но и целые идиоматические выражения вошли в
английский язык благодаря текстам Библии [Смит 1998: с.169].
Взаимодействие
библеизмов
в
русском
и
английском
языках
сопровождается различиями, как в частоте их использования, так и в
структурно-семантических
особенностях.
Будучи
элементами
интертекстуальности, параллельные библеизмы в обоих языках могут
различаться по лексике, значению и грамматике.
Понимание некоторых библейских образов и выражений может быть
искажено из-за недостаточного учета местного культурного контекста. Люди
часто стремятся интерпретировать эти выражения в соответствии со своими
собственными культурными представлениями, что может привести к
ошибочному толкованию. При анализе библеизмов необходимо учитывать не
только общественные нормы и обычаи, но и культурные особенности
данного общества, а также человеческий фактор в конкретный исторический
период. Другими словами, важно учитывать культурно-антропологические
аспекты при изучении библейских текстов.
Выводы по второй главе
Исследования
показывают,
что
современные
науки,
включая
гуманитарные, изучают влияние чужого дискурса на создание авторских
текстов. Это явление вызывает значительный интерес из-за своей сложности
и многогранности.
Термин интертекстуальность, введенный Ю. Кристевой, описывает
способность текста устанавливать связи с другими произведениями культуры
через различные отсылки. Эта концепция базируется на переосмыслении
идей М.М. Бахтина о том, что практически любой текст можно
рассматривать как двуголосный, имеющий не только одного, а двух или более
авторов.
Исследования в этой области привели к формированию множества
подходов и теорий, включая влияние структурализма и постструктурализма.
Эти подходы рассматривают человеческое сознание как письменный текст,
что приводит к представлению человеческой культуры как единого
интертекста.
Различные методы установления межтекстовых связей применялись как
среди составителей текстов, так и среди ученых задолго до формализации
термина интертекстуальность. Например, цитатная природа текстов эпохи
Средневековья является одним из примеров таких связей.
В
середине
XX
века
постмодернизм
возник
как
реакция
на
доминирование традиционных идей и ценностей западной культуры. Он
отвергал стремление к единому образу в пользу признания разнообразия и
разнородности.
В
этот
период
писатели
и
художники
активно
экспериментировали с формой и содержанием своих работ, обращались к
элементам чужого дискурса, включая отсылки к другим текстам, культурным
явлениям, идеям и символам.
Одним из основных приемов постмодернистской литературы стало
использование интертекстуальности. Это включало в себя создание
множественных слоев смысла и обогащение текстов новыми контекстами.
Научная мысль в середине XX века проявила интерес к сознательному
введению элементов чужого дискурса в тексты, что часто ассоциировалось с
практикой постмодернистских писателей.
Подходы к пониманию интертекстуальности можно разделить на два
основных направления.
Первое направление подчеркивает, что ни один текст не существует в
изоляции от других произведений культуры. По мнению этого направления,
каждое текстовое произведение взаимосвязано с общим культурным
контекстом и представляет собой сложную сеть интертекстуальных
отсылок к уже существующим культурным явлениям. Следовательно, новый
текст становится источником интертекстуальности для последующих
культурных произведений.
Второе направление сосредотачивается на использовании конкретных
текстовых элементов, таких как цитаты и аллюзии, как средства создания
интертекстуальных связей. Здесь интертекстуальность рассматривается
скорее как использование текстовых фрагментов из других произведений,
чем как включение в общий культурный диалог.
Oдним
из
основных
свойств
интертекстуальности
является
амбивалентность, т.е. принадлежность новому тексту с сохранением
реминисценций старого, прецедентного текста, на котором созданный вновь
текст строится. Новый текст тем самым является «плавильным котлом»
своего и чужого, точная идентификация и процентное соотношение которых
нередко
весьма
сложна
из-за
многослойности
и
закодированности
интертекстем, в такой новый текст входящих [Мокиенко, 2007: с.223].
Библеизмы,
как
элементы
интертекстуальности,
проникают
в
различные области культурной и интеллектуальной деятельности, включая
литературу, искусство, философию и религиозные исследования. Понимание
и анализ библеизмов позволяет раскрыть их роль в формировании смысла и
контекстуальной
значимости
в
различных
текстах
и
культурных
проявлениях.
Анализ механизмов взаимодействия библейских текстов с современной
культурой и исследовательскими практиками позволяет понять процессы
адаптации, реинтерпретации и использования библейских мотивов и
символов в современном интеллектуальном дискурсе. Эти процессы играют
важную роль в формировании культурных идентичностей и смысловых
конструкций.
Анализ библеизмов также помогает понять влияние библейских текстов
на современные культурные практики, идеологические конструкции,
общественные нормы и ценности. Они интегрированы в художественные
произведения через аллюзии (косвенные отсылки) или цитаты (прямые
ссылки), являясь интертекстуальными элементами.
Библеизмы в тексте играют важную эмоционально-риторическую роль,
делая его более выразительным и насыщенным. Использование различных
типов библеизмов в прямой речи и разговорных формах придает тексту
эмоциональное окрашивание и направлено на создание эмоционального
воздействия на читателя. Они способствуют достижению главной функции
художественного текста - эстетической выразительности.
При
переводе
библеизмов
как
элементов
интертекста
важно
распознавать и классифицировать их в оригинальном тексте, а также
соотносить их с определенным типом. Они должны быть адекватно переданы
в тексте перевода и сохранить связь с текстом Священного Писания.
Библеизмы должны сохранить свою функцию в переводе и сохранить
функциональную нагрузку в тексте. При переводе художественных текстов
библеизмы
играют
важную
роль
как
ключевые
элементы
интертекстуальности. Они требуют идентификации, классификации и
адекватного перевода, чтобы сохранить свою функцию и связь с оригиналом.
Традиционный
или
интертекстуальный
эквивалентный
перевод
позволяет
сохранить
эффект, но его отсутствие может привести к
несоответствию между текстами. Использование антонимов или добавление
библеизмов может изменить стиль и смысл текста, что также важно
учитывать при переводе.
Фразеологические обороты из Библии являются важной частью
фразеологии во многих языках мира. Многие западные писатели и
журналисты в своих работах обращаются к Библии или активно используют
библейские обороты в названиях произведений и статей. В английском языке
существует значительное количество библейских оборотов, которые имеют
аналоги в русском языке. Перевод таких выражений обычно не представляет
трудностей, поскольку в большинстве случаев можно использовать
соответствующий эквивалент. Например, «forbidden fruit» - «запретный
плод», «promised land» - «земля обетованная», «daily bread» - «хлеб
насущный», «to worship the golden calf» - «поклоняться золотому тельцу»
[Брежнева,2017:с. 88].
Понимание библеизмов требует учета культурного контекста и
особенностей каждого общества. Неправильное толкование может привести
к искажению смысла. Поэтому при анализе библейских текстов важно
учитывать не только общественные нормы, но и культурные особенности
конкретного общества и периода.
При выборе способа перевода, переводчик учитывает не только все
обстоятельства, но и тот факт, что в чистом виде какой-либо из способов
редко используется в реальном процессе перевода. Обычно сложные тексты
переводятся с применением различных методов, причем один из них
становится основным и определяет характер связи между оригинальным и
переводным текстами в целом. Этот ведущий метод также влияет на
разбиение исходного текста, определение единиц перевода и выбор
переводческих приемов, с помощью которых исходный текст преобразуется
в переводной [Махмудова,2019: с.4].
Глава 3. Способы перевода библеизмов (на материале перевода романа
Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта». на чешский и
русский язык)
3.1. Библеизмы в романе «Женщина французского лейтенанта».
Для данной исследовательской работы нами был выбран роман Дж.
Фаулза «Женщина французского лейтенанта» (The French Lieutenant's
Woman). Написанный в 1969 году на английском языке, данный роман
обильно пропитан библейскими образами и аллюзиями, а его сюжет глубоко
укоренился в тематике христианства, греха и покаяния. Эти характеристики
делают его особенно привлекательным для переводчика, представляя
широкий простор для интерпретации и передачи смысловой глубины.
Действие романа разворачивается в конце XIX века в уютном
приморском городке Лайм-Реджис. Основным персонажем является Чарльз
Смитсон, наследник скромного аристократического рода, который обручен с
Эрнестиной
Фримэн,
дочерью
богатого
коммерсанта.
Однажды,
прогуливаясь по набережной, они замечают женщину по имени Сара
Вудрафф, известную как «женщина французского лейтенанта». Сара стала
изгоем после того, как французский офицер, с которым у нее был роман,
исчез, оставив ее одинокой и печальной. Время от времени Сара приходит на
набережную и смотрит в море, задумавшись. Ее судьба вызывает интерес и
волнует обитателей города.
Чарльз, увлеченный палеонтологией, случайно встречает Сару во время
прогулки, когда пытается найти интересные ископаемые, и узнает о её
трудной судьбе. Она просит его о помощи и поддержке, и он предоставляет
ей финансовую помощь, а также советует покинуть город.
Сара устраивается в гостинице в Эксетере. Когда Чарльз туда приезжает,
они разговаривают, и Сара в конечном итоге открывается ему. Чарльз узнает,
что Сара осталась девственницей, и что история о французском лейтенанте
была ложной.
Чарльз влюбляется в Сару и решает вернуться к ней, объявив о
расторжении помолвки с Эрнестиной. Однако, по приезде обратно, он
обнаруживает, что Сара исчезла. Исчезновение Сары серьезно ранит Чарльза,
а расторжение помолвки подрывает его репутацию.
Он проводит несколько лет в путешествиях, но возвращается в Англию,
чтобы найти Сару. Наконец, он находит её в доме художника, где она
является уверенной в себе женщиной, секретаршей, и, возможно, спутницей
мастера.
Автор предлагает несколько возможных финалов, включая тот, что
Чарльз женится на Эрнестине, а Сара исчезает из его жизни. Однако, в
концовке романа представлены два возможных эпилога, где герои
встречаются снова, либо разъезжаются, оставляя конец их истории открытым
для трактовки.
Роман «Женщина французского лейтенанта» пронизан библейскими
отсылками и символикой, придавая сюжету глубину и эмоциональную
насыщенность. Сама Сара Вудрафф
часто
сравнивается с Марией
Магдалиной, библейским персонажем, который в христианской традиции
часто ассоциируется с покаянием и спасением через веру.
Религиозность пронизывает каждый аспект сюжета, оказывая влияние на
моральные дилеммы персонажей и их внутренние конфликты. Тема церкви
играет ключевую роль, выступая как место, где осуществляется внутренний
поиск и преобразование. Внутренняя борьба с собственными грехами и
стремление к покаянию создают сложные и эмоционально насыщенные
ситуации, которые становятся основой для развития сюжета.
Количество
библейских
фразеологических
фраз
и
выражений,
вошедших в английский язык, настолько велико, что собрать и перечислить
их было бы очень сложной задачей. Выражения, используемые в
современной английской речи, библейское происхождение которой твердо
установлено, включают в себя целые предложения-изречения и различные
именные
(с
существительным),
определительные
и
деепричастные
словосочетания. Также в английский язык пришло из Библии еще немало
глагольных идиом [Захарова, 1999: с.45].
Для
состояния
особенностью
современного
является
английского
функционирование
языка
характерной
фразеологических
единиц,
значение которых претерпело изменение, что обусловлено влиянием
экстралингвистических факторов. Библеизмы представляют собой основную
часть
диапазона
фразеологических
единиц,
функционирующих
в
современном английском языке [Baghana, Wang, Bissenbayeva, 2023: c.124].
Фразеологические единицы библейского происхождения, не имеющие
принципиальных отличий по строению и семантике от других типов
фразеологизмов и обладающие большими возможностями для достижения
выражения в речи, заняли прочное место во фразеологической основе
современных английского и русского языков. В процессе фразеологизации
библейские выражения претерпели не только структурно-семантические, но
и стилистические изменения – библейские фразеологизмы несут на себе
печать высокого литературного стиля, но общая тенденция их развития
приводит к уменьшению этой стилистической характеристики [Бабкин,1995:
с.73].
В оригинальном тексте романа насчитывается внушительное количество
слов и выражений, связанных с библейским текстом.
Например, слово God встречается 22 раза, а производные от слова Christ
27 раз. Само слова Bible встречается в романе 16 раз.
В ходе нашей работы будут рассмотрены переводы романа на русский и
чешский язык. В качестве материала нами был выбран перевод романа
«Женщина французского лейтенанта» на русский язык Беккер М.И. и
Комаровой И.Б. и «Francouzova milenka» на чешский язык Ханы Жантовской
(Hana Žantovská).
Мы провели анализ текстов на этих языках и составили таблицу 44
библеизма на исходном английском языке, сопровождаемую их переводом на
русский и чешский языки, 3 библеизма отсутствуют в английском тексте, но
русские и чешские переводчики добавили их в свои переводы. 2 библеизма,
указаны в одной строке в таблице Приложения.
В этой таблице также указан тип каждого библеизма и его библейский
источник. Это позволило нам глубже исследовать использование библейских
образов и мотивов в тексте, а также сопоставить их в различных языковых
контекстах. Такой подход помогает не только лучше понять значения данных
выражений, но и углубить наше понимание культурных и религиозных
аспектов, о которых они свидетельствуют.
В данной главе мы рассмотрим некоторые из найденных нами примеров.
3. 2. Способы перевода библеизмов-слов
В тексте романа нами были выявлены следующие библеизмы:
Jeremiah, Иеремия, Jeremiáš.
He was a bald, vast-bearded man with a distinctly saturnine cast to his face; a
Jeremiah [Fowles John, 2004].
…возвратился ее муж — лысый, заросший густой бородой человек с
чрезвычайно мрачным выражением лица — ни дать ни взять пророк Иеремия
[Фаулз Дж., 2007].
Byl to holohlavý člověk s mohutným vousem a mrzutým výrazem v tváři;
vypadal tak trochu jako prorok Jeremiáš [Fowles John, 1976].
Иеремия (или Иеремиа) - один из известніх пророков в Библии, а точнее
в Ветхом Завете. Он жил в VII-VI веках до нашей эры и был сыном Хелкии,
священника из города Анатоф, находящегося на земле Вениаминовой.
Основное его пророческое служение пришлось на время правления царей
Иудеи Иосии, Иоакима и Седекии. Автор книги пророка Иеремии, входящей
в состав Ветхого Завета.
При
переводе
на
русский
и
чешский
языки
использовался
транслитерационный способ, эквивалентный перевод.
Sodom and Gomorrah, Содом и Гоморра, Sodomа a Gomorа.
It remains to be explained why Ware Commons had appeared to evoke Sodom
and Gomorrah in Mrs. Poulteney’s face a fortnight before [Fowles John, 2004].
Остается объяснить, почему за две недели до описанных событий при
упоминании о Вэрской пустоши на лице миссис Поултни выразился такой
ужас, словно она увидела перед собою Содом и Гоморру [Фаулз Дж., 2007].
Zbývá ještě vysvětlit, proč se Wareská občina zdála vyvolávat před čtrnácti
dny v paní Poulteneyové obraz Sodomy a Gomory [Fowles John, 1976].
Содом и Гоморра - два города, упомянутые в Библии, которые были
уничтожены Богом за греховность. История этих городов наиболее подробно
описана в книге Бытие. Жители Содома и Гоморры были известны своими
грехами и пороками. Библия описывает их как людей, совершавших мерзости
перед Богом, в том числе насилие и сексуальные преступления. Содом и
Гоморра часто упоминаются в религиозных текстах и литературе как
символы крайней развращенности и морального упадка. Упоминание данных
городов можно найти в Ветхом Завете: Книга Бытия, главы 18 и 19, в
Евангелии от Матфея 10:15, в Евангелии от Луки 17:28-29; в Послании к
Титу 1:12.
При
переводе
на
русский
и
чешский
языки
использовался
транслитерационный способ.
Magdalen Society, Магдалинский приют, Magdalénský spolek.
She visited, she presided over a missionary society, she had set up a home for
fallen women—true, it was of such repentant severity that most of the beneficiaries
of her Magdalen Society scrambled back down to the pit of iniquity as soon as they
could—but Mrs. Poulteney was as ignorant of that as she was of Tragedy’s more
vulgar nickname [Fowles John, 2004].
Она посещала бедных, она была председательницей миссионерского
общества, она основала приют для падших женщин, правда, с таким строгим
уставом, что питомицы ее Магдалинского приюта при первом удобном
случае вновь бросались в бездну порока — о чем, однако, миссис Поултни
была осведомлена не более, чем о другом, более вульгарном прозвище
Трагедии [Фаулз Дж., 2007].
Navštěvovala chudé, byla předsedkyní misionářské společnosti, zřídila domov
pro padlé ženy – pravda, domov takové kajícné přísnosti, že většina schovanek
Magdalénského spolku se honem pachtila, jakmile to jen trochu šlo, zpátky do
bahna neřesti – ale o tom paní Poulteneyová nic nevěděla, stejně jako neznala
lidovou přezdívku ubohé Tragédie [Fowles John, 1976].
Магдалинский приют - это общественная или благотворительная
организация, которая обычно занимается помощью и поддержкой женщин,
столкнувшихся с различными сложностями или кризисными ситуациями в их
жизни. Название приюта носит имя Марии Магдалины. Мария Магдалина
считается одним из ключевых свидетелей и проповедников в раннем
христианстве. Её роль была важной для распространения вести о
воскресении Иисуса. В традиционной христианской трактовке, Мария
Магдалина часто ассоциируется с образом раскаявшейся грешницы.
Упоминания Марии Магдалины можно встретить в Евангелии от Луки 8:1-3,
в Евангелии от Марка 16:9.
В данном случае при переводе используется комбинированный способ,
который включает элементы как транслитерации, так и перевода по смислу,
эквивалентный перевод.
Jezebel, Иезавель, Jezabel.
“You wicked Jezebel—you have murdered her!” [Fowles John, 2004]
Ах вы, нечестивая Иезавель! Вы ее убили! [Фаулз Дж., 2007]
„Ty zkažená Jezabelo – tys ji zabila!“ [Fowles John, 1976]
Иезавель - это персонаж из Ветхого Завета Библии, который известен
своей злобой, безмолвием и негативными действиями. Иезавель была
дочерью царя Ефвала и стала женой Ахава, царя Северного Израиля. Её имя
стало символом злобы и разврата в христианской традиции. В библейской
традиции Иезавель выступает в роли архетипа злой и грешной женщины, чьи
действия привели к гибели и разрушению. Имя Иезавель можно встретить в
Ветхом Завете, во Второй книге Царств.
При
переводе
на
русский
и
чешский
языки
использовался
транслитерационный способ.
Confession, исповедь, Zpověď.
Then, with something of the abruptness of a disinclined bather who hovers at
the brink, she plunged into her confession [Fowles John, 2004].
И вдруг с отчаянной решимостью пловца, который долго мешкал на
берегу, не решаясь войти в воду, погрузилась в свою исповедь [Фаулз Дж.,
2007].
Pak se s náhlostí bojovného plavce, který přešlapuje na břehu, vrhla do své
zpovědi [Fowles John, 1976].
Исповедь как признание грехов является важным аспектом духовной
практики в христианстве, где верующие признают свою вину, выражают
раскаяние и стремятся к прощению и духовному очищению.
Встретить слово исповедь в значении признания можно в Новом Завете,
Послании Иакова 5:6, в Послании Римлянам 10:9, в Ветхом Завете, Псалом
136:1.
В данном случае слово confession было переведено в соответствии с
переводами Библии на русский и чешский языки, эквивалентный перевод.
Слово исповедь заимствовано из старославянского языка, где оно является
словообразовательной
калькой
греческого
exomologēsis
«покаяние,
признание», производного от exomologeō «признаю, исповедую». Слово
zpověď происходит от глагола zpovídat se, что в переводе на русский язык
означает «признаваться, исповедоваться». Слово povídat в чешском языке
имеет общий корень с русским словом вести или рассказывать. Оба слова
происходят от индоевропейского корня и имеют схожее значение - передача
информации или рассказ о чем-то.
При исследовании перевода романа на русском и чешском языке были
найдены библеизмы, которые отсутствуют в оригинальном тексте в данном
отрывке:
But no, she goes to a house she must know is a living misery, to a mistress
who never knew the difference between servant and slave, to a post like a pillow of
furze. [Fowles John, 2004].
Она первым делом предлагает девушке вернуться. Так нет же — она
поступает в дом, про который всем известно, что это юдоль скорби, к
хозяйке, для которой нет разницы между слугою и рабом, на должность
ничем не лучше подушки, набитой колючками утесника [Фаулз Дж., 2007].
Ale ne, ona přijme místo v domě, o kterém ví, že ji tam čeká dennodenní
očistec, u paní, která nezná rozdíl mezi služebnictvem a otroky, jako by si šla
dobrovolně sednout na polštář z kopřiv! [Fowles John, 1976]
Современное употребление фразы юдоль скорби, юдоль печали,
заимствует смысл из библейского Псалма 83, где церковнославянское
выражение юдоль плачевна (в оригинале «долина Бака», в современном
переводе долина плача) символизирует человеческую жизнь: Проходя
долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает её
благословением.
Фразу dennodenní očistec можно перевести как ежедневное чистилище.
Чистилище, согласно Католическому Вероучению, это состояние, в котором
пребывают души людей, которые умерли в мире с Богом, но нуждаются в
очищении от последствий совершённых при жизни грехов.
Согласно учению Католической церкви, эта истина подтверждается
Второй книгой Маккавейской, Глава 12, стихи 43-4.
Поскольку есть возможность принести умилостивительную жертву за
умерших, это может означать, что их души не находятся ни в аду, ни в раю.
Души, которые уже спаслись, не нуждаются в молитвах живых, а тем, кто
осужден на вечное проклятие, молитвы не помогут. Поэтому предполагается,
что души умерших находятся в состоянии, где молитвы ещё могут помочь им
«освободиться от греха».
Эти варианты перевода можно назвать парафразными. В оригинале
отсутствуют данные библейские выражения, но переводчики используют их
для передачи аналогичного смысла, для подчеркивания библейской
тематики. В чешском варианте перевода этот библеизм также может быть
компенсаторным, так как в данном исследовании нами было отмечено, что
некоторые библеизмы не переводились.
3. 3. Способы перевода библеизмов-фразеологических единиц
The widow’s mite, притча о лепте вдовицы, podobenství o vdovině groši.
Furthermore it chanced, while she was ill, that Mrs. Fairley, who read to her
from the Bible in the evenings, picked on the parable of the widow’s mite [Fowles
John, 2004].
Но что еще хуже, во время ее болезни миссис Фэрли, которая по вечерам
читала ей Библию, выбрала притчу о лепте вдовицы [Фаулз Дж., 2007].
A navíc tomu náhoda chtěla, že paní Fairleyová, která jí v době její nemoci po
večerech předčítala z bible, vybrala právě podobenství o vdovině groši [Fowles
John, 1976].
Притча о лепте вдовицы — это рассказ, который Иисус Христос поведал
своим ученикам, и который зафиксирован в Евангелиях от Марка (12:41-44)
и Луки (21:1-4). В этой притче говорится о бедной вдове, которая, несмотря
на свою бедность, пожертвовала в храм всего две лепты (самые мелкие
монеты в еврейской денежной системе), что было очень маленькой суммой
по сравнению с пожертвованиями богатых людей. Однако Иисус отметил,
что вдова отдала больше всех, так как она пожертвовала всё, что у неё было,
в то время как богатые люди давали от своего избытка.
Переводчики использовали парафразирующий и адаптирующий способы
перевода для передачи смысла и религиозного контекста оригинального
выражения, учитывая культурные и языковые особенности целевых
аудиторий.
The Good Samaritan, добрый самарянин, milosrdný Samaritán.
The vicar felt snubbed; and wondered what would have happened had the
Good Samaritan come upon Mrs. Poulteney instead of the poor traveler [Fowles
John, 2004].
Священника обидел ее высокомерный тон, и он задался вопросом, что
было бы, если б доброму самарянину вместо несчастного путника
повстречалась миссис Поултни [Фаулз Дж., 2007].
Vikář cítil pohrdavé odmítnutí a napadlo ho, co by se bylo stalo, kdyby byl
milosrdný Samaritán narazil na paní Poulteneyovou místo na chudého pocestného
[Fowles John, 1976].
Добрый самарянин — это персонаж из одной из самых известных притч
Иисуса Христа, рассказанной в Евангелии от Луки (10:25-37). Притча
называется «Притча о добром самарянине» и служит иллюстрацией
концепции милосердия и любви к ближнему.
Притча о добром самарянине, рассказанная Иисусом, о путнике,
который попал в беду и был оставлен на обочине дороги. Проходившие мимо
священник и левит проигнорировали его, но самарянин, враг евреев, оказал
ему милосердие. Он помог ему, доставил в гостиницу и оплатил его лечение.
Притча призывает к проявлению сострадания и доброты к каждому человеку,
независимо от его происхождения или вероисповедания.
Render unto Caesar, воздавать кесарю, dávát Césarovi.
I do but render unto Caesar– [Fowles John, 2004]
Я всего лишь воздаю кесарю… [Фаулз Дж., 2007]
Dávám jen Césarovi – [Fowles John, 1976]
Фраза
воздавать
кесарю
происходит
из
высказывания
Иисуса,
записанного в Евангелии от Матфея 22:21, в Евангелии от Марка 12:17, в
Евангелии от Луки 20:25. Этот фрагмент является ответом Иисуса на вопрос
фарисеев и иродиан о законности выплаты подати кесарю. Иисус указывает
на то, что христиане должны отдавать кесаревым то, что принадлежит
кесарю, и призывает следовать законам государства, пока они не
противоречат Божьему закону.
To carry the Cross , нести крест, nést kříž.
It at least allowed Mrs. Poulteney to expatiate on the cross she had to carry,
though the cross’s withdrawal or absence implied a certain failure in her skill in
carrying it, which was most tiresome [Fowles John, 2004].
Это по крайней мере давало миссис Поултни возможность сетовать на
то, сколь тяжкий крест она несет, хотя исчезновение или отсутствие самого
креста косвенно намекало на ее неспособность таковой нести, что было
весьма досадно [Фаулз Дж., 2007].
Paní Poulteneyové to aspoň umožňovalo stěžovat si obšírně na kříž, který
musí nést, i když náhlý odchod kříže nebo jeho nepřítomnost naznačovaly, že jej
nenese příliš obratně, což bylo nanejvýš nepříjemné [Fowles John, 1976].
Фраза нести крест имеет своё происхождение из христианской
символики и отсылает к учению Иисуса Христа. В христианском контексте
нести крест означает принятие бремени, испытаний или страданий, которые
приходят на пути верующего, вместе с верой и преданностью. Данное
выражение можно встретить в Евангелии от Матфея 27:32, в Евангелии от
Марка 15:21, в Евангелии от Луки 23:26.
Devil’s singe, клеймо дьявола.
There was, too, something faintly dark about him, for he had been born a
Catholic; he was, in terms of our own time, not unlike someone who had been a
Communist in the 1930s—accepted now, but still with the devil’s singe on him
[Fowles John, 2004].
У него была слегка подмоченная репутация — по происхождению
католик, он, выражаясь современным языком, отчасти напоминал человека,
который в 1930-е годы состоял в компартии, и хотя теперь принят в
порядочном обществе, все еще несет на себе клеймо дьявола [Фаулз Дж.,
2007].
В
широком
смысле,
это
выражение
часто
употребляется
в
метафорическом или символическом смысле и не обязательно имеет прямое
отношение к реальной духовной или религиозной сущности.
В религиозном контексте клеймо дьявола может указывать на
символическое обозначение предполагаемого отпечатка дьявола на человеке,
как знак его порабощения злом или согласия с дьявольскими силами. Часто
это выражение означает число 666. Это число, упоминается в Откровении
Иоанна Богослова, Главе 13.
Перевод Devil’s singe как клеймо дьявола выполнен с использованием
смыслового соответствия, где английское слово singe ассоциируется с
печатью или отпечатком, связанным с дьяволом. Такой перевод можно
отнести к компенсаторному способу, где учитывается смысловое значение и
сохраняется контекстуальная связь.
3. 4. Способы перевода библеизмов-цитат
Lama, lama, sabachthane me, Eli, Eli, lama sabachtami.
One day she came to the passage Lama, lama, sabachthane me; and as she
read the words she faltered and was silent [Fowles John, 2004].
Однажды, дойдя до слов «Lama, lama, sabachthane me», она запнулась и
умолкла [Фаулз Дж., 2007].
Jednoho dne došla až k místu Eli, Eli, lama sabachtami, a když ta slova četla,
zachvěl se jí hlas a zmlkla [Fowles John, 1976].
Фраза Lama, lama, sabachthane me - это арамейская фраза, которая была
произнесена Иисусом Христом на кресте, как записано в Новом Завете. В
Евангелии от Матфея, главе 27, стих 46:
А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Ели, Ели, лама
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?
Данная фраза не была переведена в самом тексте в обоих переводах
романа.
Она
была
оставлена
на
исходном
языке,
сопровождаемая
примечанием, объясняющим её значение и переводом на русский и чешский
языки.
Deliver me, O Lord, from the evil man, Избави меня, Господи, от
человека злого, Vysvoboď mne, Hospodine, od člověka zlého.
Mrs. Poulteney had devoted some thought to the choice of passage; and had
been sadly torn between Psalm 119…and Psalm 140 (“Deliver me, O Lord, from
the evil man”) [Fowles John, 2004].
Она долго размышляла над выбором отрывка, мучительно разрываясь
между псалмом 118…и псалмом 139 («Избави меня, Господи, от человека
злого») [Фаулз Дж., 2007].
Paní Poulteneyová už předem věnovala značnou péči výběru příslušného
textu; tonula v žalostné nejistotě mezi Žalmem 119…a Žalmem 140 („Vysvoboď
mne, Hospodine, od člověka zlého“) [Fowles John, 1976].
Фраза Deliver me, O Lord, from the evil man взята из Библии, из книги
Псалтирь (Псалмы). Это начало стиха из Псалма 139:1 (или 140:1 в
некоторых переводах):
Псалтирь 139:1 (140:1):
King James Version (KJV): «Deliver me, O Lord, from the evil man: preserve
me from the violent man.»
Синодальный перевод: «Избавь меня, Господи, от человека злого;
сохрани меня от притеснителя.»
Žalmy 140: Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého, chraň mě proti
násilníku.
Автор русского перевода романа поменял оригинальную нумерацию
Псалма в связи с использованием синодального перевода Библии. Оба
перевода сохраняют основную идею и молитвенный тон оригинала, несмотря
на различия в словах и синтаксисе. Переводчики используют библейские
переводы.
Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord,
Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, Blahoslavení
žijící bez poskvrny, kdo kráčejí podle zákonů Páně.
It was the same one as she had chosen for that first interview—Psalm 119:
“Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord.” [Fowles
John, 2004]
Она взяла Библию и стала читать помеченный миссис Поултни отрывок
— тот же, что был выбран для первой беседы, а именно псалом 118:
«Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем» [Фаулз Дж.,
2007].
Byl to týž, který vybrala pro onu první rozmluvu – žalm 119. „Blahoslavení
žijící bez poskvrny, kdo kráčejí podle zákonů Páně.“ [Fowles John, 1976]
Фраза «Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the
Lord» взята из Библии, из книги Псалтирь (Псалмы). Это начало стиха из
Псалма 119:1 (118:1):
Псалтирь 119:1 (118:1):
King James Version (KJV): «Blessed are the undefiled in the way, who walk
in the law of the Lord.»
Синодальный перевод: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе
Господнем.»
Žalmy 118: Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí
Hospodinův zákon.
Автор русского перевода романа поменял оригинальную нумерацию
Псалма в связи с использованием синодального перевода Библии. Авторы
чешского перевода используют динамический эквивалент (или смысловой
перевод). Этот метод фокусируется на передаче значения и общего
настроения оригинального текста, а не на буквальной передаче каждого
слова.
Heaven forbid, сохрани меня Бог, chraň bůh.
Heaven forbid that I should ask for your reasons [Fowles John, 2004].
Сохрани меня Бог спрашивать вас почему [Фаулз Дж., 2007].
Chraň bůh, že bych se ptal po vašich důvodech [Fowles John, 1976].
Фраза Heaven forbid означает Боже упаси или Не дай Бог. Это
выражение используется, чтобы выразить сильное желание, чтобы что-то не
произошло, и часто передает чувство беспокойства или страха о возможном
неблагоприятном исходе.
Данное высказывание можно увидеть в Евангелии от Матфея 16:22, в
Ветхом Завете, Псалом 16:1, в Послании к Римлянам 6:2, 6:15.
Переводчики использовали фразеологический эквивалент на русском
языке. Фраза Сохрани меня Бог несет в себе ту же эмоциональную и
смысловую нагрузку, что и Heaven forbid.
Смысл выражения передан через близкую по значению фразу в русском
языке, которая также выражает сильное желание избежать неблагоприятного
исхода.
Переводчик использовал аналогичное выражение в чешском языке.
Фраза Chraň bůh (буквально «Бог защити») передает то же самое значение и
эмоциональный оттенок, что и Heaven forbid.
Переводчик сохранил религиозный контекст и эмоциональную окраску
оригинала, что делает перевод естественным для носителей чешского языка.
Оба перевода, русский и чешский, используют фразеологические
эквиваленты для передачи значения и эмоциональной нагрузки оригинальной
фразы Heaven forbid.
Выводы по третьей главе
Роман Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта» (The French
Lieutenant's Woman) включает в себя большое количество библеизмов.
Сюжет романа тесно связан с темами христианства, греха и покаяния.
Именно эти характеристики делают его особенно привлекательным для
исследования перевода, предоставляя широкий диапазон для интерпретации
и передачи глубокого смысла.
Главный герой, Чарльз, сам сравнивает себя с распятым Иисусом, Сара
Вудрафф часто ассоциируется с Марией Магдалиной, символом покаяния и
спасения через веру в христианской традиции. Религиозные мотивы
пронизывают каждый аспект сюжета, влияя на моральные дилеммы
персонажей и их внутренние конфликты. Церковная тематика играет
ключевую роль, являясь местом внутреннего поиска и преображения.
Внутренняя борьба с грехами и стремление к покаянию создают сложные
ситуации, которые становятся основой для развития сюжета, обогащая его
эмоциональным напряжением.
В рамках нашего исследования мы изучили переводы романа «Женщина
французского лейтенанта» на русский и чешский языки. Мы использовали
перевод М.И. Беккера и И.Б. Комаровой на русский и перевод Ханы
Жантовской на чешский язык.
Проанализировав тексты на этих языках, мы составили таблицу, в
которой приведены 44 библеизма, а также их переводы на русский и чешский
языки. Кроме того, в таблице отмечены 3 библеизма, которые отсутствуют в
английском
тексте,
но
были
добавлены
русскими
и
чешскими
переводчиками. Два библеизма указаны в строке таблицы Приложение.
В этой таблице также указан тип каждого библеизма и его библейский
источник. Такой подход
позволил нам более глубоко
исследовать
использование библейских образов и мотивов в тексте, а также сопоставить
их в различных языковых контекстах.
Для перевода библеизмов в данном романе были использованы
транслитерационный, парафразирующий, компенсаторный и смысловой
способы перевода.
Заключение
Библеизмы — это выражения из Библии, применяемые в различных
контекстах, включая устную речь, печатные издания и художественные
произведения. Исследования показывают, что библеизмы существенно
обогащают художественные тексты, придавая им стилистическую и
эмоциональную глубину. Различные виды библеизмов, такие как слова,
имена собственные, фразеологизмы и цитаты, имеют свои особенности
использования. Понимание библеизмов важно для анализа культурных и
языковых аспектов. Переводы Библии отражают культурные контексты, а
библеизмы продолжают использоваться в современном обществе, неся
важное культурное наследие и моральные ценности. Перевод библеизмов
требует применения различных методов и стратегий, учитывающих
стилистические и культурные особенности как оригинального, так и целевого
текста. При переводе библеизмов необходимо учитывать их контекст и
целевую аудиторию. Некоторые библеизмы могут быть неопределёнными
или непривычными для целевой аудитории, что усложняет задачу
переводчика.
Библеизмы, как элементы интертекстуальности, проникают в различные
области культурной и интеллектуальной деятельности, включая литературу,
искусство, философию и религиозные исследования.
В текстах библеизмы играют важную эмоционально-риторическую роль,
делая их более выразительными и насыщенными. Использование различных
типов библеизмов в прямой речи и разговорных формах придает тексту
эмоциональную
окраску
и
создаёт
воздействие
на
читателя.
Они
способствуют достижению основной цели художественного текста —
эстетической выразительности. Понимание библеизмов требует учета
культурного контекста и особенностей каждого общества.
Роман Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта» (The French
Lieutenant's Woman) содержит значительное количество библеизмов, а его
сюжет тесно связан с темами христианства, греха и покаяния.
В рамках нашего исследования мы изучили переводы этого романа на
русский и чешский языки, используя перевод М.И. Беккера и И.Б. Комаровой
на русский язык, а также перевод Ханы Жантовской на чешский язык.
Результатом исследования стала таблица, включающая 44 библеизма и
их переводы на русский и чешский языки. В таблице также отмечены три
библеизма,
отсутствующие
в
оригинальном
английском
тексте,
но
добавленные русскими и чешскими переводчиками.
В таблице приведены типы каждого библеизма и их библейские
источники. Такой подход позволил глубже исследовать использование
библейских образов и мотивов в тексте, а также сопоставить их в различных
языковых контекстах.
Для перевода библеизмов в данном романе были использованы
транслитерационный, парафразирующий, компенсаторный и адаптирующий
способы перевода.
Приложение
Библеизмы в романе Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта» и их перевод на
русский и чешский языки.
Английский
Русский
Чешский
язык
язык
язык
The widow’s mite Притча о
лепте вдовицы
Тип библеизма
Источник
Podobenství
БФЕ
o (Библеизмы-
Евангелие от
vdovině groši
фразеологические
Марка
единицы)
12:41-44;
Евангелие от
Луки 21:1-4
Magdalen Society Магдалинский
приют
Magdalénský
БС (библеизмы-
Евангелие от
spolek
имена
Луки 8:1-3;
собственные)
Евангелие от
Марка 16:9
The Good
Добрый
Milosrdný
БФЕ (Библеизмы-
Евангелие от
Samaritan
самарянин
Samaritán
фразеологические
Луки 10:30-37.
единицы)
The Dies Irae
День гнева
Den hněvu
БФЕ (Библеизмы-
Книга Исаи и
фразеологические
13:9
единицы)
Lama, lama,
Lama, lama,
Eli, Eli,
БЦ (прямая
Евангелие от
sabachthane me
sabachthane me
lama
цитата)
Матфея 27:46
БС (библеизмы-
Ветхий Завет,
имена
Книга пророка
собственные)
Иеремии
Sodoma a
БС (библеизмы-
Ветхий Завет,
Gomora
топонимы)
Книга Бытия,
sabachtami?
Jeremiah
Sodom and
Gomorrah
Иеремия
Содом и Гоморра
Jeremiáš
главы 18 и 19;
Евангелие от
Матфея 10:15;
Евангелие от
Луки 17:28-29;
Послание к Титу,
1:12
I am to walk in
Ходить стезями
Mám kráčet po cestě
БФЕ (Библеизмы-
the paths
добродетели
ctnosti.
of righteousness
Ветхий Завет,
фразеологические
Притчи
единицы)
Соломона
2:20-22
The scarlet
Вавилонская
Šarlatová
БФЕ (Библеизмы-
Откровение
woman
блудница
žena
фразеологические
Иоанна
единицы)
Богослова,
Глава 17
Omphalos
Пуп Земли
Omphalos
БФЕ (Библеизмы-
Книга Исаии
фразеологические
40:22
единицы)
Jezebel
Иезавель
I do but render unto
Я всего лишь
Caesar
воздаю кесарю
Jezábel
БС (библеизмы-
Ветхий Завет,
имена
Вторая книга
собственные)
Царств
Dávám jen
БФЕ (Библеизмы-
Евангелие от
Césarovi
фразеологические
Матфея
единицы)
22:21;
Евангелие от
Марка 12:17;
Евангелие от
Луки 20:25
Like Jesus of
Положение
Jako Ježíš
БФЕ (Библеизмы-
Евангелие от
Nazareth
Христа в пустыне
Nazaretský,
фразеологические
Матфея 4:1-11;
když ho
единицы)
Евангелие от
tempted by Satan.
St. Paul on the
Павел на пути
road to Damascus в Дамаск
The Virgin Mary
Дева Мария
pokoušel ďábel.
Марка 1:12-13
Svatý Pavel na cestě
БС (библеизмы-
Деяния святых
do Damašku
имена
Апостолов 9:1-9,
собственные)
9:10-19
БС (библеизмы-
Евангелие от
Panna Maria
имена
Матфея
собственные)
1:18-25, 2:1-7;
Евангелие от
Луки 1:26-38,
2:1-7;
Евангелие от
Иоанна 19:25-27;
Деяния святых
Апостолов 1:14
Holy Grails
Грааль
Svatý Grál
БС (религиозные
Евангелие от
реалии)
Матфея 26:127:66;
Евангелие от
Марка14:1-15:47;
Евангелие от
Луки: 22:1-23:56;
Евангелие от
Иоанна 18:119:42
Christ on
Распятым на
the Cross
кресте
Krist na kříži
БФЕ (Библеизмы-
Евангелие от
фразеологические
Матфея 27:32-56;
единицы)
Евангелие от
Марка 15:21-41;
Евангелие от
Луки 23:26-49;
Евангелие от
Иоанна 19:16-37
The cross she
Тяжкий крест
Kříž, který
БФЕ (Библеизмы-
Евангелие от
had to carry
она несет
musí nést
фразеологические
Матфея 27:32;
единицы)
Евангелие от
Марка 15:21;
Евангелие от
Луки 23:26;
Евангелие от
Иоанна 19:17
Heavenly vision
Божественное
Nebeská vidina БС (религиозные
видение
реалии)
Откровение
Иоанна
Богослова;
Евангелие от
Матфея 17:1-9;
Деяния святых
Апостолов 9:3-9
Deliver me,
Избави меня,
Vysvoboď
mne,
БЦ (прямая
Ветхий Завет,
O Lord, from
Господи, от
Hospodine,
цитата)
od
Псалом 140:1
the evil man
человека злого
člověka zlého
Christ, of a man
Христа, человека,
Krist, muže z
БС (библеизмы-
Евангелие от
born in Nazaret
рожденного
Nazaretu
имена
Иоанна 1:45-46;
собственные)
Евангелие от
в Назарете
(139:1)
Луки 24:19;
Евангелие от
Матфея 2:23;
Евангелие от
Марка 1:9
The Song of
Песня
Песней
Solomon
Соломона
царя
Píseň písní
БС (библеизмы-
Ветхий Завет,
имена
Песня Песней
собственные)
Blessed
are
Блаженны
the
undefiled in the way,
непорочные в
Blahoslavení
žijící
БЦ (прямая
Ветхий Завет,
bez poskvrny, цитата)
kdo
Псалом 119:1
(118:1)
who walk in
пути, ходящие
kráčejí
the law of
в законе
podle zákonů
the Lord
Господнем
Páně.
Блаженны
the
Blahoslavení
БЦti,(модифициро-
Ветхий Завет,
непорочные
kteříž jsou
ванная цитата)
Псалом 119:1
Blessed
are
undefiled
ctného
(118:1)
obcování
The Fallen One
Падший ангел
Padlý anděl
БФЕ (Библеизмы-
Откровение
фразеологические
Иоанна
единицы)
Богослова 12:7-9;
Книга Исаии
14:12-15
Heaven forbid
Сохрани меня Бог
Chraň bůh
БЦ (прямая
Евангелие от
цитата)
Матфея 16:22;
Ветхий Завет,
Псалом 16:1;
Послание к
Римлянам 6:2,
6:15
Languidly gave
Чарльз вяло внес свою
Charles
БФЕ (Библеизмы-
Евангелие от
his share
лепту (добавление unuděně
фразеологические
Марка
переводчика)
единицы)
12:41-44;
přispěl svým
Евангелие от
dílem
Луки 21:1-4
Living misery
Юдоль скорби
Ji tam čeká
БС (религиозные
Ветхий Завет,
(добавление
dennodenní
реалии)
Псалом 83:7
переводчика)
očistec
(рус. перевод);
(добавление
Ветхий Завет,
переводчика)
Вторая книга
Маккавейская
12:43-45
(чеш. перевод)
Confession
Исповедь
Zpověď
БС (религиозные
Новый Завет,
реалии)
Послание Иакова
5:6;
Новый Завет,
Послание к
Римлянам 10:9;
Ветхий Завет,
Псалом 136:1
Candidates for
Претендентам
Uchazeč
БФЕ (Библеизмы-
Ветхий Завет,
paradise
на райское
o místo v ráji
блаженство
фразеологические
Бытие 2:8-9,
единицы)
2:10-14;
Откровение
Иоанна
Богослова 2:7,
22:1-2;
Евангелие от
Луки 23:43
Paradise
Рай
Ráj
БС (религиозные
Ветхий Завет,
реалии)
Бытие 2:8-9,
2:10-14;
Откровение
Иоанна
Богослова 2:7,
22:1-2;
Евангелие от
Луки 23:43
The devil’s
instrument
Орудие дьявола
Nástroj ďábla
БФЕ (Библеизмы-
Ветхий Завет,
фразеологические
Бытие 3:1;
единицы)
Исход 12:23;
Книга Иова
1:6-12;
Откровение
Иоанна
Богослова 12:9,
20:2;
Книга Исаии
14:12;
Евангелие от
Матфея 4:1-11;
Евангелие от
Луки 4:1-13;
Новый Завет,
Первое Послание
Петра Петра 5:8;
Послание к
Ефесянам 6:11-12
Fallen women
Падшие женщины
Padlé ženy
БФЕ (Библеизмы-
Ветхий Завет:
фразеологические
Бытие 38:24;
единицы)
Книга Иисуса
Навина 2:1;
Евангелие от
Иоанна 8:3-4;
Евангелие от
Луки 8:2;
Откровение
Иоанна
Богослова 2:20
The City of Sin
Град греха
Město hříchu
БФЕ (Библеизмы-
Ветхий Завет,
фразеологические
Книга Бытия,
единицы)
главы 18 и 19;
Евангелие от
Матфея 10:15;
Евангелие от
Луки 17:28-29,
Послание к Титу,
1:12
Jesus of Nazareth
Иисус из Назарета Ježíš
Nazaretský
БС (библеизмы-
Евангелие от
имена
Иоанна, 1:45-46;
собственные)
Евангелие от
Луки 24:19;
Евангелие от
Матфея 2:23;
Евангелие от
Марка 1:9
He saw himself
К кресту
Že je snad
БФЕ (Библеизмы-
Евангелие от
hanging there
пригвожден
ukřižován na ní фразеологические
Матфея 27:35;
единицы)
crucified
Евангелие от
Марка 15:24;
Евангелие от
Луки 23:33;
Евангелие от
Иоанна 19:18
To uncrucify
Снять с креста
Sejmout z kříže БФЕ (Библеизмыфразеологические
Евангелие от
Марка 15:45-46
единицы)
Paradise Lost
Рай навсегда
Ráj byl ztracen
потерян
Devil’s singe
The Devil
Клеймо дьявола
Дьявол
-
D'ábel
БФЕ (Библеизмы-
Ветхий Завет,
фразеологические
Книга Бытия
единицы)
2:8-25; 3
БФЕ (Библеизмы-
Откровение
фразеологические
Иоанна
единицы)
Богослова 13:16
БС (религиозные
Ветхий Завет,
реалии)
Бытие 3:1;
Исход 12:23;
Книга Иова
1:6-12;
Откровение
Иоанна
Богослова 12:9,
20:2;
Книга Исаии
14:12;
Евангелие от
Матфея 4:1-11;
Евангелие от
Луки 4:1-13;
Новый Завет,
Первое Послание
Петра 5:8;
Послание к
Ефесянам 6:11-12
The great God
Великое Божество Velký Bůh
БС (религиозные
Ветхий Завет,
реалии)
Второзаконие
10:17;
Книга Неемии
9:32;
Псалтирь 76:14,
95:3;
Новый Завет,
Послание к
Титу 2:13;
Откровение
Иоанна
Богослова 19:17
Garden of Eden
Cады Эдема
Rajská zahrada
БС (библеизмы-
Ветхий Завет,
топонимы)
Бытие 2:8-14,
3:23-24;
Книга пророка
Иезекииля
28:13-17, 31:8-9;
Книга пророка
Иоиля 2:3;
Евангелие от
Луки 23:43
Список использованной литературы
1. Алексеева И. С. Апофеоз интертекстуальности (о переводе поэмы
Тимура Кибирова «Когда Ленин был маленьким» на немецкий язык
и об интертекстуальном барьере в переводе) // Третьи Федоровские
чтения: материалы III Междунар. науч. конф. по переводоведению
«Федоровские чтения». - 2001. - С. 13-19.
2. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. - 2004. - 168 с.
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М.: 1966. 571 с.
4. Бабкин А.М. Русская фразеология, ее развитие и источники. - Л.:
Наука, 1990. - 264 с.
5. Бакина А.Д., Кибизова Е.Р. Семантические особенности библейских
аллюзий и специфика их перевода. - 2020. - 101 с.
6. Барт Р. Текстовой анализ // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.
9. Лингвостилистика. . - М.: Прогресс, 1980. - С. 308.
7. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других
гуманитарных
науках
//
Русская
словесность.
От
теории
словесности к структуре текста. - М.: Academia, 1997. - С. 238.
8. Бобырева Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии:
(на материале православного вероучения). - Волгоград: 2007. - 375
с.
9. Брежнева
О.В.
Особенности
перевода
безэквивалентных
библеизмов английского языка на русский язык // Филологические
науки. Вопросы теории и практики . - Тамбов: Грамота, 2017. - С.
88-90.
10.Бугаева И.В. Язык православной сферы: современное состояние,
тенденции развития. - 2010. - 454 с.
11.Булавина С.В. Русские устойчивые словосочетания, содержащие
церковно-религиозную лексику. - Воронеж: 2003. - 156 с.
12.Верещагин Е.М. Библейская стихия русского языка: сборник
научных статей. - 1993. №1. – С.90-98.
13.Денисова Г.В. В мире интертекста: язык, память, перевод. - М.:
Азбуковник, 2003. - 298 с.
14.Денисова
Г.В.
Интертекстуальность
и
семиотика
перевода:
возможности и способы передачи интекста // Текст. Интертекст.
Культура: сб. докл. междунар. науч. конф.. - М., 2001. - С. 112-128.
15.Дубровина К.Н. Особенности библейской фразеологии в русском
языке // Филологические науки: сборник научных статей. - 2001. №1. - С. 92.
16.Есаян
М.В.
Перевод
образномзначениях
//
библеизмов
Известия
в
буквальном
Южного
и
федерального
университета. Технические науки. - 2006. - С. 42-45.
17.Захарова М.А. Стратегия речевого использования образных
фразеологизмов английского языка. - М.: Наука, 1999. - 151 с.
18.Иванов Е.Е., Маслова В.А., Мокиенко В.М. Наследие Библии в
языках и культурах народов России и Беларуси . - М.: РУДН, 2022. 270 с.
19.Ильин. И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. - М.: INTRADA,
2001. - 384 с.
20.Ильин
И.П.
Стилистика
интертекстуальности:
теоретическик
аспекты // Проблемы современной стилистики. Сб. науч. трудов. . М.: 1989. - С. 186-207.
21.Карпенко Е.И. Лингвокультурные коннотации библеизмов в
художественном тексте (на материале немецкого языка) // Вестник
МГЛУ. 2010. №583.
22.Климович
Н.В.
типологический,
Библеизмы
в
функциональный
и
художественном
тексте:
переводческий
аспекты:
автореферат // 2011. - С. 8–11.
23.Клюкина Т.П. Особенности употребления и перевода библеизмов. 2003.
24.Колесов В.В. Библеизмы в «Слове» // Энциклопедия «Слова о
полку Игореве»: в 5 т. – СПб., 1995. – Т. 1. – С. 110–111.
25.Кронгауз М.А. Семантика: учебник для студ. лингв. фак. высш.
учеб. заведений. . - М.: Академия, 205. - 352 с.
26.Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста. - Москва:
Логос, 1998. - 551 с.
27.Малкерова М.А. О понятии «ложный библеизм» (на материале
английского языка) // Фундаментальная наука ВУЗам №1. 2013 –
С.303-308.
28.Махмудова М. М. Эффективные методы перевода (на примере
перевода произведений Гёте) // Вестник науки и образования. 2019. - С. 1-4.
29.Мечковская Н.Б. Язык и религия. - М.: 1998. - 352 с.
30.Мокиенко
В.М. Библеизмы
в
Европейской
фразеологии
и
парамиологии // Universität Greifswald, С. 144-153 .
31.Мокиенко В.М. Русские интертекстемы как отражение русской
культуры // Мир русского слова и русское слово в мире. Материалы
XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского
языка и литературы. . - Sofia: Heron Prеss, 2007. - С. 223–231.
32.Назарова И.П. Библеизмы в национальной и социокультурной
картинах мира // Международный журнал экспериментального
образования. – 2011. – № 3. – С. 96-97.
33.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1996. - 944 с.
34.Родионова Е.В. Интертекстуальность // Studia Anglica Posnaniensia:
Intertextuality in English and American Literature. Proceedings From
Baranowo Conference. - Poznań: 1995
35.Рыжаков В.С Когнитивный и семиотический подходы к пониманию
// Преподаватель XXI век. № 4. Часть 2.. - М.: Прогресс, 2023. - С.
437–447.
36.Семенова, Е.С. Библеизм как средство речевого воздействия Текст.:
автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.19 / Е.С. Семенова. Тверь:
Твер. гос. ун-т., 2003. - 19 с.
37.Сергеева, Е.В. Особенности употребления библеизмов в русской
поэзии XX // Лингвистические параметры художественного текста.
– Оренбург, 2010. – С. 54–65.
38.Скляревская, Г.Н. Словарь православной церковной культуры. - М.:
2007. - 447 с.
39.Смит Л.П. Фразеология английского языка. - М.: Учпедгиз, 1998. 208 с.
40.Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и
лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской
культуры», 1996. – 464 с.
41.Тимина С.И. Современная русская литература (1990-е гг. – начало
XXI в.): учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф.
образования . - 3-е. изд. - М.: Академия, 2013. - 352 с.
42.Тимофеев К.А Религиозная лексика русского языка как выражение
христианского мировоззрения: учебное пособие. - Новосибирск:
2001. - 88 с.
43.Фаулз Джон Женщина французского лейтенанта. - Москва: ПрофИздат, 2007. - 496 с.
44.Чернявская
В.Е.
Лингвистика
текста:
поликодовость,
интертекстуальность, интердискурсивность. Учебное пособие. . М.: Либроком, 2009. - 248 с.
45.Якимов П.А. О сущности понятия «религиозная лексика в
современной лингвистике» // Вестник ОГУ №11 (130)/2011.
46.Baghana Zherom, Wang Qi, Bissenbayeva Zhanat ENGLISH IDIOMS
AND PHRASES AS THE REFLECTION OF LANGUAGE AND
CULTURE SYMBIOSIS // Вопросы журналистики, педагогики,
языкознания. - Almaty: 2023. - С. 114-125.
47.Bake Mona In Other Words: A Coursebook on Translation. - London:
Routledge, 2018. - 317 с.
48.Fowles John Francouzova milenka. - Zlin: Kniha Zlin, 1976. - 484 с.
49.Fowles John The French Lieutenant's Woman. - London: Vintage
Books, 2004. - 512 с.
50.Smolyanskaya N. The problem of linguopragmatic research of biblical
phraseological units in Russian and English languages // Norwegian
Journal of Development of the International Science. - 2019. - С. 67.