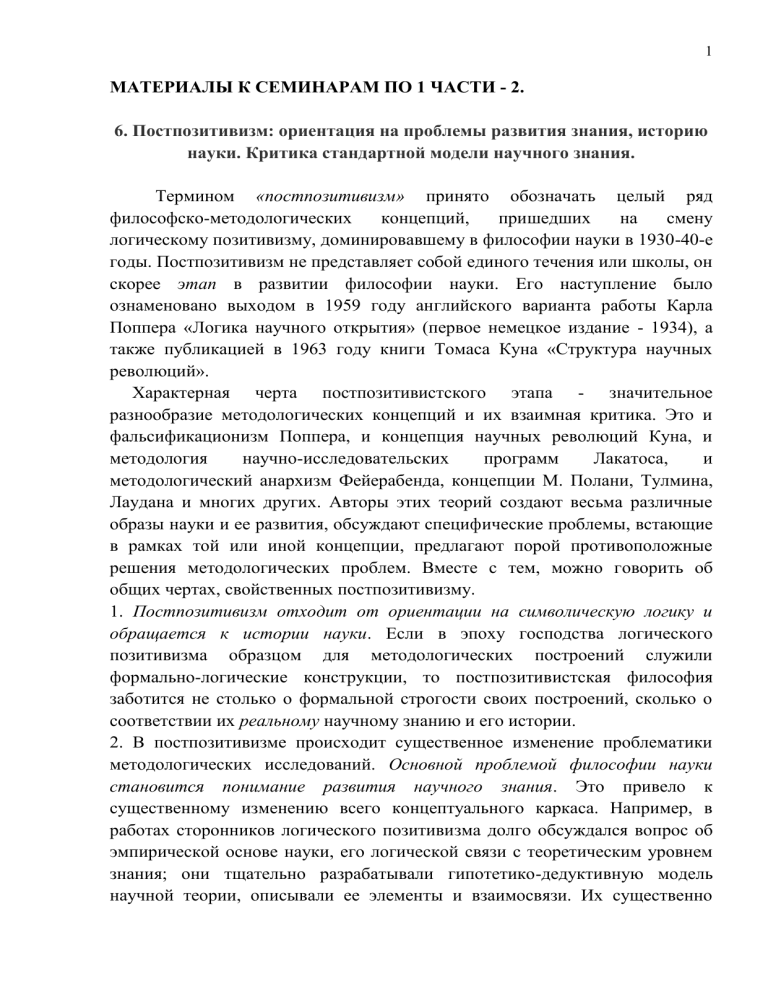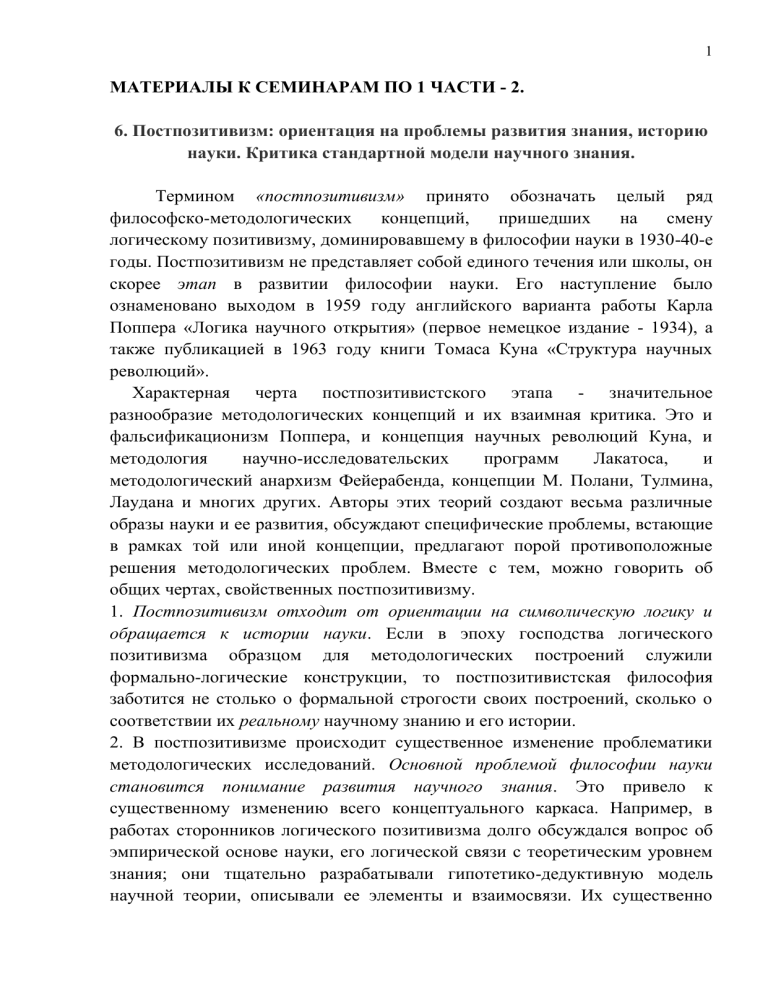
1
МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРАМ ПО 1 ЧАСТИ - 2.
6. Постпозитивизм: ориентация на проблемы развития знания, историю
науки. Критика стандартной модели научного знания.
Термином «постпозитивизм» принято обозначать целый ряд
философско-методологических
концепций,
пришедших
на
смену
логическому позитивизму, доминировавшему в философии науки в 1930-40-е
годы. Постпозитивизм не представляет собой единого течения или школы, он
скорее этап в развитии философии науки. Его наступление было
ознаменовано выходом в 1959 году английского варианта работы Карла
Поппера «Логика научного открытия» (первое немецкое издание - 1934), а
также публикацией в 1963 году книги Томаса Куна «Структура научных
революций».
Характерная черта постпозитивистского этапа - значительное
разнообразие методологических концепций и их взаимная критика. Это и
фальсификационизм Поппера, и концепция научных революций Куна, и
методология
научно-исследовательских
программ
Лакатоса,
и
методологический анархизм Фейерабенда, концепции М. Полани, Тулмина,
Лаудана и многих других. Авторы этих теорий создают весьма различные
образы науки и ее развития, обсуждают специфические проблемы, встающие
в рамках той или иной концепции, предлагают порой противоположные
решения методологических проблем. Вместе с тем, можно говорить об
общих чертах, свойственных постпозитивизму.
1. Постпозитивизм отходит от ориентации на символическую логику и
обращается к истории науки. Если в эпоху господства логического
позитивизма образцом для методологических построений служили
формально-логические конструкции, то постпозитивистская философия
заботится не столько о формальной строгости своих построений, сколько о
соответствии их реальному научному знанию и его истории.
2. В постпозитивизме происходит существенное изменение проблематики
методологических исследований. Основной проблемой философии науки
становится понимание развития научного знания. Это привело к
существенному изменению всего концептуального каркаса. Например, в
работах сторонников логического позитивизма долго обсуждался вопрос об
эмпирической основе науки, его логической связи с теоретическим уровнем
знания; они тщательно разрабатывали гипотетико-дедуктивную модель
научной теории, описывали ее элементы и взаимосвязи. Их существенно
2
интересовали вопросы эмпирической редукции теоретических терминов и
предложений.
Представители
постпозитивизма,
напротив,
этими
проблемами
практически не занимаются. Их интересы концентрируются в основном
вокруг решения других проблем: как возникает новая теория? Как она
добивается признания? Каковы критерии сравнения и выбора
конкурирующих научных теорий? Возможны ли коммуникации между
сторонниками альтернативных теорий? Попытки ответить на эти вопросы
приводят к формированию определенных представлений о структуре
научного знания (парадигмы у Куна, научно-исследовательские программы у
Лакатоса, дисциплинарные идеалы у Тулмина и т.п.)
3. Для постпозитивизма характерен отказ от жестких разграничительных
линий между теориями и эмпирическими суждениями. Вместо резкого
противопоставления эмпирического знания как надежного, обоснованного,
неизменного теоретическому знанию, часто необоснованному и
изменчивому,
постпозитивизм
подчеркивает
взаимопроникновение
эмпирического и теоретического, плавный переход от одного к другому и
даже об относительности этой дихотомии. Философы-постпозитивисты
говорят о «теоретической нагруженности» фактов - факты в определенной
мере детерминируются теорией.
4. Постпозитивизм признает важную роль философских (в их терминологии
- метафизических) положений и неустранимость их из научного знания. Так,
парадигмы Куна содержат в себе фундаментальные положения, философские
по своей сути. «Жесткое ядро» научно-исследовательской программы
Лакатоса также состоит из «метафизических» утверждений.
5. Характерной особенностью постпозитивистских концепций является их
стремление опереться на историю науки. Позитивизм, напротив, не питал
интереса к истории. Он брал за образец научности теории математической
физики и полагал, что все научное знание в конечном итоге должно
приобрести форму аксиоматических или гипотетико-дедуктивных теорий.
Если какие-то дисциплины далеки от этого идеала, то это свидетельствует
лишь об их незрелости. Представители постпозитивизма, напротив, главным
объектом своего внимания сделали развитие знания, поэтому они постоянно
обращались к изучению истории возникновения, развития и смены научных
идей и теорий.
6. Особенностью большинства постпозитивистских концепций был
отказ от моделей линейного прогресса в понимании развития знания.
Постпозитивизм признавал, что в истории науки неизбежны существенные,
революционные преобразования, когда происходит пересмотр значительной
3
части ранее признанного и обоснованного знания - не только теорий, но и
эмпирического материала, методов, фундаментальных мировоззренческих
представлений. Поэтому вряд ли можно говорить о линейном,
поступательном развитии науки. В этой связи многие представители
постпозитивизма предпочитают говорить не о развитии, а об изменении
научного знания.
Сторонники позитивизма были убеждены в том, что философия науки
сама является наукой. Следовательно, по их мнению, в ней должна
существовать одна общепризнанная методологическая концепция.
Постпозитивизм породил множество таких концепций, однако долгое время
сохранял позитивистское убеждение в том, что лишь одна из них может быть
«правильной», адекватной, что в философии науки нужно стремится к
философской общезначимости. Однако, по сути, зашедшие в тупик
дискуссии между сторонниками Поппера, Куна и Лакатоса в конце концов
показали, что философия науки - далеко не наука, что в ней не может быть
общезначимых концепций и решений, что она неизбежно несет на себе
отпечаток характерного для философии плюрализма. Осознание этого
произошло на рубеже 1970-80-х годов.
Представители позднего постпозитивизма обратились к рассмотрению
отдельных методологических проблем, уточнению и проверке философскометодологических моделей в самых разнообразных областях научного
знания, а не только в области точного естествознания, что характерно для
«раннего» постпозитивизма. Отсюда возник интерес к исследованию
методологии социально-гуманитарных наук, прежде всего, социологии и
экономики.
7. Основные идеи концепции научных революций Т. Куна.
Понятие парадигмы и ее важнейшие составляющие.
Томас Кун о несоизмеримости научных парадигм.
Обращение К. Поппера к проблемам развития знания подготовило почву
для обращения философии науки к истории научных идей и концепций.
Однако построения самого Поппера все еще носили умозрительный характер
и их источником оставались логика и некоторые теории математического
естествознания. Первой методологической концепцией, получившей
широкую известность и опиравшейся на изучение истории науки, была
концепция американского историка и философа науки Томаса Куна (1922—
1996). Он готовил себя для работы в области теоретической физики, однако еще в
4
аспирантуре с удивлением обнаружил, что те представления о науке и ее развитии,
которые господствовали в Европе и США в конце 40-х годов XX в., значительно
расходятся с реальным историческим материалом. Это открытие обратило его к более
глубокому изучению истории. Рассматривая, как фактически происходило установление
новых фактов, выдвижение и признание новых научных теорий, Кун постепенно пришел к
собственному оригинальному представлению о науке. Это представление он выразил в
знаменитой книге «Структура научных революций», увидевшей свет в 1962 г.
Важнейшим понятием концепции Куна является понятие парадигмы.
Содержание этого понятия так и осталось не вполне ясным. Однако в первом
приближении можно сказать, что парадигма есть совокупность научных
достижений, признаваемых всем научным сообществом в определенный
период времени.
Вообще говоря, парадигмой можно назвать одну или несколько
фундаментальных теорий, получивших всеобщее признание и в течение
какого-то времени направляющих научное исследование. Примерами
подобных
парадигмальных
теорий
служат
физика
Аристотеля,
геоцентрическая система мира Птолемея, механика и оптика Ньютона,
кислородная теория горения Лавуазье, электродинамика Максвелла, теория
относительности Эйнштейна, теория атома Бора и т.п. Таким образом,
парадигма воплощает в себе бесспорное, общепризнанное знание об
исследуемой области явлений природы.
Однако, говоря о парадигме, Кун имеет в виду не только некоторое
знание, выраженное в ее законах и принципах. Ученые — создатели
парадигмы — не только сформулировали некоторую теорию или закон, но
они еще решили одну или несколько важных научных проблем и тем самым
дали образцы того, как нужно решать проблемы. Оригинальные опыты
создателей парадигмы в очищенном от случайностей и усовершенствованном
виде затем входят в учебники, по которым будущие ученые осваивают свою
науку. Овладевая в процессе обучения этими классическими образцами
решения научных проблем, будущий ученый глубже постигает
основоположения своей науки, обучается применять их в конкретных
ситуациях и овладевает специальной техникой изучения тех явлений,
которые образуют предмет данной научной дисциплины. Парадигма дает
набор образцов научного исследования — в этом заключается ее важнейшая
функция.
Но и это еще не все. Задавая определенное видение мира, парадигма
очерчивает круг проблем, имеющих смысл и решение: все, что не попадает в
этот круг, не заслуживает рассмотрения с точки зрения сторонников
парадигмы. Вместе с тем парадигма устанавливает допустимые методы
5
решения этих проблем. Таким образом, она определяет, какие факты могут
быть получены в эмпирическом исследовании, не конкретные результаты, но
тип фактов.
С понятием парадигмы тесно связано понятие научного сообщества, в
некотором смысле эти понятия синонимичны. В самом деле, что такое
парадигма? — Это некоторый взгляд на мир и методы его изучения,
принимаемый научным сообществом. А что такое научное сообщество? —
Это группа людей, объединенных верой в одну парадигму. Стать членом
научного сообщества можно, только приняв и усвоив его парадигму. Если вы
не разделяете веры в парадигму, вы остаетесь за пределами научного
сообщества. Поэтому, например, современные экстрасенсы, астрологи,
исследователи летающих тарелок и полтергейстов не считаются учеными, не
входят в научное сообщество, ибо все они либо отвергают некоторые
фундаментальные принципы современной науки, либо выдвигают идеи, не
признаваемые современной наукой.
Науку, развивающуюся в рамках определенной парадигмы, Кун называет
«нормальной» наукой , полагая, что именно такое состояние является для
науки обычным и наиболее характерным. В отличие от Поппера, считавшего,
что ученые постоянно думают о том, как бы опровергнуть существующие
признанные теории, с этой целью стремятся к постановке опровергающих
экспериментов, Кун убежден, что в реальной научной практике ученые почти
никогда не сомневаются в истинности основоположений своих теорий и даже
не ставят вопроса об их проверке.
«Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых теорий, обычно к
тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий другими. Напротив, исследование в
нормальной науке направлено на разработку тех явлений и теорий, существование
которых парадигма заведомо предполагает» (Кун Т. Структура научных революций. М.:
ACT, 2001. С. 50—51).
Чтобы подчеркнуть особый характер проблем, разрабатываемых учеными в
нормальный период развития науки, Кун называет их «головоломками»,
сравнивая их решение с решением кроссвордов или с составлением картинок
из раскрашенных кубиков. Кроссворд или головоломка отличаются тем, что
для них существует гарантированное решение, и это решение может быть
получено некоторым предписанным путем. Пытаясь сложить картинку из
кубиков, вы знаете, что такая картинка существует. При этом вы не имеете
права изобретать собственную картинку или складывать кубики так, как вам
заблагорассудится, хотя бы при этом получались более интересные — с
6
вашей точки зрения — изображения. Вы должны сложить кубики
определенным образом и получить предписанное изображение. Точно такой
же характер носят проблемы нормальной науки. Парадигма гарантирует,
что решение существует, и она же задает допустимые методы и средства
получения этого решения.
До тех пор, пока решение головоломок протекает успешно, парадигма
выступает как надежный инструмент познания. Увеличивается количество
установленных фактов, повышается точность измерений, открываются новые
законы, растет дедуктивная связность парадигмы, короче говоря, происходит
накопление знания. Но вполне может оказаться — и часто оказывается, —
что некоторые задачи-головоломки, несмотря на все усилия Ученых, так и не
поддаются решению, скажем, никак не удается устранить расхождение
предсказаний теории с экспериментальными данными. Сначала на это не
обращают внимания. Это только в представлении Поппера стоит лишь
ученому зафиксировать расхождение теории с фактом, он сразу же
подвергает теорию сомнению. Реально же ученые всегда надеются на то, что
со временем противоречие будет устранено и головоломка решена. Но
однажды может быть осознано, что средствами существующей парадигмы
проблема не может быть решена. Дело не в индивидуальных способностях
того или иного ученого, не в повышении точности измерительных приборов,
а в принципиальной неспособности парадигмы решить проблему. Такую
проблему Кун называет аномалией.
Пока аномалий немного, ученые не слишком о них беспокоятся. Однако
разработка самой парадигмы приводит к росту числа аномалий.
Совершенствование приборов, повышение точности наблюдений и
измерений, возрастание строгости концептуальных средств — все это ведет к
тому, что расхождения между предсказаниями парадигмы и фактами,
которые ранее не могли бы замечены и осознаны, теперь фиксируются и
осознаются как проблемы, требующие решения. Попытки справиться с этими
новыми проблемами за счет введения в парадигму новых теоретических
предположений нарушают ее дедуктивную стройность, делают ее
расплывчатой и рыхлой.
Доверие к парадигме падает. Ее неспособность справиться с
возрастающим количеством проблем свидетельствует о том, что она уже не
может служить инструментом успешного решения головоломок. Наступает
состояние, которое Кун называет кризисом. Ученые оказываются перед
лицом множества нерешенных проблем, необъясненных фактов и
экспериментальных данных. У многих из них господствовавшая недавно
парадигма уже не вызывает доверия, и они начинают искать новые
7
теоретические средства, которые, возможно, окажутся более успешными.
Уходит то, что объединяло ученых, — парадигма. Научное сообщество
распадается на несколько групп, одни из которых продолжают верить в
парадигму, другие выдвигают гипотезы, претендующие на роль новой
парадигмы. Нормальное исследование замирает. Наука, по сути дела,
перестает функционировать. Только в этот период кризиса, полагает Кун,
ученые ставят эксперименты, направленные на проверку и отсев
конкурирующих гипотез и теорий.
Период кризиса заканчивается, когда одна из предложенных гипотез
доказывает свою способность справиться с существующими проблемами,
объясняет непонятные факты и благодаря этому привлекает на свою сторону
большую часть ученых, научное сообщество восстанавливает свое единство.
Вот эту смену парадигм Кун и называет научной революцией.
Ученые, принявшие новую парадигму, начинают видеть мир по-новому.
Переход от одной парадигмы к другой Кун сравнивает с переключением
гештальта: например, если раньше на рисунке видели вазу, нужно усилие,
чтобы на том же рисунке увидеть два человеческих профиля. Но как только
это переключение образа произошло, сторонники новой парадигмы уже
неспособны совершить обратное переключение и перестают понимать тех
своих коллег, которые все еще говорят о вазе. Сторонники разных парадигм
говорят на разных языках и живут в разных мирах, они теряют возможность
общаться друг с другом. Что же заставляет ученого покинуть старый,
обжитой мир и устремиться по новой, незнакомой и полной неизвестности
дороге? — Надежда на то, что она окажется удобнее старой, заезженной
колеи, а также религиозные, философские, эстетические и тому подобные
соображения, но не логико-методологические аргументы: «Конкуренция
между парадигмами не является видом борьбы, которая может быть
разрешена с помощью доводов» (там же, с. 193).
Итак, развитие науки у Куна выглядит следующим образом: нормальная
наука, развивающаяся в рамках общепризнанной парадигмы; постепенный
рост числа аномалий, в конечном итоге приводящий к кризису; кризис —
поиски новых идей и теорий; смена парадигм — научная революция.
Накопление знания, совершенствование методов и инструментов,
расширение сферы практических приложений, т.е. все то, что можно назвать
прогрессом, совершается только в период нормальной науки. Однако научная
революция приводит к отбрасыванию всего того, что было получено на
предыдущем этапе, работа науки начинается как бы заново, на пустом месте.
Таким образом, в целом развитие науки получается дискретным: периоды
8
прогресса и накопления знания разделяются революционными провалами,
разрывами исторической ткани науки.
Общая схема развития научной дисциплины по Куну
Фазы
Теоретический уровень
Социологический уровень
До-парадигматический период
Основание
парадигмы
Нормальная наука
Аномалии
Нет общей парадигмы.
Множество конкурирующих
Разногласия по поводу
школ и институтов,
типологии изучаемых
существующих рядом друг с
феноменов. Отсутствие
другом. Низкий уровень
общепризнанных накоммуникаций между
блюдений и стандартных участниками. Книги —
методик. Несистеважнейшее средство
матический сбор данных. коммуникации.
Появление типовых реНачало профессионализультатов исследований. зации. Основание спеСоглашения относительно циализированных журналов,
легитимных проблем и
ассоциаций и научных
методов решений.
сообществ. Проводятся
Соглашения относительно научные конференции. Журфундаментальных
нальные статьи становятся
метафизических
важнейшим средством
вопросов.
коммуникации.
Исследования — в виде Учебники, университетские
дальнейшей разработки дисциплины. Дисциплина
парадигмы, решения
получает контроль над
"головоломок" и решения социализацией своих новых
недостающих вопросов. членов
Цель исследований — не
теоретические инновации
или открытие новых
типов феноменов.
Кризис ожиданий: возЗарождение критики и
никновение новых феобсуждение основ. Первые
номенов, не вписываюпризнаки недостатка
щихся в традиционную
коммуникации между
парадигму.
учеными.
9
Кризис
Революция
Новая парадигма
Размывание парадигмы и
начало развития ее
нескольких версий.
Экстраординарные исследования. Все под сомнением. Философские
споры и попытки развития новых теорий.
Отрицание старой и
возникновение новой
парадигмы.
Поляризация научного
сообщества, жаркие споры,
начало сдвига лояльности от
старой к новой парадигме.
Конверсия, смещение
лояльности у большой
группы исследователей,
профессиональная
гражданская война, закрытие старых и открытие
новых научных журналов.
Всеобщее признание
Новые публикации,
новых типовых научных «перепрофилированные»
достижений, новое состарые журналы, новая
глашение по «основам». социализация, новая
Новое проблемное восгрупповая структура, новые
приятие, новые решения, «авторитеты». Сторонники
новые методики.
старой парадигмы
маргинализируются и
исчезают с научной сцены.
Следует признать, что это — весьма смелая и побуждающая к
размышлениям концепция, оказавшая большое влияние на развитие
философии науки в последующий период. Конечно, весьма трудно
отказаться от мысли о том, что наука прогрессирует в своем историческом
развитии, что знания ученых и человечества в целом об окружающем мире
растут и углубляются. После работы Куна уже нельзя не замечать проблем, с
которыми связана идея научного прогресса. Уже нельзя простодушно
считать, что одно поколение ученых передает свои достижения следующему
поколению, которое эти достижения преумножает. Теперь мы обязаны
ответить на такие вопросы: как осуществляется преемственность между
старой и новой парадигмами? Что и в каких формах передает старая
парадигма новой? Как осуществляется коммуникация между сторонниками
разных парадигм? Как возможно сравнение парадигм? Концепция Куна
10
стимулировала интерес к этим проблемам и содействовала выработке более
глубокого понимания процессов развития науки.
В значительной мере под влиянием работ Поппера и Куна философы
науки чаще стали обращаться к истории научных идей, стремясь обрести в
ней твердую почву для своих методологических построений. Казалось, что
история может служить более прочным основанием методологических
концепций, нежели гносеология, психология, логика. Однако оказалось
наоборот: поток истории размыл методологические схемы, правила,
стандарты; релятивизировал все принципы философии науки и в конечном
итоге подорвал надежду на то, что она способна адекватно описать структуру
и развитие научного знания. Наиболее ярко этот разгром методологических
норм и стандартов выразил П. Фейерабенд.
8. Философия науки К. Поппера. Принцип фальсификации.
Эволюционная модель развития науки1.
Карл Раймунд Поппер родился в 1902 г. в Вене. После окончания в 1924 г. Венского
университета преподавал физику и математику в школе и в Венском педагогическом
институте. В 1935 г. на немецком языке в книжной серии «Очерки о научном
миропонимании», издаваемой М. Шликом и Ф. Франком, была опубликована его первая
книга «Логика исследования», в которой уже содержались основные элементы его
методологической концепции. В 1937 г. Поппер эмигрировал в Новую Зеландию, а в 1946 г.
по приглашению Ф. Хайека переехал в Англию, где до конца жизни работал на кафедре
философии, логики и научного метода Лондонской школы экономики. Умер Поппер в 1994
г. К числу его основных методологических работ относятся следующие: Логика научного
открытия (1959); Предположения и опровержения (1963); Объективное знание (1972).
Методологическая
концепция
Поппера
получила
название
«фальсификационизм», так как ее основным принципом является принцип
фалъсифицируемости. Что это такое и что побудило Поппера положить
именно этот принцип в основу своей методологии?
Прежде всего, он, как и логические позитивисты, руководствовался
некоторыми логическими соображениями. Логические позитивисты
заботились о верификации утверждений науки, т.е. об их обосновании с
помощью опыта или эмпирических данных. Они считали, что такого
обоснования можно достигнуть или с помощью вывода утверждений науки
из эмпирических предложений или посредством их индуктивного
обоснования. Однако это оказалось невозможным. Ни одно общее
предложение нельзя вполне обосновать с помощью единичных предложений.
Единичные предложения могут лишь опровергнуть его. Например, для
1
Источник: Никифоров А.Л. Философия и история науки. М., 2008.
11
верификации общего предложения «Все деревья теряют листву зимой» нам
нужно осмотреть миллиарды деревьев, в то время как опровергается это
предложение всего лишь одним примером дерева, сохранившего листву
среди зимы. Вот эта асимметрия между подтверждением и опровержением
общих предложений и критика индукции как метода обоснования знания и
привели Поппера к фальсификационизму.
Однако у него были и более глубокие — философские — основания
для того, чтобы сделать фальсификационизм ядром своей методологии.
Поппер верил в объективное существование физического мира и признавал,
что человеческое познание стремится к истинному описанию этого мира. Он
даже был готов согласиться с тем, что человек может получить истинное
знание о мире. Однако Поппер отвергал существование критерия истины,
который позволяет нам выделять истину из всей совокупности наших
убеждений. Даже если бы мы в своем научном поиске случайно
натолкнулись на истину, мы не смогли бы с уверенностью знать, что это —
истина. Ни непротиворечивость, ни подтверждаемость эмпирическими
данными не могут служить критерием истины. Любую фантазию можно
представить в непротиворечивом виде, а ложные убеждения часто находят
подтверждение. В попытках понять окружающий мир люди выдвигают
гипотезы, создают теории и формулируют законы, но они никогда не могут с
уверенностью сказать, что именно из созданного ими — истинно.
Единственное, на что мы способны, — это обнаружить ложь в наших
воззрениях и освободиться от нее. Постоянно выявляя и отбрасывая ложь, мы
тем самым можем приблизиться к истине. Это оправдывает наше стремление
к познанию и ограничивает скептицизм. Можно сказать, что научное
познание и философия науки опираются на две фундаментальные идеи: идею
о том, что наука способна дать и дает нам истину, и идею о том, что
наука освобождает нас от заблуждений и предрассудков. Поппер отбросил
первую из них. Однако вторая идея все-таки обеспечила прочную
гносеологическую основу его методологической концепции.
Подобно логическим позитивистам, Поппер противопоставляет теорию
эмпирическим предложениям. К числу последних он относит единичные
предложения, описывающие факты, например, «Здесь сейчас стоит стол»,
«10 декабря 2007 г. в Москве шел снег» и т.п. Совокупность всех возможных
эмпирических или, как предпочитает говорить Поппер, «базисных»
предложений образует некоторую эмпирическую основу науки. В эту основу
входят и несовместимые между собой базисные предложения, например, «10
декабря 2007 г. в Москве было ясно», поэтому ее не следует отождествлять с
языком истинных протокольных предложений логических позитивистов.
12
Научная теория, считает Поппер, всегда может быть выражена в виде
совокупности общих утверждений типа «Все тигры полосаты», «Все рыбы
дышат жабрами» и т.п. Утверждения такого типа можно выразить в иной, но
эквивалентной форме: «Неверно, что где-то существует неполосатый тигр».
Поэтому всякую теорию можно рассматривать как запрещающую
существование некоторых фактов или как говорящую о ложности
описывающих их базисных предложений. Например, наша «теория»
утверждает ложность базисных предложений вида «Там-то и там имеется
неполосатый тигр». Вот эти базисные предложения, запрещаемые теорией,
Поппер
называет
«потенциальными
фальсификаторами»
теории.
«Фальсификаторами» — потому, что если запрещаемые теорией факт имеет
место и описывающее его базисное предложение истинно, то теория
считается опровергнутой. «Потенциальными» — потому, что эти
предложения могут фальсифицировать теорию, но лишь в том случае, когда
будет установлена их истинность. Отсюда понятие фалъсифицируемости
определяется следующим образом: «теория фальсифицируема, если класс ее
потенциальных фальсификаторов не пуст» (Поппер К. Логика научного
исследования. М.: Республика, 2004. С. 78).
Процесс фальсификации описывается схемой умозаключения modus
tollens. Из теории Т дедуцируется базисное предложение А, поэтому согласно
правилам логики верно предложение «Если Т, то А». Предложение А
оказывается ложным, а истинным является потенциальный фальсификатор
теории не-А Из «Если Т, то А» и «не-Л» следует «не-Г», т.е. теория Т1 ложна
и фальсифицирована. Иначе и проще говоря, если какое-то эмпирическое
следствие теории оказалось ложным, а мы получили его в полном
соответствии с правилами логики, то теорию следует признать ложной, ибо
из истинной теории по правилам логики ложь вывести невозможно.
Фальсифицированная теория должна быть отброшена. Поппер
решительно настаивает на этом. Такая теория обнаружила свою ложность,
поэтому мы не можем сохранять ее в своем знании. Всякие попытки в этом
направлении могут привести лишь к задержке в развитии познания, к
догматизму в науке и к потере ею своего эмпирического содержания.
«Проблему нахождения критерия, который дал бы нам в руки средства для выявления
различия между эмпирическими науками, с одной стороны, и математикой, логикой, а
также "метафизическими" системами, с другой, я называю, — говорит Поппер, —
проблемой демаркации» (там же, с. 30).
13
Именно эта проблема, по собственному признанию Поппера, заинтересовала
его в самом начале его научной деятельности. В то время в начале 20-х годов
XX в. было широко распространено восходящее еще к Бэкону и Ньютону
мнение о том, что наука отличается использованием индуктивного метода,
который начинает с наблюдений, констатации фактов, а затем восходит к
обобщениям. Это мнение разделяли и логические позитивисты, принявшие в
качестве критерия демаркации верифицируемость, т.е. подтверждаемость
научных положений эмпирическими данными.
Поппер отверг индукцию и верифицируемость в качестве критерия
демаркации. Их защитники, по его мнению, видят характерную черту науки в
обоснованности и достоверности, а особенность не-науки, скажем,
метафизики, — в недостоверности и ненадежности. Однако полная
обоснованность и достоверность в науке недостижимы, а возможность
частичного подтверждения не помогает отличить науку от не-науки:
например, учение астрологов о влиянии звезд на судьбы людей как будто
подтверждается громадным эмпирическим материалом. Подтвердить можно
все что угодно — это еще не свидетельствует о научности. То, что некоторое
утверждение или система утверждений говорят о физическом мире,
проявляется не в подтверждаемости их опытом, а в том, что опыт может их
опровергнуть. Если система опровергается с помощью опыта, значит, она
приходит в столкновение с реальным положением дел, но это как раз и
свидетельствует о том, что она что-то говорит о мире. Исходя из этих
соображений, Поппер в качестве критерия демаркации принимает
фальсифицируемость, т.е. эмпирическую опровержимость: «эмпирическая
система должна допускать опровержение опытом» (там же, с. 38).
Поппер соглашается с тем, что ученые стремятся получить истинное
описание мира и дать истинные объяснения наблюдаемым фактам. Однако,
по его мнению, эта цель актуально не достижима, и мы способны лишь
приближаться к истине. Научные теории представляют собой лишь догадки о
мире, необоснованные предположения, в истинности которых мы никогда не
можем быть уверены:
«С развиваемой здесь точки зрения все законы и все теории остаются существенно
временными, предположительными или гипотетическими даже в том случае, когда мы
чувствуем себя неспособными сомневаться в них» (Поппер К. Предположения и
опровержения. М.: ACT, 2004. С. 92).
Эти предположения невозможно верифицировать, их можно лишь
подвергнуть проверкам, которые рано или поздно выявят ложность этих
предположений.
14
Важнейшим, а иногда единственным общим методом научного познания
долгое время считали индуктивный метод. Согласно индуктивистской
методологии, научное познание начинается с наблюдений и констатации
фактов. После того, как факты установлены, мы приступаем к их обобщению
и построению теории. Теория рассматривается как обобщение фактов и
поэтому считается достоверной. Правда, еще Д. Юм заметил, что общее
утверждение нельзя вывести из фактов, поэтому всякое индуктивное
обобщение недостоверно. Так возникла проблема оправдания индуктивного
вывода: на каком основании мы от единичных фактов переходим к общим
заключениям? Осознание неразрешимости этой проблемы и уверенность в
гипотетичности всякого человеческого знания привели Поппера к отрицанию
индуктивного метода познания вообще:
«Индукция, — утверждает он, — т.е. вывод, опирающийся на множество наблюдений,
представляет собой миф. Она не является ни психологическим фактом, ни фактом
обыденной жизни, ни фактом научной практики» (там же, с. 96).
Каков же метод науки, если это не индуктивный метод? Познающий субъект
противостоит миру не как tabula rasa, на которой природа рисует свой
портрет. В своем познании окружающего мира человек всегда опирается на
определенные верования, ожидания, теоретические предпосылки; процесс
познания начинается не с наблюдений, а с выдвижения догадок,
предположений, объясняющих мир. Свои догадки мы соотносим с
результатами наблюдений и отбрасываем их после фальсификации, заменяя
новыми догадками. Пробы и ошибки — вот из чего складывается метод
науки. Для познания мира, утверждает Поппер, «нет более рациональной
процедуры, чем метод проб и ошибок — предположений и опровержений:
смелое выдвижение теорий, стремление сделать все возможное для того,
чтобы показать ошибочность этих теорий, и временное их признание, если
наша критика оказывается безуспешной» (там же, с. 92).
Метод проб и ошибок характерен не только для научного, но и для
всякого познания вообще. И амеба, и Эйнштейн пользуются им в своем
познании окружающего мира, говорит Поппер. Более того, метод проб и
ошибок является не только методом познания, но и методом всякого
развития. Природа, создавая и совершенствуя биологические виды, действует
методом проб и ошибок. Каждый отдельный организм — это очередная
проба; успешная проба выживает, дает потомство; неудачная проба
устраняется как ошибка.
15
Итогом и концентрированным выражением фальсификационизма является
схема развития научного знания, сформулированная Поппером.
Фальсификационизм был порожден глубоким философским убеждением
Поппера в том, что у нас нет никакого критерия истины, и мы способны
обнаружить и выделить лишь ложь. Из этого убеждения естественно следует:
1) понимание научного знания как набора догадок о мире — догадок,
истинность которых установить нельзя, но можно обнаружить их ложность;
2) критерий демаркации — лишь то знание научно, которое
фальсифицируемо;
3) метод науки — пробы и ошибки.
Научные теории рассматриваются как необоснованные догадки, которые
мы стремимся проверить — с тем, чтобы обнаружить, где и в чем они
ошибочны. Фальсифицированная теория отбрасывается как негодная проба,
не оставляющая после себя следов. Сменяющая ее теория не имеет с ней
никакой связи, напротив, новая теория должна максимально отличаться от
старой теории. Развития в науке нет, признается только изменение: сегодня
вы вышли из дома в пальто, но на улице жарко; завтра вы выходите в
рубашке, но льет дождь; послезавтра вы вооружаетесь зонтиком, однако на
небе —
ни облачка, и вы никак не можете привести свою одежду в
соответствие с погодой. Даже если однажды вам это удастся, все равно,
утверждает Поппер, вы этого не поймете и останетесь недовольны. — Такова
в общих чертах фальсификационистская методология Поппера.
Когда Поппер говорит о смене научных теорий, о росте их истинного
содержания, о возрастании степени правдоподобия, то может сложиться
впечатление, что он видит прогресс в последовательности сменяющих друг
друга теорий Т1 — Т2 — Т3... Однако это впечатление обманчиво, так как
переход от Т} к Т2 не выражает накопления или углубления научного знания
о мире: «наиболее весомый вклад в рост научного знания, который может
сделать теория, состоит из новых проблем, порождаемых ею» (там же, с.
371). Наука, согласно Попперу, начинает не с наблюдений и даже не с
теорий, а с проблем. Для решения проблем мы строим теории, крушение
которых порождает новые проблемы и так далее. Поэтому общая схема
развития науки имеет следующий вид:
Р1 - ТТ - ЕЕ - Р2 - ТТ - ЕЕ - ......
Здесь Р1 — первоначальная проблема; ТТ — теории, выдвинутые для ее
решения; ЕЕ — проверка, фальсификация и устранение выдвинутых теорий;
Р2 — новая, более глубокая и сложная проблема, оставленная нам
устраненными теориями. Из этой схемы видно, что прогресс науки состоит
16
не в накоплении знания, а только в возрастании глубины и сложности
решаемых нами проблем.
Поппер внес большой вклад в философию науки. Прежде всего, он
намного раздвинул ее границы. Логические позитивисты сводили
методологию к анализу структуры знания и к его эмпирическому
обоснованию. Поппер основной проблемой философии науки сделал проблему
развития знания — анализ выдвижения, формирования, проверки и смены
научных теорий. Переход от анализа структуры к анализу развития знания
существенно изменил и обогатил проблематику философии науки.
Еще более важно то, что методологический анализ развития знания
потребовал обращения к реальным примерам развития науки. Именно с
методологической концепции Поппера философия науки начинает свой
поворот от логики к истории науки. Сам Поппер — особенно в начальный
период своего творчества — еще в значительной мере ориентировался на
логику, но его ученики и последователи уже широко используют историю
науки в своих методологических исследованиях. Обращение к реальной
истории быстро выявило существенные недостатки методологии Поппера,
однако развитие философии науки после крушения логического позитивизма
в значительной мере было связано с критикой и разработкой его идей.
9. Концепция методологии научно-исследовательских программ Имре
Лакатоса.
Лакатос (Lakatos) Имре (1922 - 1974) - венг.-брит. философ и историк
науки. Родился в Венгрии, во время 2 мировой войны участвовал в
антифашистском сопротивлении. Свою настоящую фамилию (Липшиц) в
период нацизма сменил на Мольнар (Мельник), а во время власти
коммунистов на более пролетарскую Лакатош (Столяр). Над диссертацией
по философии математики работал в Московском университете. В конце
40-х годов был обвинен в ревизионизме и более трех лет провел в заключении.
В 1956 эмигрировал в Австрию, затем в Англию. С 1960 преподавал в
Лондонской школе экономики, стал учеником и последователем Поппера и
внес своими работами важный и яркий вклад в философию и методологию
критического рационализма.
Особое значение для создания моделей развития научно-теоретического
знания Лакатос придавал историко-научным исследованиям. Его известный
афоризм гласит: "Философия науки без истории науки пуста; история науки
без философии науки слепа". Концепция Л. представляет собой одно из
17
лучших достижений современной философии и методологии науки. По
своим философским установкам он был последовательным сторонником
рационализма в его трактовке Поппером, что отразилось в его интенсивной
полемике 60-70-х годов с Куном, Фейерабендом и рядом других философов
науки.
Основной проблемой для Лакатоса было объяснение значительной
устойчивости и непрерывности научной деятельности - того, что Кун
называл “нормальной наукой”. Концепция Поппера не давала такого
объяснения, поскольку, согласно ей, ученые должны фальсифицировать и
немедленно отбрасывать любую теорию, не согласующуюся с фактами. С
точки
зрения
Лакатоса,
такая
позиция
является
“наивным
фальсификационизмом” и не соответствует данным истории науки,
показывающим, что теории могут существовать и развиваться, несмотря на
наличие большого числа “аномалий” (противоречащих им фактов).
Это обстоятельство можно объяснить, по мнению Лакатоса, если
сравнивать с эмпирией не одну изолированную теорию, но серию сменяющих
теорий, связанных между собой едиными основополагающими принципами.
Такую последовательность теорий он и назвал научно-исследовательской
программой.
Эта программа имеет следующую структуру:
Жесткое ядро программы - это то, что является общим для всех ее теорий.
Это метафизика программы: наиболее общие представления о реальности,
которую описывают входящие в программу теории; основные законы
взаимодействия элементов этой реальности; главные методологические
принципы, связанными с этой программой. Например, жестким ядром
ньютоновской программы в механике было представление о том, что
реальность состоит из частиц вещества, которые движутся в абсолютном
18
пространстве и времени в соответствии с тремя известными ньютоновскими
законами и взаимодействуют между собой согласно закону всемирного
тяготения. Работающие в определенной программе ученые принимают ее
метафизику, считая ее адекватной и непроблематичной. Но в принципе могут
существовать и иные метафизики, определяющие альтернативные
иссследовательские программы. Так, в XVII в. наряду с ньютоновской
существовала картезианская программа в механике, метафизические
принципы которой существенно отличались от ньютоновских.
Негативную эвристику составляет совокупность вспомогательных
гипотез, которые предохраняют ее ядро от фальсификации, от
опровергающих фактов. Это “защитный пояс” программы, который
принимает на себя огонь критических аргументов.
Позитивная эвристика представляет собой стратегию выбора
первоочередных проблем и задач, которые должны решать ученые. Наличие
позитивной эвристики позволяет определенное время игнорировать критику
и аномалии и заниматься конструктивными исследованиями. Обладая такой
стратегией, ученые вправе заявлять, что они еще доберутся до непонятных и
потенциально опровергающих программу фактов и что их существование не
является поводом для отказа от программы.
В рамках успешно развивающейся программы удается разрабатывать все
более совершенные теории, которые объясняют все больше и больше фактов.
Именно поэтому ученые склонны к устойчивой позитивной работе в рамках
подобных программ и допускают определенный догматизм в отношении к их
основополагающим принципам. Однако это не может продолжаться
бесконечно. Со временем эвристическая сила программы начинает
ослабевать, и перед учеными возникает вопрос о том, стоит ли продолжать
работать в ее рамках.
Лакатос считает, что ученые могут рационально оценивать возможности
программы и решать вопрос о продолжении или отказе от участия в ней (в
отличие от Куна, для которого такое решение представляет собой
иррациональный акт веры). Для этого он предлагает следующий критерий
рациональной оценки “прогресса” и “вырождения” программы.
Программа, состоящая из последовательности теорий Т1, Т2 ... Тn-1, Tn
прогрессирует, если:
- объясняет все факты, которые успешно объясняла T n-1;
- охватывает большую эмпирическую область, чем предшествующая теория
Тn-1;
- часть предсказаний из этого дополнительного эмпирического содержания
Тn подтверждается.
19
Проще говоря, в прогрессивно развивающейся программе каждая
следующая теория должна успешно предсказывать дополнительные факты.
Если же новые теории не в состоянии успешно предсказывать новые факты,
то программа является “стагнирующей” или “вырождающейся”. Обычно
такая программа лишь задним числом истолковывает факты, которые
были открыты другими, более успешными программами.
Тем не менее наличие такого рода симптомов еще не может служить
объективным основанием для отказа от исследовательской программы. Такое
основание, по мнению Л., появляется только с момента возникновения
соперничающей исследовательской программы, которая способна объяснить
эмпирический успех своей предшественницы, а также теоретически
предсказывать неизвестные ранее факты, которые получают эмпирическое
подтверждение.
На основе этого критерия ученые могут установить, прогрессирует или
нет их программа. Если она прогрессирует, то рационально будет
придерживаться ее, если же она вырождается, то рациональным поведением
ученого будет попытка разработать новую программу или же переход на
позиции уже существующей и прогрессирующей альтернативной программы.
В своих работах Лакатос показывает, что в истории науки очень редко
встречаются периоды, когда безраздельно господствует одна программа
(парадигма), как это утверждал Кун. Обычно в любой научной дисциплине
существует несколько альтернативных научно-исследовательских программ.
Конкуренция между ними, взаимная критика, чередование периодов расцвета
и упадка программ придают развитию науки тот реальный драматизм
научного поиска, который отсутствует в куновской моно-парадигмальной
“нормальной науке”.
Дополнительно: И. Лакатос. История науки и ее рациональные
реконструкции
Источник: Структура и развитие науки. Из Бостонских исследований по
философии науки. – М., изд-во “Прогресс”, 1978. С. 203-235.
(Выдержки)
“Философия науки без истории науки пуста; история науки без философии науки
слепа”. Руководствуясь этой перефразировкой кантовского изречения, мы в данной статье
попытаемся объяснить, как историография науки могла бы учиться у философии науки и
наоборот.
В современной философии науки в ходу различные методологические концепции, но
все они довольно сильно отличаются от того, что обычно понимали под “методологией” в
XVII веке и даже в ХVIII веке. Тогда надеялись, что методология снабдит ученых сводом
механических правил для решения проблем. Теперь эта надежда рухнула: современная
20
методологическая концепция, или “логика открытия”, представляет собой просто ряд
правил (может быть, даже не особенно связанных друг с другом) для оценки готовых,
хорошо сформулированных теорий.
Методологический фальсификационизм
Новую — фальсификационистскую — методологию предложил Поппер в своей работе
“Логика научного исследования” (1935). Согласно фальсификационистскому кодексу
научной честности, некоторая теория является научной только в том случае, если она
может быть приведена в столкновение с каким-либо базисным утверждением, и теория
должна быть устранена, если она противоречит принятому базисному утверждению.
Наиболее притягательной чертой попперовской методологии является ее четкость,
ясность и конструктивная сила. Попперовская дедуктивная модель научной критики
содержит только эмпирически фальсифицируемые пространственно-временные
универсальные суждения, исходные условия и их следствия.
Методология научно-исследовательских программ
Согласно моей методологической концепции, исследовательские программы являются
величайшими научными достижениями и их можно оценивать на основе прогрессивного
или регрессивного сдвига проблем; при этом научные революции состоят в том, что одна
исследовательская программа (прогрессивно) вытесняет другую. Эта методологическая
концепция предлагает новый способ рациональной реконструкции науки…
В соответствии с моей концепцией фундаментальной единицей оценки должна быть не
изолированная теория или совокупность теорий, а “исследовательская программа”.
Последняя включает в себя конвенционально принятое (и поэтому “неопровержимое”,
согласно заранее избранному решению) “жесткое ядро” и “позитивную эвристику”,
которая определяет проблемы для исследования, выделяет защитный пояс
вспомогательных гипотез, предвидит аномалии и победоносно превращает их в
подтверждающие примеры — все это в соответствии с заранее разработанным планом.
Ученый видит аномалии, но, поскольку его исследовательская программа выдерживает их
натиск, он может свободно игнорировать их. Не аномалии, а позитивная эвристика его
программы — вот что в первую очередь диктует ему выбор проблем. И лишь тогда, когда
активная сила позитивной эвристики ослабевает, аномалиям может быть уделено большее
внимание. В результате методология исследовательских программ может объяснить
высокую степень автономности теоретической науки, чего не может сделать несвязанная
цепь предположений и опровержений наивного фальсификациониста. То, что для Поппера
выступает как внешнее, метафизическое влияние на науку, здесь превращается во
внутреннее—в “жесткое ядро” программы.
Картина научной игры, которую предлагает методология исследовательских программ,
весьма отлична от подобной картины методологического фальсификационизма.
Исходным пунктом здесь является не установление фальсифицируемой (и, следовательно,
непротиворечивой) гипотезы, а выдвижение исследовательской программы. Простая
“фальсификация” (в попперовском смысле) не влечет отбрасывания соответствующего
утверждения. Простые “фальсификации” (то есть аномалии) должны быть зафиксированы,
но вовсе не обязательно реагировать на них. В результате исчезают великие негативные
решающие эксперименты Поппера: “решающий эксперимент” — это лишь почетный
21
титул, который, конечно, может быть пожалован определенной аномалии, но только
спустя долгое время после того, как одна программа будет вытеснена другой. Согласно
Попперу, решающий эксперимент описывается некоторым принятым базисным
утверждением, несовместимым с теорией; согласно же методологии научноисследовательских программ, никакое принятое базисное утверждение само по себе не
дает ученому права отвергнуть теорию. Такой конфликт может породить проблему (более
или менее важную), но ни при каких условиях не может привести к “победе”. Природа
может крикнуть: “Нет!”, но человеческая изобретательность — в противоположность
мнению Поппера — всегда способна крикнуть еще громче. При достаточной
находчивости и некоторой удаче можно на протяжении длительного времени
“прогрессивно” защищать любую теорию, даже если эта теория ложна. Таким образом,
следует отказаться от попперовской модели “предположений и опровержений”, то есть
модели, в которой за выдвижением пробной гипотезы следует эксперимент,
показывающий ее ошибочность: ни один эксперимент не является решающим в то время
— а тем более до времени, — когда он проводится (за исключением, может быть, его
психологического аспекта).
Исследовательская программа считается прогрессирующей тогда, когда ее
теоретический рост предвосхищает ее эмпирический рост, то есть когда она с некоторым
успехом может предсказывать новые факты (“прогрессивный сдвиг проблем”); программа
регрессирует, если ее теоретический рост отстает от ее эмпирического роста, то есть когда
она дает только запоздалые объяснения либо случайных открытий, либо фактов,
предвосхищаемых и открываемых конкурирующей программой (“регрессивный сдвиг
проблем”). Если исследовательская программа прогрессивно объясняет больше, нежели
конкурирующая, то она “вытесняет” ее, и эта конкурирующая программа может быть
устранена (или, если угодно, «отложена»).
В рамках исследовательской программы некоторая теория может быть устранена
только лучшей теорией, то есть такой теорией, которая обладает большим эмпирическим
содержанием, чем ее предшественница, и часть этого содержания впоследствии
подтверждается. Для такого замещения одной теории лучшей первая теория не
обязательно должна быть “фальсифицирована” в попперовском смысле этого термина.
Таким образом, научный прогресс выражается скорее в осуществлении верификации
дополнительного содержания теории, чем в обнаружении фальсифицирующих примеров.
Эмпирическая “фальсификация” и реальный “отказ” от теории становятся независимыми
событиями. До модификации теории мы никогда не знаем, как бы она могла быть
“опровергнута”, и некоторые из наиболее интересных модификаций обусловлены
“позитивной эвристикой” исследовательской программы, а не аномалиями. Одно только
это различие имеет важные следствия и приводит к рациональной реконструкции
изменений в науке, совершенно отличной от реконструкции, предложенной Поппером.
Очень трудно решить — особенно с тех пор, как мы отказались от требования
прогрессивности каждого отдельного шага науки, — в какой именно момент
определенная исследовательская программа безнадежно регрессировала или одна из двух
конкурирующих программ получила решающее преимущество перед другой…
В предлагаемом нами кодексе научной честности скромность и сдержанность играют
большую роль, чем в других кодексах. Всегда следует помнить о том, что, даже если ваш
оппонент сильно отстал, он еще может догнать вас. Никакие преимущества одной из
22
сторон нельзя рассматривать как абсолютно решающие. Не существует никакой гарантии
триумфа той или иной программы. Не существует также и никакой гарантии ее крушения.
Таким образом, упорство, как и скромность, обладает большим “рациональным” смыслом.
Однако успехи конкурирующих сторон должны фиксироваться и всегда делаться
достоянием общественности.
10. Майкл Полани о личностном знании
Майкл По́лани (также По́ляни, По́ланьи; англ. Michael Polanyi, Михай Поланьи, венг.
Polányi Mihály; 11 марта 1891 — 22 февраля 1976) — английский физик, химик и философ.
Родом из Венгрии; с 1933 года жил в Великобритании, США.
Родился в светской еврейской семье Мать Поланьи Сесилия Вол родилась
в Российской империи. Её после окончания Виленской гимназии отец
отправил в Вену, чтобы отдалить от российских социалистических деятелей
и предотвратить её арест. Здесь она познакомилась и вышла замуж (1880) за
Михаила Поллачека, будущего отца Майкла.
Майкл Полани родился в 1891 году в Будапеште, став пятым ребёнком в
семье. Хотя отец Полани участвовал в сооружении значительной части
железнодорожной системы Венгрии, в 1899 году он практически
обанкротился. В 1904 году за год до его кончины жена и дети приняли
протестантизм, изменив фамилию Поллачек на венгерский лад — Полани
(Поланьи). В молодости был близок к лево-социалистическим кругам.
Определенное влияние тогда на братьев Майкла и Карла оказал
революционер-народник С. Л. Клячко, с которым после отъезда из Вильнюса
Сесилия Поланьи сохранила близкие отношения, они дружили семьями. Карл
Полани - известный экономист.
Майкл Полани учился в известной лютеранской гимназии в Будапеште.
Интересно, что из этой школы вышло целое созвездие великих ученых. Из ее
стен вышли, такие выдающиеся ученые как великий математик Дж. фон
Нейман, Дьёрдь Хевеши (1885-1966, Нобелевская премия по химии 1943),
создатель голографии Деннис Габор (1900-1979, Нобелевская премия 1971),
физик Юджин Вигнер (1902-1995, Нобелевская премия 1963), Лео Сцилард
(1898-1964, премия Эйнштейна 1959), «отец» американской водородной
бомбы Эдвард Теллер (1908-2003). Психологи и историки науки до сих пор
теряются в догадках о причинах такой вспышки гениальности в одном месте.
Окончив Будапештский университет, стал доктором медицины в 1913 году.
Первую научную статью опубликовал в 19 лет. Изучал химию в Высшей
технической школе в Карлсруэ. В 1914-1915 годах – врач в австровенгерской армии. После «революции астр» в октябре 1918 года занимал
должность секретаря министра здравоохранения в правительстве Михая
Карои, после провозглашения Венгерской советской республики вернулся в
23
Будапештский университет преподавателем физики. Из-за репрессий режима
Хорти был вынужден эмигрировать в Германию, где в 1920-1933 годах
работал в Институте физической химии Общества кайзера Вильгельма в
Берлине. В 1933 году, после прихода нацистов к власти, выехал в
Великобританию, где до 1948 года работал профессором химии, Начиная с
1950-х годов Полани практически оставил научную деятельность в области
химии и занялся философией и теологией. до 1958 года – профессором
общественных наук в Манчестерском университете; в 1959-1961 годах – в
Оксфордском университете.
Двое из его учеников и его сын стали лауреатами Нобелевской премии по
химии. В 1944 году Полани был избран членом Королевского общества. С
1962 года жил в США: в 1962-1963 годах работал в Исследовательском
центре в Пало-Альто (штат Калифорния), в 1964 г. – профессор теологии в
университете Дьюка в Дареме (штат Северная Каролина), в 1965-1966 гг. – в
Уэслианском университете в Миддлтауне (штат Коннектикут).
Основные работы Полани посвящены физической химии, прежде всего
химической кинетике и изучению кристаллических структур. В 1935 году
совместно с Г. Эйрнингом и М. Г. Эвансом создал теорию абсолютных
скоростей реакций, включающую метод переходного состояния. Совместно с
И. Хориути разработал (1935) молекулярную модель элементарного акта
электрохимической реакции. Известен как соавтор теории абсолютных
скоростей реакций и соотношения Брёнстеда-Поляни. Представитель
постпозитивизма, критик позитивизма, автор концепции «личностного (или
неявного, молчаливого) знания».
Свобода науки
Во время визита в СССР в 1935 году с лекцией для Министерства тяжёлой
промышленности Бухарин заявил Полани, что различие между
фундаментальной и прикладной наукой является ошибкой капитализма, и что
в социалистическом обществе все научные исследования ведутся в
соответствии с нуждами последнего пятилетнего плана. Полани обратил
внимание на то, что случилось с генетикой в Советском Союзе в связи с
государственной поддержкой теорий Трофима Лысенко. Призывы к
централизованному планированию научных исследований в Великобритании
со стороны таких учёных, как Джон Бернал, заставили Полани отстаивать
позицию, в соответствии с которой прирост научного знания достигается в
результате выводов, сделанных после свободного обсуждения сообществом
специалистов, а не руководящим органом.
24
Полани доказывал, что взаимодействие между учёными подобно
взаимодействию между экономическими агентами на свободном рынке.
Подобно тому, как потребители на свободном рынке в условиях конкуренции
между производителями устанавливают цены товаров, также и учёные,
обходясь без централизованного руководства, определяют истинность
теорий.
Трактовка знания
В книге «Наука, вера и общество» (1946) Полани изложил свои
возражения против позитивистского понимания науки, указав на недооценку
позитивизмом той роли, которую в научной практике играют личные
взгляды.
В книге «Личностное знание» (1958) Полани утверждает, что абсолютная
объективность представляет собой ложный идеал, поскольку любые
умозаключения базируются на персональных суждениях. Он опровергает
идею о механическом установлении истины путём использования научного
метода. Любое знание является личностным и по этой причине основывается
на индивидуальных суждениях. Отвергнув критическую философию, Полани
отстаивает посткритический подход, согласно которому мы полагаем больше,
чем можем доказать, и знаем больше, чем можем выразить словами.
Главное, что удалось показать Полани с убедительностью, — то, что
знание, в том числе научное, отнюдь не сводится к системе высказываний
как это представляли неопозитивисты Венского кружка. Подлинная тайна
всякого профессионального мастерства, в том числе научного познания, —
«неявное знание», то, которое невозможно выразить в словах,
формулировках, системе строгих «предложений».
Нет ничего удивительного в том, что медик и химик, каким был Полани,
смог зафиксировать такие особенности своей профессии. Он писал: «Однако
то большое количество учебного времени, которое студенты химики,
биологи и медики посвящают практическим занятиям, свидетельствует о
важной роли, которую в этих дисциплинах играет передача практических
знаний и умений от учителя к ученику. Из сказанного можно сделать вывод,
что в самом сердце науки существуют области практического знания,
которые через формулировки передать невозможно». Любые формулировки
и определения лишь сдвигают область скрытого «молчания», но никогда не
отменяют
ее.
Итак,
знание
обладает
экстралингвистическими
характеристиками. А это фактически убивало претензии всей логикоаналитической традиции на то, чтобы ответить на основной вопрос — что
есть знание? «Высказывание» предстает как бы вершиной айсберга, большая,
подводная часть которого скрыта в сфере «tacit knowledge»
25
Личностное знание как соотнесение реальности с человеческим миром.
В целях теоретического обоснования категории «личностного знания» М.
Полани обращается, в частности, к результатам гештальт-психологии. В
качестве отправного пункта у него служит такой, казалось бы, тривиальный
принцип - нельзя понять целого, не видя его частей, но субъект может видеть
части, не понимая самого целого. Важным моментом в этой связи является
положение о существовании двух уровней знания: фокального (выразимого,
явного) и вспомогательного (фонового, подразумеваемого, скрытого). Чем
больше познание фокусируется на целом, тем больше подчиняется этому
целому, тем более частным, ограниченным становится знание об его
элементах. Полани указывает сферы приложения теоретического анализа
«личностного» знания:
I) анализ навыков путем изучения двигательных функций,
2) физиогномические характеристики путем перечисления типичных
признаков,
3) анализ возможных вариантов решения в процессе тестирования,
4) изучение речи посредством грамматического анализа,
5) физиологический анализ процесса восприятия.
В концепции Полани именно «неявное» знание служит связующим звеном
между обыденным опытом, наукой и искусством. Любая наука способна
предсказывать наблюдаемые факты благодаря искусству устанавливать с
помощью зрения, слуха и осязания соответствие между научными
предположениями и реальным чувственным опытом субъекта. Практический
опыт играет существенную роль в процессе научной деятельности.
Например, биолог, врач или инженер должны (наряду с «явным» знанием)
обладать определенными практическими навыками и умением, которое
позволяло бы им легко ориентироваться в проблематике своего
исследования. Это «неявное» знание передается из поколения в поколение в
форме практического искусства тем же самым способом, каким, например,
студенты обучаются научной квалификации в лаборатории. Конечно, биолог,
врач или инженер могут во многом черпать свое знание из книг. Но книги
становятся бесполезными, если чтение не сопровождается формированием
соответствующих практических навыков и умения, которые Полани относит
к «личностному» знанию. Благодаря этому знанию специалисты достигают
исключительной точности в оценке тех вещей, с которыми они сталкиваются
в процессе своей работы.
26
Личностный характер научного знания, согласно Полани, наиболее
отчетливо проявляется в практике преобразования базовых понятий. Полани
рассматривает «личностное» знание как факт реальной научной практики.
При этом он особое внимание уделяет тому, как реально осуществляются
научные открытия, а не как они должны осуществляться. В этой связи
обратимся к некоторым фактам истории открытия теории относительности,
которые Полани подвергает анализу.
Раскрывается соотношение таких категорий концепции Полани, как
«личностное знание» и «интеллектуальные чувства». Особое место среди
нестрогих критериев оценки теорий занимает чувство научной красоты.
Полани выделяет две основные функции «интеллектуальных чувств»:
селективную и эвристическую. С помощью «интеллектуальных чувств»
субъект определяет научную ценность фактов, принимая одни и отбрасывая
другие. Для того, чтобы воспользоваться результатами научного открытия
или технического изобретения, нет необходимости в особых усилиях
воображения. Человеку, например, не требуется обладать творческим
воображением Ньютона, чтобы его законы использовать на практике. Иное
дело в искусстве. Как отмечает Полани, субъекту необходимо достичь
особого видения, чтобы по достоинству оценить произведение искусства,
эстетически понять его. Критерии оценки научных открытий и технических
изобретений более объективны (в смысле – беспристрастны), чем
произведений искусства. Однако это различие, согласно Полани, не
абсолютно. Помимо строгих, общепринятых критериев в науке существуют
нестрогие критерии оценки, такие, как красота, простота, согласованность и
т.п. Эти критерии имеют качественный, неформальный, скрытый,
личностный характер.
Чувство научной красоты тесно связано с понятием интереса. Полани,
подчеркивая важность выявления изящества некоторого формального
вывода, вместе с тем отмечает, что все связанные с этим трудности могут
проистекать единственно из человеческого нежелания понять, что
математику как науку нельзя определить, не признав ее наиболее очевидного
свойства - того, что она интересна.
Эвристическое чувство, по Полани, способствует выявлению
оригинальности научной теории. С этих позиций ученый отвергает старые
рамки интерпретации и переходит к новым. Эвристическое чувство, в свою
очередь, перерастает в чувство убежденности ученого в правильности того,
что он думает и делает в ходе своей научной деятельности. Полани наделяет
каждого ученого правом отстаивать все те убеждения, в истинность которых
он искренне верит, хотя бы ему пришлось при этом идти против всего
27
научного сообщества (вспомним, что таким образом в истории науки
происходило принятие почти любого фундаментального открытия).
Распространение открытия - это постепенное превращение индивидуальной
убежденности в убежденность, разделяемую научным сообществом. Вне
контекста мнений, разделяемых этим сообществом, для ученых не
существует никаких «фактов».
С помощью «интеллектуальных чувств» субъект определяет не только
красоту той или иной теории или гипотезы. «Интеллектуальные чувства»
могут приводить к определенным открытиям, являясь как бы путеводной
нитью в исследовательской работе. Понимание научной ценности в данном
случае переходит в способность делать открытия так же, как, например,
тонкое чутье художника способствует развитию его творческих
возможностей.
Дополнительно:
Источник: Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической
философии. Благовещенск, 1998.
(Выдержки)
3. Традиция
Искусство, процедуры которого остаются скрытыми, нельзя передать с помощью
предписаний, ибо таковых не существует. Оно может передаваться только посредством
личного примера, от учителя к ученику. Это сужает ареал распространения искусства до
сферы личных контактов и приводит обычно к тому, что то или иное мастерство
существует в рамках определенной местной традиции. В самом деле, перенос ремесел из
одной страны в другую чаще всего связан с миграциями групп мастеров, как это было в
случае, когда гугеноты были изгнаны из Франции в результате отмены нантского эдикта
при Людовике XIV. Точно так же, хотя содержание науки, заключенное в ясные
формулировки, преподается сегодня во всем мире в десятках новых университетов,
неявное искусство научного исследования для многих из них остается неведомым.
Европа, где 400 лет назад зародился научный метод, до сих пор является более
продуктивной в плане науки, несмотря на то, что на некоторых других континентах на
научные исследования выделяется больше средств. Если бы, с одной стороны, не
существовала возможность для молодых исследователей учиться в Европе, а с другой отсутствовала миграция европейских ученых в другие страны, неевропейские
исследовательские центры едва сводили бы концы с концами.
Из этого также следует, что искусство, которое не практикуется в течение жизни
одного поколения, оказывается безвозвратно утраченным. Этому можно привести сотни
примеров; процесс механизации добавляет к ним сегодня все новые и новые. Обычно эти
потери невосполнимы. Жалко наблюдать бесконечные попытки - при помощи
микроскопов и химии, математики и электроники - воспроизвести единственную скрипку,
сделанную среди прочих скрипок полуграмотным Страдивари 200 лет тому назад.
28
Учиться на примере - значит подчиняться авторитету. Вы следуете за учителем, потому
что верите в то, что он делает, даже если не можете детально проанализировать
эффективность этих действий. Наблюдая учителя и стремясь превзойти его, ученик
бессознательно осваивает нормы искусства, включая и те, которые неизвестны самому
учителю. Этими скрытыми нормами может овладеть только тот, кто в порыве
самоотречения отказывается от критики и всецело отдается имитации действий другого.
Общество должно придерживаться традиций, если хочет сохранить запас личностного
знания.
Итак, в той мере, в какой нашему интеллекту не удается следовать идеалу точной
формализации, мы действуем и смотрим па вещи в свете неоформленного знания и
должны признать, что всегда принимаем личностное решение будь то наше собственное
суждение или суждение, возникающее вследствие подчинения авторитету, чьему-то
примеру или традиции...
4. Эксперты и знатоки
Все сказанное об умениях приложимо также и к тому искусству, которое демонстрируют
в разных областях знатоки и эксперты. Мастерство врача-диагноста представляет собой
практическое искусство не в меньшей мере, чем результат знания. Владение мастерством
тестирования или дегустации можно рассматривать в этом смысле как прямое
продолжение таких моторных навыков, как плавание или езда на велосипеде.
Стать знатоком, так же как и стать умельцем, можно лишь в результате следования
примеру в непосредственном личном контакте; здесь не помогут никакие инструкции.
Будь то дегустатор вина или чая, или врач-диагностик, они обязательно должны пройти
длинный курс практического обучения под руководством опытного учителя. Пока врач не
научится распознавать определенные симптомы – например, определять вторичные шумы
в легочной артерии, - не будет никакой пользы от чтения литературы, в которой
описываются различные синдромы, включающие данный симптом. Личностное знание
симптома имеет здесь решающее значение, а оно формируется только в результате
выслушивания ряда пациентов, про которых точно известно, что этот симптом у них
присутствует, в сопоставлении с другим рядом пациентов, про которых известно, что он у
них отсутствует. Оно не приобретается до тех пор, пока студент не поймет до конца, в чем
заключается различие между ними и не сможет на практике продемонстрировать это
знание в присутствии эксперта.
11. Методологический анархизм П. Фейерабенда.
Пауль (впоследствии Пол) Фейерабенд родился в Вене в 1924 г. Получил
докторскую степень в Венском университете. В Вене изучал историю,
математику и астрономию, в Веймаре — драматургию, в Лондоне и
Копенгагене — философию. В 1958 г. переехал в США, где до конца жизни
работал профессором философии Калифорнийского университета в г.
Беркли. Одновременно был профессором философии в Федеральном
технологическом институте в Цюрихе. Умер в 1997 г. Основными
сочинениями являются следующие: Против метода. Очерк анархистской
29
теории познания (1975); Наука в свободном обществе (1978); Прощай,
разум! (1987).
Фейерабенд
назвал
свою
концепцию
«эпистемологическим
анархизмом». Что же это такое? С точки зрения методологии, анархизм
является следствием двух принципов: принципа пролиферации и принципа
несоизмеримости. Согласно принципу пролиферации, нужно изобретать
(размножать) и разрабатывать теории и концепции, несовместимые с
существующими и признанными теориями. Это означает, что каждый
ученый — вообще говоря, каждый человек — может (должен) изобретать
свою собственную концепцию и разрабатывать ее, сколь бы абсурдной и
дикой она ни казалась окружающим. Принцип несоизмеримости, гласящий,
что теории невозможно сравнивать, защищает любую концепцию от внешней
критики со стороны других концепций. Если кто-то изобрел совершенно
фантастическую концепцию и не желает с нею расставаться, то с этим ничего
нельзя сделать: нет фактов, которые можно было бы противопоставить этой
концепции, так как она формирует свои собственные факты; мы не можем
указать на несовместимость этой фантазии с фундаментальными законами
естествознания или с современными научными теориями, так как автору этой
фантазии данные законы и теории могут казаться просто бессмысленными;
мы не можем упрекнуть его даже в нарушении законов логики, ибо он может
пользоваться своей особой логикой. Автор фантазии создает нечто похожее
на куновскую парадигму: это особый, замкнутый в себе мир; и все, что не
входит в данный мир, не имеет для него никакого смысла.
Таким образом, соединение принципа пролиферации с принципом
несоизмеримости образует методологическую основу анархизма: каждый
волен изобретать себе собственную концепцию; ее невозможно сравнить с
другими концепциями, ибо нет никакой основы для такого сравнения;
следовательно, все допустимо и все оправдано:
«существует лишь один принцип, который можно защищать при всех обстоятельствах и
на всех этапах развития человечества. Это принцип — все дозволено (anything goes)»
(Фейерабенд П.К. Против методологического принуждения. Избранные труды по
методологии науки. М.: Прогресс, 1986. С. 158-159).
История науки подсказала Фейерабенду еще один аргумент в пользу
анархизма: нет ни одного методологического правила, ни одной
методологической нормы, которые не нарушались бы в то или иное время
тем или иным ученым. Более того, история показывает, что ученые часто
30
действовали и вынуждены были действовать в прямом противоречии с
существующими методологическими правилами. Отсюда следует, что вместо
существующих и признанных методологических правил мы можем принять
прямо противоположные им. Но и первые, и вторые не будут
универсальными. Поэтому философия науки вообще не должна стремиться
к установлению каких-то правил научной деятельности.
Фейерабенд отличает свой эпистемологический анархизм от
политического анархизма, хотя между ними имеется, конечно, определенная
связь. Политический анархист имеет определенную политическую
программу, он стремится устранить определенные формы организации
общества. Эпистемологический же анархист иногда может защищать эти
формы, так как он не питает ни постоянной вражды, ни неизменной
преданности ни к чему — ни к какой общественной организации и ни к какой
форме идеологии. У него нет никакой жесткой программы, он вообще против
всяких программ. Свои цели он выбирает под влиянием логического
рассуждения, настроения, скуки, желая произвести на какого-нибудь
впечатление и т.п. Для достижения избранной цели он действует в одиночку,
но может примкнуть к какой-нибудь группе, если это покажется ему
выгодным. При этом он использует разум и эмоции, иронию и деятельную
серьезность, словом, все средства, которые может придумать человеческая
изобретательность.
«Не существует убеждения, — сколь бы "абсолютным" или "аморальным" оно ни было,
— которое он отказался бы критически обсуждать, и нет метода, который бы он объявил
совершенно неприемлемым. Единственное, против чего он выступает вполне определенно
и твердо, — это универсальные нормы, универсальные законы, универсальные идеи, такие
как "Истина", "Разум", "Справедливость", "Любовь", и поведение, обусловленное этими
нормами» (там же, с. 333).
Анализируя творчество родоначальников современной науки, Фейерабенд
приходит к выводу о том, что наука вовсе не рациональна, как считает
большинство философов и ученых. Но тогда встает вопрос: если это так, если
наука оказывается существенно иррациональной и может развиваться, лишь
постоянно нарушая законы логики и разума, то чем же тогда она отличается
от мифа, от религии? — В сущности, ничем, — отвечает Фейерабенд.
Действительно, что отличает науку от мифа? К характерным особенностям
мифа обычно относят то, что его основные идеи объявлены священными:
всякая попытка посягнуть на эти идеи наталкивается на табу; факты и
события, не согласующиеся с центральными идеями мифа отбрасываются
или приводятся с ними в соответствие посредством вспомогательных идей;
31
никакие идеи, альтернативные по отношению к основным идеям мифа, не
допускаются, и если все-таки они возникают, то безжалостно искореняются
(порой вместе с носителями этих идей). Крайний догматизм, жесточайший
монизм, фанатизм и нетерпимость к критике — вот отличительные черты
мифа. В науке же, напротив, распространены терпимость и критицизм. В ней
существует плюрализм идей и объяснений, постоянная готовность к
дискуссиям, внимание к фактам и стремление к пересмотру и улучшению
принятых теорий и принципов.
Фейерабенд не согласен с таким розовым изображением науки. Всем
ученым известно, и Кун выразил это с большой силой и ясностью, что в
реальной — а не в выдуманной философами — науке свирепствуют
догматизм и нетерпимость. Фундаментальные идеи и законы ревниво
охраняются. Отбрасывается все, что расходится с признанными теориями.
Авторитет крупных ученых давит на их последователей с той же слепой и
безжалостной силой, что и авторитет создателей и жрецов мифа на
верующих. Абсолютное господство куновской парадигмы над душой и телом
ученых рабов — вот правда о науке. Но в чем же тогда преимущество науки
перед мифом, спрашивает Фейерабенд, и почему мы должны уважать науку и
презирать миф?
Нужно отделить науку от государства, как это уже сделано в отношении
религии, призывает Фейерабенд. Тогда научные идеи и теории уже не будут
навязываться каждому члену общества мощным пропагандистским
аппаратом современного государства, будет уничтожено господство науки в
области народного образования. В школьном обучении науке следует
предоставить такое же место, как религии и мифологии. Цель обучения
должна состоять вовсе не в том, чтобы вложить в голову ребенка
определенные догмы и схемы поведения, чтобы сделать покорным рабом
существующего строя, послушным винтиком громадной машины
общественного производства. Основой целью воспитания и обучения должна
быть всесторонняя подготовка человека к тому, чтобы, достигнув зрелости,
он мог сознательно - и потому свободно — сделать выбор между разными
формами идеологии и деятельности. Пусть одни выберут науку и научную
деятельность; другие — примкнут к одной из религиозных систем; третьи —
будут руководствоваться мифом и т.д. Только такая свобода выбора, считает
Фейерабенд, совместима с гуманизмом и только она может обеспечить
полное раскрытие способностей каждого члена общества. Никаких
ограничений в области духовной деятельности, никаких обязательных для
всех правил, законов, полная свобода творчества — вот лозунг
эпистемологического анархизма.