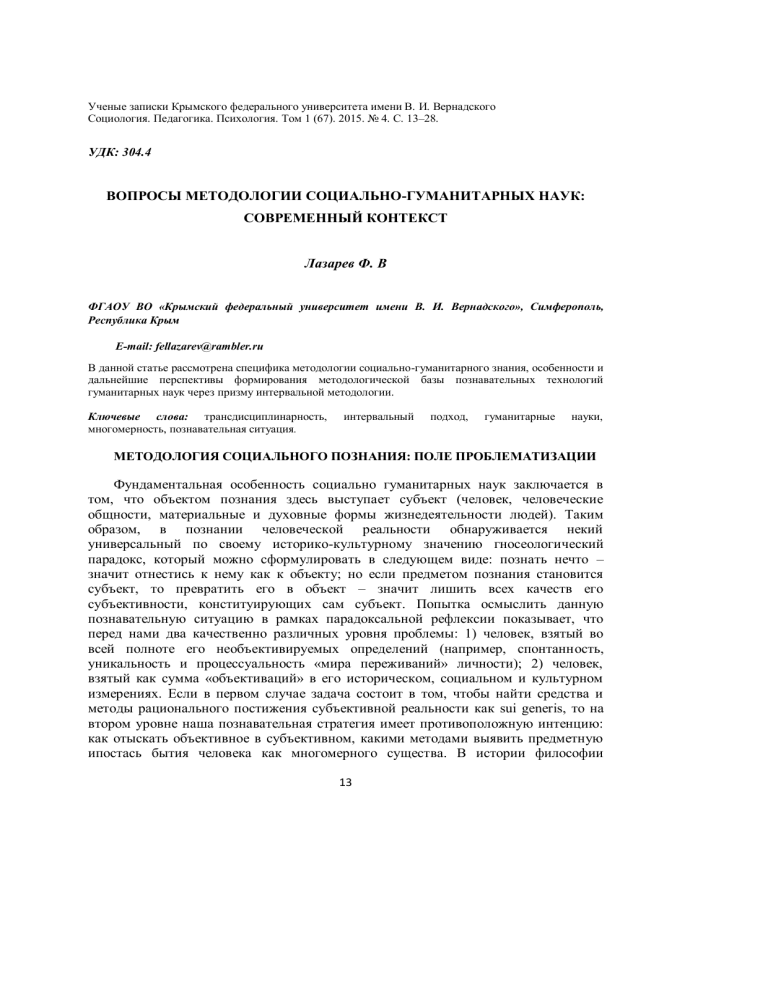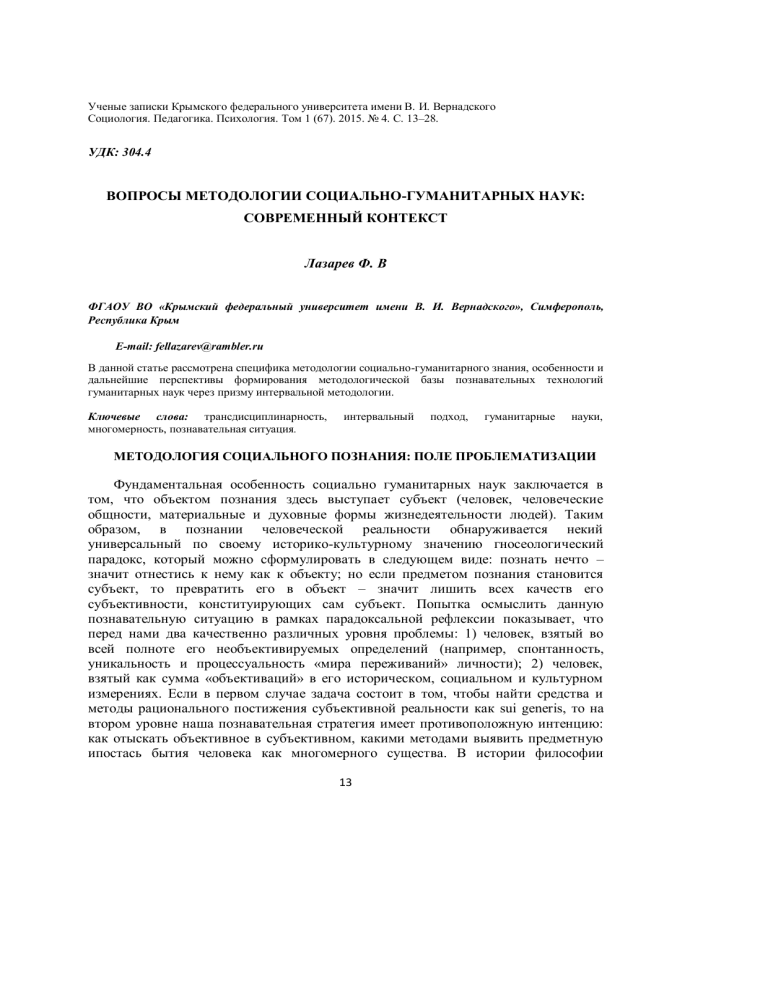
Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Социология. Педагогика. Психология. Том 1 (67). 2015. № 4. С. 13–28.
УДК: 304.4
ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК:
СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ
Лазарев Ф. В
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Симферополь,
Республика Крым
E-mail: fellazarev@rambler.ru
В данной статье рассмотрена специфика методологии социально-гуманитарного знания, особенности и
дальнейшие перспективы формирования методологической базы познавательных технологий
гуманитарных наук через призму интервальной методологии.
Ключевые слова: трансдисциплинарность,
многомерность, познавательная ситуация.
интервальный
подход,
гуманитарные
науки,
МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ: ПОЛЕ ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ
Фундаментальная особенность социально гуманитарных наук заключается в
том, что объектом познания здесь выступает субъект (человек, человеческие
общности, материальные и духовные формы жизнедеятельности людей). Таким
образом, в познании человеческой реальности обнаруживается некий
универсальный по своему историко-культурному значению гносеологический
парадокс, который можно сформулировать в следующем виде: познать нечто –
значит отнестись к нему как к объекту; но если предметом познания становится
субъект, то превратить его в объект – значит лишить всех качеств его
субъективности, конституирующих сам субъект. Попытка осмыслить данную
познавательную ситуацию в рамках парадоксальной рефлексии показывает, что
перед нами два качественно различных уровня проблемы: 1) человек, взятый во
всей полноте его необъективируемых определений (например, спонтанность,
уникальность и процессуальность «мира переживаний» личности); 2) человек,
взятый как сумма «объективаций» в его историческом, социальном и культурном
измерениях. Если в первом случае задача состоит в том, чтобы найти средства и
методы рационального постижения субъективной реальности как sui generis, то на
втором уровне наша познавательная стратегия имеет противоположную интенцию:
как отыскать объективное в субъективном, какими методами выявить предметную
ипостась бытия человека как многомерного существа. В истории философии
13
Лазарев Ф. В.
каждая методологическая программа предлагала свои пути разрешения
обозначенной выше антиномии познания (трансцендентализм, марксизм,
герменевтика, феноменология и др.)
Методология социально-гуманитарных наук, которая сегодня так или иначе
представлена в философском дискурсе и в гуманитаристике в целом,
формировалась, по сути, в первой половине ХХ в. Это прежде всего
герменевтическая рефлексия. Позднее сюда добавляется социология познания,
структурный метод, системный анализ и синергетический подход. Кроме того,
заметное влияние на развитие социологической, психологической и философскиантропологической мысли в методологическом плане оказали Фрейд и Юнг.
Постмодернизм, несмотря на все богатство концептуальных новаций, мало что
позитивного внес в развитие методологии в строгом смысле этого слова, но даже он
во многом пройденный этап. Потерпела неудачу сама попытка постмодернистов
построить теорию, радикально переосмысливающую понятие субъекта и
субъективности как таковой, в соответствии с которой субъект теряет качество
самотождественности, а его сущностью объявляется незавершенность,
процессуальность, странничество по «возможным мирам». Реконструируя фрейдизм
и дополняя его марксизмом, Ж. Делез развивает свою трактовку субъективности.
Философ убежден: репрессивный характер носит не только бессознательное, но и
сознание. Расщепленность внутреннего мира индивида не патология, но норма, а
существовавшие в истории социальные практики приведения сознания к гармонии с
самим собой насилие над личностью со стороны социальных институтов.
Возникает вопрос: существует ли в XXI веке какая-либо «точка роста» для
методологии социально-гуманитарных дисциплин? Похоже на то, что если такая
точка роста и есть, то это трансдисциплинарный дискурс и интервальный подход,
который, конечно, нуждается в определенном обогащении и конкретизации. Думаю,
что генеральное направление здесь – это, прежде всего, конститутивная рефлексия,
т. е. технологии более тщательного и конкретного анализа предпосылочности
гуманитарного знания. Не меньшее значение имеет разработка способов
объективации результатов научно-исследовательской работы в рамках
социологического дискурса.
В последние годы в нашей философской литературе усилился интерес к
проблемам методологии социального знания. Примером сказанному может служить
дискуссия, которая развернулась в журнале «Эпистемология и философия науки»
вокруг статьи К. Х. Момджяна [2, с. 16–22]. Как известно, В. Виндельбанд в свое
время предложил классифицировать науки не только по объекту, но прежде всего
по «формальному характеру их познавательных целей» и разделил их на
номотетические и идеографические. В первом случае познание ориентировано на
поиск общего, инвариантного, на изучение воспроизводимых связей между
явлениями и на установление объективных законов. Во втором случае познание
сфокусировано на анализе уникального единичного, однократного. Здесь ученый
изучает не явления в строгом смысле слова, а события, ищет не законы, а некоторые
ситуативные закономерности. Многие годы весьма распространенным был взгляд,
согласно которому номотетическое мышление характерно для естественных наук, а
14
Вопросы методологии социально-гуманитарных наук: современный контекст
идеографическая стратегия познания относится к общественным и гуманитарным
дисциплинам. Позднее стал осознаваться тот факт, что между естествознанием и
гуманитаристикой нет пропасти и что многие методологические процедуры могут
успешно применяться в науках любого типа. Но это не исключает существования
серьезных различий между двумя типами знания. Так, в отличие от
естественнонаучного знания, гуманитарное знание сильнее зависит от различного
вида предпосылок. Первым, кто (после Вико) обратил внимание на это
обстоятельство, был Маркс. Он убедительно показал, что сознание человека, его
видение общественной жизни, исторических процессов, политических событий,
войн, революций определяется его социальным положением, его классовой
принадлежностью. Это касается как массовидного человека, так и идеолога,
теоретика, ученого-обществоведа. Отсюда – «принцип партийности» в отношении
общественных наук, который выдвигали марксисты. Однако очевидно, что в
отличие от обычного индивида , ученый в своем постижении социальных процессов
использует рефлексию «второго порядка», которая имеет свои гносеологические
особенности. Проблему зависимости сознания от форм социального бытия после
Маркса исследовал К. Манхейм, Д. Лукач и др.
Вместе с тем следует обратить особое внимание на существование таких
познавательных технологий, которые в одинаковой степени имеют место как в
естественных науках, так и в гуманитарных. На это указывали создатели
синергетического подхода, об этом свидетельствует и интервальная методология.
Так, при анализе тенденций современного методологического сознания необходимо
более четко и конкретно проанализировать проблему объяснения и понимания в
естествознании и социальных науках. Герменевтическая методология слишком
односторонне противопоставляла эти две важнейшие познавательные стратегии,
отнеся первую к точным наукам, а вторую – к гуманитарным. Многолетние
дискуссии по этой проблематике показали, что и объяснение, и понимание имеют
место как в точных науках, так и в социально-гуманитарных. Но их смысл и способ
применения различаются в зависимости от того, в какой сфере познания мы их
применяем. Разве в работе социолога не требуется прибегать к объяснению хода
социальных событий, и разве при применении принципа дополнительности в
квантовой механике не требуется понимание? В том-то и заключается задача (и в
том-то и трудность), чтобы выявить специфику применения этих операций в
познании.
СОЦИАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА МАРКСА: ПОПЫТКА ОБОБЩЕНИЯ
Методология, которую применял Маркс при конструировании своей
социологической и исторической теории, вполне соответствовала духу «позитивной
науки» того времени. Следует, однако, отметить, что марксистская трактовка
общественного устройства и сущности исторического субъекта остается в своей
основе верной и в наше время. Вместе с тем эта трактовка сегодня нуждается в
уточнении, поправках и обобщении. При этом необходимые поправки носят
принципиальный характер. Укажем на некоторые, наиболее важные из них.
15
Лазарев Ф. В.
Поправка первая. Маркс открыл факт обусловленности общественного
сознания (равно как и индивидуального) общественным бытием, факт зависимости
надстройки от базиса. Общественное бытие – это базовый, системообразующий,
задающий способ видения и истолкования окружающего мира слой социальной
реальности. Однако, выстраивая свою методологию, Маркс не придал должного
значения стратифицированной структуре социума. Этот пробел уже в ХХ в.
восполняет К. Манхейм. Он начинает с тезиса, близкого к марксизму: всякое знание
(и сознание) обусловлено социально, культурно, включая зависимость от
социальных ячеек, слоев, классов и т. п. Однако следующий шаг в анализе
проблемы отдаляет Манхейма от марксистских представлений. Этот шаг связан с
гносеологической идеей перспективы.
Что означало для Манхейма принятие перспективизма? Сам по себе тезис о
социальной обусловленности гуманитарного знания еще не означает принятие
перспективистской концепции. Последняя начинается с тезиса: всякий наблюдатель
занимает в социокультурном пространстве познавательную позицию, которая
определяет способ видения реальности, перспективу. В отличие от Ницше, который
полагал, что таких перспектив столько, сколько существует в мире людей, Манхейм
ясно понимал, что перспектива зависит от социальной стратификации, от
положения наблюдателя в той или иной социальной нише. Социология знания как
раз и ставит перед собой задачу проанализировать возможные в обществе
перспективы видения, а также попытаться понять, какие существуют переходы,
связи между перспективами.
Поправка вторая. Эта поправка вытекает из установок интервальной
методологии и является продолжением идей, развитых в социологии познания.
Каждый социальный субъект существует в той или иной социальной «ячейке» – в
семье, профессиональном коллективе, социальной группе, гражданском
объединении и т. п. В зависимости от степени вовлеченности субъекта в ту или
иную социокультурную целостность выстраивается и формируется его сознание.
Последнее всегда контекстуально, так или иначе, временно или постоянно зависит
от соответствующего социального хронотопа. Указанные хронотопы могут
выстраиваться по модели «матрешки» или образовывать конфигурации по
принципу дополнительности. Сознание индивида поэтому всегда представляет из
себя достаточно сложную мозаику. Это не значит, что в нем нет доминирующего
ядра. Человеческое сознание меняется при переходе индивида из одного
социального интервала в другой.
Но если смыслы, цели и мировоззренческие установки индивидов существенно
зависят от тех самозамкнутых социокультурных миров, в которых они пребывают в
процессе своей жизнедеятельности, то означает ли это, что люди из разных этносов,
социальных систем и «локальных культур» в такой степени «некоммуникабельны»,
что в принципе не способны глубинно понять друг друга и не могут, в сущности,
вести между собой продуктивный диалог? Сегодня, в условиях болезненного
противостояния глобальных геополитических пространств и цивилизаций, этот
вопрос приобретает фундаментальную значимость как в социокультурном, так и в
политическом плане. И именно поэтому он нуждается во всестороннем
16
Вопросы методологии социально-гуманитарных наук: современный контекст
философском осмыслении. Ведь если верно, что в мире «все относительно», что
мир расколот на миры, между которыми нет единых скрепов, инвариантов,
связующих нитей, то очевидно, что в нем невозможно подлинное взаимопонимание
людей, религиозных общин, народов, стран. И здесь мы подходим к еще одной
поправке, которую следует внести в философию Маркса.
Поправка третья. С точки зрения интервальной методологии в рамках любой
интервальной ситуации свойства всех происходящих явлений можно разделить на
две группы – на те, которые зависят от данной целостности, и те, которые носят
инвариантный характер. Так, в классической механике скорость тела зависит от
выбранной системы отсчета, а масса тела не зависит. Применительно к духовной
жизни общества мы можем сказать, что замкнутые хронотопы, в которых
существуют те или иные социальные общности людей, конечно, определяют их
общественное сознание, но лишь в отдельных аспектах. Поэтому следует отказаться
от марксистской идеи о полной редукции надстроечных феноменов к базису, ибо
здесь не менее важным является тот факт, что в духовной сфере всегда имеют место
такие элементы (нормы, ценности, мировоззренческие установки, культурные
стереотипы, языковые практики, религиозные убеждения и т. п.), которые носят
сквозной, от отдельных хронотопов независящий характер. Такие инварианты
связывают локальные социальные миры в более широкие общности вплоть до
общечеловеческих норм и ценностей. Отсюда следует принципиально важный
методологический вывод: в развитии человеческой истории все формы духовного
производства (мифология, религия, мораль, искусство, философия, наука) включают
в себя как частные, так и универсальные, общечеловеческие элементы. Поэтому, к
примеру, философия в каких-то своих проявлениях может быть инструментом в
руках тех или иных социальных сил, а в других случаях в качестве универсальной
ценности быть «живой душой культуры». Очевидно, что свойственная марксизму
методология редукционизма в понимании сущности человека, его сознания и
человеческой культуры устарела и должна быть заменена методологией
многомерного подхода. Сущность человека не может быть сведена ни к
совокупности социальных отношений, ни к культурным практикам, ни к
экзистенции. В связи со сказанным выше возникает и еще не один вопрос: как
следует понимать многомерную сущность человека в контексте диалектики
внутриинтервального и инвариантного, как эта многомерность выстраивает
сознание людей.
СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА: ОТ ПОСТМОДЕРНИЗМА К ИНТЕРВАЛЬНОСТИ
Если бытие человека онтологически интервально, то не сводится ли отдельная
личность к сумме своих актуализаций в различных жизненных контекстах? Не
растворяется ли социальный субъект в своих функциях и социальных ролях? И не
сталкиваемся ли мы здесь с тем, что психологи и психопатологи называют
синдромом множественности личности? Иногда интервальную антропологию
упрекают в том, что она именно так истолковывает сущность человека. Но это
неверно. Рассмотрим этот актуальный для современной цивилизации вопрос более
подробно.
17
Лазарев Ф. В.
Отметим, прежде всего, что интервальная философия, имея некоторые общие
черты с постмодернизмом, существенно расходится с ним в наиболее серьезных
методологических посылках. Представители постмодернистской волны, принимая
принцип нелинейности восприятия жизненного мира в разных ментальных
перспективах, резонно постулируют возможность параллельного сосуществования
(со-бытия) множества «возможных миров», каждый из которых может
актуализироваться для индивида в тех или иных социальных или экзистенциальных
обстоятельствах. В этом пункте установки постмодернизма и интервального
подхода еще совпадают. Но уже следующий шаг отражает глубокую дивергенцию в
позициях. Дело в том, что с интервальной точки зрения способность индивида к
адаптации к тем или иным жизненным контекстам и ситуациям, его
процессуальность и неполнота присутствия не исключают возможность сохранения
инвариантных качеств человека, в том числе в сфере моральных принципов и
духовных ценностей. Напротив, постмодернистская точка зрения заключается в
том, что ситуативность выражает глубинную сущность человека. Но если человек
есть просто суммарный набор потенциальных масок и функций, благодаря которым
он адаптируется к изменяющимся социальным условиям, то отсюда проистекает
возможность ухода от ответственности за свои поступки и решения для индивида,
идентифицирующего себя в том или ином пространственно-временном интервале, в
том или ином хронотопе. Каждый раз, перемещаясь в новый интервал, индивид
предает забвению старую систему ценностей, совокупность культурных
стереотипов и норм поведения, перекрашиваясь в новые цвета политического,
религиозного и морального свойства. И нет ничего ни в его душе, ни вокруг, что бы
связывало его со своим прошлым опытом или опытом рода. Каждый получает
возможность поэкспериментировать с самим собой, «прожить жизнь заново»,
начать с «чистого листа», оказаться в шкуре духовного манкурта, сняв с себя
ответственность за прошлое и будущее, ибо изнутри интервала действительным и
важным, полным живого смысла является только то, что происходит с человеком
«здесь» и «теперь». Совершенно иная картина сущности субъекта вырисовывается в
рамках интервальной парадигмы, которая в равной степени акцентирует внимание
как на моменте ситуативности, так и инвариантности.
Возвращаясь в свете сказанного к классической формуле К. Маркса
«общественное бытие определяет общественное сознание», следует отметить, что
она в своей основе остается верной, но нуждается в переосмыслении. С точки
зрения интервального подхода она означает: 1) зависимость любого сознания от
замкнутого интервала (хронотопа), в котором социально существует человек в
процессе своей жизнедеятельности. Именно хронотоп порождает и смыслы, и
способы видения реальности. Это прежде всего гносеологическая проблема, а не
социологическая или политическая; 2) в обществе существует множество
различных сфер, которые в качестве смыслопорождающих систем определяют
человеческое сознание с его ценностями и мотивами; 3) эти системы замкнуты и
имеют объективную укорененность; 4) задача ученого-гуманитария – исследовать
интервалы социокультурного бытия людей, искать, описывать, вскрывать их
природу (онтологию) и их границы; 5) каждый интервал предполагает три
18
Вопросы методологии социально-гуманитарных наук: современный контекст
познавательные ситуации, в которых может находиться субъект: «изнутри»,
«извне», «над интервалом»; 6) при переходе от одного интервала к другому
обнаруживаются инвариантные характеристики объективированных структур и
универсалий сознания. Однако эти последние не могут быть выявлены
массовидным
субъектом
социального
действия.
Для
этого
нужен
профессиональный ученый.
При анализе социально-гуманитарного знания мы имеем дело с тремя уровнями
рефлексии:
видение реальности общественным индивидом;
видение реальности ученым-обществоведом (социологом, политологом,
футурологом);
видение реальности методологом.
Ученый, который пытается понять, как устроена жизнь людей и их
общественное сознание, также подпадает в процессе функционирования своего
теоретического сознания под действие исходной формулы Маркса, хотя эта
последняя работает на уровне рефлексии ученого иначе, чем на уровне
функционирования сознания у массового индивида. Третий уровень рефлексии
связан с работой методолога. Он не дает оценку самим событиям и явлениям
общественной жизни и, следовательно, он никак не проявляет свое собственное
отношение к изучаемой реальности, к тем или иным социальным интересам.
Поэтому он может занимать «внеклассовую», метатеоретическую позицию в
понимании того, как конкретный ученый-социолог познает социокультурную
реальность. Он вскрывает зависимость выводов ученого от социальных
предпосылок, но он не оценивает, хорошо это или плохо. Однако возможна и 4-я
позиция: речь идет о позиции методолога, но такого, который в жизни занимает
положение, которое никак не связывает его с чьими бы то ни было интересами. Это
тоже метапозиция, но она определяется не особенностями предмета рассмотрения
(как в 3-м случае), а особенностями положения человека в обществе и наличием у
мыслителя инвариантного, общечеловеческого этоса.
МЕТОДЫ ИНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Метод интервализации – задание «оптики» рассмотрения объекта с точки
зрения конкретной научно-исследовательской задачи с помощью специально
подобранной совокупности абстракций. Речь идет, таким образом, о процедуре
перехода от объекта (как единства многообразного) к конкретному предмету
исследования, заданного в определенной перспективе видения с четко
фиксированным интервалом абстракции. Каждый объект, событие, явление
неисчерпаемы в своих свойствах и отношениях. При этом, находясь в разных
условиях, объект проявляет себя по-разному. Возьмем, например, такую вещь, как
часы.
В зависимости от того, в какой интервальной ситуации мы будем
рассматривать эту вещь, мы будем иметь качественно различные ее актуализации
(как физическое тело – в свободном падении, как товар – в сфере рыночных
19
Лазарев Ф. В.
отношений, как прибор для измерения времени в сфере практического пользования,
как культурно-историческая ценность в музее и т. д.)
Интервализация предполагает следующие познавательные операции.
Концептуализация – установление необходимых для построения теории
ключевых абстракций и выявление их логической взаимосвязи, что в итоге
обеспечивает целостное, самодостаточное, смысловое пространство. Данная
операция предполагает фиксацию четко заданного смыслового поля со своей
группой понятий, принципов подхода, теоретических конструкций, способных
адекватно отобразить данный аспект исследуемого объекта. В рамках научной
рациональности базовые концепты имеют свою содержательную наполненность
благодаря тому, что в них отражаются некие онтологические прообразы
(предметно-денотативный уровень). Первичная концептуализация обеспечивает
дальнейшее понятийно-логическое развертывание теории и переход от исходных
абстракций к более сложным теоретическим конструктам.
Операционализация – придание точного смысла понятиям посредством
экспериментально-метрических и прочих эмпирически реализуемых процедур.
Любое достаточно точное понятие (особенно в области естественных наук) имеет не
только концептуальный, но и операциональный уровень.
Необходимость использования операциональных способов определения
научных понятий была осознана в условиях научной революции в физике в первые
десятилетия ХХ века, когда были созданы теория относительности и квантовая
механика. Осмысление того, что было неудовлетворительным в структуре и
содержании подвергшихся пересмотру старых понятий (таких, как «эфир»,
«одновременность», «пространство»), породило потребность в анализе «природы»
физических понятий вообще их «взаимоотношений» с экспериментом в частности.
Потребовалось ответить на вопрос, возникший в связи с естественным
беспокойством за «непустоту» понятий, используемых в научных описаниях
физических явлений: имеются ли такие средства определения этих понятий,
которые гарантируют их от «ревизии» в случае обнаружения принципиально новых
экспериментальных фактов? Казалось, что ответ на этот вопрос заключается в
анализе различных способов формирования семантики понятий, и в частности
таких, которые использовали создатели новых научных теорий. Например, в теории
относительности значения временных переменных (в соответствующих уравнениях)
для двух событий, происходящих в разных точках пространства, считываются с
показанием
«синхронизированных»
часов,
расположенных
вблизи
соответствующих точек. Принципиально новым здесь оказывается понятие
одновременности событий, которое определяется операционально, т. е. включает
указания на последовательность операций, – действий наблюдателей, по
синхронизации часов, расположенных в разных точках, и, кроме того – для
однозначного истолкования результатов этих операций, указание на систему
отсчета, в которой находятся приборы и наблюдатели. Очевидно, что
экспериментальная процедура может выступать как средство выявления точного
физического смысла ключевых понятий теории, для чего в их определение должен
входить метод, позволяющий в каждом отдельном случае на основе эксперимента
20
Вопросы методологии социально-гуманитарных наук: современный контекст
решать осмысленно ли применение этого понятия в данном случае или нет. Иначе
говоря, каждое такое понятие приобретает строгий смысл лишь в операциональном
контексте, т. е. тогда, когда указана последовательность актуально (или
потенциально) осуществимых операций, фактическое выполнение которых
позволяет шаг за шагом выявить физический смысл этого понятия, и, таким
образом, гарантировать его непустоту.
Гносеологическая фокусировка – обеспечение максимально возможного
смыслового уточнения и прояснения (как на концептуальном, так и на
операциональном уровнях) используемых в теории образов реальности в заданном
интервале абстракции. То обстоятельство, что каждая познавательная позиция
предполагает как субъективную, так и объективную стороны, разумеется, не
означает, что они a priori или автоматически согласованы между собой. Априорная
согласованность скорее является исключением, чем правилом в человеческом
постижении мира. Поэтому в реальной практике познания часто возникает
необходимость в особых процедурах, связанных с «подгонкой» этих сторон друг к
другу. Такой тип познавательной деятельности в интервальной философии получил
название «гносеологическая фокусировка».
Простейший тип фокусировки можно обнаружить на примере часто
встречающегося в обычной практике процесса приближения наблюдателя к объекту
своего внимания. Процесс приближения заканчивается, когда выбранная точка
наблюдения
обеспечивает
максимально
четкое
восприятие
объекта.
Гносеологический смысл познавательной активности состоит здесь в том, чтобы
компенсировать объективную ограниченность наблюдателя и найти необходимую
меру адекватности зрительного образа в заданных условиях.
Экспериментальная деятельность ученого также может быть рассмотрена как
систематический поиск согласования выдвигаемых в теории объяснительных
моделей и эмпирических данных. В этом контексте гносеологическая фокусировка
приобретает новые черты. Суть ее в том, чтобы, с одной стороны, «навести на
резкость» объективную картину изучаемого процесса по отношению к
экспериментальным и концептуальным возможностям субъекта, а с другой –
посредством контакта теоретических построений с реальностью проверить их на
адекватность и осмысленность. В отличие от предыдущего случая, здесь активность
направлена не на субъект, а на объект. С чем связана необходимость этой
«приготавливающей стадии» по отношению к объекту?
Дело в том, что не всякое наличное бытие, не всякая среда, в которой ученый
рассматривает явление с интересующей его стороны, может служить эффективным
условием познания. Поэтому возникает задача так искусственно подобрать или
преобразовать среду (а соответственно и явление), чтобы объект стал «прозрачным»
и рационально постигаемым. В естествознании эта деятельность связана с
конструированием таких экспериментальных ситуаций, в рамках которых
изучаемое явление протекает в «чистом виде». Воспроизводя в эксперименте
упрощающие идеализирующие условия для протекания исследуемых явлений,
ученый как бы воссоздает новую реальность, по отношению к которой научные
абстракции находят однозначную интерпретацию. Часто такая реальность включает
21
Лазарев Ф. В.
в себя такие объекты, которые представляют собой овеществленную
математическую идею (структуру), например, молекулу или кристалл.
Приготовление в опыте «идеализированной реальности» есть, в сущности, первый
шаг рационализации в рамках индуктивного исследования. Следующий же шаг
связан с тем, что очищенная от случайностей и затемняющих обстоятельств
экспериментальная ситуация позволяет понять (в силу регулируемости всего
процесса со стороны наблюдателя) причинные связи «на входе» и «на выходе».
То, что реальность позволяет познающему субъекту «идеализировать опыт»,
т. е. подбирать нужные для целей исследования интервальные ситуации, в рамках
которых он получает возможность обнаруживать простые и устойчивые отношения
вещей, подпадающие под математическое описание, есть первейшее условие
научной рациональности. На важность такой методологической практики обращает
внимание В. Гейзенберг: «В сегодняшней научной работе мы существенным
образом следуем методологии, открытой и развитой Коперником, Галилеем и их
последователями в XVI-XVII вв. Для нее, прежде всего, характеры две особенности:
установка на конструирование экспериментальных ситуаций, изолирующих опыт и
поэтому порождающих новые явления; сопоставление этих явлений с
математическими конструктами, которым приписывается статус естественных
законов» [3, с. 148].
Метод внешнего дополнения. Тот факт, что в познании существует множество
различных познавательных позиций, имеющих равное право на истину, не отменяет
того, что эти позиции имеют разные познавательные возможности. Отсюда
вытекают три важных методологических требования: 1) при анализе
познавательной деятельности необходимо фиксировать тип занимаемой субъектом
познавательной позиции, ее гносеологические характеристики и возможности; 2)
фиксируя познавательную позицию, необходимо добиваться максимальной
согласованности
субъективных
и
объективных
оснований
познания
(гносеологическая фокусировка); 3) необходимо исследовать логические и
гносеологические механизмы перехода от одной позиции к другой.
Своеобразие диалектики интервальных ситуаций заключается в том, что один и
тот же предмет обнаруживает себя по-разному в зависимости от того, «изнутри»
или «извне» соответствующей ситуации мы его рассматриваем. Пример такой
диалектики можно видеть в анализе Эйнштейна, теоретически обосновавшего факт
равенства тяжелой и инертной массы. Ученый писал, что удовлетворительное
истолкование этому факту можно дать в соответствующей форме: в зависимости от
обстоятельства одно и то же качество тела проявляется либо как «инерция», либо
как «тяжесть».
С интервальной диалектикой внутреннего и внешнего нередко сталкиваются
исследователи гуманитарного профиля – историки, этнографы, культурологи и др.
К примеру, при изучении культуры ситуация наблюдения «извне» и «изнутри»
воспроизводится с не меньшей четкостью и частотой, чем в естествознании. Какую
позицию избрать – описывать ли реалии другой культуры в качестве «постороннего
наблюдателя», вооруженного научной методикой, или пытаться «вжиться» в новую
среду, научившись переживать ее изнутри? Возможно ли как-то комбинировать эти
22
Вопросы методологии социально-гуманитарных наук: современный контекст
два смысловых горизонта и способа видения? История гуманитарных наук
свидетельствует о методологических трудностях и коллизиях, которые встречались
на пути ученых в контексте рассматриваемой проблемы. Одна из распространенных
здесь ошибок – отсутствие рефлексии исследователя над своей познавательной
позицией. В результате нередко бывало так, что все фиксируемое путем
наблюдения (обычаи, ритуалы, брачные отношения и т. п.), проходило через призму
понятий, характерных для той культуры, представителем которой является
исследователь. Так, Л. Я. Штернберг отмечает, что Л. Шренк не увидел у гиляков
экзогамной организации, несмотря на то, что прожил среди них более двух лет: он
интерпретировал их отношения на европейский лад. О трудностях такого рода часто
вспоминал Н. Н. Миклухо-Маклай в своих записках.
Необходимость в методологической рефлексии возникает у историка, когда он
пытается реконструировать прошлое на основе исторических источников. Какую
интеллектуальную основу выбрать? Можно мысленно перенести себя в прошлую
эпоху, вжиться в психологию и миропереживание людей другого времени; можно,
напротив, использовать «эффект дистанции», посмотреть на прошлое глазами
современного человека, вооруженного современной теорией исторического
развития. Ясно, что выбор той или другой перспективы обуславливает применение
соответствующих методов и концептуальных средств описания. Внешний
наблюдатель естественным образом использует «язык универсалий», в то время как
при описании изнутри логично ограничиться номиналистическим языком
наблюдения. В зависимости от того, какой путь предпочтет исследователь, он
получит качественно различные картины живого исторического процесса. Так,
сторонники ситуационного подхода к истории науки фокусируют свое внимание на
событиях прошлого с точки зрения их целостности, уникальности,
невоспроизводимости в других условиях. Ситуационные исследования могут
вызвать чувство неудовлетворенности у историка-традиционалиста, ведь он привык
не стеснять себя при использовании категории всеобщего. Напротив, приверженца
нового подхода пугают цепкие смысловые химеры языка платонизма.
Метод концептуальной разверстки – отображение одного и того же исходного
объекта исследования в разных мысленных плоскостях (картинах) и выявление с
этой целью соответствующего множества интервалов абстракции. При этом имеется
в виду, что фиксация того или иного среза объекта предполагает погружение его в
адекватное концептуальное пространство анализа со своей системой понятий,
принципов, правил дискурса. Эти системы понятий логически несовместимы между
собой, но лишь взятые вместе исчерпывают всю необходимую информацию о
свойствах объекта. Например, в антропологии исторически сложилось несколько
основных дискурсов о человеке – естественнонаучный, социально-экономический,
философский, религиозный.
Концептуальная разверстка может быть двух типов – поисковая и
трансинтервальная. Так, перечисление сущностных измерений человеческого бытия
(биологическое, социальное, культурное, экзистенциальное и др.) заведомо не
является полным, поскольку зависит от той или иной философской позиции и
выражает ситуацию нескончаемого поиска сущности человека в истории мысли. В
23
Лазарев Ф. В.
случае же трансинтервальной разверстки возможные перспективы видения объекта
уже выявлены и четко зафиксированы в ходе познавательной деятельности.
Например, элементарная частица имеет всего два варианта своего концептуального
отображения – в виде волновой или корпуксулярной картины.
Метод универсализации – теоретическое выявление при исследовании того или
иного фрагмента действительности скрытых универсалий, инвариантов, устойчивых
связей и отношений. Так, при создании теории относительности были
релятивизированы такая величина как масса, но при этом был выявлен новый
инвариант – пространственно-временной континуум. Универсализация имеет
исключительно важное значение в познавательной деятельности. М. Планк в свое
время писал: «В основе так называемой теории относительности заложено нечто
абсолютное; таковым является определение меры пространственно-временного
континуума, и как раз особенно привлекательная задача состоит в том, чтобы
разыскать то абсолютное, которое придает относительному его подлинный смысл»
[4, с. 20]. Удивительно, что спустя почти столетие можно сказать: в то время как о
процессах релятивизации знания написаны сотни книг, о проблеме универсализации
нет ни одного развернутого эпистемологического исследования. Это не значит, что
на эту тему никто не размышлял. Богатый материал для философской рефлексии
дает, к примеру, книга Е. Вигнера «Этюды о симметрии» [5].
Сам феномен абстракции тесно связан с понятием инварианта. Каждая разумная
абстракция обладает фантастической точностью подтверждения. Как отмечает
Вигнер, уравнения движения двух электронов в атоме гелия позволяют
предсказывать результаты, находящиеся в согласии с опытом с точностью до
0,0000001. Мы извлекаем из наших идеальных структур нечто такое, что в них не
закладывали. Научные абстракции по своему смысловому содержанию обладают
фантастическим запасом эпистемологической прочности, но строго ограниченной
областью однозначной применимости. Но при этом пределы их применимости
(интервал абстракции) не известны заранее. Их приходится устанавливать. И на эту
работу уходят десятки, а то и сотни лет. Так, интервал абстракции понятий
классической механики был выявлен лишь спустя 300 лет в результате создания
теории относительности и квантовой механики.
Приведенное выше высказывание М. Планка о том, что в процессе познания
необходимо разыскивать то абсолютное, которое придает относительному его
подлинный смысл, очевидно, справедливо не только для естествознания, но для
социально-гуманитарных наук. Например, именно инварианты культуры являются
необходимым условием самой возможности продуктивного диалога между
различными народами, странами, этносами и т. п. Поэтому их выявление и
теоретическое осмысление представляет собой важнейшую задачу культурологии.
Метод универсализации основан на процедуре трансдукции, т. е. на
рациональном переходе от одной интервальной ситуации (ИС) к другой. ИС можно
ближайшим образом определить как любую опытно фиксируемую ситуацию, в
рамках которой исследуемое свойство или явление обнаруживает себя в чистом
виде и для отображения которых у наблюдателя имеются адекватные эмпирические
и концептуальные средства. Совокупность эмпирических предикатов, фактуальных
24
Вопросы методологии социально-гуманитарных наук: современный контекст
данных, которыми пользуется внутренний наблюдатель, позволяет ему, строго
говоря, получать лишь номиналистически описываемую картину исследуемого
явления, за адекватность которой он может ручаться лишь в рамках данной
конкретной ИС. Поэтому возникает вопрос: в какой степени выводы, полученные
изнутри ИС, могут быть обобщены на другие ситуации и на какие именно? Нет
другого способа ответить на этот вопрос, как провести наблюдения в других ИС и
показания наблюдателей сравнить между собой. Очевидно, что процедура
сравнения не может быть проведена изнутри ИС. Эта процедура осуществляется
познающим субъектом Т, выполняющим роль теоретика, в руках которого
сосредотачивается информация от всех интервальных наблюдателей.
Теоретик Т мысленно помещает себя в метаинтервальную позицию, пытаясь
рационально увязать фактуальные описания различных наблюдателей.
Метаинтервальная позиция («над интервалом») представляет собой особую
гносеологическую ситуацию, которая позволяет теоретику выполнять свою
специфическую роль в процессе познания. Во-первых, он констатирует абсолютный
характер любой внутриинтервальной истины («истины факта» по терминологии
Лейбница); во-вторых, он устанавливает факт относительности любых данных
наблюдения, имея в виду их привязанность лишь к определенной ИС; в-третьих, он
вычленяет инварианты, универсалии, которые не зависят от заданных условий
(«истины необходимостей» – по терминологии Лейбница); в-четвертых, опираясь
на инвариантные соотношения, он устанавливает соподчиненность и взаимосвязь
исходных истин, а также комбинирует их в новые концептуальные способности.
В контексте сказанного важно обратить внимание на существенные различия
между функциями теоретика естественно-научного и социально-гуманитарного
профиля. В естествознании теоретизирующий субъект предстает как нечто
относительно простое, постулируемое в своей целостности. Другую картину мы
наблюдаем в социокультуре. Здесь субъект сам становится объектом наблюдения и
самонаблюдения, ибо кроме ИС возникает еще метауровень: необходимость
выяснения степени корреляции между видением себя в определенных условиях и
объективным положением самого наблюдателя (по аналогии этот вторичный
познавательный процесс можно было бы назвать «самофокусировкой»).
Как отмечает И. В. Лосев [6, с. 76–77], осложняющим обстоятельством является
в данном случае величайшая многозначность феноменов социокультуры как в
синхронном, так и в диахронном аспекте. В особенности это касается оценок
инокультурной среды, выступающей для теоретика как внеположенность. Одна из
отмеченных трудностей может быть сформулирована так: каким образом теоретик,
если он является, например, представителем европейской культуры, способен в
качестве внешнего наблюдателя адекватно анализировать реалии культуры и образ
жизни народов Востока? Причем стиль мышления, менталитет европейца и
представителя восточного мира, их нормы поведения далеко не идентичны. Сегодня
мы наглядно видим это на примере поведения мигрантов, хлынувших десятками
тысяч в Западную Европу. Диалог цивилизаций на базе принципов
мультикультурализма оказался весьма жестким. В ходе кросс-культурного
взаимодействия мигранты с Ближнего Востока испытывают так называемый
25
Лазарев Ф. В.
культурный шок, своего рода стресс группового или индивидуального сознания,
вызванный вхождением в иную социокультурную среду. Возникает конфликт
между своими и чужими ценностями, нормами, повседневными практиками.
В то время как гносеологический статус позиций внутреннего и внешнего
наблюдателей, связанных с той или иной культурно-исторической целостностью,
достаточно ясен, вопрос о роли гносеологического посредника (теоретика) требует
специального обсуждения. Каким образом ему удается вычленять и теоретически
отслаивать универсалии и инварианты культуры? Очевидно, что здесь требуется
особая технология и методика работы.
Метод концептуальной сборки – представление объекта в многомерном
когнитивном пространстве путем установления логических связей и
трансдуктивных переходов между разными интервалами, образующими единую
смысловую конфигурацию. Так, в классической механике одно и то же физическое
событие может быть отражено наблюдателями в разных системах отсчета в виде
соответствующей совокупности экспериментальных истин. Эти разные картины,
тем не менее, могут образовывать некое концептуальное целое благодаря,
например, «правилам преобразования» Галилея, регулирующим способы перехода
от одной группы высказываний к другой.
В условиях, когда современная наука преступает дисциплинарные границы,
становясь формой общественного производства, сплавом фундаментального и
практически ориентированного, инновационного исследования, становится весьма
актуальной задачей разработка трансдуктивных методов состыковки различных
«универсумов рассуждений» в единую концептуальную конфигурацию.
Список литературы
1. Лазарев Ф. В., Лебедев С. А. Философская рефлексия: сущность, формы, типы // Вопросы
философии и психологии. – 2015. Т. 3. – С. 4-16.
2. Момджян К. Х. Номотетическое познание в общественных и гуманитарных науках //
Эпистемология и философия науки. – М., 2015. – Т. XLV. – №3
3. Гейзенберг В. Реферативный сборник. – М., 1978.
4. Планк М. Единство физической картины мира. – М., 1966.
5. Вигнер Е. Этюды о Симметрии. – М., 1981. – 315 с.
6. Лосев И. В. В специфике концептуальных программ интервальности в гуманитарном знании //
Диалектика и актуальные проблемы теории познания. – Севастополь, 1982.
26
Вопросы методологии социально-гуманитарных наук: современный контекст
UDC: 304.4
THE QUESTIONS ABOUT METHODOLOGY OF SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES: A MODERN CONTEXT
Lazarev F. V.
Taurida Academy of V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russian
Federation.
e-mail: fellazarev@rambler.ru
In this article considers the specificity of the methodology of the social sciences and
the humanities, features and future prospects of forming a methodological framework of
cognitive techniques of the humanities by the interval methodology. Methodology of
social sciences and humanities, which is considered by the author, which is now one way
or another presented in philosophical discourse and in the humanities in general, was
formed, in fact in the first half of the twentieth century. It ¬- especially hermeneutical
reflection. Later, here it is added to the sociology of knowledge, structural method, system
analysis and synergetic approach. In addition, a significant influence on the development
of sociological, psychological and philosophical-anthropological thought in terms of
methodology, had Freud and Jung. Postmodernism, in spite of all the wealth of conceptual
innovations, little is positively contributed to the development of methodology in the strict
sense of the word, but even he - largely passed stage. Failed the attempt to construct a
theory of postmodern radically rethink the concept of the subject and subjectivity as such,
in accordance with which the subject loses the quality of self-identity, and its essence is
declared incomplete, procedural, wandering on the "possible worlds". Reconstructing
Freudianism and Marxism supplementing it, Deleuze develops his interpretation of
subjectivity. Philosopher convinced repressive character is not only unconscious but
conscious. The splitting of the inner world of the individual - not a pathology, but the
norm, and existed in the history of social practices to bring consciousness into harmony
with yourself ¬- personal violence on the part of social institutions.The question arises: is
there in the XXI century is any "point of growth" for the methodology of the humanities?
It seems that if such a growth point is, this transdisciplinary discourse and interval
approach, which, of course, needs a certain enrichment and specificity. The author
believes that the general direction here - is primarily a reflection constitutive, ie,
technology for a thorough and specific analysis premised humanities. Equally important is
the development of methods for objectification of the results of research work in the
framework of sociological discourse. This article interval methodology performs a new
conceptual basis of social and humanitarian knowledge.
Keywords: transdisciplinarity, interval approach, the human sciences,
multidimensional, cognitive situations.
27
Лазарев Ф. В.
References
1. Lazarev F., Lebedev S.A. Philosophical reflection: the nature, forms, types // Problems of Philosophy
and Psychology, no 1 (13). – pp. 4-16. (In Russian)
2. Momjian K. Nomothetic knowledge in the social sciences and humanities // Epistemology and
philosophy of science. – Moskow publ., 2015, t XLV, №3. (In Russian)
3. Heisenberg W. Referats collection Moskow, Mysl Publ, 1978 (In Russian)
4. Plank M. The unity of the physical picture of the world, Moskow, Mysl Publ.1996. 288pp (In
Russsian)
5. Wigner E. Essays on symmetry. Moskow, Mysl Publ. 1981 – 315p. (In Russian)
6. Losev I The specifics of the concept of interval programs in humanities // Dialectics and actual
problems of epistemology. – Sevastopol Publ, 1982 (In Russian)
28