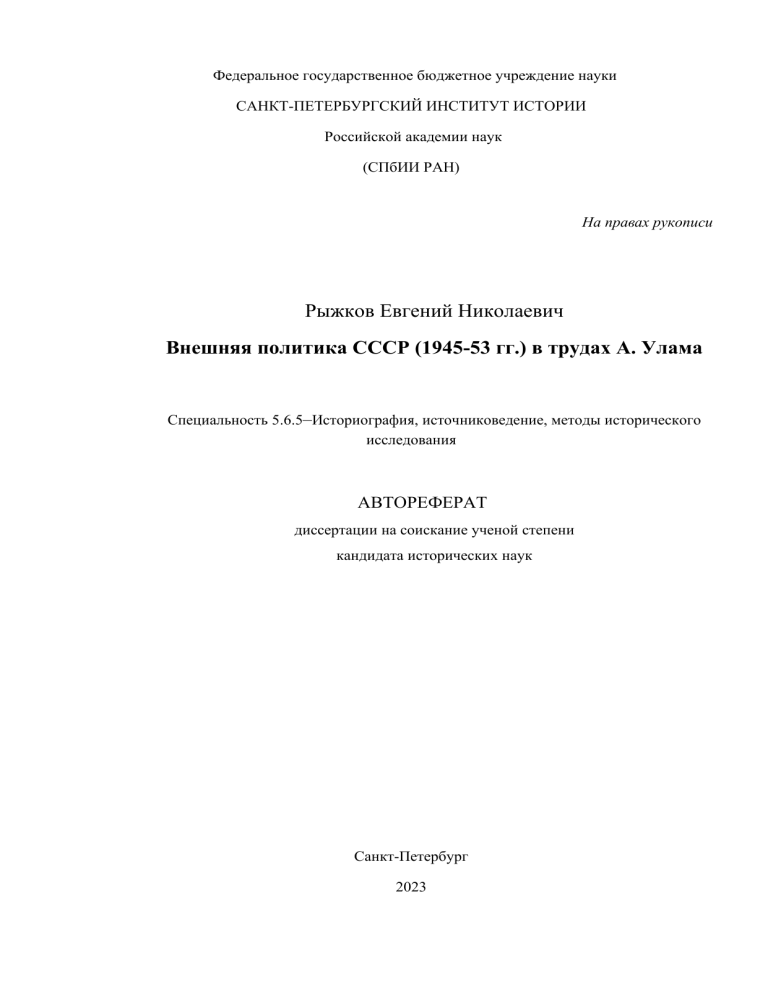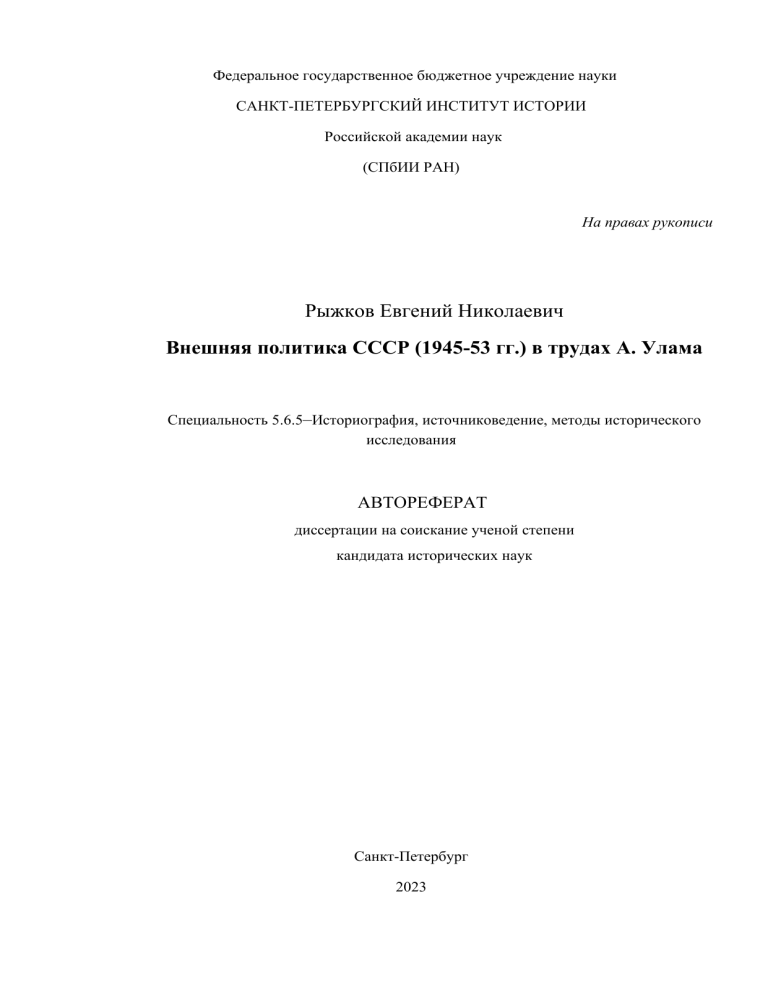
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
Российской академии наук
(СПбИИ РАН)
На правах рукописи
Рыжков Евгений Николаевич
Внешняя политика СССР (1945-53 гг.) в трудах А. Улама
Специальность 5.6.5–Историография, источниковедение, методы исторического
исследования
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук
Санкт-Петербург
2023
Работа выполнена в Отделе современной истории России Санкт-Петербургского
института истории Российской Академии наук
Научный руководитель:
Рупасов Александр Иванович, доктор
исторических наук, ведущий научный
сотрудник Отдела современной истории
России ФГБУН «Санкт-Петербургский
институт истории Российской академии
наук»
Официальные оппоненты:
Лекаренко Оксана Геннадьевна, доктор
исторических наук, доцент, профессор
кафедры новой, новейшей истории и
международных отношений ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Томский государственный университет»;
Тетерин Павел Викторович, кандидат
исторических наук, доцент кафедры
всеобщей
истории,
археологии
и
методологии исторической науки ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный
областной педагогический университет»
Ведущая организация:
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
Защита состоится « »
2023 г. в
час. на заседании Диссертационного совета
Д.002.200.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук на базе ФГБУН «Санкт-Петербургский институт
истории Российской академии наук» по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ул.
Петрозаводская, д. 7, ауд.23
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на сайте СанктПетербургского института истории РАН http://www.spbiiran.nw.ru
Автореферат разослан «__» _______ 2023 г.
Ученый секретарь
Диссертационного совета,
кандидат исторических наук
П.В. Крылов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
I.
Актуальность исследования
В обостряющейся международной обстановке, на фоне нового
противостояния Российской Федерации и США на мировой арене по ряду
важных геополитических проблем вновь обретает актуальность тема
восприятия американской историографией второй половины ХХ в. внешней
политики СССР в 1945–1953 гг., когда решались судьбоносные для всего
мира вопросы, такие как послевоенное мироустройство, формирование
системы глобального управления, обеспечение международной стабильности
и
безопасности.
Тогда
же
закладывались
стереотипы,
которые
в
значительной степени и по сей день определяют внешнеполитический курс
американской стороны и оказывают прямое негативное влияние как на
двусторонние отношения, так и на ситуацию в мире в целом.
В
диссертации
анализируются
взгляды
видного
американского
историка Адама Бруно Улама (1922–2000) по таким вопросам, как причины
начала холодной войны, политика СССР в Восточной Европе в послевоенные
годы, а также азиатская и дальневосточная политика СССР второй половины
1940-х — начала 1950-х гг. Историографическое наследие А.Улама
представляет
особый
интерес,
поскольку
он
был
не
только
профессиональным историком, но и имел отношение к процессу выработки и
принятия внешнеполитических решений в США. А. Улам в общей сложности
15 лет возглавлял работу Русского исследовательского центра в Гарвардском
университете и принимал активное участие в экспертной деятельности по
заказу органов государственной власти США.
Творчество Адама Улама, наряду с работами Ричарда Пайпса и Мерла
Фейнсода, принято считать олицетворением гарвардской советологической
3
мысли второй половины ХХ в., однако вплоть до последнего времени оно
исследовано лишь частично.
Принципиально важно было ввести в научный оборот, рассмотреть и
проанализировать историографическое наследие А. Улама в общем контексте
истории советологической мысли второй половины ХХ в.
По этой причине в настоящей работе анализируются основные
тенденции в подходах к указанным темам американских историков. Особое
внимание уделено анализу оценок мотивации внешней политики СССР,
дававшихся в США в ситуации глобального противостояния.
Хронологические рамки исследования
охватывают временной
период с 1945 г. (завершение Второй мировой войны и начало американосоветского противостояния) до конца 1990-х гг.
Выбор нижней границы исследуемого периода — конец 1945 г. —
обусловлен следующими факторами:
1)
актуализацией
проблемы
реализации
ялтинско-потсдамских
соглашений о послевоенном мироустройстве и соблюдения основных
принципов этих соглашений ведущими западными державами и СССР,
которая в значительной степени повлияла на начало холодной войны;
2)
обострением
окончательной
победы
противоречий
между
антигитлеровской
СССР
и
коалиции
США
и
после
разгрома
милитаристской Японии, в связи с претензиями на глобальное лидерство как
со стороны США, так и со стороны СССР;
3)
наступлением нового этапа развития международных отношений
и складыванием новых геополитических реалий, связанных с выходом на
мировую авансцену двух сверхдержав – СССР и США.
Выбор верхней границы исследования — 1990-е гг. — обусловлен тем,
что именно в этот период наступает новый важный этап осмысления
политических
реалий
холодной
войны.
Завершение
глобального
геополитического и идеологического противостояния СССР и США на
4
рубеже
1980–1990-х
гг.
позволило
более
объективно
оценивать
предшествующий период американо-советского противостояния, в том числе
его ранний этап. Если в годы холодной войны восприятие американскими
исследователями внешней политики СССР постоянно испытывало влияние
комплекса факторов: пропаганды, идеологических кампаний, отсутствия
достоверной информации об СССР, руководстве страны и его намерениях, то
в 1990-е гг. историки в США получили уникальную возможность
переосмыслить как настоящее, так и прошлое своего исторического
соперника. 1990-е гг. стали периодом завершения процесса формирования
относительно целостного восприятия американской исторической мыслью
того, что происходило в годы холодной войны, в том числе на ее начальном
этапе (1945–1953 гг). Также именно в конце двадцатого столетия
оканчивается активная исследовательская работа Адама Улама (его
последняя книга была опубликована в 2000 г.)
Методология исследования. Теоретико-методологической основой
исследования являются принципы научной объективности и системности.
Соблюдение
принципа
привлечение
широкого
способствовало
полному
научной
объективности,
круга
и
предусматривающего
историографических
научно
выверенному
источников,
раскрытию
темы.
Системный подход позволил установить взаимовлияние внутриполитической
ситуации в США, общего контекста международных отношений и научных
воззрений американских историков. Для решения конкретных задач
исследования используется сравнительный метод.
Объектом исследования являются труды американских историков
второй половины ХХ в., рассматривавших ключевые вопросы внешней
политики СССР 1945–1953 гг., в том числе работы многолетнего директора
Русского исследовательского центра Гарвардского университета Адама
Бруно Улама.
5
Предметом исследования выступает интерпретация американскими
историками второй половины ХХ в., и прежде всего Адамом Уламом,
основных направлений внешней политики СССР в 1945–1953 гг. — политики
Советского Союза в Восточной Европе, а также азиатской и дальневосточной
политики СССР в указанный период, специфика отражения в американской
историографии истоков холодной войны как фактора, в значительной мере
определявшего внешнеполитические устремления СССР в послевоенном
противостоянии.
Цель работы заключается в анализе историографического наследия
одного из ведущих американских специалистов по истории СССР Адама
Улама по вопросам, касающимся оценок внешней политики СССР на
начальном этапе холодной войны (1945–1953 гг.), в общем контексте
американской советологической мысли второй половины XX века.
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие
задачи:
1. выявить основные тенденции в подходах американских
историков к вопросу о причинах и истоках холодной войны;
2. рассмотреть особенности восприятия историографией США
процесса «советизации» Восточной Европы после окончания Второй
мировой войны, как ключевого политического процесса, повлиявшего на
формирование конфронтационной модели международных отношений;
3. проанализировать точки зрения американских историков на
азиатскую и дальневосточную политику СССР на начальном этапе холодной
войны;
4.
произвести
сравнительный
историографический
анализ
взглядов на указанные проблемы Адама Улама и американских историков –
его современников, выяснить, насколько воззрения Улама типичны для
американской историографии данного периода.
6
Историография. В работах советских и российских исследователей
практически не уделяется внимания историческому творчеству Адама Бруно
Улама. Американский историк упоминается, как правило, в ряду других
американских историков-советологов, и, прежде всего, в связи с его
работами
по
истории
революционного
движения
и
становления
социалистического строя в СССР, а также вопросам внутренней политики,
либо с общими воззрениями, касающимися внешней политики СССР, а не с
его взглядами по основным направлениям внешней политики СССР
послевоенного
периода,
которые
рассматриваются
в
настоящей
диссертации1.
В то же время в американской исторической науке вес и значение А.
Улама являются общепризнанными, его работы по истории России и СССР
считаются классическими. Он заслужил признание как «один из выдающихся
авторитетов в области изучения России и Советского Союза»2, «основной
эксперт Гарвардского университета по советской и российской истории на
протяжении полувека, чей вклад в западное понимание советского
коммунизма и его идеологии уникален и огромен»3, как «ученый,
обладавший энциклопедическими знаниями о Советском Союзе»4.
Вопросы изучения внешней политики СССР в целом являются
предметом многочисленных научных исследований. Научный интерес к
изучению внешней политики СССР возрос во второй половине 1940-х –
1950-х гг. Именно в это время формировались три основные направления
американской историографии, изучающих истоки и динамику холодной
войны, выдвигающие собственные объяснения и интерпретации внешней
политики Советского Союза. Представителей этих направлений, как правило,
Филитов А.М. Холодная война. Историографические дискуссии на Западе. М., 1991. Некрасов А.А.
Становление и этапы развития англо-американской советологии. Дисс… на соискание ученой степени
кандидата исторических наук. Ярославль, 2001.
2
Adam Ulam, Authority on Russia, dies at 77// Harvard Gazette. 2000. March 23
3
Ulam A. Understanding the Cold War: A Historian’s Personal Reflections. New Brunswick, 2002. P. ix, xi.
4
Adam Ulam, A Top Historian of Soviet Union dies at 77// New-York Times. 2000. March 30
1
7
называют «традиционалистами» (Г. Фэйс, У. Макнейл, А. Шлезингер-мл. и
др.), «ревизионистами» (У. Уильямс5, Дж. Колко6, Л. Гарднер и др.) и
«постревизионистами» (Дж. Гэддис7, Д. Эргин, Д. Херринг и др.).
«Традиционалистское»
(или
«официальное»)
направление
рассматривает внешнюю политику СССР во второй половине 1940-х – начале
1950-х
гг.
как
результат
столкновения
коммунистической
и
капиталистической систем, что позволяет рассматривать холодную войну в
качестве фундаментального геополитического и идеологического конфликта.
Именно
советская
идеология,
по
мнению
представителей
традиционалистского направления, лежала в основе конкретных действий
руководства Советского Союза, направленных на установление контроля над
Восточной Европой (С. Бэмис, Дж. Кеннан, Н. Грэбнер, Г. Друкс)8.
Необходимо отметить, что в рамках традиционалистского направления
существуют и иные точки зрения на внешнюю политику СССР в
послевоенный период. Так, ряд исследователей обращался к рассмотрению
истоков враждебности США к СССР со времен Октябрьской революции,
обосновывая тем самым законное стремление Советского Союза обеспечить
себе защиту от вероятной агрессии9.
Характеризуя взгляды на внешнюю политику СССР в начале холодной
войны представителей ревизионистского («критического») направления,
необходимо отметить, что они зачастую существенно отличались от позиции
традиционалистского течения. Так, в работах целого ряда исследователей10
Williams W. American-Russian Relations, 1781 – 1947. New York-Toronto, 1952.
Kolko G. The Limits of Power. The World and the United States Foreign Policy, 1941 – 1949. New York – Los
Angeles, 1972.
7
Gaddis J. We now know: Rethinking cold war history / John Lewis Gaddis. - Oxford : Clarendon press, 1997.
8
Bemis S. The United States as a World Power. A Diplomatic History. 1900 – 1950. – New York, 1950; Kennan G.
American Diplomacy, 1900-1950. – Chicago, 1951; Graebner N. Cold War Diplomacy. American Foreign Policy.
Princeton, 1954; Druks H. Truman and the Russians, 1945 – 1953. – New York, 1966.
9
Fleming D. The Cold War and Its Origins, 1917 – 1960. – New York, 1961. Vol.2
10
Williams W. American-Russian Relations, 1781 – 1947. New York-Toronto, 1952; Alperovitz G. Atomic
Diplomacy: Hiroshima and Potsdam. The Use of the Atomic Bomb and the American Confrontation with Soviet
Power. New York, 1965; Gardner L. Architects of Illusion. Men and Ideas in American Foreign Policy, 1941 –
1949. Chicago, 1970.
5
6
8
опровергалась
традиционалистская
версия
холодной
войны
как
оборонительной со стороны США, подчеркивался тот факт, что после
завершения Второй мировой войны СССР не мог представлять реальной
угрозы Америке, поскольку именно США обладали монополией на ядерное
оружие, а экономика, поддержанная ростом военной промышленности,
динамично росла. В целом «ревизионисты» стремились дать реалистичную
оценку соотношения сил на мировой арене во второй половине 1940-х гг.,
учитывая возросший авторитет и военную мощь СССР, его влияние на
мировую политику.
С середины 1970-х гг. в американской историографии начали
преобладать
консервативные
настроения
идеологического
противостояния
США
сформировалось
«постревизионистское»
на
и
фоне
СССР.
В
направление
усиливающегося
этих
условиях
исследований
холодной войны. Его характерной чертой стало развитие идеи обоюдной
ответственности двух сверхдержав за ее начало. «Постревизионисты»
поднимали вопрос о реальности и мнимости советской угрозы после
окончания Второй мировой войны и адекватности реакции на нее со стороны
США11.
Традиционалисты склонны возлагать вину за начало холодной войны на
Советский Союз, ревизионисты – на США, а постревизионисты либо не
заостряют внимания на этом вопросе, либо подчеркивают обоюдную вину
обеих сверхдержав.
Ответ на вопрос о виновности в инициировании холодной войны тесно
связан с анализом того, какая из сверхдержав проявляла наибольшую
активность во второй половине 1940-х гг. По мнению традиционалистов,
политику США можно охарактеризовать как пассивную – Вашингтон делал
акцент на международном сотрудничестве по линии ООН и других
Gaddis J. Russia, the Soviet Union, and the United States. – New York, 1978; The Long Peace. Inquiries into the
History of the Cold War. – New York, 1987; Taubman W. Stalin’s American Policy: From Entente to Détente, to
Cold War. New York-Los-Angeles, 1982.
11
9
международных структур. Лишь в 1947 г. США изменили свой курс в
качестве реакции на «советскую экспансию» в Восточной Европе.
Поворотными пунктами стали план Маршалла и доктрина Трумэна.
Представители ревизионистского направления исходят из того, что еще
до окончания Второй мировой войны США стремились ограничить влияние
Советского Союза и левых сил в мире. При этом для достижения своих целей
США использовали целый ряд различных методов. Считалось, что СССР
занимал преимущественно оборонительную позицию, а советская политика в
Восточной Европе упрощенно оценивалась в основном как реакция на
американские амбиции в этом регионе.
Постревизионисты согласны с ревизионистами в том, что основные
элементы внешней политики США сложились еще до провозглашения
доктрины Трумэна и плана Маршалла. Они также разделяют точку зрения,
что США использовали различные способы реализации своих интересов.
Однако, по мнению постревизионистов, ревизионисты ошибались в том, что
эти действия мотивировались антисоветскими соображениями. Они также
отвергают мысль о том, что советскую политику в Восточной Европе следует
рассматривать как реакцию на амбиции США.
В
оценках
мотивации
советской
политики
различные
школы
отличаются друг от друга в значительно меньшей степени, чем в случае с
американской внешней политикой. Так, традиционалисты демонстрируют
тенденцию,
согласно
которой
советская
политика
мотивировалась
соображениями идеологии и экспансии, в то время как ревизионисты делают
больший акцент на необходимости для Советского Союза поддерживать
свою безопасность. Постревизионисты в этом вопросе также стоят на
позициях плюрализма, подчеркивая, что одно объяснение не исключает
другого.
Отдельного
упоминания
заслуживают
работы
отечественных
исследователей, посвященные тематике, рассматриваемой в настоящей
10
диссертации. Проблема взаимного восприятия СССР и США в начальный
период холодной войны нашла отражение в трудах А.О. Чубарьяна, В.К.
Фураева, С.А. Коротковой, диссертациях Т.А. Бычковой и В.В. Познякова12.
Труды зарубежных и отечественных исследователей позволяют
сформировать
общее
впечатление
об
особенностях
восприятия
американскими историками внешней политики СССР на начальном этапе
холодной войны в целом, оставляя, в то же самое время, открытыми ряд
вопросов относительно специфики отражения в историографии США
некоторых моментов, касающихся истоков глобального противостояния,
политики СССР в Восточной Европе, Азии и на Дальнем Востоке во второй
половине 1940-х – начале 1950-хх гг.
Источниковая
база
исследования.
Использованные
в
работе
историографические источники включают в себя труды американских
историков, занимавшихся вопросами внешней политики СССР 1945—1953
гг., опубликованные в период с 1950-х по 1990-е гг., а также монографии и
статьи Адама Улама, относящиеся к рассматриваемой в диссертации теме.
Рассматриваемый период в истории американо-советских отношений
отмечен повышенным вниманием историков к внешней политике СССР в
начале холодной войны. Так, об отражении причин начала холодной войны в
историографии
США
позволяют
судить
труды
таких
американских
историков, как А. Улам, Х. Шварц, Д. Маккензи и М. Каррен, М.
Дзевановски, В. Кульски13 и др.
Чубарьян А.О. Новая история холодной войны // Новая и новейшая история. 1997. № 6. Холодная война.
1945—1963 гг. Историческая ретроспектива: Сб. ст. / Рос. акад. наук. Ин-т всеобщей истории /Отв. ред. А.
О. Чубарьян, Н. И. Егорова. — М., 2003; Фураев В.К. Советская историография об отношениях между СССР
12
и США // Американский ежегодник. 1972. М., 1972.С.156—178; Короткова С.А. Борьба миролюбивых сил
США против агрессивной внешней политики правительства президента Г. Трумэна (август 1945–1949).
Дисс… на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Томск, 1985; Бычкова Т.А. Подготовка в
правительственных кругах США и провозглашение «доктрины Трумэна» и «плана Маршалла» (1946 —
1948). Автореферат дисс… на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Томск ,1972;
Позняков В.В. Американское общественное мнение и советско-американские отношения в годы второй
мировой войны. Автореферат дисс… на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1991.
13
Ulam A. Understanding the Cold War: A Historian’s Personal Reflections. New Brunswick, 2002; Schwartz H.
The Red Phoenix. Russia since World War II. N. Y., 1961; Mackenzie D., Curran M. A History of the Soviet Union.
11
Об особенностях восприятия американскими историками процесса
«советизации» Восточной Европы после завершения Второй мировой войны
позволяют судить работы таких исследователей как А. Улам, А. Ашер, Ф.
Шуман, Д. Гэддис, П. Кенез, Н. Хейман, П. Дьюкс, Д. Мэйсон, Т. Патерсон,
Ч. Гати14 и др.
Специфика отражения политики СССР в Восточной Азии и на Дальнем
Востоке в американской историографии во второй половине 1940-х – начале
1950-х гг. раскрывается в настоящем исследовании на основе работ А. Улама,
А. Рубинштейна, Д. Маккензи и М. Каррена, Х. Шварца15 и др.
Положения, выносимые на защиту.
1. Характеризуя особенности восприятия историографией США истоков и
причин начала холодной войны, можно отметить два магистральных
направления, одно из которых тяготеет к обвинительному подходу в
отношении СССР как главного виновника глобального противостояния, а
другое
склонно
к
умеренной
оценке
причин
холодной
войны,
рассматривая действия СССР как отчасти вынужденные и обусловленные
сложной геополитической ситуацией.
2. Среди
наиболее
влиятельных
настроений,
господствовавших
в
американской историографии второй половины ХХ в., относительно
политики СССР в Восточной Европе необходимо отметить следующие: а)
«советизация» Восточной Европы рассматривается как новое рождение
«имперского проекта», унаследованного Советской Россией от России
Belmont, 1977; Dziewanowski M. A History of Soviet Russia. Prentice Hall, 1979; Kulski W. Peaceful
Coexistence. An Analysis of Soviet Foreign Policy. Chicago, 1959.
14
Asher A. The Russian and Soviet History. N.Y., 1987; Schuman F. The Cold War: retrospect and prospect. Mass.,
1963; Gaddis J. L. We now know. Rethinking Cold War history. Oxford, 1997; Kenez P. A history of the Soviet
Union from the beginning to the end. Cambridge, 1999; Heyman N. Russian History, San Diego,1993; Dukes P. A
history of Russia: medieval, modern, contemporary. Indiana, 1996; Mason D. Revolution in East-Central Europe.
San-Francisco, 1992; Paterson T. On every front: the making and unmaking of the Cold War. N.Y. 1979; Gati Ch.
The bloc that failed: Soviet-East European Relations in transition. N.Y., 1992.
15
Ulam A. Expansion and Coexistence: The History of Soviet Foreign Policy, 1917-73. N. Y., 1973; Rubinstein A.
Soviet Foreign Policy since World War II. Boston, 1981; Mackenzie D., Curran M. A History of the Soviet Union.
Belmont, 1977; Schwartz H. The Red Phoenix. Russia since World War II. N. Y., 1961.
12
царской; б) в соответствии с другим («умеренным») направлением,
«советская
экспансия
вынужденной,
и
на
Запад»
объяснялась
была,
в
значительной
заинтересованностью
мере,
советского
руководства в создании собственной сферы влияния и защите западной
границы путем создания блока «государств-сателлитов».
3. В контексте восприятия американской историографией политики СССР
на Дальнем Востоке и в Азии во второй половине 1940-х – начале 1950-х
гг.
можно
выделить
следующие
направления:
«обвинительное»,
отождествляющее дальневосточную политику СССР с политикой СССР в
Восточной Европе и сводящее ее к стремлению создать собственную
сферу влияния в Восточной Азии за счет обеспечения триумфа
коммунистических сил в Китае и Корее, и «умеренное», которое
оценивало политику советского руководства в регионе как сугубо
прагматическую, направленную на решение стратегических задач
Советского Союза.
4. Решающим фактором в изменении генеральной линии советской внешней
политики после войны, по мнению А. Улама, была внутренняя ситуация в
СССР. Причиной поворота в сторону враждебности по отношению к
бывшим союзникам Улам называет необходимость для Сталина удержать
личную власть.
5. Объясняя «советизацию» Восточной Европы, А. Улам рассуждает в
терминах сфер влияния, полагая, что в основе «советской экспансии»
лежали не идеологические мотивы, не стремление к мировому
господству, а именно геополитические соображения. В отличие от
историков умеренного направления, Улам считает политику Советского
Союза экспансионистской, т.е. выходящей за пределы «необходимой
обороны», «вынужденной реакции на действия Запада».
6. В вопросе мотиваций советской внешней политики в Китае, Улам
занимает позицию, сходную с позицией историков «умеренного
13
направления», приходя к выводу, что в Китае, в отличие от Восточной
Европы, СССР не стремился к установлению коммунистического режима
и впрямую не способствовал его установлению, так как это не
соответствовало его интересам.
7. Анализируя
результаты
корейской
войны
для
СССР,
А.
Улам
придерживается значительно более сдержанной точки зрения на успехи
СССР, чем другие исследователи, считая, что война не принесла
Советскому Союзу никаких политических дивидендов, и в то же время
негативным
для
него
образом
повлияла
на
советско-китайские
отношения.
8. В целом в отношении внешней политики СССР 1945-1953 гг. А. Улам
занимает позицию, свойственную для традиционалистской школы
американской историографии, но в то же время его позиция по ряду
вопросов близка к «умеренному», а не «обвинительному» направлению.
Научная
историографии
новизна
на
историографического
влиятельнейших
профессора
исследования.
основе
изучения
материала
американских
Адама
Улама,
Впервые
значительного
рассмотрены
историков
долгое
в
время
отечественной
по
взгляды
объему
одного
из
послевоенного
времени,
возглавлявшего
Русский
исследовательский центр Гарвардского университета и оказывавшего
влияние на процесс принятия внешнеполитических решений в США.
Творческое наследие А. Улама вписано в общий контекст американской
советологической мысли второй половины XX столетия, показана глубина
аналитического подхода А.Улама в интерпретации мотивов внешней
политики СССР 1945-1953 гг. Представлена академическая биография
А.Улама, показаны основные вехи его научного пути; впервые собран и
14
приведен библиографический список книг и статей А. Улама по истории
СССР.
Теоретическая
значимость
исследования
заключается
в
проведенном комплексном изучении воззрений Адама Улама и других
американских историков в отношении внешней политики СССР в 1945—
1953 гг. Исследование осуществлялось как с учетом внутриполитической
ситуации в США, так и общего контекста международных отношений.
Результаты, полученные посредством анализа особенностей восприятия
внешней
политики
исследователей
СССР
второй
1945—1953
половины
гг.
ХХ
в
в.,
трудах
американских
позволяют
определить
рассматриваемый период как особый этап в эволюции отношения
американских историков к внешней политике, проводимой Советским
Союзом и, впоследствии, Россией.
Практическая
значимость
исследования
заключается
в
возможности применения материалов и выводов диссертации при подготовке
монографических
исследований
общеисторического
и
историко-
компаративного характера, а также при разработке программ учебных курсов
по историографии, истории США и российско-американских отношений,
программ
междисциплинарных
курсов
для
студентов
исторических
специальностей.
Апробация исследования. Диссертация прошла обсуждение в Отделе
современной
истории
России
СПбИИ
РАН,
основные
положения
диссертации были представлены в виде докладов на ряде научнопрактических конференций, в том числе на X Всероссийской научной
конференции
«Внешнеполитические
интересы
России:
история
и
современность» (Самара, 30 апреля 2022 года) и международной научнопрактической конференции «СССР в системе международных отношений»
(Уфа, 24 ноября 2022 года).
15
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух
глав, заключения и списка трудов А.Улама по истории СССР.
II.
Во
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
введении
рассматривается
степень
разработанности
темы
исследования, формулируется его актуальность, излагаются цели и задачи
исследования.
В
первой
главе
анализируется
восприятие
американской
историографией истоков холодной войны, политики Советского Союза в
Восточной Европе и основных тенденций дальневосточной политики СССР
1945-1953 гг.
Характеризуя особенности восприятия историографией США истоков
и причин начала холодной войны, можно отметить два магистральных
направления, одно из которых тяготеет к обвинительному подходу в
отношении СССР как главного виновника глобального противостояния, а
другое более склонно к умеренной оценке причин холодной войны,
рассматривая действия СССР как отчасти вынужденные и обусловленные
сложной геополитической ситуацией, сложившейся после завершения
Второй мировой войны.
«Обвинительное направление» основывалось на негативной оценке
действий СССР в Иране, Турции и Греции (поддержка коммунистических
сил), критическом отношении к бескомпромиссной позиции СССР в
обсуждении вопросов послевоенного мироустройства, а также к отказу СССР
вступать
в
ключевые
международные организации
(Международный
Валютный Фонд, Всемирный Банк) и присоединяться к Плану Маршалла.
«Умеренное направление» трактует советскую «экспансию» не
столько в качестве акта прямой агрессии, сколько в качестве стремления со
стороны СССР обеспечить путем формирования буферной зоны из
государств-сателлитов собственную безопасность и гарантировать защиту от
16
агрессии с Запада, угроза со стороны которого носила исторический
характер, а также рассматривает начало холодной войны отчасти как
результат
неправильного
восприятия
Западом
советской
концепции
безопасности, предполагавшей расширение сферы советского влияния на всю
Восточную
Европу.
Историки
умеренного
направления
отмечали
необходимость восстановления советской экономики после войны и
мобилизации всех имеющихся ресурсов, что позволяет говорить о том, что
именно внутриполитическая ситуация повлияла решающим образом на
внешнюю политику Советского Союза после завершения Второй мировой
войны.
Среди
наиболее
влиятельных
настроений,
господствовавших
в
американской историографии второй половины ХХ века, относительно
политики СССР в Восточной Европе и консолидации режимов народной
демократии необходимо отметить следующие:
1. «Советизация» Восточной Европы рассматривалась как новое
рождение «имперского проекта», унаследованного Советской Россией от
России
царской.
Значительная
часть
американских
историков,
придерживавшихся «обвинительного направления», воспринимала ее как
возрождение большевистской революционности, для которой контроль над
Восточной Европой необходим в качестве обеспечения плацдарма для
дальнейшей экспансии на Запад.
2. В соответствии с другим («умеренным») направлением, т.н.
«советская экспансия на Запад» была в значительной мере вынужденной,
поскольку советское руководство стремилось обезопасить страну от
возможного возрождения фашистской угрозы и нового германского
реваншизма, что порождало заинтересованность советского руководства в
создании собственной сферы влияния и защите западной границы путем
создания блока «государств-сателлитов».
17
В контексте восприятия американской историографией политики СССР
на Дальнем Востоке и в Азии во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг.
можно
выделить
следующие
направления:
«обвинительное»,
отождествляющее дальневосточную политику СССР с политикой СССР в
Восточной Европе и сводящее ее к стремлению создать собственную сферу
влияния в Восточной Азии за счет обеспечения триумфа коммунистических
сил в Китае и Корее, и «умеренное», которое оценивало политику советского
руководства в регионе как сугубо прагматическую, направленную на
решение стратегических задач Советского Союза.
С точки зрения
умеренного направления, идеологические соображения и стремление СССР
создать новую сферу влияния на Дальнем Востоке и в Восточной Азии
играли второстепенную роль.
Во второй главе рассматриваются воззрения по вышеуказанным
вопросам видного американского советолога Адама Бруно Улама и
анализируются сходства и различия его позиции с взглядами других
американских историков. Исследуя причины возникновения холодной
войны, А. Улам не соглашается с теми из его коллег, которые утверждали,
что причиной стали претензии СССР на мировое господство, что сближает
его взгляды с восприятием историков умеренного направления.
Решающим фактором в изменении генеральной линии советской
внешней политики после войны, по мнению Улама, была внутренняя
ситуация в стране. Причиной поворота в сторону враждебности по
отношению к бывшим союзникам Улам называет необходимость для
Сталина удержать личную власть. С этой целью было необходимо
изолировать жизнь советских людей от любых западных влияний и
контактов с Западом из-за опасений возникновения социальных волнений на
фоне благополучной жизни на Западе. Данный подход Улама отличает его от
значительного числа американских историков, полагавших, что основным
мотивом действий СССР была экспансия, продиктованная идеологическими
18
мотивами, и в некоторой степени роднит его взгляды со взглядами
сторонников умеренного направления.
Касаясь «советизации» Восточной Европы, А. Улам так же, как ряд
других американских исследователей, рассуждает в терминах сфер влияния,
полагая, что в основе политики СССР в Восточной Европе лежали не
идеологические мотивы, не стремление к мировому господству, а именно
соображения геополитического порядка.
Данный подход, при всей его
традиционности, в некоторой степени сближает его с историками умеренного
направления. С точки зрения кремлевских лидеров, считает он, внешняя
политика СССР была традиционной политикой великой державы: Советский
Союз просто обеспечивал контроль за своей сферой влияния, той областью,
от которой западные державы, по существу, отказались во всех соглашениях
от Тегерана до Потсдама.
Однако в отличие от историков умеренного направления, Улам считает
политику Советского Союза экспансионистской, т.е. выходящей за пределы
«необходимой обороны», «вынужденной реакции на действия Запада». Хотя
Улам
и
приводит
в
качестве
одного
из
побудительных
мотивов
внешнеполитических действий советских лидеров необходимость создания
«буферной зоны» из дружественных государств с целью предотвращения
очередной агрессии и защиты территории СССР, он, в отличие от ряда
американских историков, не считает, что для подобных опасений имелись
достаточные основания. Кроме того, он подвергает сомнению саму
реальность «угрозы со стороны Запада», признавая в то же время, что
советские лидеры «считали мерами самозащиты», например, создание
Коминформа, а также ужесточение политики в отношении «сателлитов»,
террор на фоне разворачивающегося советско-югославского конфликта и
«навязывание» им открытой формы коммунизма - как ответ на Доктрину
Трумэна и, в особенности, План Маршалла, который имел в их глазах цель, в
частности,
ремилитаризации
Германии.
19
Рассуждая
же
о
причинах
Берлинской блокады, он и вовсе объявляет «паранойей» Сталина его
предполагаемое опасение, что создание западного немецкого государства и
его перевооружение приведет к появлению «нового вермахта» у границ
СССР.
Для работ А. Улама характерно наличие упреков в адрес лидеров США
и европейских стран в нерешительности перед лицом «советской экспансии».
По его мнению, ими слишком поздно были предприняты шаги по ее
«сдерживанию». В то же время Улам полагал, что интересы Советского
Союза ограничивались Восточной Европой, и его действия не являлись
подготовкой плацдарма для дальнейшей экспансии на Запад, как считали
историки «обвинительного направления».
Рассматривая ту сюжетную линию в восприятии американской
историографией
внешней политики Советского Союза, которая касается
проблемы Германии, Берлинской блокады и окончательного складывания
двух
противоборствующих
блоков,
Улам
предполагает,
что
идея
объединенной Германии, даже такой, в которой коммунисты обладали бы
властью, никогда не имела полной поддержки среди советских лидеров, так
как они опасались, что объединенная Германия может стать угрозой для
СССР.
Берлинская блокада 1948-1949, по мнению А. Улама, стала ответом на
решение о создании ФРГ и была призвана решить проблему Германии в
целом и обеспечить недопущение ее ремилитаризации.
Итогом блокады, по мнению Улама, стало то, что Запад не добился от
СССР новых возможностей доступа к Берлину, стало очевидно, что США не
рискуют вступать в прямую конфронтацию с Советским Союзом. С другой
стороны, в результате провала Берлинской блокады позиции Советского
Союза в Германии стали гораздо слабее с моральной и психологической
точек зрения, считает А. Улам.
20
Анализируя политику СССР в Китае, А. Улам полагает, что в 19441945 гг. основная цель СССР заключалась в недопущении обострения
ситуации в Китае до критической точки. С этой целью советские
официальные лица всячески открещивались от китайских коммунистов. В
1945 – 1946 гг., по мнению Улама, цели Москвы в Китае были ограничены и
сводились, во-первых, к выводу значительного контингента американских
войск, которые высадились в Китае после капитуляции Японии для помощи
Чан Кайши, и во-вторых, к обеспечению безопасности значительной
территории, находившейся под контролем китайских коммунистов. Как
утверждает Улам, советское правительство пыталось совместить решение
этих вопросов.
По мнению Улама, образование конфедеративного государства со
значительной коммунистической автономией на северо-востоке в 1946 г.
могло получить поддержку Советского Союза и, возможно, с ним могли
согласиться, хотя и неохотно, сами китайские коммунисты. У Советского
Союза не было никакой особой причины желать полной победы коммунизма
в стране с населением в сотни миллионов человек, считает Улам. СССР
проявлял осторожность, что проявилось в невключении Китая в число
членов-основателей Коминформа. Это свидетельствовало о двойной игре
СССР и его нежелании того, чтобы весь Китай стал коммунистическим,
считает Улам.
Таким образом, в вопросе мотиваций советской внешней политики в
Китае, Улам также занимает позицию, сходную с позицией историков
«умеренного направления», приходя к выводу, что в Китае, в отличие от
Восточной Европы, СССР не стремился к установлению коммунистического
режима и впрямую не способствовал его установлению, так как это не в
полной мере соответствовало его интересам.
Тему войны в Корее в работах А. Улама можно подразделить на три
основных пункта: во-первых, это вопрос мотиваций советской стороны и
21
причины корейской войны; во-вторых, взаимоотношения сторон в ходе
войны и, наконец, политические и военные последствия корейского
конфликта.
А. Улам полагает, что целью Сталина было изменить всю ситуацию в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в отношении Японии; Сталин,
по мнению Улама, рассчитывал, что при благоприятном стечении
обстоятельств Япония также может стать коммунистической и тогда, проводя
политику
баланса
сил
между
коммунистическим
Китаем
и
коммунистической Японией, СССР сможет обладать абсолютной гегемонией
на Дальнем Востоке. В том же случае, если США увеличат свое присутствие
в регионе, то неминуемо возрастет зависимость китайских коммунистов от
СССР. В этом взгляды Улама в основном совпадают с мнениями
американских историков, исследовавших этот вопрос.
По версии А. Улама «вторжение» Северной Кореи в Южную, по всей
видимости, произошло по советской инициативе, поскольку невозможно
представить, чтобы северокорейцы самостоятельно решились на подобные
действия; также сомнительно, что такого развития событий желали китайцы,
которые в это время были, прежде всего, озабочены подготовкой вторжения
на Формозу (Тайвань), куда бежали остатки армии Гоминьдана во главе с
Чан Кайши.
По
мнению
А.Улама,
одной
из
важнейших
составляющих
международных отношений в период войны в Корее были взаимоотношения
СССР и Китая. Он останавливается на этом вопросе гораздо более подробно,
чем большинство других американских историков. А. Улам полагает, что
версия о существовании предварительных секретных договоренностей между
Сталиным и Мао Цзэдуном малоубедительна; в этом случае, учитывая
развитие событий, было бы логично, если бы Китай предоставил военную
помощь Северной Корее уже в июле 1950г., тем более что это помогло бы
ликвидировать американскую блокаду Формозы (Тайваня).
22
А. Улам отмечает крайнее нежелание СССР принимать участие в
военных действиях на всех этапах корейского конфликта. Огромная мощь
СССР должна была оставаться в резерве и сдерживать «империалистов»
против развертывания полномасштабной войны против КНР.
Говоря о результатах корейской войны для СССР, А. Улам
придерживается значительно более сдержанной точки зрения на успехи
СССР, чем другие исследователи. Он полагает, что война не принесла
Советскому Союзу никаких политических дивидендов, и в то же время
негативным для него образом повлияла на советско-китайские отношения:
КНР вступила в войну сателлитом, а вышла из нее партнером; общий
характер отношений также изменился – от доминирования СССР к
взаимозависимости.
В то же время Япония была окончательно потеряна для СССР, став в
результате сепаратного договора в Сан-Франциско союзником США, что
Улам называет крупным поражением советской дипломатии.
В заключении обобщаются выводы исследования, определяется место
взглядов А. Улама в отношении основных направлений внешней политики
СССР 1945-1953 гг. в американской историографии второй половины XX в.
А. Улам считает политику Советского Союза в рассматриваемый
период экспансионистской, направленной на расширение и укрепление
сферы
его
влияния,
порой
прибегая
даже
к
термину
«советский
империализм». В дебатах с историками ревизионистского направления, в том
числе в ходе слушаний в комитетах Конгресса, А. Улам утверждал, что
выдвигаемая ревизионистами теория о том, что действия СССР являлись
оборонительными ввиду недружественной политики США, в том числе
атомного шантажа, не имеет под собой никакой почвы и не является
оправданием для экспансионистской политики СССР16.
Ulam A. Understanding the Cold War: A Historian’s Personal Reflections. New Brunswick,
2002. P. 230-231.
16
23
Он также подвергает критике правительства США и Западной Европы
за несвоевременные и недостаточно жесткие, по его мнению, шаги по
«сдерживанию советской экспансии».
А. Улам, являвшийся представителем и многолетним руководителем
одного из ведущих советологических центров в США, в отличие от
историков, демонстрировавших более умеренный подход к интерпретации
советских внешнеполитических мотивов и подчеркивавших естественную
потребность СССР обеспечить безопасность своих границ с помощью
«буферной зоны» из дружественных государств, в значительно большей
степени имел возможность высказывать изложенную точку зрения в
коридорах власти – в Конгрессе и Белом доме. Этот факт проливает, на
взгляд автора, дополнительный свет на причины, по которым политика США
в отношении СССР, а впоследствии и России, страдает одним и тем же
недугом – неспособностью, а, возможно и нежеланием в должной мере
понимать законные национальные интересы и потребности нашей страны и
считаться с ними.
В то же время необходимо отметить, что А. Улам не выдвигает в адрес
СССР обвинений в агрессивном экспансионизме, не поддерживает ту
значительную
часть
американских
историков,
в
первую
очередь
традиционалистов, которые обвиняли СССР в стремлении к мировому
господству. Он склоняется к объяснению мотивов действий политических
лидеров Советского Союза рядом объективных причин геополитического
характера, хотя и в значительной степени окрашенных, по его мнению, их
субъективным восприятием – обеспокоенностью защитой западных границ
СССР от нового возможного вторжения и интерпретацией в этой связи
советскими политиками Плана Маршалла и создания ФРГ как агрессивных
действий, нацеленных, в том числе, на ремилитаризацию Германии.
Таким образом, анализируя творчество Адама Бруно Улама в контексте
американской советологической мысли второй половины ХХ в., можно
24
сделать основной вывод, что А. Улам занимает позицию, свойственную для
традиционалистской школы американской историографии, но в то же время
его позиция по ряду вопросов близка к позиции историков «умеренного», а
не «обвинительного» направления.
Основные положения и выводы диссертации отражены в следующих
публикациях автора:
Публикации в ведущих рецензируемых научных изданиях, включенных
в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации:
1.
Американские историки о политике СССР в Азии и на Дальнем
Востоке (1945–53) // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 6,
выпуск 3. – СПб.: Изд. СПбГУ, 2009. С. 315–324.
2.
Интерпретация начального этапа формирования послевоенных
правительств в государствах Восточной Европы (1944–1945 годы) в работах
А.Улама // Вестник Московского городского педагогического Университета.
Серия "Исторические науки", 2016. № 3 (23). – Москва, 2016. С. 102–110.
3.
А. Улам и другие американские историки о некоторых аспектах
внешней политики СССР после Второй мировой войны и об истоках
холодной войны. // Вестник Костромского государственного Университета.
2016. №4(22). Кострома, 2016. С. 46–51.
Публикации в других научных изданиях:
1.
Внешнеполитические мотивы СССР и советизация Восточной
Европы в работах американских историков после II мировой войны. // Россия
в глобальном мире. Социально-теоретический альманах №17.- СПб.: Изд–во
Нестор, 2009. С. 98-111.
25
2.
Политика СССР в отношении Кореи 1950-53 гг. в работах
американских историков. // Россия
в
глобальном
мире.
Социально-
теоретический альманах №18. СПб.: Изд–во. Нестор, 2010. С. 99–106.
3.
Американская историография о формировании послевоенных
правительств в странах Восточной Европы в 1944-45 гг. (Труды Адама Бруно
Улама). В сборнике: Россия в эпоху политических и культурных
трансформаций. Брянский государственный университет им. академика И. Г.
Петровского. Брянск, 2017. С. 104-113.
4.
А. Улам об основных аспектах внешней политики СССР 1945-53
гг.// Внешнеполитические интересы России: история и современность.
Сборник материалов Х Всероссийской научной конференции. Самарский
государственный
социально-педагогический
университет;
Самарский
юридический институт ФСИН России; Тольяттинский государственный
университет; отв. редактор А.Н. Сквозников. Самара: Изд-во Самарама, 2022.
С.126-133.
26