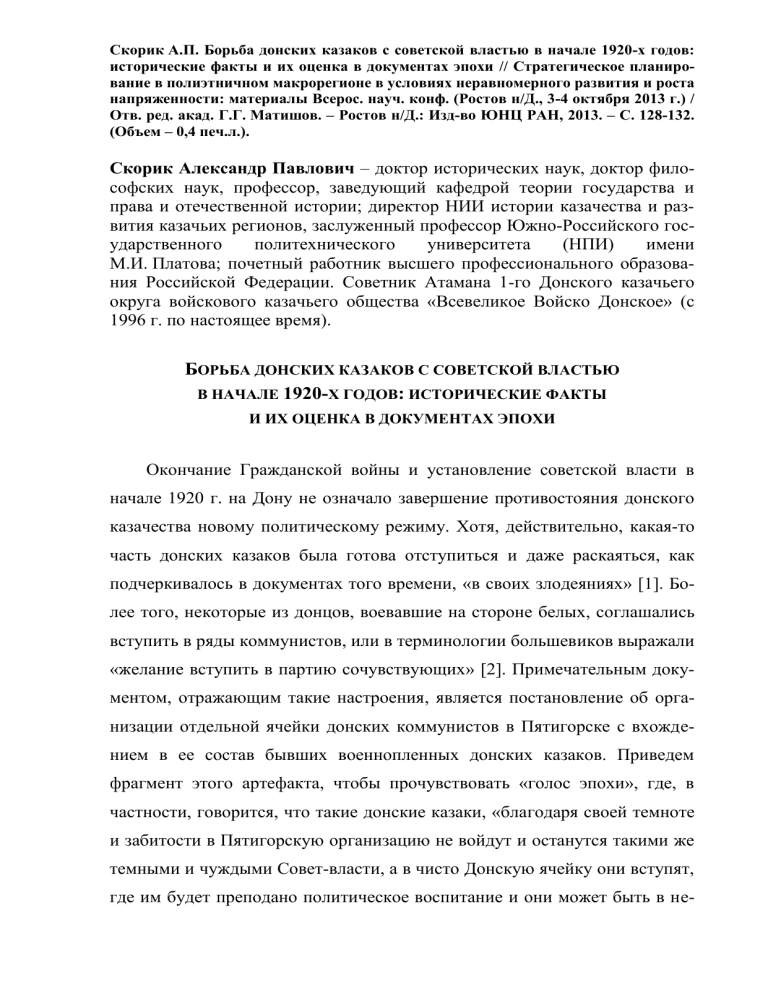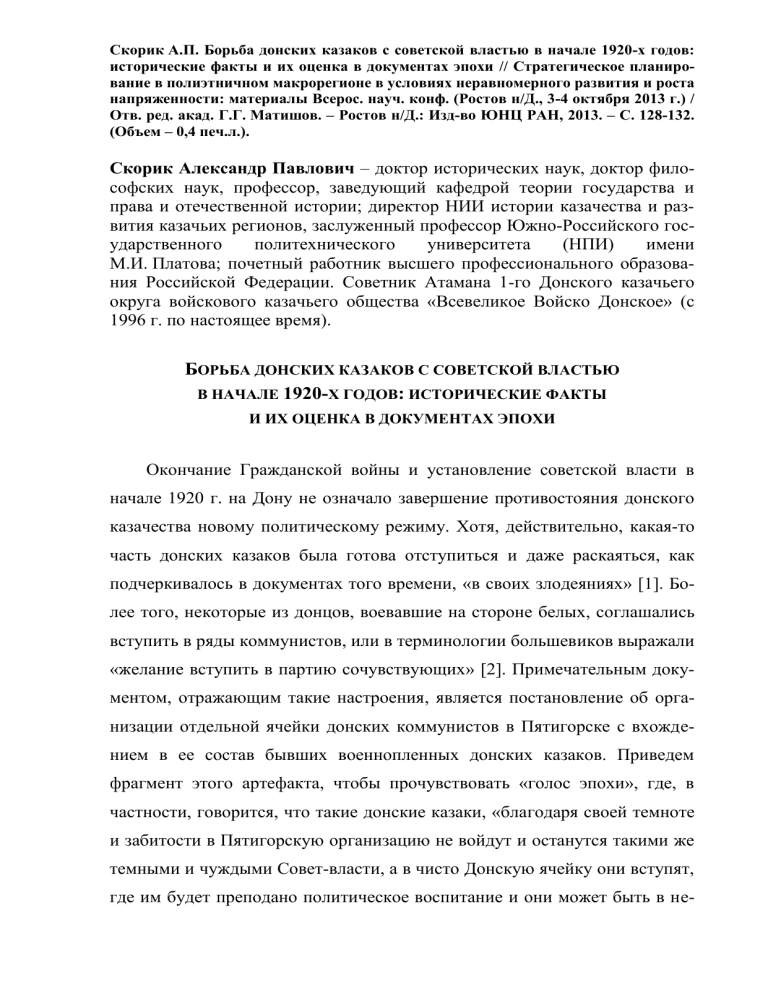
Скорик А.П. Борьба донских казаков с советской властью в начале 1920-х годов:
исторические факты и их оценка в документах эпохи // Стратегическое планирование в полиэтничном макрорегионе в условиях неравномерного развития и роста
напряженности: материалы Всерос. науч. конф. (Ростов н/Д., 3-4 октября 2013 г.) /
Отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. – С. 128-132.
(Объем – 0,4 печ.л.).
Скорик Александр Павлович – доктор исторических наук, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории государства и
права и отечественной истории; директор НИИ истории казачества и развития казачьих регионов, заслуженный профессор Южно-Российского государственного
политехнического
университета
(НПИ)
имени
М.И. Платова; почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Советник Атамана 1-го Донского казачьего
округа войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» (с
1996 г. по настоящее время).
БОРЬБА ДОНСКИХ КАЗАКОВ С СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ
В НАЧАЛЕ 1920-Х ГОДОВ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
И ИХ ОЦЕНКА В ДОКУМЕНТАХ ЭПОХИ
Окончание Гражданской войны и установление советской власти в
начале 1920 г. на Дону не означало завершение противостояния донского
казачества новому политическому режиму. Хотя, действительно, какая-то
часть донских казаков была готова отступиться и даже раскаяться, как
подчеркивалось в документах того времени, «в своих злодеяниях» [1]. Более того, некоторые из донцов, воевавшие на стороне белых, соглашались
вступить в ряды коммунистов, или в терминологии большевиков выражали
«желание вступить в партию сочувствующих» [2]. Примечательным документом, отражающим такие настроения, является постановление об организации отдельной ячейки донских коммунистов в Пятигорске с вхождением в ее состав бывших военнопленных донских казаков. Приведем
фрагмент этого артефакта, чтобы прочувствовать «голос эпохи», где, в
частности, говорится, что такие донские казаки, «благодаря своей темноте
и забитости в Пятигорскую организацию не войдут и останутся такими же
темными и чуждыми Совет-власти, а в чисто Донскую ячейку они вступят,
где им будет преподано политическое воспитание и они может быть в не-
2
далеком будущем уезжая домой повезут в свои хутора и станицы запас
знаний и принесут там существенную помощь Советвласти» [3]. Это постановление пописали 9 сочувствующих. Организатором ячейки донских
коммунистов в составе Пятигорской организации коммунистической партии стал донской казак Попов, а секретарем – донской казак Нагорнов.
Однако в донских станицах длительное время существовали настроения неприятия советской власти. Население продолжало рассчитывать на
смену политического режима, как отмечалось в документах, датированных
1922 г., у донских казаков сохранялась «надежда на водворение генеральско-монархического порядка» (Морозовский округ) [4], «большинство
граждан ждут белых банд» (станица Аксайская) [5].
В таких условиях, едва стихла канонада последних боев за установление советской власти, предпринимаются неоднократные попытки изменить
ход событий. Летом 1920 г., когда Донская область уже вся стала полностью советской, высаженный на берегу Азовского моря 9 июня 1920 г. в
тылу красных, на Кривой косе, южнее станицы Ново-Николаевской врангелевский десант полковника Ф.Д. Назарова устремился к станице Константиновской, в расчете на то, что донские казаки поднимут новое восстание против красных [6]. Однако Назаровский отряд не столь массово
пополнялся сочувствующими казаками, как на то рассчитывали в штабе
Русской армии П.Н. Врангеля. Донцы в большинстве своем уже устали воевать, да и немноголюдно было в казачьих хуторах и станицах после кровопролитных Первой мировой и Гражданской войн.
Этот отряд общей численностью в 800-900 солдат и офицеров, большинство которых было родом из различных донских станиц и хуторов, после первых успехов у станицы Ново-Николаевской проделал целый рейд
по донским степям, относительно свободно миновал города Таганрог, Ростов-на-Дону и Новочеркасск. 24 июля отряд Ф.Д. Назарова с боем взял
станицу Константиновскую, сверг советскую власть и организовал круго-
3
вую оборону. До семи раз стороны сходились в самой станице врукопашную, и лилась потоком на улицах кровь белых офицеров и красных бойцов.
Бои в Константиновской стихли лишь к полуночи 25 июля. 111 убитых и 179 раненых бойцов и командиров составили потери красных. Примерно 250 белых офицеров полегло на донском берегу. 45 белых офицеров
и 120 рядовых казаков красные взяли в плен в задонских степях, и по одной из версий расстреляли на песчаной косе. Вот так появились на старом
городском кладбище две неприметные могилы с неброской табличкой
«братская», где лежат белые казаки. Примечательно, что завотделом
окружного исполкома П. Карташов, убегая от пришедших в станицу назаровцев, сильно простудился и умер. Его похоронили на центральной площади рядом с павшими красными бойцами, и в память о чиновнике улицу
Базарная по решению окружкома назвали улицей Карташова [7].
Открытое сопротивление советской власти на Дону постепенно уступало место иным формам протеста. В своих документах местные большевики называли это переходом от политического бандитизма к уголовному
бандитизму, или снижением контрреволюционной активности. Так, в отчете о деятельности Черкасского окружного комитета РКП(б) за февраль
1922 г. с удовлетворением отмечалось, что «контрреволюционных выступлений не было» [8]. В современной исторической терминологии обозначенный процесс характеризуется как затухание повстанческого движения.
Правомерность такой историографической оценки заслуживает отдельного
рассмотрения.
Какие же тенденции прослеживаются в коллекциях архивных документов?! Прежде всего, отмечается, что в донских округах создавались и
набирали силу подпольные организации [9]. В ряде мест отмечается, как
текстуально подчеркивается в источниках, деятельность «противоответных
партий» [10]. В частности, в Морозовском округе фиксировалась деятельность представителей эсеровской партии [11]. Новую власть сильно беспо-
4
коили частые «провокации», имевшие место среди населения. Так, в марте
1922 г. в Черкасском округе, по констатации местных коммунистов, «в некоторых станицах ведется злостная провокация о занятии Врангелем Таганрога, что Америка приглашает казаков, сейчас обеспечивает их всем и
др., что частично имеет влияние на некоторую часть населения», и тут же в
рапорте вышестоящей инстанции подчеркивалось «но, в общем настроение
и отношение к мероприятиям Советской власти удовлетворительное» [12].
Помимо подобных слухов, жители Дона в начале 1920-х гг. страдали от
голода, которым было охвачено в донских округах до 70 % населения донских станиц [13], причем наличие голода донские казаки напрямую связывали с установлением и функционированием советской власти [14]. Они в
массовом порядке отказывались платить местные налоги, даже под угрозой
закрытия необходимых для их детей школ [15].
На фоне голода и слабости органов советской власти процветала преступность, или в терминах того времени, уголовный бандитизм. Причем,
некоторые местные ответработники склонны были сваливать вину на
внешние обстоятельства. Так, в Черкасском округе (секретарь окружкома
П. Маркитан) кивали на проникновение бандитов из Кубанской области.
Но, если вдуматься в приводимую информацию, что «в ст. Кагальницкой
появилась с Кубани банда в 20-30 человек, забрала один пулемет, часть
винтовок и 300 пудов хлеба» [16], то получается, бандиты с легкостью вывезли большим обозом почти пять тонн продовольствия (которые явно собирали по всей станице на протяжении длительного времени), а местное
население никто не смог защитить, ибо немалую часть оружия также реквизировали «пришлые». Из-за таких ситуаций доверие к советской власти
и правящей партии большевиков не складывалось. Отчасти поэтому донские повстанцы часто убивали коммунистов и советских работников, громили хуторские советы, как например, в районе станицы Багаевской [17].
5
Традиционно считается, что введение продналога в ходе реализации
новой экономической политики меняет ситуацию в деревне. Однако это
далеко не так. Даже через полтора года после официального введения нэпа
на Дону применяют репрессии для принудительного изъятия продналога.
Так, в сентябре 1922 г. в Черкасском округе «пришлось мобилизовать три
отряда ЧОН с демонстративной целью, но это помогло мало, пришлось под
все усилившимся нажимом со стороны Чонпродтройки и конечно сознания
и желания собрать … зерна, применять репрессии» [18]. Конечно, местное
население от этого особой радости не испытывало. «Многие налогоплательщики стали сбывать скот, в том числе рабочий, чтобы купить рожь и
сдать продналог. Положение для них создавалось не совсем удобное.
Налогоплательщик имел лишь одну кукурузу, а мы требовали пшеницу
или рожь. Кукуруза на поле зеленая, продавать у многих нечего» [19]. Откровенная тупость привела к тому, что больше всех пострадали станичные
коммунисты. «Многие из них сеяли кукурузу, подсолнух, но благодаря отсутствию инвентаря и отрыва для выполнения разных Советских и Партийных работ посевы их пропали у кого 65–70 и на все 100 %, некоторые
из таких с большим трудом налог выплатили, а некоторые не смогли» [20].
Ситуацию усугубляли скандалы в частях особого назначения (ЧОН). Эти
«военно-партийные отряды» нередко не отличались высокой нравственностью и внутренним порядком. Процитируем документ: «В связи со сбором
продналога в отряде ЧОН в количестве 12 человек произошло убийство Нка отряда ЧАЛОВА и уполномоченного СКВО ЛИТВИНЕНКО, бойцом
отряда коммунистом УСТИНЦЕВЫМ. ЧАЛОВ и ЛИТВИНЕНКО вечером
в одном хуторе пьянствовали, УСТИНЦЕВ с другими бойцами объявили
им арест и когда ЧАЛОВ, как передают, схватился за леворвер,
УСТИНЦЕВ выстрелом из винтовки убил его» [21]. Подобные факты становились убойными аргументами в пользу своей правоты для той части
донских казаков, которая не симпатизировала советской власти.
6
Таким образом, детальное и углубленное изучение архивных исторических источников (в частности, архивных коллекций Центра документации новейшей истории Ростовской области) позволяет проследить тенденции изменения общественных настроений донского казачества в начале
1920-х гг. на этапе сложного перехода от Гражданской войны к мирному
восстановлению разрушенного хозяйства. В итоге обнаруживается масса
исторических коллизий и поистине уникальных артефактов, которые не
только дополняют имеющиеся исторические представления, но и обнаруживают неполноту наличествующего научного дискурса, а соответственно
вносят в него существенные документальные коррективы, позволяя
осмыслить выявляющиеся нюансы противостояния донских казаков
укрепляющейся советской власти на Дону в начале 1920-х гг.
Примечания
1. Центр документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИ
РО). Ф. 4. Оп. 1. Д. 45. Л. 11.
2. ЦДНИ РО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 45. Л. 12.
3. ЦДНИ РО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 45. Л. 12.
4. ЦДНИ РО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.
5. ЦДНИ РО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 21. Л. 30.
6. См. подробнее: Скорик А.П. Первый Донской округ: опыт исторической
реконструкции. Новочеркасск, 2012. С. 57-59.
7. Донские огни. 2008. 6 ноября.
8. ЦДНИ РО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 19. Л. 5е.
9. ЦДНИ РО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.
10. ЦДНИ РО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 7. Л. 2а.
11. ЦДНИ РО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 7. Л. 1а.
12. ЦДНИ РО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 19. Л. 8.
13. ЦДНИ РО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.
14. ЦДНИ РО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 19. Л. 14ж.
7
15. ЦДНИ РО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.
16. ЦДНИ РО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 19. Л. 8.
17. ЦДНИ РО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 19. Л. 1а.
18. ЦДНИ РО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 19. Л. 21.
19. ЦДНИ РО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 19. Л. 21а.
20. ЦДНИ РО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 19. Л. 21а-21б.
21. ЦДНИ РО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 19. Л. 21б.