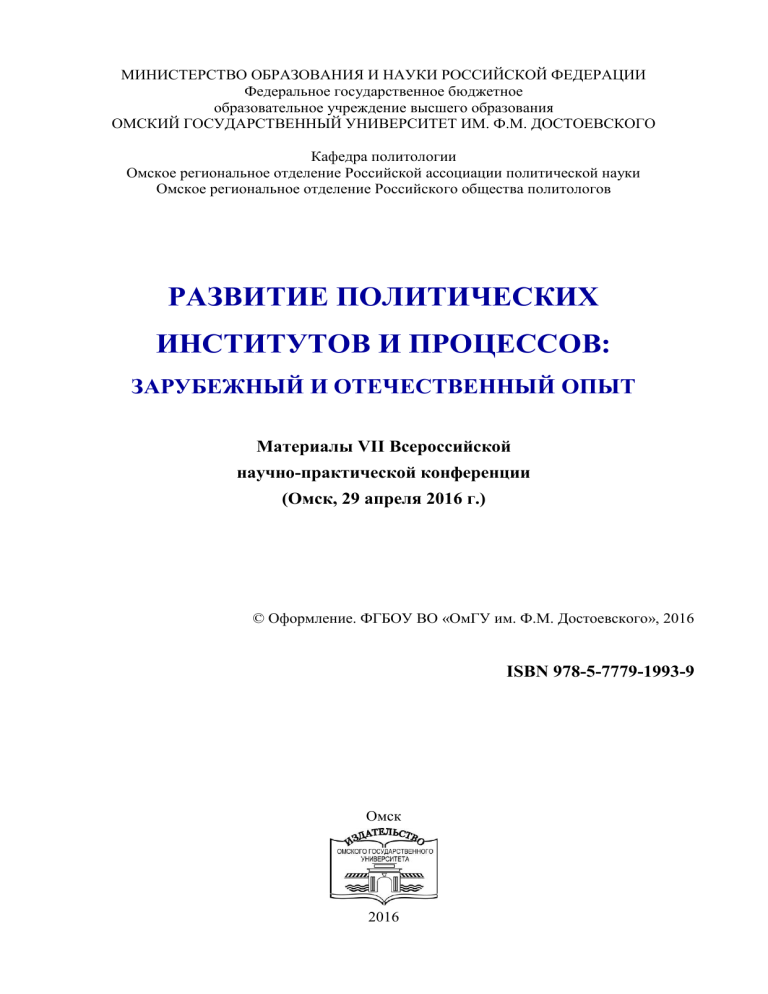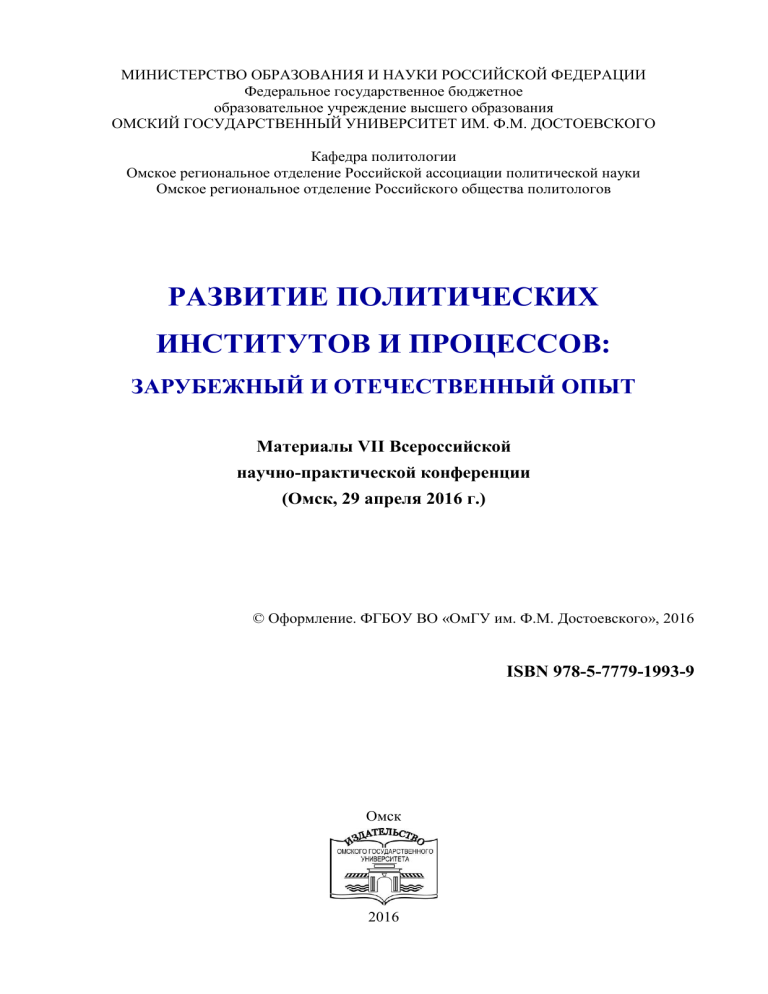
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Кафедра политологии
Омское региональное отделение Российской ассоциации политической науки
Омское региональное отделение Российского общества политологов
РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ И ПРОЦЕССОВ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Материалы VII Всероссийской
научно-практической конференции
(Омск, 29 апреля 2016 г.)
© Оформление. ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 2016
ISBN 978-5-7779-1993-9
Омск
2016
УДК 32
ББК 63.3я43
Р170
Рецензенты:
д-р ист. наук, проф. ОмГУ С.В. Фоменко,
д-р экон. наук, доц. ОмГУ Е.А. Капогузов
Редакционная коллегия:
д-р полит. наук, проф., зав. кафедрой политологии
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского И.А. Ветренко (отв. ред.),
лаборант-исследователь кафедры политологии
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского А.М. Балацкий (тех. ред.),
канд. полит. наук, доц. кафедры политологии
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского И.К. Жуков,
канд. ист. наук, доц., доц. кафедры политологии
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Н.В. Кефнер,
канд. филос. наук, доц., доц. кафедры политологии
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского И.В. Мельникова,
канд. ист. наук, доц., доц. кафедры политологии
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Ю.В. Попова,
преподаватель кафедры политологии
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Д.А. Коновалов
Р170
Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт [Электронный ресурс] : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 29 апреля 2016 г.) / [редкол.: И. А. Ветренко (отв. ред.) и
др.]. – Электрон. текст. дан. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2016. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM) ; 12 см.
ISBN 978-5-7779-1993-9
В сборнике материалов VII Всероссийской научно-практической конференции
«Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт»
рассматривается широкий круг идейно-теоретических и практико-политических проблем современных политических процессов. Конференция ежегодно проводится кафедрой политологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского совместно с Омскими региональными отделениями Российской ассоциации политической
науки и Российского общества политологов.
В 2016 году в конференции приняли участие ученые и преподаватели из 25 вузов,
3 научных центров, а также представители органов власти, бизнеса и средств массовой информации. География участников охватывает 19 городов РФ, а также Приднестровской Молдавской Республики.
УДК 32
ББК 63.3я43
Текстовое электронное издание
Самостоятельное электронное издание
Минимальные системные требования:
PC, Pentium и выше с частотой не ниже 500 MHz; ОЗУ 256 Мb;
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7; Adobe Acrobat Reader 4.0 и выше; CD-ROM; мышь.
© Оформление. ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 2016
Издается в соответствии с оригиналом,
предоставленным редакционной коллегией.
Макет подготовлен в Издательстве ОмГУ
Технический редактор Е.В. Лозовая
Программно-техническая реализация Е.А. Малыгиной
Дата выпуска: 15.06.2016.
1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
Тираж 15 копий. Объём 3,2 Мb.
Издательство
Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского
644077, г. Омск, пр. Мира, 55а
тел.: 8 (3812) 67-32-55, 64-30-61, 64-13-07
Навигация по сборнику:
инструкция для читателей
1. Для быстрого перехода к нужной статье используйте интерактивное содержание
сборника:
– нажмите кнопку «Закладки» (иконка имеет вид или ) на боковой (левой) панели;
– в открывшейся панели, прокручивая Содержание, найдите название статьи;
– кликнув по названию статьи, перейдите к ее тексту.
2. Если боковая панель с кнопкой «Закладки» отсутствует, настройте ее следующим
образом:
– если вы используете раннюю версию Adobe Reader, зайдите в меню «Просмотр», выберите «Панели навигации», нажмите кнопку «Закладки»;
– если вы используете последние версии Adobe Reader, зайдите в меню «Просмотр»,
выберите «Показать / Скрыть», далее – «Области навигации», в выпадающем меню нажмите
«Закладки».
Далее действуйте в соответствии с указаниями п. 1.
Секция 1
УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕГИОНАЛИСТИКИ1
Т.Е. Бейдина
д-р полит. наук, профессор
Забайкальского государственного университета (Чита)
А.В. Новикова
канд. полит. наук, доцент
Забайкальского государственного университета (Чита)
Теоретические проблемы политических процессов решаются с помощью
полипарадигмального подхода, который является эффективным средством преодоления противоречий.
Проблема региональной политической власти и регионального политического процесса, модернизации в изучении требует определенного алгоритма
исследования. И таким механизмом является полипарадигмальный подход к
политологическим дефинициям. Полипарадигмальный подход синтезирован:
1) сочетанием различных парадигм политологии (географической, социальной, психологической и др.);
2) междисциплинарной оценкой региональной политики и функционирования политической власти региона и политического процесса;
3) методологией исследования проблем, фактов, ассоциаций, центр субъектов РФ на стратегическом и тактическом уровнях;
4) возможностями самоорганизации региональной политической власти.
Методология предполагает использование специальных методов (структурно-функционального, социологического, институционального, нормативного, системного).
В полипарадигмальной концепции очевидна нацеленность на прикладной
результат, так как модернизация может быть использована как стратегия и тактика. По свидетельству В.В. Тяна «В условиях политической модернизации
общества актуализируются инновационные проблемы управления, особенно на
© Бейдина Т.Е., Новикова А.В., 2016
5
этапе его демократизации. Тип мобилизационного управления свойствен переходному обществу» [1, с. 107], таким образом оценочные параметры полипарадигмального подхода возможны как на тактическом, так и стратегическом
уровнях.
С позиции внутреннего и внешнего можно оценить и политический процесс. Понятие «политический процесс» можно рассматривать как в широком,
так и в узком смысле. В широком понимании политический процесс рассматривают как постепенное преобразование состояний и стадий изменений политической системы. Политический процесс объясняет эволюцию политической системы, и самые различные её изменения. В узком смысле, политический процесс определяется как комплекс микропроцессов политической системы, или,
иначе говоря, деятельность людей в различных группах по поводу борьбы за
власть, с целью применения её как в личных, так и в групповых интересах [2].
Полипарадигмальная концепция дает возможность оценить процесс в ракурсе
институализма так и с позиции процессного подхода, автором которого в
управлении был Анри Файоль. Американец Артур Фишер Бентли первым стал
характеризовать процесс в рамках политологии. Д. Истон объединил при характеристики внутренних особенностей процесса структурно-функциональный и
бихевиористский подходы. При анализе политических процессов выявляются
основные акторы, их ресурсы, способы взаимодействия, факторы политического процесса и время его протекания (функционирование, развитие, упадок,
стагнация).
Региональный политический процесс может быть отнесен как к общим, так
и к частным политическим процессам, так как с одной стороны, он направлен
на изменение и развитие региональной политической системы, а, с другой стороны, он направлен на решение отдельных политических проблем в регионе
[3].
Модификации политических процессов связаны с характеристикой признаков. С точки зрения участвующих в нем субъектов выделяют политические
процессы с интенсивным и самостоятельным выключением граждан из отношений с политической властью, предполагающие свободное участие в отношениях с государством и другими институтами власти; инициированные с помощью принудительных форм политического воздействия на население.
С точки зрения устойчивости основных взаимосвязей политических и социальных структур можно говорить о стабильных и нестабильных политических процессах. Стабильный процесс характеризуется устойчивыми формами
политической мобилизации и поведения граждан, отработанными механизмами
принятия политических решений. Нестабильный политический процесс возникает в условиях кризиса как появление необходимости изменения политической
обстановки [4].
Намечая вектор модернизации на региональном уровне государственной
власти и управления, мы определяем характер политических институтов, который содействует стабильности модернизационных процессов. С учетом разновекторности регионального политического процесса в России политическое
развитие, скорее всего, пойдет по «традиционному» сценарию с преобладанием
6
авторитарных черт управления, этатистских тенденций реализации власти, менталитета граждан, ориентированного на государственную власть, армию. В развитии субъектов РФ будут преобладать экономические параметры: промышленность, привлечение инвестиций, повышение уровня занятости и деловой активности регионов.
Мы исследовали множество концепций политического развития, в том
числе Андрея Юрьевича Мельвиля, который наряду с демократическим вектором не исключает возможность авторитарного перерождения власти и отмечает
существование значительных внутренних ресурсов для поддержания стабильности России и отсутствие альтернативы существующей политической власти,
что осложняет проблему модернизации. Рассматривали и Ростислава Фелисовича Туровского с его ноу-хау: анализом и мониторингом общественно-политической, экономической ситуации, отношений между бизнесом и властью, между центром и регионами России. Для доктора политических наук Р.Ф. Туровского регион – это часть государственной территории, которая характеризуется
определенными политическими качествами.
Политическая регионалистика – это новое направление политических исследований, изучающее как институты и процессы на региональном и местном
уровнях (исследование элит, выборов), так и аспекты регионального и местного
управления. Анализ проблем развития модернизации требовал создания синтетической классификации регионов по характеру ресурсов, видов производственной деятельности, уровню доходов. Такая классификация возникла в 2010
г. (Григорьев, Урожаева, Иванов) и предполагала выделение 4 групп. Первая
группа – высокоразвитые регионы, куда входят финансово-экономические центры (Москва, Санкт Петербург и Московская область) и сырьевые экспортоориентированные регионы (Тюменская и Сахалинская области). Вторая группа
– развитые регионы Татарстан, Самарская, Нижегородская, Свердловская, Новосибирская области, которые сохранили огромный промышленный потенциал
и человеческий капитал. Третья группа – среднеразвитые регионы, имеющие
мощные АПК и благоприятные природные условия (Краснодарский край, Омская, Волгоградская, Псковская, Кировская области). Четвертая группа – менее
развитые регионы, с ограниченными возможностями самостоятельного решения и проблемами сырьевой направленности (Забайкальский край, Амурская и
Магаданская области). Данную группу характеризируют низкие показатели рыночных услуг, отставание добывающей промышленности и транспортной инфраструктуры. Таков прикладной российский аналог регионов РФ с точки зрения модернизации, ориентированный на синтетическую классификацию регионов. В отличии от сложившихся моделей наш собственный подход связан с выделением политической структуры субъектов РФ, которая производна от экономических связей и учитывает внешний фактор воздействия зарубежных
стран.
Действительно, требуется расширение материала по всем субъектам Российской Федерации. Нами так же использованы материалы по «субъектам приграничья» РФ, в том числе по субъектам Сибирского федерального округа
(СФО); проанализированы: официальные сайты Иркутской области, Краснояр7
ского края, Правительства Новосибирской области, администрации и Законодательного собрания Омской области и аналитические материалы органов государственной власти и местного самоуправления Забайкальского края, Калужской области, Республики Карелии, Республики Крым, Самарской области, города Севастополь. Требуется привлечение других источников, раскрывающих
содержание региональных практик процесса политической модернизации.
Таким образом, на политический процесс влияют проблемы политической
модернизации, факторы институализации политических регионов, среди которых выделяются правовые нормы, политические структуры, политическое поведение, связанное с историко-культурными, социальными ориентирами. Существует определенная динамика политического процесса, для которого очевидно, что состояние современной российской системы политического и государственного управления определяется как проведенными государственными
преобразованиями 90-х гг. XX в., так и факторами управления, его эффективностью и инновационной составляющей. Управление в субъектах РФ предполагает реализацию эффективных методов: программирование социально-экономических процессов, рациональное позиционирование политико-административной элиты и внедрение социальных паспортов муниципальных образований в
политическую реальность.
Факторы, влияющие на систему государственного управления на уровне
субъектов РФ, неразрывно связаны с теориями политической регионалистики.
Политическая регионалистика – новое направление политических исследований, возникшее в результате дифференциации политической науки и необходимости более углубленного изучения такого политического феномена как регион [5].
Существуют следующие оценки определения политической регионалистики:
1. В. Гельман и С. Рыженков определяют политическую регионалистику
как №совокупность исследований как макрополитических институтов и процессов на региональном и местном уровнях (изучение элит, выборов и т.п.), так
и специфических аспектов регионального и местного управления, связанных с
процессами общенационального масштаба» [6].
2. В.Я. Гельман и С.И. Рыженков выделяют «три составные части» политической регионалистики:
2.1) анализ региональных электоральных процессов;
2.2) изучение региональных элит;
2.3) исследование федеративных отношений [6].
3. Н. Медведев дает следующее определение. «Политическая регионалистика – одно из направлений как политологии, так и регионалистики, изучающее проблемы региональной структуры государства и общества, регионального
развития и межрегионального взаимодействия, при этом уделяющее особое
внимание пространственным формам политических явлений, динамике политических процессов и институтов в регионах, характеру и расстановке политических сил, своеобразию процессов формирования региональных элит, проблемам взаимодействия центра и периферии, а также обратному воздействию региональной политической среды на государство и общество в целом».
8
4. В.В. Черникова полагает, что политическая регионалистика представляет собой систему знаний о закономерностях функционирования региона в широком понимании, методологических подходов к его исследованию и практических рекомендаций по выработке региональной политики [7].
5. Р.Ф. Туровский в своем учебном пособии (1999 г.) считает политическую регионалистику одной из отраслей политической географии, использующей географический метод в изучении политических процессов. В одной из
теоретических статей Р.Ф. Туровский значительно корректирует свой взгляд на
объект исследований. Он полагает, что политическая регионалистика – комплексное направление, «изучающее региональные аспекты политических институтов, процессов, партий, элит и пр. в рамках некоего государства». Регионалистика использует географические методы для выработки системных знаний о политическом процессе в регионе. Р.Ф. Туровский «выделяет в политической регионалистике две основные сферы анализа: 1) отношения между центром и регионами, политику государства в отношении регионов; 2) политическую среду на уровне собственно регионов».
Политическая регионалистика – это новое научное направление, находящееся в стадии становления. Своим возникновением данная дисциплина обязана, с одной стороны, политической науке, с другой – регионалистике, или регионоведению.Важные изменения, происходящие в современном обществе на региональном и мировом уровне начиная со второй половины ХХ в., связаны с
процессами интеграции и регионализации. Возрастание роли регионов в эволюции международного сообщества и в жизнедеятельности многих современных государств делает все более важными процессы регионального развития.
Такие динамичные преобразования в области регионального развития вызывают повышенный интерес ученых-политологов. Они также постоянно находятся в поле зрения значительной части национальных и местных политических
элит, решающих вопросы, касающиеся перспектив политического развития,
политических трансформаций, происходящих в обществе, и их последствий в
процессе развития трансграничных отношений принципиально нового типа.
Интерес представляет также исследованиевлияния процессов глобализации на функционирование и развитие современных региональных сообществ.
Именно подобного рода политические тенденции, определяющие основные
черты процессов регионального развития в современном мире, находятся в центре внимания политической регионалистики.
Становление теоретико-методологической базы политической регионалистики связано с такими обществоведческими дисциплинами, как история, этнография, экономика, право. Анализ междисциплинарных исследований, посвященных проблемам регионального развития, показывает, что в них формируется политологическая составляющая.
На основании междисциплинарных исследований, посвященных анализу
разнообразных методов, концепций и теорий изучения региональной политической проблематики, выделяется три основные группы подходов, тесно связанных между собой и в наибольшей степени оказавших влияние на формирование
теоретико-методологических основ политической регионалистики:
9
1) политико-географические и геополитические подходы;
2) политико-исторические подходы;
3) социально-политические подходы.
Относительно объекта и предмета в политической регионалистике нет однозначного понимания. Тем не менее, большинство исследователей (А.В. Баранов, А.А.Вартумян, В.В. Черникова и другие) в качестве объекта политической
регионалистики выделяют регион как самостоятельную единицу. По мнению
А.В.Баранова, объект политической регионалистики – регион как политическое
территориальное сообщество на субнациональном уровне в единстве своих институциональных, поведенческих и ментальных аспектов.
С точки зрения Р.Ф. Туровского, объектом политической регионалистики
является объект политологии, т.е. политические институты, явления и процессы. Для более четкого определения объекта российский ученый предлагает использовать правило территориальной дифференциации, которое означает рассмотрение только тех политических явлений, которые характеризуются территориальной неоднородностью.
Таким образом, объекты исследований в политической регионалистике
должны иметь территориальную проекцию. С учетом этого правила объектами
исследований в политической регионалистике можно считать следующие:
1. Политические институты (государство, партии, группы интересов и
группы давления).
2. Политические системы и политические режимы. Рассматривается мера
региональных различий в общенациональной политической системе и в общенациональном политическом режиме. При достаточно больших различиях
можно говорить о региональных политических системах и региональных политических режимах.
3. Политические процессы. Здесь речь идет о территориальной проекции
общенациональных политических процессов. Примером можно считать исследование региональных различий в результатах национальных выборов. Либо
рассматриваются политические процессы сугубо регионального или местного
уровней.
4. Политические элиты и политическое лидерство. По аналогии с другими
объектами исследований здесь можно рассматривать процессы формирования
региональных политических элит и политическое лидерство на региональном
уровне.
5. Политические коммуникации с учетом региональных особенностей политических коммуникаций.
Предметом политической регионалистики как особой политической науки
является пространственное измерение политических явлений.
Этот предмет включает:
1) политические отношения между центром и регионами (вертикальное
измерение политической регионалистики);
2) политические процессы (явления) в самих регионах (горизонтальное измерение политической регионалистики) [8].
10
Предметом политической регионалистики (здесь мнения исследователей
меньше расходятся) являются закономерности политического воспроизводства,
функционирования и развития регионов. Таким образом, можно выделить вертикальное измерение политической регионалистики – политические отношения
между центром и регионами; и горизонтальное – политические процессы (явления) в самих регионах.
А.В. Баранов и А.А. Вартумян предлагают следующий вариант структуры
политической регионалистики:
1) предмет, методология и методы, основные школы политической регионалистики;
2) политические регионы в системе центр-периферийных отношений на
уровне государств: региональная политика и ее подсистемы, федерализм и
иные формы государственного устройства;
3) региональный политический процесс: основны еакторы, институциональная и социокультурная динамика [9].
Основные функции политической регионалистики можно определить тогда, когда субъекты региональной политики вступают в политические отношения и политические процессы.
Литература
1. Тян В. В. Управление обществом в контексте новых внутриполитических и геополитических вызовов: российский опыт в цивилизационном дискурсе // Вестник Московского
государственного университета культуры и искусств. – 2011. – № 5. – С. 107–113.
2. Ирохин Ю.В. Политология. – М., 1996. – 462 с.
3. Кисляков М.М. Воздействие политического маркетинга на региональный политический процесс / [КиберЛенинка]. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystviepoliticheskogo-marketinga-ia-regionalnyy-politicheskiy-protsess (дата обращения: 21.01.16).
4. Понятие и виды политических процессов / [Политология]. – URL:
http://allpolitologia.ru/ponyatie-i-vidy-politicheskix-processov/ (дата обращения: 21.01.16)
5. Косов Ю.В., Фокина В.В. Политическая регионалистика. – СПб.: Питер, 2009. –
С. 22–40.
6. Гельман В., Рыженков С. Политическая регионалистика России: история и современное развитие // Политическая наука. – М.: ИНИОН, 1999. – № 3. – С. 172-255.
7. Черникова В.В. Политическая регионалистика: учебное пособие по специальности
020301 «Политология». – Воронеж: «Истоки», 2004. – С. 7–19.
8. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика: учеб. пособие для вузов. – М.: Изд.
дом ГУ ВШЭ, 2006. – С. 15–29.
9. Баранов А.В. Политическая регионалистика: дисциплинарная структура и основные
направления исследований // Мировая политика: проблемы теоретической идентификации и
современного развития: Ежегодник РАПН 2005. – М.: РОССПЭН, 2006. – С. 363–380.
11
СЛАБОСТИ МОЛОДЕЖИ
КАК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОТЕСТНОЙ СИЛЫ1
Д.А. Попов
аспирант
Коми республиканской академии
государственной службы и управления (Сыктывкар)
С.Н. Большаков
д-р полит. наук, д-р экон. наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета
Политическое протестное движение тесно связано с политическим конфликтом [1, с. 179]. Последнее – это столкновение субъектов политики, реализующих свои интересы власти или ее перераспределения [2, с. 180].
Причем, если политическая сила декларирует изменения (конечно, к лучшему), то протестное движение пытается сохранить уже обещанное властью,
т.е. того, что в силу каких-либо обстоятельств не нашло реального отражения в
действительности. Однако их суть схожа – индивидуальная неудовлетворенность существующими реалиями.
Обе стороны политического конфликта рассчитывают на удовлетворение
своих ожиданий, взяв на себя взаимные обязательства, которые формируются в
контексте различных процессов и формализуются в различных источниках: лозунгах, политических программах, обещаниях, заявлениях и т.п.
Протестные выступления последнего десятилетия проиллюстрировали, что
авангардом политического протеста становится молодежь. Причем как в России, так и в мире. С одной стороны это делает ее определенной самостоятельной силой, а с другой – уязвимой мишенью, лишенной социального и политического опыта, привыкшей к простой, не требующей долгого обдумывания, образной информации с лаконичными посланиями. Имея широчайший спектр
информационно-коммуникационных средств для самоорганизации, обладая высокой мобильностью и самое главное – неформализованностью в институциональные образования (нет иерархии и организационной структуры), молодежь
может стать сильнейшим инструментом в чьих-то руках, управляющих информационными потоками.
Это, например, подтверждается исследованиями современных протестных
выступлений в Европе. В Испании, например, в период между 2010 и 2011, одним из таких протестных движений стало Anti-austerity movement in Spain
(Движение против жесткой экономии в Испании) или 15M [3, с. 760]. Анализ
данных протестов позволил выявить ряд особенностей.
Во-первых, участники были из числа молодежи и не имели формального
членства. Во-вторых, успех процесса мобилизации стал возможным благодаря
привилегированному использованию цифровых средств массовой информации
© Попов Д.А., Большаков С.Н., 2016
12
и, в частности социальных сетей, которые произвели удаленную координацию
действий. Мобилизация с помощью этих средств коммуникации позволила
направить коллективное возмущение многих небольшие организаций с небольшим опытом мобилизационной активности и через общественные группы,
которые откликнулись на общую озабоченность по взаимоволнующим вопросам. В-третьих, как следствие, необычные участники протеста вышли на улицу.
Демонстранты 15M были моложе, образованнее, чаще всего, были женщины и
безработные, чем в других акциях протеста. Они имели значительно более низкий уровень политической активности, нежели предыдущие демонстранты. Во
многом благодаря тому, что получилось объединить много политически неактивных членов общества.
Конечно, традиционные посреднические структуры, такие как профсоюзы,
партии и традиционные СМИ, пока не лишние в организации крупномасштабной политической мобилизации. Но приведенный случай показывает, что их
участие больше не является необходимым условием для создания высокой явки
на протестных мероприятиях.
Возникает интересная ситуация. С одной стороны, если мы говорим о молодежи, то она выпадает из группы населения, требующей от власти выполнения ее обязательств, поскольку этому должен предшествовать анализ «обещаний» или, по крайней мере, осведомленность об их наличии, чего в молодежной
среде практически нет. Но с другой стороны, наличие частых протестных выступлений с участием в большей степени молодежи опровергает предыдущий
тезис. То есть получается, молодежь выступает с политическими требованиями,
не имея особого представления о политической ситуации.
Хотя сравнительный анализ участников выходит за рамки данной статьи,
важно напомнить, что то, что делает 15M, является интересным проявлением
«реальной демократии» в социальных сетях. Множество организаций, которые
были объединены под платформой (Democracia Real Ya!) смогли преодолеть
свое отсутствие в традиционных средствах массовой информации, удаленность
от влиятельных агентов мобилизации, например, партий, и успешно объединиться в целях создания огромной явки, территориального охвата и привлечения новых участников.
Ранее нами отмечалось, что в 2011 году основным информационнокоммуникационным полем консолидации в России, принятия решений и резолюций стал интернет – социальные сети. Произошел выход в оппозиционные
массы молодежи, а в лидеры неизвестных новичков [4]. В исследованиях тех
событий авторы, равно как и статистика, описывая одни и те же события, оперировали различными терминами: протестные настроения, протестный потенциал, протестное движение, протестное выступление и т.п. Объединяющим
звеном стоит считать личное публичное выражение своих требований или возражений по отношению к позиции официальной власти. Например, как только
по данным статистики [5] 27% россиян начали чувствовать себя оскорбленными рокировкой в тандеме Путин-Медведев и выражали нежелание голосовать
за «Единую Россию» довольно быстро организовались события на Манежной
площади. Конечно, это пример политического конфликта и как следствие опе13
ративная работа оппозиции, в отличии, например, от выступлений 15М. Последний пример особенно ярко иллюстрирует способность цифровых медиа
мобилизовать новых участников. Это произошло, однако, при высоком уровне
недоверия к партиям, которые не могли удовлетворить запросы на конкретную
их роль на влияние государственного устройства. В то время как российские
партии на манежной площади сыграли довольно важную роль.
Если продолжить речь об участии молодежи в протестных движениях, то
стоит обратиться к выявлению мотивационной составляющей. В основе исследования массового протеста лежат различные подходы. Мы обратимся к тем,
которые основаны на анализе психического состояния человека – депривации.
Однако мы попытаемся дополнить его, обратившись к анализу коммуникационных средств распространения информации, как фактору, формирующему
психическое состояние.
На основании работ [6] профессора факультета глобальных процессов
МГУ Андрея Коротаева можно выделить некий унифицированный фактор, благодаря которому можно спрогнозировать возникновение протестных движений
– это рост образованного молодого городского населения.
Данные служащие основой расчета вышеуказанного фактора исчисляются
простым математическим уравнением с одной неизвестной в контексте линейного развития событий. Формулы как таковой нет, но ее не сложно вывести самим. У нас получилось следующее: М=100*(Bn-Dn)/Tn,+22.
Примерную долю молодежи (М) мы измерили, опираясь на такие данные:
• T – общее число жителей, n+22 – год, доля населения которого измеряется
• Bn – число родившихся детей, Bn =Tn/1000*Xn, где n – используемый год,
Х – число родившихся на 1000 чел.
• Dn – Смертность младенцев (на 1000 рожденных), Dn=Bn/1000*Yn, где n –
используемый год, Y – число умерших младенцев (на 1000 рожденных)
Так, например, используя статистически данные по демографии, опубликованные на сайте Всемирного банка [6] мы рассчитали долю молодежи на
2010 год. Для Грузии доля молодежи составила 1,88. И действительно в этот
год были протестные выступления. Однако их характер не касался политических требований, которые как мы уже определили должны быть в основе требований, а активистами участников выступала вовсе не молодежь [7].
Но сам по себе факт большой доли молодежи не является причиной возникновения протестных движений. Должна быть мотивационная составляющая.
Как уже было подчеркнуто ранее, неудовлетворенность от ожиданий приводит
к фрустрации, что и служит причиной включения индивида в ту или иную форму протестной активности или пассивности.
Некоторые исследователи молодежной протестной активности выделяют
ряд этапов формирования протестных настроений молодежи [7, с. 31]:
• стремление к многократному улучшению социального положения;
• предъявление завышенных требований к себе и к окружающей действительности, что чаще всего несопоставимо с реальностью и приводит к сопровождающимся гневом трудностям при их реализации.
14
Однако данные причины напрямую никак не связаны с политикой, а в
большей степени именно политические требования предъявляют протестующие
в последние годы.
Средства коммуникации можно считать причиной молниеносных откликов
общественности на различные протестные призывы, будь то использование социальных сетей в качестве средств «сбора» людей на Болотной площади в
Москве или демонстрация фильма «Невинность мусульман», инициировавшая
сильнейшие протестные выступления в мусульманских странах [8].
Вернемся к мотивационной стороне вопроса участия населения в протестных выступлениях. Так, по мнению Мамонова М.В. депривационный подход основан на анализе взаимосвязи между степенью реализованности притязаний (ожиданий) и характером формируемых настроений [9, с. 51]. То есть необходимо выявить некую производную от субъективной оценки индивида относительно реализованности его ожиданий в реальности. Это в свою очередь и
определяет дальнейший характер поведения. Если уровень оценки реальности
ниже, чем уровень притязаний, естественно, негативный настрой и как следствие появление протестного настроения.
Несмотря на логичность данного подхода, он не стал доминирующим при
изучении протестности. Данный подход можно подвергнуть сомнению при
определении мотивации массовой и политической активности, поскольку поведение человека рассматривается без учета его когнитивных способностей, а
также отсутствует структурированность в изучении депривации. Однако нами
также ранее был сделан вывод значимости мотивационной составляющей в молодежных выступлениях [10, с. 291].
Протестное движение в лице нового помолодевшего состава становится не
реакцией на политический конфликт, а продуктом информационной интерференции. Теперь для сохранения социальной стабильности, в первую очередь,
необходимо решить вопросы информационной безопасности и информационной альтернативности.
Однако если мы начинаем говорить о протестных движениях, представленных системно, то это уже институциональное образование, имеющее лидера, структуру и план действий. На наш взгляд это уже совсем иная политическая конструкция, рассмотрение которой не входит в рамки данной статьи.
Очевидной необходимостью исследования причин возникновения протестных движений в реалиях информационно-коммуникационного разнообразия, становится определение информационной интерференции: смыслового
воздействия определенных источников, ранжированных по степени значимости
для определенных групп населения в совокупности с депривацией протестнонастроенной части населения [11]. С одной стороны, сделать это становится
проще, т.к. практически весь контент доступен оnlinе в интернете, но с другой,
в виду тенденций перехода с текстовой на визуальную информацию [12] (особенно в коммуникационных средствах молодежи), сделать это становится все
сложнее в виду практическом отсутствии соответствующих технических
средств.
15
И здесь мы сталкиваемся с необходимостью информационной изоляции в
целях устранения источников манипулирования молодежью. Как ни странно,
всевозможные игры (в том числе компьютерные), социальные сети, мода на
всевозможные молодежные субкультуры и т.п. становятся определенным барьером, щитом, который с одной стороны засоряет сознание, но с другой вырывает из существующей политической реальности.
Подтверждением того, что информационная изоляция способствует как
минимум эмоциональной нормализации состояния индивидуума, можно считать небольшой эксперимент, проведенный автором, по обеспечению максимальной информационной изоляции продолжительностью около месяца.
Напряженное состояние от внешеполитической угрозы на фоне событий в
Украине практически исчезло уже на третий день информационного голодания
и практически сразу вернулось с первого дня просмотра новостных сюжетов.
Молодежь можно считать наиболее сильной и мобильной силой, обладающей набором современных информационно-коммуникационных средств сбора и распространения информации, что в современном обществе является очень
важным условием нахождения «в центр событий». И именно из-за этого она
может стать как управляемым субъектом, так и субъектом управления. А поскольку самоорганизация и формулирование требований – это важный фактор
субъектов политического протеста (но не свойственный молодежи), она чаще
становится именно управляемым субъектом политического протеста, а еще чаще банальным объектом манипулирования.
Таким образом, возникает ситуация, когда сильные стороны молодежи, а
именно: социальная активность, относительная экономическая независимость
(нет работодателя, способного повлиять на политические взгляды или решения
своего работника), информационная мобильность (за счет использования современных информационно-коммуникационных средств) и наличие довольно
большого свободного времени – становятся именно теми уязвимыми местами,
позволяющими осуществлять политическое воздействие на нее.
Но с другой стороны именно эти качества способны благоприятным образом повлиять на развитие демократии как формы народного волеизъявления.
Вопрос лишь в правовой грамотности и политической осведомленности молодежи, которая, равно как и электоральная активность, крайне низка. Что и формирует из молодежи активное политическое звено, однако, не способное конструктивно выражать свои политические взгляды. Следовательно, именно этой
проблемой необходимо заняться, если мы хотим получить конструктивную политическую силу в лице молодежи.
Литература
1. Давыдов Л.В. Политический конфликт: развитие определения и понимания. Конфликтология. Фонд развития конфликтологии. СПб., 2011. Т. 3. С. 175–187.
2. Давыдов Л.В. Политический конфликт: развитие определения и понимания. Конфликтология. Фонд развития конфликтологии. СПб., 2011, Т. 3. С. 175–187.
3. Eva Anduiza, Camilo Cristancho & José M. Sabucedo. Mobilization through online social
networks: the political protest of the indignados in Spain // Information. Communication & Society,
2014. № 17:6. 750–764.
16
4. Попов Д.А., Большаков С.Н.. Информационные стратегии и социодинамика протестных движений в России // Вопросы управления. 2015. № 4(35). URL: http://
vestnik.uapa.ru/ru/issue/2015/04/04/ (дата обращения: 12.11.2014).
5. Хомченко Ю. Социологи не заметили протестный настрой россиян. Московские новости. URL: http://mn.ru/society_sociology/20111212/308546510.html/ (дата обращения
12.11.2014).
6. Коротаев А.В. Арабская весна. Стенограмма и видеозапись лекции. URL:
http://polit.ru/article/2013/11/10/arabskaya_vesna/ (дата обращения: 28.08.2014).
7. The World Bank. – URL: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/ (дата обращения: 20.09.2014).
8. Грузия в августе 2010 года / Кавказское сотрудничество. URL: http://www.
georgiamonitor.org/news/254/1443/ (дата обращения: 20.01.2016)
9. Ефанова Е.В. Молодежный экстремизм как форма политического протеста // Власть.
2011. № 8. С. 30–33.
10. Попов Д.А., Большаков С.Н. Медиаэффекты протестных движений в контексте нелинейной динамики. URL: http://centero.ru/images/text/centerojournal-2_2015.pdf/ (дата обращения: 20.01.2016).
11. Мамонов М.В. Возможности применения депривационного подхода при изучении
протестных настроений // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены. 2010. № 6 (100). С. 049–054.
12. Феоктистова О.А., Попов Д.А. Национальная безопасность современной России:
новый взгляд на роль муниципального самоуправления // Государственное и муниципальное
управление. Ученые записки СКАГС. 2015. № 3. С. 289–293.
13. Большаков С.Н., Попов Д.А. Информационные стратегии и социодинамика протестных движений в России // Вопросы управления. 2015. № 4. URL: http://vestnik.uapa.ru/
ru/issue/2015/04/04/ (дата обращения: 20.01.2016).
14. Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Тенденции развития информационного пространства рунета // Экономика и политика. 2014. № 1 (2).
17
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ
В ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ЦИКЛАХ 2014–2015 гг.1
И.А. Ветренко
д-р полит. наук, профессор,
заведующий кафедрой политологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Выборы 2014, 2015 годов разного уровня, прошедшие в Субъектах Федерации рассматриваются экспертами и политиками, как генеральная репетиция
перед выборами в Государственную Думу Федерального собрания Российской
Федерации, которые состоятся 18 сентября 2016 г. Об этом может свидетельствовать и тот факт, что еще не успела закончиться выборная кампания 2015 г.,
как Фонд «Либеральная миссия» под авторством А. Кынева, Л. Любарева,
А. Максимова выпустил книгу «На подступах к Федеральным выборам-2016:
региональные и местные выборы 13 сентября 2015 года». Подобные явления
большая редкость, поскольку поствыборная рефлексия продолжается всегда
достаточно долго, а здесь работа увидела свет еще в календарном 2015 году [1].
Потребовалось подведение итогов завершившихся электоральных циклов с целью прогнозирования ситуации на предстоящих выборах в Госдуму.
Основания так полагать, безусловно, есть. В последние два года выборов
сложился полный список политических партий, которые имеют право участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Можно констатировать, что именно в эти два выборных года сработал региональный фильтр. В
данный список вошли 14 политических партий РФ. Следует отметить, что на 1
января 2016 г. в стране было зарегистрировано 79 партий, их них 75 имели право участвовать в выборах, т.е. в своих уставах они прописали этот пункт. К получившим право облегченного выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в нижнюю палату парламента РФ относятся не только парламентские партии, но и те, которые имеют хотя бы одного депутата в региональном парламенте любого из субъектов. В данный список вошли: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО», Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», Политическая
партия «Гражданская Платформа», Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Политическая партия «Российская
партия пенсионеров за справедливость», ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», Политическая партия «Республиканская партия
России – Партия народной свободы», Политическая партия «Российская эколо© Ветренко И.А., 2016
18
гическая партия «Зелёные», Всероссийская политическая партия «Гражданская
Сила».
Однако представительство данных партий в региональных парламентах
далеко не симметрично. Так, партия власти «Единая Россия» имеет свои фракции в парламентах всех 85 Субъектах Федерации России, а партия «Зеленые»
одного представителя только в Кабардино-Балкарии, который вошел туда на
выборах в 2014 г., также, как и кандидат от «Гражданской силы» в единственном числе в Ненецком автономном округе. Но права в соответствии с российским законодательством по выдвижению и регистрации кандидатов без подписей имеют все партии, входящие в этот список четырнадцати.
Особенность предвыборной партийной агитации является то, что она как в
2014 г., так и в 2015 г. пришлась на период летних отпусков, поскольку единый
день голосования был установлен 14 сентября 2014 г. и 13 сентября 2015 г. Это
послужило мощным стимулом для партий начать предварительную агитацию.
Аналогичная ситуация будет и в этом году с выборами в Государственную Думу, поэтому в предыдущих электоральных циклах удалось опробовать легитимные технологии такой агитации, а именно технологии предварительного отбора кандидатов (праймериз), которые проводила «Единая Россия», а уже в
2015 г. и РПР-ПАРНАС, технологии публичного выдвижения или рекрутинга
кандидатов из народа, как это было у «Справедливой России» в формате мобилизационного проекта «Справедливый призыв», а также в регионах активно использовались ранние социологические опросы с эффектом формирующих
опросов, где в меньшей степени интересовало мнение респондентов, а в большей степени давались информационные установки о потенциальных кандидатах с целью повышения их стартовой узнаваемости. Поскольку временные рамки проведения агитации и голосования на предыдущих выборах совпадают,
единый день голосования установлен 18 сентября 2016 г., постольку есть
устойчивая прогностическая тенденция, что подобные технологии буду применяться более массово со стороны почти всех политических партий, участвующих в выборах.
Еще одни важный момент репетиционного характера, который можно
усмотреть в электоральных циклах 2014–2015 гг. – идеологическое выхолащивание партий и складывание партийной выборной риторики. В рассматриваемый период наблюдается явные спад в плане идеологической агитации, а акцент смещается в сторону технологического массового воздействия на избирателя. Исключение в этом плане составляет идеологизированная партия РПРПАРНАС, а также локальные кампании других малых партий, надеющихся за
счет успеха хотя бы в одном регионе получить льготу при регистрации списка
на выборах в Госдуму.
Участие политических партий на выборах в сравнении между 2014 г. и
2015 г. явно снижается. Так, в 2014 г. 69 политических партий имели право
участвовать на выборах, а выдвинуты были кандидаты в этот выборный год
только от 55, из них три только в новых Субъектах Федерации, 13 политических партий вообще не выдвинули ни один список, ни одного кандидата. В
2015 г. число партий, имеющих право участвовать на выборах выросло до 74, а
19
и только 49 партий в этот год приняли реально участие на выборах, 25 партий
на выборы не заявлялись вообще. Следует признать, что причина снижения активности партий на выборах была связана, в первую очередь, с изменением избирательного законодательства, а именно внесенное Федеральным Законом 5
мая 2014 г. изменение порядка регистрации кандидатов и партийных списков,
который лишил большинство партий льгот при регистрации на выборах. Однако стоит выделить и еще одну причину, которая кроется в самих политических
партиях, а именно можно было наблюдать регресс в деятельности ряда ранее
созданных партий, который выражался в прекращении деятельности вообще.
Но если взглянуть на выборные процессы 2014–2015 гг. через призму
идеологической борьбы, то становится очевидным то, что выросла активность
партий либеральных и патриотических. При этом активности их носила как качественный, так и количественный характер. РОДП «Яблоко» расширила свою
электоральную активность за счет тех регионов, в которых ранее не участвовала и укрепила качественно свои позиции за счет сильных по составу списков в
таких областях, как Новосибирская, Воронежская и Костромская. Достаточно
солидна и активно были представлены еще партии – РПР-ПАРНАС и «Гражданская инициатива». Однако было замечено явное снижение активности партий с более умеренной идеологией, таких как «Гражданская платформа», РЭП
«Зеленые», Российская партия пенсионеров за справедливость, Трудовая партия и «Гражданская сила». Как в 2014 г., так и в 2015 г. пассивны были и все
три аграрные партии России – АПР, Объединенная аграрно-промышленная
партия и Партия Возрождения Села.
Важным аспектом выборов 2014-2015 г.г. стала адаптация выборных технологий и определение приоритетных для следующего электорального цикла. В
технологическом плане спойлерские и пакетные технологии в этот период
прошли свою адаптацию в полном объеме. При этом спойлерские технологии,
которые до этого времени применялись в основном в отношении левых и левоцентристских партий, то в анализируемый период они были запущены и в отношении других партий. Например, партии почти одноименными названиями
оказались их мишенями – «Гражданская сила», «Гражданская платформа»,
«Гражданская позиция», «Гражданская инициатива».
Ситуация с пакетными технологиями выглядела следующим образом. Их
применяли при выдвижении одних и тех же кандидатов в разных регионах и
городах. Так поступали партии – КПСС, «Гражданская Сила», «Коммунисты
России». Это было вызвано, в первую очередь, кадровым голом в данных партиях вообще и в отношении узнаваемых лиц – в частности.
Вероятность применения подобных технологий на предстающих выборах в
Госдуму высока по нескольким причинам. Во-первых, кампании 2014-2015 г.г.
позволили их обкатать и убедится в их эффекте. Во-вторых, в списке партий,
имеющих право участвовать на выборах в Государственную думу по-прежнему
остается много одноименных и электорально-идентичных партий. И, наконец,
отсутствие человеческого ресурса сегодня наблюдается у все партий, даже у
партии власти – «Единой России».
20
В результате двух рассматриваемых нами электоральных циклов сложилась и приоритетная предвыборная риторика, которая, по нашему мнению, будет активно эксплуатироваться и на предстоящих думских выборах.
Предвыборную партийную риторику определяют многие факторы. На ее
содержание влияет идеология партии, но среди всех партий, вошедших в ранее
нами озвученный список, пожалуй, только одна может похвастаться идеологической подоплекой – КПРФ, остальные имеют расплывчатые идеологические
рамки. Содержание предвыборной агитации во много определяют социальноэкономические условия, в которых она протекает. В этом смысле в политические и агитационные слоганы партий, с которыми они шли на выборы были
включены такие эмоционально окрещенные категории – «Суверенитет» и «Безопасность». Еще на предвыборную риторику влияет и то, что хочет услышать
избиратель и что на него действует, как мобилизационный фактор. Исследования, проводимые накануне выборов и в период их проведения в 2014 г. и в 2015
г., показали, что очень хорошо воздействует на массы, объединяя их и мобилизуя на голосование, дефиниция «Патриотизм».
На основе выше изложенного мы можем заключить, именно данная риторика будет эксплуатироваться политическими партиями в период выборов в
Государственную Думу в этом году.
Таким образом, репетиции прошли, игроки определились, технологии
сформировались и даже появились прогнозы с указанием возможного процента
голосов, которые наберут партии и количества мандатов, которые завоюют одномандатники. Следует отметить, что партия власти «Единая Россия» подготовилась к предстоящим выборам в Госдуму основательно. Все, что можно было
законодательно и процессуально направить на свою будущую победу она добилась, а именно, установлена смешанная система выборов, выгодная представителям этой партии по всем позициям, проведена лепестковая нарезка избирательных округов, не позволяющая оппозиционным партиям и кандидатам, как
правило, набирающих свой процент в городе теперь это сделать, поскольку
округа смешанные. Но, и наконец, снижение порога прохождения в Государственную Думу с 7% до 5% тоже позитивное явление для «Единой России»,
также, как и отсутствие графы «против всех» и возможности создавать избирательные блоки. Желание партии «Единая Россия» вернуть конституционное
большинство, которое она утратила на выборах в Государственную Думу шестого созыва очевидно и только эта партия может, используя административный ресурс, так основательно укрепить свои позиции в преддверии важной
борьбы за господство в нижней палате парламента. Остальным политическим
партиям остается уповать на технологии и оппозиционный настрой населения
России.
Литература
1. Кынев А., Любарев А, Максимов А. На подступах к Федеральным выборам-2016: региональные и местные выборы 13 сентября 2015 года. М.: Фонд «Либеральная миссия»,
2015. 565 с.
21
СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ИССЛЕДОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ1
Д.Ю. Знаменский
канд. полит. наук, доцент,
заместитель заведующего кафедрой
государственного управления и политических технологий
Государственного университета управления (Москва)
Как представляется, системный подход, делающий акцент на анализе устоявшихся связей и отношений между властными и гражданскими институтами,
считается одним из наиболее продуктивных подходов к изучению государственной политики. Данный подход активно развивается и применяется в научных и прикладных исследованиях в области менеджмента, в том числе и в государственно-управленческой проблематике [4; 10; 12; 13; 17].
Новым направлением аналитического инструментария для изучения сложных объектов управления, характеризующихся множественными внутренними
и внешними связями и сложно поддающихся линейной декомпозиции и иерархическому построению, является системная динамика. Впервые системнодинамический подход был предложен Джеем Форестерром [20] в 1961 г. для
моделирования деятельности сложных производственных систем, характеризуемых наличием обратных связей и лаговых соотношений между переменными.
В контексте объекта и предмета настоящего исследования применение системно-динамического подхода представляется вполне оправданным и объясняется необходимостью учета следующих факторов: а) множественность и разнообразие субъектов государственной политики; б) одновременная дискретность и непрерывность жизненного цикла государственной политики; в) многообразие технологий взаимодействия власти и общества на различных этапах
указанного жизненного цикла.
В этой связи, в соответствии с внутренней логикой процесса формирования и реализации государственной политики целесообразно предположить, что
она имеет как минимум три измерения: пространственное, временное и технологическое. Первое сопряжено с областью осуществления государственной политики, а также с теми политическими институтами и государственными органами, которые задействованы в этом процессе. Второе предполагает выделение
ряда этапов жизненного цикла государственной политики, а именно ее формирования, реализации и оценки ее результативности и эффективности. Третье
означает ключевую роль технологий взаимодействия общества и государства в
рассматриваемых процессах [9].
Конкретизируя содержание пространственного измерения государственной политики необходимо отметить два важных момента. Во-первых, принципиальное значение, по нашему мнению, должно быть отведено нормативно© Знаменский Д.Ю., 2016
22
правовым и концептуальным основам государственной политики, поскольку
они задают ее основные направления и методы их реализации. Во-вторых,
нельзя не заострить внимание на ее институциональных основах, т.е. на том,
какие органы государственной власти отвечают за разработку и реализацию
государственной политики, а также на тех политических институтах, которые
заинтересованы в данном направлении государственной политики. Безусловно,
каждая из разновидностей государственных политик обладает институциональной и организационно-кадровой структурой, особым сочетанием публичных и
латентных инструментов достижения поставленных показателей, во всех видах
государственной политики предполагаются специфические стандарты осуществления управленческой деятельности и критерии оценки достигнутых результатов [5].
Рассматривая временное измерение государственной политики, следует
подчеркнуть важность различия участия различных политических институтов в
исследуемых процессах на стадии формирования государственной политики ее
реализации и оценки. Так, на первой стадии, органы государственной власти
могут привлекать данные институты к подготовке проектов решений в предметной области государственной политики, проведению экспертиз, а также на
основе конкурсов к выполнению проектов, финансируемых за счет средств
бюджета. Между тем значение различных институтов гражданского общества
возрастает на стадиях реализации государственной политики и ее оценки. В
частности, они могут выступать получателями бюджетных средств по целевым
программам, а также осуществлять общественный контроль за их реализацией.
Что касается третьего, технологического измерения государственной политики,
то, как представляется, оно связано в первую очередь с комплексом методов
взаимодействия общества и государства на всех этапах осуществления государственной политики (подробнее см.: [7, 8]).
Характеризуя развитие институциональной подсистемы политической системы большинства современных стран, следует выделить ряд принципиальных
тенденций: во-первых, существенное изменение места и роли политический
партий, что определяется рядом исследователей как кризис партийного представительства; во-вторых, возникновение и активное развитие партий движенческого типа, а также множества непартийных общественно-политических организаций; активизацию транзита т.н. «демократических» политических институтов в страны, не имеющие соответствующих политических традиций. В качестве конкретного примера можно привести процессы демократического транзита в России в период с конца 80-х гг. XX в. Следует согласиться с мнением А.В.
Рыбакова, отмечающим, что институциональный дизайн новой политической
системы не был основан на либеральной социокультурной традиции, в силу чего, вопреки классической теории, первоначальная стадия транзита (либерализация и зарождение демократических институтов) предваряла распространение и
утверждение в обществе демократических ценностей и ориентиров [14]. Как результат, в ходе преобразований политической системы в России появился ряд
новых политических институтов, изначально не опиравшихся на отечественные
политические традиции и политическую культуру и, следовательно, не облада23
ющие высокой степенью легитимности. Думается, что именно этим можно объяснить сложности в развитии отечественного парламентаризма и партийной системы и, как следствие, латентный, непубличный характер процессов формирования государственной политики в современной России.
Несмотря на то, что в рамках традиционного подхода к изучению государственной политики ее субъектом выступает государство, а объектом – гражданское общество, современная конъюнктура российского общественно-политического процесса заметно корректирует эти представления, и гражданское общество также получает атрибуты субъектности.
В этой связи представляется справедливой позиция отечественных исследователей А.В. Герасимова и К.В. Жигаевой, выделявших следующие организационно-правовые формы взаимодействия гражданского общества и государства: 1) государственно-правовая регламентация функционирования субъектов
гражданского общества, закрепление их конституционно-правового статуса; 2)
участие субъектов гражданского общества, и прежде всего тех из них, которые
составляют политическую систему, в организации и деятельности органов государственной власти; 3) запрет тотального и мелочного вмешательства органов
государственной власти и их должностных лиц в законную частную и личную
жизнь человека и гражданина; 4) законодательное закрепление обязанности
государства по обеспечение экономической, политической и социальной безопасности человека, его прав и свобод [3].
Как известно, впервые стадийная концепция цикла принятия политикоуправленческих решений была предложена Г. Лассуэлом почти шестьдесят лет
тому назад. В свою очередь отечественный политолог А.Ю. Сунгуров предлагает следующую структуру цикла принятия политических решений: 1) выявление проблемы; 2) поиск решения; 3) обсуждение и лоббирование; 4) принятие
решения; 5) исполнение решения; 6) контроль, мониторинг [16].
А.Ю. Сунгуров отмечает, что на каждой из шести стадий принятия решений относительный вес того или иного актора (к каковым он относит власть,
политические партии, бизнес, СМИ, структуры гражданского общества, в т.ч.
НКО, а также научное сообщество) различен. Так, например, для СМИ максимальное участие наблюдается на третьей стадии, для НКО – на первой, в том
время как власть участвует на всех стадиях (причем на четвертой – монопольно). Что касается научного (экспертного) сообщества, то его участие достигает
максимума на второй стадии, хотя при выявлении проблемы и на стадии оценки
и контроля роль экспертного сообщества также должна быть велика. Роль политических партий может быть значительной на первой стадии, когда та или
иная актуальная проблема может стать лозунгом предвыборной борьбы, а также на шестой стадии, когда выявленные проблемы реализации какого-либо решения также могут использоваться в предвыборной гонке. Если же речь идет о
партиях парламентских, то они могут принимать определенное участие и на
четвертой стадии, особенно в случае принятия коллективных решений парламента или правительства [16].
В качестве примера еще одной периодизации политики можно привести
процесс формирования и реализации инновационной политики муниципально24
го образования, в рамках которого можно выделить несколько ключевых этапов: 1) анализ инновационного потенциала муниципального образования и его
возможностей участия в тех или иных инновационных проектах, этапах инновационной деятельности; 2) формирование муниципальных интересов и целей,
ожиданий от инновационного бизнеса; 3) определение основных направлений,
форм и объемов муниципальной поддержки на каждом этапе инновационной
деятельности, а также направлений развития и формирования инновационной
инфраструктуры; 4) согласование с заинтересованными субъектами программ
поддержки инновационной деятельности в муниципальном образовании и развития инновационной инфраструктуры; 5) принятие решений, утверждение
программ; 6) реализация принятых программ; 7) контроль и оценка реализации
программ [1].
Что касается технологического компонента государственной политики, то
в соответствии с приведенными стадиями ее жизненного цикла представляется
необходимым выделить технологии: во-первых, формирования государственной политики (подробнее см.: [8]); во-вторых, ее реализации; в-третьих, оценки
ее эффективности и результативности (подробнее см.: [9]). При этом под политическими технологиями следует понимать совокупность процедур, методов,
приемов, решений, пригодных для тиражирования, ведущих к поставленной
политической цели [18].
Конкретизируя первую из вышеозначенных позиций, можно отметить три
группы факторов, оказывающих сильное влияние на выбор приоритетов в государственной политике. Во-первых, это конечные результаты, которые могут
быть получены при решении проблемы, а также перспективы и тенденции развития ситуации в данной сфере; во-вторых, это наличие необходимых ресурсов
и возможность их экономии при решении проблемы. В-третьих, быстрая
трансформация позиций, ведущих акторов на мировой арене или изменение роли участников принятия государственных решений внутри страны, особенно
после выборов нового парламента или президента.
Существуют разнообразные инструменты выбора приоритетов политики
(см. напр.: [15]). Иногда приоритеты определяются с использованием метода
аналогий, на основе сравнения с другими примерами из различных областей
или тождественных ситуаций. Другим важным инструментом является разработка сценариев, когда прогнозируют возможные действия и результаты при
различном наборе приоритетов. Часто используют метод анализа предпочтений, когда эксперты или участники фокус-группы высказывают свое мнение о
критериях и их использовании при выявлении приоритетов, на основе которых
устанавливают их вес и значимость (коэффициент актуальности), что позволяет
суммировать показатели по всем вариантам и выбрать наиболее оптимальные
приоритеты [12].
Как известно, в мировой практике выделяются две типичные для современных демократий модели интеграции интересов гражданских групп в политический процесс. Одна модель – экспертно-бюрократическая: в самом государственном аппарате действуют структуры, занимающиеся анализом гражданских интересов и транслирующие их в процесс выработки и реализации пуб25
личной политики. Вторая модель – демократического участия: гражданские организации сами агрегируют свои предложения и оценки, оказывая давление
извне на формирование государственной политики. Первая дает возможность
прямого выхода требований общественных групп на государственные механизмы принятия решений, но это чревато бюрократическим выхолащиванием и
микшированием остроты требований. Вторая модель сильна самостоятельным
участием гражданских объединений в политическом процессе, но страдает от
отсутствия стабильности и ресурсов. Высказывается мысль о том, что «каждая
из моделей мола бы выиграть от более интегрированного «экспертно-консультативного» подхода [19].
К похожим выводам пришел в своих работах В.В. Лобанов [12], выделив, в
процессе формирования государственной политики несколько основных подходов к определению ее приоритетов: политический, субъективный и объективный.
В рамках политического подхода выбор приоритетов происходит в процессе политической борьбы между различными партиями и группами и зависит
от таких факторов, как расстановка политических сил, характер отношений
между ними и обществом, глубина конфликта интересов, особенности политической культуры и т.д. Большое значение имеет характер «политического цикла» в данный период времени. Так, начало избирательной кампании может существенно повлиять на приоритеты политики. Основной «площадкой» согласования интересов различных политических сил в данном случае естественным
образом становится парламент. Это серьезным образом влияет на межпартийные отношения, а также на характер лоббистской деятельности. Как правило,
такой подход применим в тех государствах, где парламент непосредственно
участвует в формировании правительства, а министры несут перед ним политическую ответственность. Иными словами, государственная политика складывается как суммарный результат сложной политической «игры» разнообразных
субъектов, действующих на общественной арене.
При использовании субъективного подхода приоритеты выбираются в результате субъективного решения, в основе которого лежит разрыв между определенными стандартами, нормами, с одной стороны, и восприятием существующей ситуации со стороны определенных социальных слоев, групп и индивидов, которые должны и имеют возможность сделать выбор, – с другой. Речь
идет о потребностях, социальных ожиданиях и возможностях их удовлетворения. Чем больше разрыв между этими факторами, тем острее проблема и больше предпосылок сделать ее приоритетной для государства. Здесь на первый
план выходят такие показатели, как: а) восприятие и осознание ситуации со
стороны граждан и государства; б) содержание стандартов или норм, имеющих
отношение к данным проблемам. При использовании данного подхода система
представительства интересов различных политических сил также играет важную роль, поскольку успешность политической деятельности той или иной
партии или конкретного политического лидера определяется способностью довести ожидания своей группы интересов до сведения лица, принимающего решения. Однако в отличие от политического подхода, центр принятия решений
26
смещается в сторону исполнительной власти – правительства и профильного
министерства.
С целью избавления от субъективизма, особенно при решении конкретных
общественных вопросов, в рамках объективного подхода применяют набор количественных показателей, позволяющих более объективно подойти к этому
вопросу и оценить важность проблем [12]. Объективный подход в первую очередь применим в том случае, когда в обществе слабо развита система институтов политического опосредования, вследствие чего исполнительная власть вынуждена определять приоритеты государственной политики самостоятельно.
Однако практика последних лет показывает, что без должного взаимодействия
с институтами гражданского общества, а также экспертным сообществом применение данного подхода может обернуться весьма неблагоприятными последствиями для общества.
Безусловно данные институты и структуры могут сыграть существенную
роль на этапе формулирования проблемы (т.е. создания политической повестки
дня) в области публичной политики. Это связано с тем, что именно они способны артикулировать интересы различных социальных групп. Кроме того, видение проблемы может также исходить от неравнодушных представителей определенных сегментов государственной службы или государственных агентств, а
также из академической среды [16].
Представляется не требующим доказательств тот факт, что в условиях демократической политической системы властные субъекты не действуют в безвоздушном пространстве, а взаимодействуют с другими акторами публичной
политики – представителями НКО, СМИ, экспертного сообщества. Это лишний
раз подчеркивает необходимость наличия широкого спектра технологий такого
взаимодействия, в котором заинтересованы не только указанные выше структуры гражданского общества, но и само государство [11].
Проблему отсутствия эффективных форм взаимодействия общественности
и власти подчеркивает и профессор Московского гуманитарного университета
В.И. Буренко, видя в этом главную сложность функционирования структур
гражданского общества (в первую очередь – групп интересов) и их участия в
процессе формирования и реализации государственной политики [2].
Литература
1. Блинова Н.В., Знаменский Д.Ю. К вопросу о муниципальном ракурсе инновационной
политики // Теория и практика общественного развития. 2015. № 20.
2. Буренко В.И. Группы интересов и лоббизм в политическом процессе (зарубежный
опыт и российская практика) // Вестник университета. М.: ГУУ, 2012. № 4.
3. Герасимов А.В., Жигаева К.В. Государственная власть и гражданское общество в современной России: проблемы взаимодействия: монография. М.: МГГЭУ, 2014.
4. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: учебник
для студентов вузов. М.: Изд-во Проспект, 2009.
5. Государственная политика: механизмы и технологии формирования: сборник материалов круглого стола, проведенного в Государственной Думе ФС РФ / под ред. В.В. Бурматова, С.А. Мелькова, А.П. Кошкина, К.А. Картушевой. М.: Белый ветер, 2014.
27
6. Знаменский Д.Ю. Ответственность и эффективность деятельности органов и должностных лиц публичной власти в Российской федерации (политологический аспект): дис. …
канд. полит. наук. М., 2007.
7. Знаменский Д.Ю. Государственная научно-техническая политика России (проблемы
публичности) // Власть. 2009. № 10. С. 38–40.
8. Знаменский Д.Ю. Проблемы взаимодействия власти и общества в процессе формирования и реализации государственной научно-технической политики // Вестник университета (Государственный университет управления). 2012. № 17. С. 41–47.
9. Знаменский Д.Ю. Системно-динамический подход к исследованию процесса формирования и реализации государственной политики // Теория и практика общественного развития. 2014. № 12. С. 104–106.
10. Иванов В.К. Особенности политического PR-менеджмента в России // Вестник
Московского государственного областного гуманитарного института. Серия: История, философия, политология, право. 2015. Т. 2. № 2-2 (2015). С. 6.
11. Карелина И.М., Туровский А.А. Модернизация властных и общественных отношений в России // Вестник университета (Государственный университет управления). 2010.
№ 22. С. 45–51.
12. Лобанов В.В. Основы государственной политики: учебное пособие. М.: ГУУ, 2011.
13. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления:
учебник. М.: Изд-во Юрайт, 2015.
14. Рыбаков А.В. Политические институты: проблемы теории и актуальная практика.
М.: МАИ-принт., 2009.
15. Сибиряев А.С. Государственная инновационная политика в Российской Федерации:
подходы к разработке и реализации: дис. … канд. полит. наук / Государственный университет управления. М., 2011. С. 61.
16. Сунгуров А.Ю. Как возникают политические инновации: «фабрики мысли» и другие институты-медиаторы. М.: Политическая энциклопедия, 2015.
17. Туровский А.А. Стратегическое управление в системе общенаучного понятия: междисциплинарный подход // Вестник университета (Государственный университет управления). 2013. № 20. С. 62–65.
18. Харичкин И.К. О понятии «политические технологии» // Вестник университета
(Государственный университет управления). 2013. № 8. С. 75–78.
19. Donaghy T. Applications of Mainstreaming in Australia and Northern Ireland // International Political Science Review. Vol. 25. № 4. October 2004. Р. 408.
20. Forrestter J.W. «Industrial dynamics», Productivity Press, Portland Oregon, 1961.
28
АКТУАЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТРЕНДОВ:
ОПЫТ КОНФУЦИАНСКИХ СТРАН И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ1
Ю.В. Ирхин
д-р филос. наук, профессор
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (Москва),
профессор Российского государственного
гуманитарного университета (Москва)
Продумывая далекое, не столкнешься с
неприятностями в ближайшем будущем.
Конфуций
В современных условиях актуализируется важность разработки проектных, стратегических управленческих трендов. Комплексные долговременные
тренды общественного развития и управления на конец XX – начало XXI вв.
были впервые широко представлены в трудах Дж. Нейсбита «Мегатенденции:
десять новых направлений, преобразующих нашу жизнь» и «Мегатенденции.
Год 2000» 8. После них, данное понятие стало широко использоваться в научной литературе 6. Разработка стратегических управленческих трендов включает подготовку программ долгосрочного развития (например, 2020, 2030 и даже 2050 гг.) и учет циклов общественно–экономического генезиса.
Весьма плодотворной явилась разработка и реализация перспективных
управленческих факторов развития стран конфуцианской цивилизации. По
мнению Ли Куан Ю, к ним относятся: 1) использование эффективной конфуцианской этика труда и всестороннее развитие предпринимательской инициативы,
2) поддержка экспортной стратегии; 3) лояльность большинства населения к
органам власти; 4) умение элит и предпринимателей ставить и успешно решать
долговременные задачи; 5) создавать эффективное лидерство и управление в
эпоху противоречивой глобализации, углубляющейся мировой конкуренции за
рынки сбыта и сферы влияния, становления информационного общества 5.
Особое значение имеет рациональное использование руководством этих
стран системы неоконфуцианских принципов и максим для интеграции общества, актуализации технологических инноваций, совершенствования управления государством. Популяризируется понятие «азиатских ценностей», включающее: иерархический коллективизм; патерналистскую меритократию (благотворное правление моральной и инновационной элиты); стремление к межличностному взаимопониманию, взаимодействию и приспособлению; принципиальную роль коллективных интересов и их гармонию; приоритет семьи 9.
Неоконфуцианские политические структуры и институты «управляемой» демократии успешно формируют необходимые условия и предпосылки для быстрого социально–экономического развития этих стран 11.
© Ирхин Ю.В., 2016
29
Стратегические тренды развития Китайской народной республики были
разработанные в трудах Дэн Сяопина, Си Цзиньпина, Цзян Цземина и др.
Д. Нейсбит в труде «Китайские мегатренды: 8 столпов нового общества», попытался обобщить содержание ряда тенденций и управленческих принципов
неоконфуцианского развития КНР 10. Ниже приводится их анализ.
Ведущий тренд – «Освобождение разума» – подразумевает переосмысление идеологии и корректировку управленческих ценностей: на ведущее место
выдвинута конкурентноспособная и эффективная стратегия экономического
роста. Критериями истинности идеологических концептов выдвинуты практика
и факты: «не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она умела ловить мышей» (Дэн Сяопин). После «культурной революции» 70–х гг. XX в. стране были
разрешены партийные и общественные дискуссии о ее развитии. КНР стал лидером по числу публикаций – 3 млрд. журналов и 6 млрд. экз. книг в год! Приветствуется высшее образование за рубежом (особенно, второе – для менеджеров, после первого в КНР).
Принцип «освобождения разума» предполагает обязательный учет:
1) Конфуцианских традиций; 2) Использование опыта Запада без ломки политической системы Китайской Народной республики, в основе которой лежит
руководящая роль КПК; 3) Рассмотрение КНР как мегакомпании, которой следует управлять именно как корпорацией. Китайцы обретают уверенность в семье, группе, партии, коллективе, которые их объединяют. Конфуцианство подразумевает лояльность к стране и правительству, уважение и повиновение учителям и начальникам.
КНР руководствуется стратегической программой развития до 2020 г., которая выстроена на основе двух концепций: «научного развития» и «социальной гармонии». Согласно первой, экономика КНР должна отойти от сложившейся в 90-е годы XX в. модели роста за счет экспорта дешевых товаров и
сконцентрироваться на разработке собственных передовых технологий. Другим
источником роста должно стать увеличение внутреннего потребления. Важными задачами объявлено укрепление рынка, реформа госпредприятий и постепенный демонтаж государственных монополий. К 2020 г. Китай должен увеличить ВВП в четыре раза по сравнению с 2000 г.
Тренд «Баланс векторов: «сверху вниз» и «снизу-вверх» – посвящен анализу управления. «Сверху вниз» – это традиционная руководящая роль компартии
Китая, но в рыночных условиях. Отсюда: смешанные формы собственности,
особые промышленные зоны с западным капиталом, 3 крупнейших из 5 частных банков в мире – КНР. Земля передана в рыночную аренду на 90 лет.
Каждые 10 лет меняется 66–68-летнее руководство Компартии на 55-летних, прошедших школу руководства в особых зонах (Дэн Сяопин – Цзян
Цзземинь – Ху Дзинтао – Си Цзиньпин). По сути – это вертикальная конфуцианская демократия и контекстное лидерство (формирование среды, структуры,
ценностей). Сегодня у власти в КНР находится «пятое поколение руководителей» (начиная от Мао Цзедуна).
«Снизу-вверх» – концепция «трех представительств КПК» (70 млн. членов): передовых производительных сил (бизнес), передовой культуры, а также
30
фундаментальных интересов подавляющегося большинства народа. В КНР
функционируют кроме КНК ещё 8 партий (Демократическая лига, Революционный комитет Гоминьдана, Ассоциация демократического национального развития и др.). Их члены назначаются после консультаций на различные управленческие должности, включая Госсовет, от них избираются и депутаты. Распространены опросы общественного мнения, создание ассоциаций, контрольных избираемых населением групп на местах, индекс отбивных у чиновников
(количество печатей), выступления (прогулки) с различными требованиями,
однако в рамках закона.
Тренд «Высаживание деревьев: «пусть растут леса» – посвящен гибкой
управленческой стратегии. Так, правительство определяет политику, а граждане
формируют структуры, «окультуривают лес: подстригая высокие и давая простор маленьким деревьям», создают новые экономические институты, децентрализуют управление. Государство рационально вмешивается в экономику и поддерживает бизнес. Сформированы гибкие структуры: разрешена аренда и субаренда земли, созданы более 15 млн. частных кампаний, совместные предприятия с западными фирмами, особенно, автомобильными и в области электроники.
Мировую известность получили особые экономические зоны: Тяньцзинь – крупнейший порт Сев. Китая, Шеньчжень, Шанхай (здесь построили современные
заводы Тойота, Самсунг, Моторола). 10 % бюджета КНР идет на науку!
«Вброд через реку, нащупывая камни» – это разрешенный метод проб и
ошибок, отказа от мелочной опеки, оценки по конечному результату. КПК рекомендует на высокие должности незаурядных работников, даже если они не
являются членами КПК. Более 1 млн. работников КНР работают по контракту,
в стране 120 тыс. независимых юристов. Разрешены трудовые и имущественные споры.
Поддерживается деятельность особых экономических зон. Так, Шеньчжень (бывший рыболовецкий регион возле Гонконга) за 30 лет превратился в
современный мегаполис: «пусть одни города разбогатеют раньше» (Дэн
Сяопин) 1. Актуализируется создание на базе старых заводов современных
государственных предприятий с выходом их продукции на экспорт (Так, Китайская «Хайре групп» довела объем продаж современных электроприборов до
2 млрд. долл. в год).
Тренд «Художественная и интеллектуальная подпитка» – связан с максимой Дэн Сяопина о том, что КНР должен «строить две цивилизации: материальную и духовную». По всей стране развернуто строительство многофункциональных культурных центров (только в Шанхае их 109). За пределами КНР
функционирует 256 (!) институтов Конфуция – проводников его идей, китайской политики. Доходы китайской киноиндустрии – более 1 млрд. долл. Книга
М. Митчелл «Унесенные ветром”, после опросов, была напечатана тиражом не
100 тыс., а 600 тыс. экземпляров. Когда в 2012 г., нобелевскую премию по литературе впервые получил китайский писатель Мо Янь, то, все тиражи его книг
(«Страна вина», «Красный гаолян») были раскуплены за несколько часов. Мировым признанием пользуется китайский дизайн (500 дизайнерских колледжей). Китайские архитекторы побеждают в мировых проектах (Ма Яньсун
31
«Пять Башен Абсолют в Канаде»). КНР является родиной трех из десяти самых
высоких зданий в мире (высота Шанхайского всемирного финансового центра
составляет 492 метра; он признан одним из самых оригинальных и красивых
сооружений мира). Получили всемирную известность: Национальный балет в
Пекине, Шанхайский балет, национальные оперные фестивали. В КНР работают более 1 тыс. художников. Сформировался китайский андеграунд – от социалистического реализма к конфуцианско–рыночным реалиям. XXIX летние
Олимпийские Игры в Пекине (2008 г.), по качеству проведения были признаны
лучшими из всех проводившихся олимпиад. На них китайские спортсмены
одержали общекомандную победу (100 медалей), содействовали популяризации
спортивных достижений.
Тренд «Присоединение к миру или глобализация на китайских условиях» –
раскрывает развитие КНР как мировой мастерской с конфуцианской спецификой. В 2001 г. КНР вступила в ВТО, после чего ее экспорт стал расти на 20-30%
ежегодно; оборот внешней торговли составляет более 2,6 трлн. долл. с большим
положительным сальдо. Большая часть экономики Китая завязана на международные торговые площадки. В 2014 г. в России открылся филиал Сельхозбанка
КНР – 10–й самый крупный банк в мире, с объемом финансовых средств в
2 трлн. долл. Размещение акций (IPO) «Алибабы» (китайской ТНК, занимающейся интернет–торговлей) в США вывело ее на уровень GOOGLE – 250 млрд.
долл. Объем торговли КНР с ЕС и США составляет по 500 млрд. долл. Ученые
стали использовать термин «Химерика» (Сhina+Amerika), для характеристики
их возможного взаимодействия в финансово-экономической сфере. Децентрализация КНР дает возможность выхода на мировой рынок регионам и т.д. КНР
открыт для иностранного инвестирования в фондовые рынки (до 1 млрд. д.).
Более 600 млн. пользователей Интернета в КНР используют его для торговых,
научных и иных отношений с миром. Новейший тренд – возникновение интермедиа и транснациональных медиа; из 10 тыс. новостных ресурсов 2 тыс. существуют онлайн. КНР – член БРИКС. Возрастает его роль в МВФ и ВБ. КНР
держит ценные бумаги США на сумму 1,2 трлн. долл.
Китайская национальная платежная система China UnionPay охватывает
141 страну мира и 1 млн. банкоматов. К 2015 г. было эмитировано более 4
млрд. карточек UnionPay; по объему транзакций она обогнала платежную систему Visa. С 2014 г. российские банки (Альфабанк, Гапромбанк, и др.) обращаются именно к China UnionPay, имея в виду еще и то, что на нее не распространяются санкции Запада. Ими планируется к 2017 г. эмитировать в России
до 2 млн. карточек.
Более 1 млн. зарубежных студентов обучается в 544 вузах КНР, из США – 10
тыс. В США обучается 80 тыс. китайских студентов. Менеджеры КНР обычно получают второе образование в западных вузах. Символом открытости КНР к миру
выступает крупнейший в мире Международный пекинский аэропорт (построен за
4 года в 2008 г.). Китайские авиалинии считаются самыми безопасными.
Тренд «Конфуцианская свобода и справедливость» – выражает особенности этих понятий в КНР. Ряд исследователей (Ф. Фукуяма и др.) полагают, что
конфуцианство в принципе не противоречит демократическим преобразовани32
ям в целом ряде сфер. Среди них: традиционная конфуцианская система конкурсных государственных экзаменов для отбора претендентов на должности в
госаппарате; введение особой, контрольной власти в системе разделения властей; внимание к образованию и просвещению (высокий образовательный уровень является важной основой демократического развития); стремление к постоянному самосовершенствованию и обучению; роль большой семьи как своеобразного института гражданского общества; значение базовых семейных ценностей семьи и их распространение на все общество и управление; определенная толерантность конфуцианства и его открытость к новациям и др.
ВВП на душу населения КНР составляет 3,5 тыс. долл. (в Индии – 1,5 тыс.
долл.). Система пенсионных выплат охватывает 250 млн. человек, пособия по
безработице получают 150 млн. человек. В сельской местности, где таких систем нет – выделяются регулярные субсидии от местных органов власти. Внедряется система прожиточного минимума и оценки доходов человека ниже локального стандарта. В КНР есть 700 млн. личных счетов социального страхования. На здравоохранение тратится 3 % ВВП. 3 тыс. больниц используют традиционную китайскую медицину (500 тыс. врачей). За последние десятилетия 250
млн. человек переехали в города из сел, как работники–мигранты. Национальный вступительный экзамен дает возможность любому китайцу, сдав его, попасть в вуз. Развивается дистантное образование. Центральная школа сельскохозяйственного теле- и радиовещания превратилась в самый крупный в мире
институт дистантного образования (штат 50 тыс. чел., 3 тыс. филиалов.). Средний класс в КНР – около 400 млн. чел. С увеличением доходов – начали проявляться черты общества потребления.
Тренд «От олимпийского золота к нобелевским медалям» –актуализирует
программы НТР. Существенное значение придается созданию технопарков,
например, Чжанцзян (объединяет 309 кампаний в сфере технологий, ежегодно
регистрирует 3 тыс. международных патентов. То же относится и к Циндао,
каждый день (!) регистрируется до 10 патентов (9–технологических). 70% достижений КНР в высоких технологиях не уступают западным. Китайские университеты и бизнес школы: Тяньзцинская, при Цинхуа, Шанхайская китайско –
европейская и др. вышли на мировой уровень. Среди лучших ста мировых университетов: восемь – китайские. В 2014 г. Китай занял первое место в мире (!)
по количеству зарегистрированных научных патентов, перегнав США. Повышение квалификации китайских ученых и управленцев обычно ведется за рубежом в ведущих мировых центрах; с 1996 г. управленческий персонал науки и
наукоёмких производств набирается только по конкурсу. Китайские айфоны и
компьютеры стали конкурентноспособными с американскими; тем более, что
многие части последних производятся именно в КНР.
В 2008 г. первый космонавт КНР (тайкунавт) Чжай Чжиган осуществил
полет на корабле Шеньчжоу – 7 с выходом в космическое пространство с китайским флагом в руке. В 2012 г. первая китайская женщина–космонавт Лю Ян
и ее коллеги на корабле Шэньчжоу – 9 совершили двухнедельный полет в космос и произвели ручную стыковку двух орбитальных объектов. В 2013 г. китайский луноход «Жемчужный заяц» прилунился и приступил к исследовани33
ям. В 2026 г. планируется высадка космонавтов КНР на Луну, в 2030 г. – открытие ее лунной обитаемой базы 3.
В КНР созданы конкурентные региональные самолеты; планируются создание самолета равного Боингу, лучшего в мире электромобиля. В 2015 г. по
данным МВФ экономика КНР стала крупнейшей в мире (по паритету покупательной способности = 17,7 трлн. долл.) и второй – по статистике ВБ. С 2014 г.
КНР опережает США не только по темпам экономического развития (6 % и
2 %), но и по объему прироста ВВП.
Руководство КНР выдвинуло в 2013 г. стратегическую ценностную идею
«Китайской мечты». Идея обоснована в сборнике речей Си Цзиньпина «Управление Китаем», изданного в КНР тиражом более 3 млн. экз. и переведенного на
8 иностранных языков 7. Она включает в себя три цели: превращение Китая в
богатое и сильное государство, энергичное развитие китайской нации и создание счастливой жизни для народа. Для этого страна должна: двигаться вперед
по собственному «китайскому пути», найденному в результате длительных и
трудных поисков; необходимо «развивать китайский дух», опирающийся на
патриотизм, реформы и инновации; следует «сплотить силы Китая».
Принята стратегическая программа превращения Китая в постиндустриальную державу, охватывающая период в 70 лет! (1980–2050 гг.) Она включает
три этапа. В период до 2010 г. в КНР было намечено создать «целостную систему социалистической рыночной экономики «и поднять жизненный уровень
всего населения «до уровня малого благосостояния». Задачи второго (современного) этапа (2011–2030 гг.) состоят в осуществлении развернутой научно–
технической революции и создания основ информационного общества. Третий
этап (2031–2050 гг.) должен поднять Китай на постиндустриальный уровень и к
середине XXI в. «засыпать падь», отделяющую его от высокоразвитых стран в
области экономики и техники.
В 2013 г. КНР провозгласила концепцию «Нового Шелкового пути»,
включающей экономический и морской пояса. Экономический пояс предполагает строительство железных и иных дорог, а также систем газо– и нефте–
снабжения, охватывающих Северо-Западные провинции Китая, Центральную
Азию (Казахстан, Киргизию и др.) и Россию до Западной Европы. В перспективе по железной дороге из Пекина до Москвы можно будет доехать за 48 часов,
вместо нынешних семи суток. КНР готов выделить 10 млрд. долл. для участия в
строительстве железной дороги Москва–Казань, как участка магистрали Пекин–Минск. Между Россией и КНР заключен долговременный договор на общую сумму в 400 млрд. долл. о тридцатилетней поставке газа по трубопроводу
«Сила Сибири» в Китай.
Управление по трендам в конфуцианских странах демонстрирует ряд общих подходов. Среди них: эффективная вертикаль власти (долговременно доминирующая партия в формально многопартийной политической системе);
управляемая неоконфуцианская демократия; сплоченная и инновационная правящая элита; конкурентноспособная экспортно-ориентированная стратегия
экономического развития; создание и функционирование мощных макрорегиональных (Шанхайская) и мировых валютных бирж (4-я по объему торгов в
Сингапуре); творческое сочетание конфуцианских традиций и ценностей с со34
временными потребностями общества; умелое использование принципов нового государственного менеджмента в конфуцианской среде; последовательная
антикоррупционная политика; самый большой запас валюты в мире (2 трлн.
долл.) и заниженный курс юаня; умелое разрешение или уклонение от крупных
вооруженных конфликтов в международных отношениях и др 1; 4.
В 2014 г. юань по его востребованности и роли в мировом торговом обороте
занял 4 место мире (после долл. США, евро и йены), опередив австралийский и
канадский долл. В 2016 г. юань стал мировой резервной валютой; планируется достижение им полной конвертация. КНР увеличила свой валютный вклад во Всемирном банке, играет важную роль в Банке развития БРИКС, создала в 2014 г. (в
Пекине) мощный Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций (Asian
Infrastructure Investment Bank), с уставным капиталом 200 млрд. долл. Он рассматривается как соперник МВФ и ВБ. Его членами стало большинство государств
Азии и Европы, включая Россию (США выступили против создания АБИИ).
Опыт управленческих трендов КНР может быть использован в России.
1. Россию целесообразно рассматривать как государство–цивилизацию с
системой базовых ценностей. Особое значение приобретает эффективная вертикаль власти: государство – бизнес – гражданское общество с постоянной обратной связью в парадигме «электронного правительства».
2. Желателен переход к системной управленческой модели, объединяющей
концепции и стратегии эффективного государственного управления; публичного и антикризисного менеджмента.
3. Необходима проектная государственная поддержка и развитие национального рынка товаропроизводителей (особенно мелких и средних), создание
государством приоритетных условий и программ для разработки и внедрения
инновационных технологий, по аналогии с антикризисной программой поддержки регионов, автопрома, грантов на НТР и др. Целесообразно снижение
учетной ставки ЦБ с 11 % до 8 %. Актуально формирование Национальной системы платежных карт. Желательны соглашения со многими государствами о
прямых взаиморасчетах в национальных валютах.
Литература
1. Галенович Ю.М. Наказы Цзян Цземиня. Принципы внешней и оборонной политики
современного Китая. М., 2003. 326 с..
2. Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая/ пер. с кит. М., 1988. 256 с.
3. Ирхин Ю.В. Пространственно–временной ареал конфуцианской цивилизации: где пределы
проекта? // Вестник РГГУ. Сер. Политология. 2015. № 11. С. 106–117.
4. Киссинджер Г. О Китае./ пер. с англ. М., 2015. 625 с.
5. Ли Куан Ю. Из третьего мира – в первый. М., 2013. 156 с.
6. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / под
ред. Т.А. Шаклеиной, А.А. Байкова. М.: Аспект Пресс, 2013. 274 с.
7. Hi Jinping: The Governance of China. Foreign Language press, Chinese edition. 2014.
515 p.
8. Нейсбит Д. Мегатренды. М.: АСТ, 2003. 140 с.
9. Naisbitt J. Megatrends Asia. Touchstone, 1997. 187 p.
10. Naisbitt J., Naisbitt D. Chana`s Megatrends: The Pillars of A New Society. HarperCollins
Publishers, 2012. 198 p.
11. Цзян Цземинь. Реформа. Развитие. Стабильность. М., Палея, 1996. 420 с.
35
ПОИСК ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ РАЗВИТИЯ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1
Е.П. Казбан
канд. полит. наук, доцент
Государственного университета управления (Москва)
Задачи эффективного управления общественными процессами и отношениями, в условиях глобализации, которая делает состояние современной цивилизации все более нестабильной и непредсказуемой, должны осознаваться сегодня, как одни из самых важных для любой страны. Для России эта задача актуализируется потребностями и внутреннего порядка, а именно – необходимостью преодоления последствий системного кризиса, в котором она оказалась в
результате провальных по своим последствиям радикальных реформ 90-х годов
прошлого века.
Современная Россия находится в состоянии поиска своей идентичности.
Кризис идентичности как составная часть системного кризиса общества характеризовал развитие России последние двадцать лет.
В сохранении и поддержании любой общности важную роль играет ценностно-ориентационная система. Ценности, разделяемые обществом, выступают механизмом связи всех сфер жизни общества. В обществе, в котором разрушена система ценностей, начинаются процессы дезорганизации, распада социальной жизни, люди теряют представления о смысле их собственной жизни, теряют мотивацию к созидательной деятельности, деградируют.
Как известно, понимание человеческого общества как системы, с взаимосвязанными между собой подсистемами позволяет говорить о том, что оно возникает и существует, когда складывается некоторая совокупность, некоторая
устойчивая общность людей, которые имеют жизненно необходимые потребности и удовлетворение которых возможно лишь в результате их заинтересованной взаимной деятельности. В сохранении и поддержании любой общности
важную роль играют ценностно-ориентационная система. Ценности, разделяемые обществом, выступают механизмом связи сфер материального производства и теоретической деятельности. Осознанная, целенаправленная деятельность человека достигает результата, только если человек и общество в целом
имеют представление о значимости, ценности природных и общественных процессов, явлений для дальнейшей жизни, которые становятся объектом целенаправленной деятельности.
Понятие смысла может быть определено с опорой на философское значение этой дефиниции. Так философский словарь определяет смысл как внутреннее содержание, значение чего-либо, то, что может быть понято [1]. Смысл может быть раскрыт как некая общая цель, ценность, разделяемая как отдельным
людьми, так и обществом, это то, значимое, что может объединять людей. Цен© Казбан Е.П., 2016
36
ности можно трактовать как обобщенные представления людей относительно
наиболее значимых целей и норм поведения, которые определяют приоритеты в
восприятии действительности, задают ориентации их действиям и поступкам во
всех сферах жизни. Совокупность доминирующих ценностей в концентрированном виде выражает особенности культуры и исторического опыта данного
общества [2].
Понимание, того, что идейная и духовная пустота не менее, а может и более разрушительны для общности людей, чем распад материальных основ жизни пришел не сразу. Этому помогли осознание растерянности и неверия в свои
силы, неспособность общества на созидательное, поступательное развитие,
приоритетная ориентация части общества, особенно молодежи на западные
ценности, неуважение к стране в которой живешь и нежелание определенной
части подрастающего поколения связывать свою будущность с Россией.
Эффективность управления общественными отношениями предполагает
формирование и поддержание ценностно-смысловых ориентиров развития общества.
Представляется важным выделить ценностный ориентир, как группу идей,
вокруг которых группируется общество, то центральное, что делает сообщество
единым и по поводу чего у большинства его представителей есть единодушие.
Эти приоритетные ценностные ориентиры принято называть национальной
идеей. Ее можно рассматривать как своеобразную визитную карточку государства. Государственная идея является основой восприятия страны другими государствами и сообществами и самими гражданами, на этой основе формируется
национальная идентичность. Она должна давать представление о том, на какие
ценности ориентировано общество.
В странах Западной цивилизации, несмотря на все их различия и особенности, приоритетом в ценностном плане является человек, его индивидуальность и его интересы как личности, его права и свободы, а все остальное вытекает из этого ведущего посыла. Эта установка со временем нашла институционально–процессуальную реализацию в либеральной идеологии. Данный принцип лежит в основе операционализации политического процесса и является ведущим в функционировании политического пространства западных стран. Он
провозглашается и транслируется. Следовательно, Гольфстримом, общим,
скрепом западной политической культуры (при всем своеобразии ценностей,
образцов, норм политического поведения в каждом европейском обществе), то,
что позволяет говорить о Западном обществе как о целостном и отличающимся
от других глобальных образований, являются идеи индивидуализма и свободы
человека, концептуализированные в системе либерализма.
Либерализм – индивидуалистическая система, поскольку в ней отдельный
человек, личность стоит на первом месте, а ценность общественных групп или
учреждений измеряется исключительно тем, в какой мере они защищают права
и интересы отдельного человека и способствуют осуществлению целей отдельных субъектов [3, с. 3–4].
Однако, либеральный индивидуализм не абсолютен, а относителен. Либерализм как установка и как умонастроение отнюдь не означает, что человек
37
всегда добродетелен и воля его всегда направлена на благие цели. Наоборот,
человек, будучи наделенным, более или менее самостоятельным сознанием и
относительно свободной волей, может склоняться к злу так же, как и к добру.
Поэтому либерализм одобряет учреждения или общественные формы, в которых отдельный человек подчиняется определённому порядку и дисциплине и
требует создания правового государственного порядка, противостоящего воле
(своеволию) отдельных людей, и связывающего их требованиями закона.
Специфику либерализма составляет не только «дух свободы» сам по себе,
но и разработка институционально-правовых условий его обеспечения. Комплекс этих условий образует систему конституционализма, позволяющую в
принципе решать дилемму: законы делаются самими людьми (правит народ) –
нет ничего выше закона (правит закон). Гарантия и воплощение свободы – реальный для всех, общеобязательный, незыблемый и постоянный закон.
В российском обществе личность не занимала никогда приоритетное место
в иерархии ценностей, цементирующих общество, делающих его единым. Традиционно особенностями политической культуры России называют: патерналистский характер властных отношений, выражающийся в стремлении государства опекать общество, вмешиваться в частною жизнь граждан; клиентелизм в
отношениях населения и власти; сакрализацию власти. Важное значение института государства в истории России и жизни самого общества обеспечило формирование еще одной особенности отечественной политической культуры –
этатизма. По словам Э.Баталова в России государство воспринимается, как
«становой хребет цивилизации, гарант целостности и существования общества,
устроитель всей жизни» [4].
Ценность человека, его индивидуальности при общей практике пренебрежения государства к их значимости преобразовались в сознании российского
общества в представление о значимости личности в реализации власти, что
способствовало персонификации властных функций, развитию авторитаризма.
Формирование этих тенденций происходило при общей слабости формализации институтов государства и процесса государственного управления на всех
этапах развития российского общества. Это заставляло граждан уповать при
всей значимости государства на личности, наделенные властными полномочиями и приоритетно решать свои дела во взаимодействии с конкретными людьми в системе власти.
Между тем отношения к государству российского человека всегда было
двойственным. При всей сакрализации государства, вере в него как высшую
ценность, народ не любил, боялся, ругал государство, ощущал свое бесправие
во взаимоотношении с ним, стремился избежать его воздействия, понимая под
государством высшую политическую власть, тот смысл, который был вложен в
это понятие Н. Макиавелли.
Вместе с тем признание за властью права на верховное руководство обществом сочеталось с духом вольности, свободы, яркой индивидуальности русского человека. Для духовной жизни России на протяжении всей ее истории характерны искания идеалов свободы, правды. Духовные поиски передового русского общества приводили к разным ответам на вопрос о личной независимости
38
и осознании значения внутренней свободы человека в русской исторической
традиции. Так, Н.О. Лосский, относивший к числу первейших свойств русского
народа «и любовь к свободе, и высшее выражение ее – свобода духа», считал,
что это свойство связано с характерными для русских людей «исканиями абсолютного добра» [5, c.59]. В.В. Розанов и С.Н. Булгаков понимали под свободным индивидуализмом состояние души истинно верующего православного человека. А.Ф. Лосев связывал осмысление индивидуальной воли человека через
волю общую, «когда всё отдельное, изолированное, личное, особенное утверждает себя только лишь на лоне целого… любимого, родного и родственного,
на материнском лоне своей Родины» [5, c. 261]. Такое нетрадиционное понимание индивидуализма выводится мыслителем из неразрывной связи индивида с
Отечеством, сопричастностью к ее судьбе, с жертвенностью ради неё.
Особенности развития России, причины ее отличий от пути развития Западных стран были в центре внимания многих мыслителей и историков, как
отечественных – С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Н.А. Бердяев, А. Ахиезера,
так и западных – Р. Пайпс, Э. Фромм.
Географическое расположение России между Европой и Азией оказало серьезное влияние на российское общество. Страна оказалась на месте пересечения двух социокультурных типов: европейского или личностноцентрического,
ставящего в центр внимания личность, ее свободу, естественные права, и азиатского, или социоцентрического, ориентирующегося на общество, коллектив,
государство. При этом взаимодействие этих двух социокультурных типов в
российском обществе весьма своеобразно: оно предполагает не просто переплетение, взаимообогащение содержанием обоих типов, но и непрерывную
борьбу между ними. Возникающие на этой основе дуализм, двойственность,
противоречивость и конфликтность политической культуры наиболее рельефно
находит свое отражение и по сегодняшний день в противоборстве «западников»
и «почвенников», западной модели развития и модели самобытного пути России [6] В этой связи интересно отметить, что традиционно со времен Петра I
западная ориентация характерна для политической элите общества, ее пресвященных слоев, а носителями традиционных ценностей являются приоритетно
широкие народные массы.
Н.А.Бердяев писал: «Россия – страна бесконечной свободы и духовных далей, скитальцев и искателей, страна мятежная и жуткая в своей стихийности».
И в то же время – «Россия – страна неслыханного сервилизма и жуткой покорности, страна, лишенная сознания прав личности и не защищающая достоинства личности, страна инертного консерватизма, порабощения религиозной
жизни государством…» [7, c. 283]
Специфика сегодняшнего политического процесса состоит как раз в том,
что на современном этапе в жизни нашего общества синхронизируются два
процесса, которые в истории Западной Европы были разведены.
Это процесс осознания и укоренения в ценностно-нормативном плане, а
затем реализация в политической жизни общества идеалов свободы, суверенитета личности, незыблемости и первичности прав и свобод человека – либерализация и развитие демократического процесса, спаянного с определенными
39
представлениями о социальной справедливости. Ценности либерализма и ценности демократии не соединены в единое целое и не развиваются во взаимосвязи, дополняя и обогащая, друг друга.
Кризис российского общества пробудила в нем архетип национального
менталитета: свободы как вольницы, т.е. без каких-либо социальных уз. Для
постсоветской ментальности характерна антиномичность: ей присуще стремление сохранить одновременно и свободу и несовместимые с ней формы безопасности, социальной защищенности, обеспечиваемые государством. Другим проявлением этой антиномии является то, что для значительной части россиян идеалом стало опять же абсурдное сочетание экономического диктата и политической свободы.
Данная ситуация привела к тому, что в обществе активно идет поиск духовных основ жизни. На современном этапе идет два параллельных процесса.
С одной стороны поиск и выработка новых духовно-идентификационных
основ жизни самим народом, каждой из его социальных групп и общностей, а с
другой стороны, начинает просматриваться определенная политика государства
на выработку официальной государственной системообразующей идейной основы жизни общества.
В глубинных пластах общественной жизни можно выделить две основные
тенденции поисков и формирования ориентационно-идентификационных основ. Первое направление связано с традиционно-религиозными основами, а
второе с либерально-западными ценностями.
Для первого направления характерны архетипы «державность», «соборность», «духовность», которая воплотилась в русском национальном характере,
а также коллективизм и общинность, патриотизм, ориентация на групповые
стандарты поведения. Для второго направления характерен либерализм. Как
сложное и многограннее явление.
В общественной дискуссии появляются интересные мысли о возможности
соединения традиционно-религиозных ценностей и идеалов свободы и демократии с опорой на западное общество.
Общепризнанно, что смыслы и ценности как продукты духовно-практического освоения действительности создаются, прежде всего, религией, искусством, философией, идеологией. Какую роль в процессе выработки и поддержания ценностно-смысловых ориентиров общественного развития должно играть государство? Если мы говорим о процессе управления общественными
процессами и отношениями, то, есть понимание того, что государство выступает субъектом в этом взаимодействии, пусть не единственным, но главным, а,
следовательно, ему должна принадлежать роль руководителя, организатора и
координатора всего многообразия различных форм и видов человеческой общезначимой деятельности, в том числе и в духовно-практической сфере [8].
Государство должно заниматься выявлением, определением, развитием,
поддержкой и трансляцией, тех ценностно-смысловых ориентиров, которые
позволят обществу сохранять свою идентичность, показатели стабильности
развития, интеграционные параметры. Какие сегодня ценности и смыслы могут
считаться в современной России общезначимыми, по поводу которых в обще40
стве не возникает противоречий и существует консенсус? Однозначно ответить
на этот вопрос очень сложно. Россия представляет многосоставное общество с
очень высоким уровнем дифференциации по различным показателям, как отмечал Р. Даль «с экстремальным уровнем многообразия».
Сегодня перед государством стоит очень сложная задача – дать обществу
ориентиры развития, которые смогли бы на наднациональной и надконфессиональной основе при сохранении базовых ценностных ориентиров советского
общества и с учетом новых направлений развития страны в условиях глобализации консолидировать общество и поднять его на реализацию общезначимы
задач. В перспективе решение этой непростой задачи обеспечит сохранение не
только целостности российского государства, но и сохранение российской
идентичности. Сегодня можно вспомнить слова А. Н. Толстого, которые и сейчас остаются актуальными, как и в ноябре 1941 года: «Родина – это движение
народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он
верит и создает своими руками для себя и своих поколений. Это – вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в законность, и неразрушимость своего места на земле. Когда-нибудь, наверно, национальные потоки
сольются в одно безбурное море, – в единое человечество. Но для нашего века
это – за пределами мечты. Наш век — это суровая, железная борьба за свою независимость, за свою свободу и за право строить по своим законам свое общество и свое счастье» [9].
Литература
1. Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики, 2004.
2. Электронный ресурс. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2003/02/25/
0000060311/v_lapkinx2cx20v_pantin_pro_99.doc09,09,1999 (дата обращения: 20.04.2016).
3. Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995. 165 с.
4. Баталов Э. Политическая культура России сквозь призму civic culture // Pro et Contra.
2002. № 3. 35 с.
5. Русский индивидуализм. Сборник работ русских философов ХIX–XX веков. М.,
2007. 256 с.
6. Баранов Н. А. Учебное пособие Политические отношения и политический процесс в
современной России: курс лекций лекция 18. URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=486612
&soch=1 (дата обращения: 20.04.2016).
7. Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности //
Судьба России: Сочинения. – М., 2000.
8. Шевченко В.Н. Управление общественными отношениями: учебно-методическое пособие. М.: РАГС, 2009.
9. Толстой А.Н. Родина // Толстой А. Н. Собр. соч. : в 10 т. Т. 10. М., 1961.
41
СИРИЙСКИЙ КРИЗИС: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И УЧАСТНИКИ
Н.А. Комлева
д-р полит. наук, профессор,
директор Центра геополитического анализа
Академии геополитических проблем (АГП),
вице-президент АГП (Екатеринбург)
События, которые принято называть Сирийским кризисом, т.е. жестокая
гражданская война в современной Сирии (2011 г. – по н.вр.), сопровождающаяся непрерывным внешним давлением, определена генеральным секретарем
ООН Пан Ги Муном как угроза не только региональной, но и международной
безопасности [12]. Эти события порождены различными причинами: геополитическими, социальными, религиозными, этнополитическими. Рассмотрим основные.
Причины Сирийского кризиса. Целенаправленное разрушение государственности современной Сирии находится в тренде переформатирования всего
региона Большого Ближнего Востока (ББВ)1. С чем это связано?
Первое. ББВ – это львиная доля углеводородов Евразии и Африки. Контроль их добычи и транспортировки – это гарантия исключительного влияния
на экономику стран потребления. Основные потребители углеводородов ББВ
это Евросоюз, Китай, Япония. Эти центры силы современного мира, именно в
качестве таковых, являются геополитическими соперниками США, которые на
протяжении последней четверти века позиционируют себя в качестве единственного глобального гегемона [4, с. 71, 73, 95]. Глава частной аналитической
компании Stratfor Дж. Фридман отмечает, что «в Евразии США проводят, в
сущности, одну политику – политику предотвращения установления господства
любой державы над Евразией или её частью» [16, с. 158]. Каким образом возможно надежно притормозить развитие державы, которая является геополитическим противником? Прежде всего – взяв под контроль энергию, необходимую для этого развития, в данном случае основной энергоноситель, т.е. углеводороды. Сирия – это, во–первых, значительные (вместе с разведанными) запасы
нефти и газа, а во-вторых 2 , важные транзитные трубопроводы, соединяющие
месторождения региона с потребителями в Европе. Кроме того, переформатирование ББВ, проходящее в жёсткой форме провоцирования гражданских войн
и «гуманитарных интервенций», вызвало вал беженцев – прежде всего в страны
Европы. Необходимость принять сотни тысяч беженцев с Большого Ближнего
Термин существует с 1980 г. В 2006 г. в американской политической и научной традиции
был заменён термином «Новый Ближний Восток», однако в европейской традиции преимущественно употребляется «Большой Ближний Восток», включающий страны Северной Африки, «традиционного» Ближнего Востока, Среднего Востока и Центральной Азии, а также
страны Закавказья (Южный Кавказ).
1
© Комлева Н.А., 2016
42
Востока является значительным испытанием для социальной политики, экономики, а главное – для социального мира в странах Евросоюза. Гражданская
война в Сирии добавляет свои потоки к общей реке беженцев.
Второе. К этой цели, т.е. контролю основных центров силы Евразии, добавляется одна, исключительно внутренняя, цель США – сохранение высокого
уровня потребления, или, как определяет это Зб. Бжезинский, «гедонистический релятивизм – без глубоких убеждений, без трансцедентального сознания, с
хорошей жизнью, определяемой главным образом промышленным индексом
Доу Джонса и ценой бензина [выделено мною. – Н. К.]» [5, с. 40]. В связи с этим
контроль глобальных ресурсов развития со стороны США, в том числе в регионе ББВ, становится настоятельной необходимостью.
Третье. Основные владетели углеводородов ББВ это тюрки, арабы, персы.
Указанные этносы, политически оформленные различными государствами, являются политическими и экономическими соперниками на протяжении многих
веков. К этому добавляется и религиозное различие: персы – шииты, арабы и
тюрки – сунниты. «Разделять и властвовать» на такой основе – с целью прочного контроля ресурсов ББВ – не составляет слишком большого труда. Однако
реальным препятствием такого внешнего контроля на протяжении почти полувека являлись властвующие кланы ключевых стран ББВ, прежде всего – клан
Х. Мубарака в Египте, клан М. Каддафи в Ливии, клан Асадов в Сирии, клан
С. Хусейна в Ираке. Заметим, что три последние страны, хоть и различным
способом, вплоть до последнего времени реализовали принципы «арабского
социализма», который, в частности, предполагал национализацию основных
природных богатств и банковского сектора. Изменение политической системы
и, соответственно, экономической политики указанных выше стран являлось
насущной задачей «мирового гегемона» и его геополитических союзников, действовавших прежде всего в интересах своих глобальных корпораций. Война в
Ираке (2003–2014 гг.) показала сложность, в том числе из-за репутационных
потерь, ведения боевых действий в этом регионе. Зб. Бжезинский отмечал, что,
учитывая специфику ББВ, «Соединенным Штатам пришлось бы провести всеобщую национальную мобилизацию, чтобы они могли одержать военную победу только благодаря своей военной мощи» [5, с. 133]. Применение силовых актов несистемной оппозиции, совершаемых для подрыва правящих режимов,
блокировалось введением чрезвычайного положения в ряде ключевых стран
ББВ и его сохранением на многие годы. В этих условиях в самом начале 2010-х
годов в ББВ было применено геополитическое оружие, успешно опробованное
в Югославии в 1999–2000 гг. и получившее применительно к ББВ наименование Арабской весны: серия «цветных революций», которые под предлогом
«народного гнева против коррумпированного режима» должны были снести – и
в ряде стран действительно снесли – именно те самые кланы, которые надёжно
держали в руках природные богатства и экономику своих стран, препятствуя
массированной иностранной экспансии [5, с. 65, 119, 120; 7].
Четвёртое. Для закрепления своего контроля над ББВ США как глобальная сверхдержава должны иметь в регионе прочное военное присутствие. Это
возможно лишь при условии наличия постоянной и чётко выраженной угрозы,
43
желательно общерегионального или даже глобального характера. При переформатировании ББВ и, в частности, государственности Сирии, такой угрозой
объявляется исламский экстремизм: вначале «Аль-Каида» в целом, а теперь – её
ближневосточный филиал «Исламское государство».
Участие основных региональных держав. Основные интересы владетелей углеводородов ББВ – тюрок, персов и арабов – представляют прежде всего
такие региональные державы, как Турция, Иран и Саудовская Аравия. В Сирийском кризисе их роль очень высока.
Иран как «шиитская сверхдержава» [8] заинтересован в поддержке шиитов
во всём так называемом «шиитском полумесяце», или «Большом Иране»1, куда
в качестве ключевой страны входит Сирия. Сирийское государство по преимуществу возглавляется религиозной шиитской группой алавитов2, хотя сам президент Б. Асад принял суннитскую форму исповедования ислама в стремлении
разрешить кризис в стране и смягчить таким образом политику ИГ (в религиозном плане является суннитским образованием), а также воздействовать в позитивном для Сирии ключе на позицию в Сирийском кризисе таких суннитских
стран, как Турция и Саудовская Аравия. Возглавляемая шиитами Сирия является государством-опорной базой Ирана на Ближнем Востоке. Сирия – второй после Ирана спонсор базирующейся в Ливане проиранской «Хезболлы», провозгласившей основной целью создание в Ливане теократического государства по
примеру Ирана. Сирия заинтересована в продолжении антиизраильской деятельности этой организации. Таким образом, через совместную поддержку
«Хезболлы» образовался стратегический союз Сирии и Ирана, или, как его ещё
называют, ось Дамаск – Тегеран (2005 г.) [15], обусловивший в настоящий момент поддержку Ираном Сирии в её противостоянии «Исламскому государству», признанному на международном уровне террористической организацией.
В 2011 г. эти государства заключили военный союз и обязались оказывать и военную помощь друг другу в случае нападения на одну из стран [11]. В рамках
данного оборонительного союза Иран осуществляет переброску военной техники и живой силы в Сирию, подвергшуюся агрессии террористического Исламского государства. По иранским оценкам, Дамаск является сегодня «золотым звеном цепи сопротивления Израилю», а значит, косвенно, является важным элементом противодействия планам США в регионе. В случае падения реВ настоящее время шииты составляют абсолютное большинство населения Ирана, Азербайджана и более половины населения Ирака и Бахрейна. Значительная часть жителей Ливана, Йемена, Пакистана, Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана – шииты.
Иногда совокупность этих стран называют «Большой Иран», что является больше метафорой, чем отражением степени реального влияния шиитского Ирана на политику данных государств. Шиитские общины имеются практически во всех мусульманских странах. При этом
сам по себе шиизм существует в нескольких формах.
2
Алавиты составляют от 10 до 12% населения Сирии. Учение алавитов сложное и совмещает
черты нескольких религий. Алавиты были признаны мусульманами и шиитами: в 1973 г. –
фетвой ливанского имама-двунадесятника Мусы ас-Садра, в 1982 г. – специальной фетвой
аятоллы Р.М. Хомейни. Ряд шейхов алавитских племён Ливана заявили о принадлежности
алавитского учения к шиизму в июле 1936 г. (в декабре того же года Государство Алавитов,
созданное в 1922 г., было присоединено к Сирии).
1
44
жима Б. Асада шиитский анклав Леванта, который сейчас держится на усилиях
«Хезболлы», будет отрезан от канала внешней поддержки. Кроме того, поражение Сирии усилит агрессивное давление на шиитское меньшинство в целом ряде арабских монархий [13]. «“Сирия является стратегической глубиной Ирана,
и за Дамаск мы будем сражаться так же ожесточенно, как если бы враги атаковали Тегеран”, − заявляют в Корпусе стражей исламской революции» [1, с. 63,
64].
Саудовская Аравия, как известно, это жёсткий противник Ирана, что обусловлено следующим. Иран и Саудовская Аравия проводят полярную внешнюю политику. Если Иран чётко заявляет о своей антиимпериалистической и
антиколониалистской линии внутри страны и на международной арене, то Саудовская Аравия является верным союзником США. Саудиты – в подавляющем
большинстве сунниты, иранцы – в подавляющем большинстве шииты. Органы
высшей политической власти Ирана построены по принципу теократии, органы
высшей власти Саудовской Аравии – по принципу семейственности (государством с начала образования королевства правит одна и та же разветвлённая семья). Страны являются соперниками на рынке углеводородов. Интерес саудитов в Сирийском кризисе состоит прежде всего в разрушении второго после
Ирана основного звена «шиитского полумесяца» и в ликвидации возможности
поддержки Ираном и Сирией «шиитской революции» в своей Восточной провинции, населённой преимущественно шиитами. Восточная провинция – это
основные нефтяные поля королевства. Существует мнение, что имеется вероятность создания федерации самопровозглашённых шиитских арабских республик, с огромным населением численностью не менее 50 млн. чел., на части территорий Ирака, Ливана, Кувейта, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Омана, Йемена, а
также в Восточной провинции, в Наджране и Асире в Королевстве Саудовская
Аравия. Запасы углеводородов в этой гипотетической федерации шиитских
государств, а также углеводороды Ирана составят большую часть нефтяных и
газовых богатств Персидского Залива и даже всего Ближнего Востока. Это шиитское государство, если оно когда-нибудь будет реально создано, протянется
вдоль всего западного берега Персидского залива, превратив его, если учитывать территорию шиитского Ирана, во внутреннее «шиитское море» [19]. При
этом надо учитывать, что ещё аятолла Хомейни объявил нефть основным антиимпериалистическим и антиколониальным орудием всех мусульман. Так что
переход большей части нефтяных и газовых месторождений и основных трубопроводов в руки шиитов при лидерстве Ирана означает обращение углеводородов ББВ в средство борьбы с основными державами Запада. Саудовская Аравия
вооружает «сирийскую оппозицию» через дружественные суннитские племена
в Ираке и Ливане [18] и настаивает на безоговорочном уходе президента Б.
Асада.
Турция. Турецкий интерес в Сирийском кризисе в значительной степени
определяется необходимостью решить проблему стремления турецких курдов к
независимости и образованию собственного государства. Курдские территории
– это почти все запасы углеводородов Турции, а также нитки трубопроводов с
иранским и азербайджанским газом для Турции и Европы. Турецкое правитель45
ство не раз жёстко реагировало на выступления курдов. Курды живут на территории пяти государств ББВ, и идея независимого Курдистана является их мечтой уже многие годы. Сирийские курды фактически добились независимости от
правительства Дамаска, провозгласив в 2012 г. своё государство Западный Курдистан [10]1, что явилось «демонстрацией флага» для курдской общины Турции, подогретой также фактической независимостью иракских курдов. Помимо
всего прочего, суннитскую Турцию больше устроила бы Сирия, возглавляемая
суннитами (подавляющая часть «сирийской оппозиции»), а не шиитами.
Катар. Катар является основным спонсором и защитником «Исламского
государства» как террористической структуры. Катар всемерно заинтересован в
транзите газа, добываемого как на собственной территории, так и совместно с
Ираном на месторождении Южный Парс, в Европу через транссирийские газопроводы. Однако асадовская Сирия не допускает строительства катарского газопровода по своей территории и ограничивает прохождение катарского газа
через уже имеющиеся в Сирии трубопроводные системы, исходя при этом из
интересов своего геополитического союзника, Ирана, которому конкуренция с
возрастающими объёмами катарского газа на рынках ЕС была бы невыгодна.
В Сирийском кризисе есть и ещё один участник, о котором не говорят так
громко, как о Турции, Саудовской Аравии и Иране. Это Израиль. Израиль, вопреки распространенному заблуждению относительно его бедности ресурсами,
обладает достаточно большими запасами газа. Израиль в последние десятилетия активно вкладывал средства в геологоразведку и обнаружил три месторождения, имеющие промышленные экспортные запасы газа. «Хезболла», поддерживаемая Ираном, Ливаном и Сирией, угрожает терактами на израильских месторождениях. Помимо этого, транспортировка израильского газа в Европу
требует включения Израиля в сеть трансарабских и транссирийских газопроводов, что было бы затруднительно осуществить при прежних режимах в Ираке и
Сирии без определенных уступок Израиля арабам в вопросах статуса Палестинской автономии и еврейских поселений на некогда оккупированных Израилем арабских землях. По нашему мнению, Арабская весна и конкретно Сирийский кризис дали Израилю долгожданный шанс обезопасить свои границы с
арабскими государствами, напряженные после войн 1967 и 1973 гг., смягчить
проблему Палестинской автономии и всех «политически распалённых арабских
масс» [6, с. 150]. Если режимы в приграничных государствах становятся вполне
проамериканскими и прозападными, т.е. лояльными и к Израилю, то в соседних
с Израилем странах практически некому будет на государственном уровне поддерживать ни требование «земли в обмен на мир», обращенное к Израилю, ни
арабские или проиранские экстремистские организации, деятельность которых
направлена против Израиля, ни израильских палестинцев.
При этом необходимо подчеркнуть, что сирийские курды, как и вообще курдский этнос,
разобщены, в их среде действуют политические партии и движения, придерживающиеся различной, подчас противоположной, ориентации. Однако сирийские курды в 2012 г. создали
объединение основных политических партий и организаций – Высший совет курдов Сирии,
выступающий от имени всего курдского этноса Сирии с едиными требованиями.
1
46
Россия. Россия трижды оказывала существенную помощь сирийскому государству: 1) сыграв в 2013 г. основную роль в урегулировании вопроса с сирийским химическим оружием и сняв таким образом предлог для «гуманитарной
интервенции» в Сирию по образцу югославской; 2) инициировав проведение в
Москве переговоров между представителями сирийкой оппозиции и сирийских
официальных властей в январе 2015 г. для поиска возможного компромисса, 3)
оказав авиационную поддержку сирийской армии в наступлении на позиции ИГ
осенью 2015 г., при этом РФ, в отличие от «международной коалиции» стран
Запада в Сирии, действует на законных основаниях, базой для которых служит
официальная просьба главы сирийского государства. РФ в Сирии решает следующие задачи: 1) установление мира в регионе, недопущение бойцов ИГ на
территорию России с последующим разворачиванием партизанских действий
по образцу «чеченских войн» рубежа XX-XXI вв.; 2) спасение христианства в
Сирии (в Дамаске расположены три Патриархата: Греческой Православной
Церкви, Греко-Католической Церкви и Сирийской Католической Церкви, их
главы носят исторический титул Патриархов Антиохийских и Всего Востока,
на территории Сирии находятся важные христианские святыни и монастыри, 12
из 22 религиозных общин Сирии относят себя к христианам [2]); 3) Россия в
Сирии защищает духовные основы цивилизации в целом. В Сирии Россия сделала весомую заявку на духовное лидерство в процессе создания многополярного мира, сформулировав его основные пункты в Валдайской речи В.В. Путина 22 октября 2015 г. Глобальному единоличному лидерству США приходит
конец, ясно обозначенный Россией в Сирии. «Раньше мощь Америки считалась
легитимной, потому что она так или иначе идентифицировалась с основными
интересами человечества. Сила, которую считают незаконной, по самой своей
сути слабее, потому что её применение требует более значительных ресурсов
для достижения желаемого результата…Теперь глобальное лидерство должно
сопровождаться социальной сознательностью, готовностью к компромиссам,
…культурной привлекательностью, не сводящейся к гедонистскому содержанию, и подлинным уважением к разнообразным человеческим традициям и
ценностям» [5, с. 128, с. 186]. Президент России в своей Валдайской речи 2015
г. сформулировал и пан-идею этого многополярного мира: осуществление идеалов духовности, уважения равенства народов и суверенитета их государств.
Таким образом, Сирийский кризис, являясь формой лимитрофной войны
[9], находится в общем тренде передела лимитрофов сверхдержав недавнего
прошлого (США и СССР), но уже с «возвратным движением» России в свои
прежние лимитрофы, её заявкой на статус великой державы современности и
духовного лидера формирующегося многополярного мира.
Литература
1. Алексеев В. Новая сирийская стратегия Тегерана // Современный Иран. Информационно-аналитический журнал. 2015. № 44. С. 61–65.
2. Алковерро Т. Сирийские христиане. URL: http://inosmi.ru/asia/20120322/188810287.
html/ (дата обращения: 29.02.2016).
3. «Аль-Хайят»: Саудовская Аравия предложила план урегулирования сирийского кризиса. // Агентство русской информации. URL: http://ari.ru/news/2015/08/09/al-hayyat47
saudovskaya-araviya-predlozhila-plan-uregulirovaniya-siriyskogo-krizisa
(дата
обращения:
28.02.2016).
4. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. Американское превосходство и его геостратегические императивы. М.: Междунар.отношения, 2010. 256 с.
5. Бжезинский Зб. Ещё один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. М.: Междунар.отношения, 2010. 192 с.
6. Бжезинский Зб. Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис / пер. с англ.
М. Десятовой. М.: Астрель, 2012. 285 с.
7. Бортников: ряд стран толкают мир к глобальному конфликту с помощью ИГИЛ //
Аргументы и факты. URL: http://www.aif.ru/politics/russia/bortnikov_ryad_stran_tolkayut_
mir_k_globalnomu_konfliktu_s_pomoshchyu_igil/ (дата обращения: 28.02.2016).
8. Васильев А.М. Иран как шиитская сверхдержава: реальные и мнимые вызовы // Азия
и Африка сегодня. 2012. № 8. С. 3–7.
9. Комлева Н.А. Войны сверхдержав: от «горячих» к гибридным // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Политология». 2015. № 1. URL:
http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/628/ (дата обращения: 28.02.2016).
10. Левонян А. Кто стоит за автономизацией сирийского Курдистана? // Еркрамас.
URL:
http://www.yerkramas.org/article/?id=38584/anush-levonyan-kto-stoit-za-avtonomizaciejsirijskogo-kurdistana (дата обращения: 28.02.2016).
11. Махтади А. Иран и Сирия: история, цели и будущее старых союзников // Око планеты. URL: http://oko-planet.su/politik/politiklist/114851-iran-i-siriya-istoriya-celi-i-buduscheestaryh-soyuznikov.html/ (дата обращения: 21.02.2016).
12. Пан Ги Мун: сирийский кризис угрожает региональной и международной безопасности // Актуальные комментарии. URL: http://actualcomment.ru/pan_gi_mun_siriyskiy_
krizis_ugrozhaet_regionalnoy_i_mezhdunarodnoy_bezopasnosti.html (дата обращения: 25.02.2016).
13. Панкратенко И.Н. Сирийский Сталинград Тегерана // Современный Иран. Информационно-аналитический журнал. 2013. № 23. С. 51–57.
14. Противоречия между Катаром и Саудовской Аравией // Вопросик. URL: http://
voprosik.net/protivorechiya-mezhdu-katarom-i-saudovskoj-araviej/ (дата обращения: 25.02.2016).
15. Сирия и Иран: состояние и перспективы отношений в свете глобальной политики //
Институт Ближнего Востока. URL: http://www.iimes.ru/?p=6425/ (дата обращения: 23.02.2016).
16. Фридман Дж. Следующие сто лет. Прогноз событий XXI века. М.: ЭКСМО, 2010.
336 с.
17. Харланов А.С. Методология и инструментарий геоэкономического инкорпорирования металлургической отрасли России в мировой рынок: автореф. дис … д-ра экон. наук.
СПб., 2012. С. 20.
18. Шанзер Дж. Саудовская Аравия – самый опасный игрок в сирийском кризисе. URL:
http://inozpress.kg/news/view/id/35534/ (дата обращения: 28,02.2016)
19. Шиитский полумесяц // Мировая политика и ресурсы. URL: http://www.wprr.ru/
archives/tag/jemen/ (дата обращения: 21.02.2016).
48
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ КОМПАРАТИВНО-РЕГУЛЯТИВНОГО АНАЛИЗА1
П.В. Летуновский
д-р полит. наук, профессор
Смоленского государственного университета
Государствоведение постмодернистской России, вобравшее в себя многие
научные теории, школы и направления различных эпох, к настоящему времени
приблизилось к своеобразной «развилке» (или «точке бифуркации»), предопределяющей векторность дальнейшего развития. Непростой выбор, который
предстоит сделать, обусловлен не только внешними обстоятельствами и современными проблемами финансово-экономического развития, но и глубинными
сущностными противоречиями между «меркантилистско-потребительскими
интересами» и «морально-этическими ценностями».
Внутренние архетипы отечественного культурно-правового кода связаны
со спецификой самоидентификации, самоопределения и национального строительства в нашей стране. Общеизвестно, что православие пришло на Русь из
Византии. Именно Русская Православная Церковь (РПЦ) Московского Патриархата впоследствии играла ведущую роль в формировании национального самосознания и самого процесса государственного строительства. Но в самом
начале этого пути имел место культурно-правовой и национально-государственный кризис (разрыв), связанный с отречением «от греков», что объяснялось
необходимостью самоопределения Москвы и её церковно-политического отделения от Константинополя. Данный подход нашел свое обоснование в конкретной формуле И. Грозного: «Наша вера христианская, а не греческая». В результате сложился весьма своеобразный, внутренне гетерогенно-синтетический дуалистичный архетип, впитавший два основных компонента: автохтоннонациональный и христианско-византийский.
Его «цветущая сложность» (по К. Леонтьеву), уникальность и амбивалентность позднее еще более усилились в связи с трехсотлетним золотоордынским
«наслоением» и инкорпорированием с одной стороны восточно – китайских
технологий государственного управления транзитированных на Русь чингизидами), а с другой массированной практики «западнизации / вестернизации» и
«имперского строительства», начало которой было положено Петром I.
Изначально матрица русской политико-правовой власти формируется как
бинарная, предельно полифоничная. С одной стороны, имеет место чрезвычайно высокий уровень персонифицированной сакрализации вла-стедержателя
(ибо, как подчеркивал Н. Карамзин, государство на Руси «существует Государем»); с другой, не менее высок и уровень требований, предъявляемых к самодержцу, который обязан был быть в глазах общества справедливым и закон© Летуновский П.В., 2016
49
ным. Иосиф Волоцкий прямо указывал, что неправедный царь – «не Божий слуга, но диавол». Власть обязана была быть эффективной: русский народ может
простить властителям почти все, кроме слабости и недееспособности.
И сегодня весьма актуальной представляется пророческая идея Ф.М. Достоевского: «Нации живут великим чувством и великою, всех единящую и всё
освещающею мыслью, соединением с народом, наконец, когда народ невольно
признает верхних людей с ним заодно, из чего рождается национальная сила –
вот чем живут нации, а не одной лишь биржевой спекуляцией и заботой о цене
рубля…» [1, с.31].
Наша самобытность аксиоматична и её проявление в политико-правовой
сфере выразилось в том, что русский народ «создал особую концепцию государственности, которая ставит выше всего, выше юридических отношений
начала этические» [2, с. 388]. Идеал «святой Руси» и «государства Правды»
глубоко укоренен в историческом сознании (и подсознании) нашего народа.
Как отмечал С. Франк, русское слово «правда» крайне трудно переводится
на различные иностранные языки: оно полисемантично и одновременно означает и «закон», и «истину», и «моральный долг», и «духовную веру», и «естественное право», и «справедливость». В отличие от экономико-центристского
общества, порождающего «экономического человека», «индивида-потребителя», «глобалистского компрадора», этикоцентристкая модель способна развивать национальную культурную традицию, совершенствовать человеческие отношения, сохранять высокую духовность, обращаясь к самым сокровенным
ценностным идеалам.
Православная этика соборности, являющаяся реальной альтернативой западному индивидуализму, способна создать принципиально иной тип гражданского общества – этико-центристскую модель, которая обладает более высоким
духовно-нравственным и социально-политическим потенциалом. «На это обстоятельство обращал внимание ещё В. Ключевский, который подчеркивал, что
«…чем теснее мы сближались с Западной Европой, тем труднее проявлялась у
нас народная свобода, так как западноевропейская культура обращалась не на
пользу страны, а лишь только усиливала неравенство, служила эксплуатацией,
снижалаобщественное сознание масс, усиливая их сословное озлобление, чем
подготовляли их к бунту, а не к свободе» [3, с. 58].
Автор также полагает, что и в современных условиях глупо и недальновидно подстраиваться под «западный эталон демократии» (апофеозом которого
сегодня становятся однополые браки – прим. Л. П.).
Президент России В. В. Путин еще в своем Послании Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года отмечал, что для России не может быть другого
политического выбора кроме демократии, тем не менее, российская демократия
– это не реализация стандартов, которые навязываются извне [4, с. 32].
На XIX Всемирном Русском Народном Соборе, в докладе Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла также убедительно прозвучало, что «демократия
является принципом, выработанным на Западе, в странах евро-атлантического
региона. По этой причине любой демократ в России вынужден априори обращаться с понятием демократии как с шаблоном, сравнивая российскую обще50
ственно-политическую жизнь с западным эталоном» [5]. В результате он запрограммирован на две разновидности выводов: находить сходства, либо расхождения российской действительности и демократической модели. Но это лишь
есть знакомый всем принцип прокрустова ложа. Во-первых, этот метод ведет
к интеллектуальной ограниченности и идеологической зашоренности. Во-вторых, происходит отрицание самобытности национальной жизни, поскольку
ее многие положительные черты оказываются невостребованными.
Евроатлантические государственные лидеры, а также их доморощенные
последователи-западоиды, не желают замечать очевидных фактов: именно русский народ на крутых поворотах истории спасал Европу от монгольского ига,
нашествия Наполеона, фашизма. Роль соборного единения всей земли русской
здесь огромна и неоспорима. Если западная демократия изначально стремилась
обустроить земную жизнь в основном при помощи механизмов норм и институтов (безотносительно к морали и духовному состоянию человека), то восточнохристианская модель государственности, ориентированная на синергию и
слияние земного и небесного начал, рассматривалась как основной гарант от
«зловредности» и казуистики «формально-юридического устройства».
Почти четверть века отечественные «реформаторы-вестернизаторы», тупо
копируя зарубежные штампы, и уповая лишь на «рационализм» с «прагматизмом», проводили в России свои безумные эксперименты, «рассматривая страну
как полигон для испытаний» (по выражению руководителя ФЭП Г. Павловского). При этом подрывались сами устои отечественной государственности,
ослаблялась национальная безопасность России. Ибо игнорирование духовного
начала, национального самосознания и психоменталитета народа заведомо размывают авторитет власти. Если реальные чаяния и экспектации людей не совпадают с матрицей модернизации, то любая политико-правовая система начинает давать сбои: реальная практика 90-х гг. XX века конкретно доказала, что
наиболее убедительной моделью является не «инструментально-универсалистская», а нравственно-этическая государственность, способная активировать
мощный духовный потенциал, скрытые ресурсы всего общества посредством
опоры не только на право, но на веру, совесть и мораль.
Русский православный человек ментально воспринимает жизнь как подвижничество, как долг, как восхождение. Сегодня в условиях глобализации,
антизаконного санкционного прессинга и массированной информационно –
психологической войны против нашей страны, исключительную актуальность
обретает вопрос легализации и легитимизации в полном объеме Православия н
прав «государствообразующего народа» (по определению В.В. Путина), избавления общества от грязи и мерзости неолибералисткого нигилизма. В этой связи возникает проблема конституционных изменений, ибо Основной закон страны должен соответствовать духу и мировосприятию Русской цивилизации, её
культуре, традициям, нравам, обычаям, её онтогенетической, этнолингвистической, психоисторической специфике.
Современное исследование сложившихся особенностей политикоправовой системы государства в сфере развития институтов гражданского общества, также позволяет выявить ряд проблем:
51
1) к сожалению, ещё очевидна слабая научная разработанность теории
формирования гражданского общества и как следствие отсутствие законодательного закрепления понятия «гражданское общество» в Конституции Российской Федерации;
2) отсутствие в постсоветской России научно обоснованной государственной гуманистической идеологии, что ведет к активному развитию антигуманистических общественных отношений.
В современных условиях целесообразно говорить об утверждении такой
политико-правовой системы, которая «должна соответствовать вызовам времени, охватывающим все сферы социально-экономической, общественнополитической, культурно-духовной жизни государства и общества» [6, с. 174] и
в тоже время, она должна быть адекватной ментальности российского общества, большинство которого предпочитает образ жизни, соотносимый с нравственными принципами.
Контрпродуктивно «подгонять» Россию под чужеродные импортные нормативно-правовые «штампы» и «ксерокопии», которые под маркой «демократизации» были навязаны ей «деспотичным меньшинством» (по выражению академика Г. Осипова) в смутном 1993 году. Директор Института телевидения В.Т,
Третьяков совершенно справедливо подчеркивает в своем исследовании «…я
утверждаю не то, что она плоха, а то, что она просто-напросто не подходит для
России. Согласитесь, это серьезнейший, точнее, даже фундаментальный дефект,
жить с которым просто нельзя. Относительно стабильности. То, что не соответствует стране, не может быть фактором её стабильности» [7, с. 129]. Мэтр отечественной журналистики отмечает также, что «дефекты ныне действующей Конституции 1993 года столь значительны, а ее несоответствие политическим и шире – цивилизационным реалиям исторической и современной России столь масштабны, что простыми правками данного текста или усложнением его поправками и дополнениями проблема решена быть не может».
С учетом аналитических оценок и в контексте современного политикоправого развития России представляется целесообразным принятие Закона о
Конституционном Собрании, а затем, опираясь на данный конституционный
механизм, приступить к разработке проекта новой конституции и её открытого
и широкого экспертного обсуждения. Тем более, что учеными-конституционалистами, государствоведами, общественными деятелями уже наработаны определенные текстуальные и пилотные «инварианты» (С.А. Авакьяна, О.О. Миронова, В.В Володина, Е.Б. Мизулиной, А.И. Лукьянова, А. Сулакшина, В. Зволинского, Н. Харитонова и других). Замалчивать или оттягивать решение этой
жизненно важной проблемы, пытаться «загнать её вглубь» не только алогично
но и бесперспективно. Необходимо определяться и делать выбор.
После нескольких десятилетий хаоса, смуты и беспамятства мы только
начинаем возвращаться к своим истокам. Наверное, впервые за последние годы
между обществом и властью переброшен своеобразный «Крымский мост», обозначились контуры общенационального консенсуса. Впереди – трудный и долгий путь самоосознания, самоосмысления, самоидентификации. В условиях
52
глобализации и усложнения международной обстановки важно сберечь свой
суверенитет, национальное достоинство, свободу и независимость России.
Литература
1. Достоевский Ф.М.Дневник писателя // Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.,1984. Т. 26.
2. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1982.
3. Летуновский П.В. «Смутное время» в политических координатах истории и памяти
России как фактор ослабления государства // История государства и права. 2015. № 17 .
4. Путин В.В. Послание Федеральному собранию РФ 12 декабря 2012 года. URL:
http://www.topnews.ru/news_id_54802.html (дата обращения 10.03.2016).
5. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси. Доклад на XIX Всемирном Русском Народном Соборе. URL:
http://www.vrns.ru/sobornost/133/#.VtSb3fmLTIU] (дата обращения: 10.03.2016).
6. Ветренко И.А., Воронцов С.А., Понеделков А.В. О современном состоянии
российской политической элиты и направлениях ее переформатирования // Вестник Омского
университета. 2015. № 1 (75).
7. Третьяков В.Т. Что делать? М.: Эксмо: Алгоритм, 2009.
53
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ
КАК ОСОБЫЙ ТИП ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:
СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1
А.В. Лопарев
канд. филос. наук, доцент
кафедры государственного управления и политических технологий
Государственного университета управления (Москва)
Представляется очевидным, что политическая система любого общества
находится в постоянном движении, динамично меняется [5]. Изменения затрагивают структуру политических институтов, механизм функционирования государственной власти и даже политическую культуру общества. Вся совокупность подобных изменений, динамика политической жизни общества отражается в категории «политический процесс».
Под указанной категорией принято понимать сумму политически значимых действий социальных общностей, институтов гражданского общества, различных демократических структур, всех граждан общества. В таком определении политический процесс объективен, он складывается, эволюционирует во
времени и пространстве независимо от воли и желания людей. Каждая вступающая в политическую жизнь личность застает ею в определенном состоянии и
содержании и включается в него.
Думается, что источником и первоначальным импульсом политического
процесса зачастую являются противоречия, возникающие в ходе взаимодействия политических акторов (в т.ч. элитных групп и отдельных политических
лидеров), ведущих борьбу за достижение своих политических целей. В этой
связи представляется актуальным рассмотрение такого специфического типа
политических процессов, как политический конфликт.
Анализ зафиксированных в литературе позиций позволяет выделить: вопервых, широкое и узкое понимание политического конфликта (в первом случае под ним следует понимать любой конфликт, в котором затрагивается вопрос о политической власти, а во втором – борьбу за власть, ее сохранение или
перераспределение) [10]; во-вторых, основные цели участников политического
конфликта, в число которых большинство исследователей включают влияние
на институты государственной власти, доступ к принятию общественнозначимых решений и иным ресурсам, а также признание монополии своих интересов и ценностей и их организованное оформление и в целом приоритетность своих взглядов и идей [3]. Представляет интерес системный подход к
определению политического конфликта, представленный в трудах Н.И. Глазуновой и трактующий рассматриваемую категорию как борьбу политических ак-
© Лопарев А.В., 2016
54
торов за ресурсы, статус и власть с целью нейтрализации, нанесения ущерба
или уничтожение противника [1].
Резюмируя имеющиеся точки зрения, представляется возможным охарактеризовать политический конфликт как теоретическую и практическую борьбу
субъектов политики, доверенных лиц больших социальных групп, за власть с
целью модифицировать, трансформировать или сохранить социальный порядок. Следует особо отметить необходимость наличия у акторов соответствующего политического капитала, без которого достижение поставленных целей
попросту невозможно. Указанный капитал может выражаться в политикоправовых (в т.ч. международно-правовых) основаниях, финансовых, организационных и силовых ресурсах, а также ресурсе легитимности конкретного политического актора.
Обращает на себя двойственный характер политических конфликтов. С
одной стороны, многие современные политологи рассматривают их как естественный результат развития демократического режима, политического плюрализма, возникновения новых политических институтов. С другой стороны,
налицо целый ряд деструктивных проявлений политических конфликтов, особенно при переходе их в «горячую фазу» (в качестве примеров можно привести
недавние конфликты между Южной Осетией и Грузией, на Ближнем Востоке, в
Северной Африке и на Юго-востоке Украины).
При исследовании политических конфликтов важно понимать содержание
критериев, определяющих участие либо неучастие тех или иных акторов в конфликте. В числе подобных критериев следует выделить: 1) выгоды (в т.ч. общественная полезность); 2) возможные издержки, риски и потери от участия в
конфликте; 3) чувство момента (быть политиком значит чувствовать свое время); 4) вероятность того или иного сценария развития конфликта; 5) соотношение сил в политической борьбе; 6) возможность образования коалиции, объединения с тем или иным актором.
Характеризуя специфику протекания политических конфликтов в России,
следует обратить внимание на некоторые особенности русской политической
истории и национальной культуры. Под их влиянием сформировался ряд содержательных черт конфликтности, восприятия и поведения в конфликтной ситуации, присущих в том числе и современному российскому обществу. В числе
подобных черт можно выделить следующие три.
Во-первых, долготерпение, стремление как можно дольше не вступать в
открытое столкновение. Действительно, россиянин может бесконечно долго
терпеть нужду, лишения, притеснения, даже прямое насилие, хорошо осознавая
их пагубное воздействие, при этом не считая необходимым до поры до времени
вступить с противоположной стороной в открытое противоборство. Даже тогда,
когда притеснения становились невыносимыми, у россиянина оставалась возможность собрать свои пожитки и пуститься в бега, надеясь в необжитых районах страны найти спасение от невзгод и насилия. Лишь загнанный окончательно в угол, он начинал ожесточенно сопротивляться, обнаруживая в себе силы,
способные все смести на своем пути [2; 9].
55
Во-вторых, это крайние формы поведения в конфликте, исходящие из расчета, во что бы то ни стало одержать верх, добиться победы над противником.
Вяло текущий конфликт, позволяющий сторонам длительное время сохранять
независимость, свободу выражения и отстаивания своих позиций – большая
редкость. Гораздо чаще ситуация выглядит как долготерпение одной из сторон,
нежелание вступать в конфликт, переходящее затем в бунт, взрыв, ярко выраженное сопротивление давлению противоположной стороны.
В-третьих, ментальное неприятие конфликта, подсознательное отношение
к нему как к тяжелейшему бремени. Атмосфера конфликта непривычна и нежелательна для русской души. В отличие от Европы и других стран, русский характер еще живет грезами братского единства, доверчивости, всеобщей любви,
которые и по сей день питают идеи соборности, особой роли и предназначения
России к окончательному объединению всех народов во имя всеобщего мира и
согласия на Земле.
Одним из факторов политической конфликтности в российском обществе
является господствующий политический режим. Речь идет о методах деятельности государственных органов, степени политической свободы в обществе,
правовом положении личности.
Современный этап политического развития российского общества можно
условно определить, как период перехода от тоталитаризма к демократии. Однако в действительности происходящие политические процессы отражают сложное
переплетение частных интересов, взаимодействие различных политических сил,
преследующих далеко не однозначные цели. В условиях развала прежней государственности, составлявшей основу единства многонационального сообщества,
страну захлестнула новая волна неуправляемых конфликтов стихийного свойства. Их неконтролируемое развитие накладывает свой отпечаток на все стороны
жизни, осложняет перспективы становления новой государственности и еще более усугубляет остроту экономических и социальных проблем.
Политические конфликты в современной России по своему объективному
содержанию являются отражением основного противоречия, которое возникло
в отношениях политической элиты и большей части общества. Политически
господствующие группировки всячески стремятся обеспечить себе экономические условия рыночных отношений, порождая тотальную коррупцию и правовой беспредел, демонстрируя поразительное пренебрежение к основным функциям государственной власти [4; 6].
Главная причина политических конфликтов в современной России связана
со стратегией и тактикой перераспределения государственной собственности и
власти, что определяет их остроту и ведет к социально-экономической и политической нестабильности и напряженности во всех сферах общества.
Политические конфликты в сегодняшней России имеют такие особенности: во-первых, это конфликты в сфере самой власти за обладание реальными
рычагами власти; во-вторых, исключительно велика роль власти в конфликтах,
возникающих в неполитических сферах, но которые так или иначе, прямо или
косвенно затрагивают основы существования данной власти; в-третьих, государство практически всегда выступает в качестве посредника, арбитра.
56
В современных условиях конфликты в России – единственный реальный
способ выявления объективных противоречий, возникших как в процессе распада СССР, так и в процессе последующей политической модернизации. Ярким
примером здесь может служить политический кризис 2014 года в Крыму, приведший к присоединению полуострова к России: накапливающиеся в течение
двух десятилетий социальные противоречия [подробнее см.: 7, 8] привели к
острому противостоянию с центральной украинской властью и практически
единогласному решению о выходе Крыма из состава Украины и присоединении
к Российской Федерации.
Сложная политическая и социально-психологическая ситуация в России не
только определяет в значительной степени содержание конфликтов и формы их
проявления, но и влияет на их восприятие населением, элитами, действенность
применяемых средств регулирования. Нельзя не отметить, что до сих пор не
разработаны конституционные основы и правовые нормы разрешения конфликтов. По этой причине, а также вследствие отсутствия опыта цивилизованного и легитимного управления конфликтами чаще всего используются силовые методы: не переговоры и компромисс, а подавление противника. Конфликтные по сути методы реформирования российского общества продолжают
создавать условия для сохранения конфронтации. Отчуждение населения от
власти и политики не только ведет к снижению легитимности господствующих
политических сил, но обусловливает нестабильность функционирования политической системы в целом.
Литература
1. Глазунова Н.И. Система государственного управления. М., 2002. С. 462.
2. Ермишина Н.Д., Лопарев А.В. Развитие русского национального характера в геополитических, культурных и идеологических условиях // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2013. № 20. С. 213–218.
3. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д., 1998. С. 302.
4. Знаменский Д.Ю. Проблемы взаимодействия власти и общества в процессе формирования и реализации государственной научно-технической политики // Вестник университета (Государственный университет управления). 2012. №17. С. 41–47.
5. Знаменский Д.Ю. Системно-динамический подход к исследованию процесса формирования и реализации государственной политики // Теория и практика общественного развития. 2014. № 12. С. 104–106.
6. Лопарев А.В. Особенности политического конфликта в современной России. Монография. М.: НОУ «Академия Континент», 2007.
7. Лопарев А.В., Ибраимов А.А. Геополитические интересы России на Крымском полуострове // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2010. № 22.
С. 51–60.
8. Лопарев А.В., Ибраимов А.А. Этнополитические процессы в Крыму и их влияние на
положение интересов России в регионе // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2010. № 24. С. 218–222.
9. Лопарев А.В., Ибраимов А.А. Бинарность и антиномичность русской культуры //
Вестник Университета (Государственный университет управления). 2012. № 4. С. 277–281.
10. Фельдман Д.М. Политология конфликта. М., 1994.
57
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЙМЕРИЗ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В 2016 ГОДУ:
КОНКУРЕНЦИЯ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА
И ВНУТРИЭЛИТНЫХ КОНФЛИКТОВ1
А.А. Малькевич
канд. полит. наук, доцент
кафедры теоретической и прикладной лингвистики
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» (праймериз-2016) – одна из ключевых особенностей выборной кампании этого года.
Ряд специалистов даже назвали ее первым этапом выборов. Во всяком случае,
влияние на общий политический процесс – это явление оказывает весьма значительное.
Основной принцип праймериз заключается в голосовании, при котором
выбирается единый кандидат от политической партии. Изначально смысл состоит в том, чтобы кандидаты одной партии не «отбирали» друг у друга голоса
в основных выборах, поскольку обладают схожим электоратом. Проигравшие в
праймериз могут также участвовать в основных выборах, но как независимые
кандидаты, без поддержки своей партии. По форме проведения праймериз бывают открытыми, где проголосовать может любой, и закрытыми, когда право
голоса есть только у членов партии, проводящей предварительные выборы.
Существует также множество промежуточных вариантов. Возможно даже проведение второго тура праймериз.
Исторически праймериз относятся к американским демократическим традициям. Первые праймериз провели в 1842 году в США. Первым штатом, принявшим закон «Об обязательном проведении праймериз» в 1903 году, стал
Висконсин. К 1927 году праймериз стали общепринятой процедурой отбора для
партийных кандидатов во всех штатах. Ранее кандидаты отбирались на совещаниях и съездах партий, и нередко это происходило в результате кулуарных переговоров. Но впоследствии ряд штатов отказались от обязательного проведения праймериз. Сейчас при подсчёте голосов американцев используются разнообразные системы голосования и многоступенчатые схемы. В ряде северных
штатов существует традиция оказывать поддержку тому кандидату, который
наберет арифметическое большинство голосов, а в южных штатах оценивают
разрыв набранных голосов между победителем и его ближайшими конкурентами. На сегодняшний день в 11 штатах США проводятся партийные конференции или партийные референдумы – кокусы.
Среди российских партий первой из представленных в Государственной
Думе процедуру предварительного голосования провела «Единая Россия». Ее
первые праймериз были опробованы в 2007 году. Но, вероятно, из-за малого
времени, отпущенного тогда на подготовку, и отсутствия нормативных доку© Малькевич А.А., 2016
58
ментов, праймериз стали всего лишь попыткой протестировать механизм внутрипартийной конкуренции. Через два года – в 2009 году, после долгого и спорного обсуждения в самой партии необходимость проведения предварительного
голосования включили в Устав.
И в июле-августе 2011 года во время подготовки к выборам в Государственную Думу VI созыва были проведены праймериз в соответствии с Уставом. Соорганизатором выступил созданный за два месяца до этого Общероссийский народный фронт. Голосование было заявлено как «кадровый лифт» в
большую политику для беспартийных представителей крупных общественных
организаций. Планировалось, что это должно расширить базу поддержки «Единой России» в избирательной кампании, но своей цели праймериз не достигли.
«Они имели характер имитации открытой и честной процедуры, напоминая советскую традицию делегирования в советы передовых рабочих, колхозниц, заслуженных врачей и учителей и т.п. Праймериз не выдвинули ни интересных,
ни перспективных лидеров. А главное, они не помогли ЕР в «раскрутке» перед
выборами, и результат партии ухудшился почти на 15 % по сравнению с результатом 2007 года» [11].
Политтехнологи Центра политической конъюнктуры резюмировали 4 причины провала предварительного голосования ЕР и ОНФ в 2011 году:
• Процедура не вызвала особого интереса. Праймериз были новым явлением, неизвестным избирателям. Интерес к партийной политике в целом в обществе находился на низком уровне, и процедура отбора партийных кандидатов
прошла незамеченной. Согласно опубликованному в августе 2011 года опросу
ВЦИОМ, 79 % россиян ничего не знали о праймериз ЕР и ОНФ, а 93 % вообще
не знали, что такое праймериз. Лишь 3 % опрошенных было «хорошо известно», что партия власти проводит предварительное голосование».
• Победа в праймериз не гарантировала участнику попадания в итоговый
бюллетень голосования в декабре 2011 года, поскольку норма не была прописана ни в Уставе партии, ни в положении о праймериз.
• Губернаторы не желали терять контроль над процессами выдвижения
«своих» депутатов. Им нужны были лояльные представители региона в Государственной Думе. Независимый депутат рассматривался как угроза и потенциальный соперник. Партийная бюрократия также не была готова «пустить на самотек» избирательные процессы в регионах, в том числе выдвижение и утверждение кандидатов.
• И наконец, сами кандидаты – как действующие депутаты, так и желающие ими стать – не всегда были заинтересованы в прозрачных и понятных процедурах. Для многих из них были привычнее способы попадания в партийный
списки путем финансовых вливаний, либо в результате использования административного ресурса [11].
В 2011 году «Единая Россия» использовала праймериз в качестве собственной рекламы и для создания на региональном уровне информационных
поводов. В результате основу списков составили «нужные» люди, а некоторые
сильные кандидаты были отсеяны. Кандидаты в депутаты легко перебрасывались на проходные места, и даже утвержденные списки с победителями впо59
следствии легко корректировались: «победители» отказывались от депутатского мандата, и в Государственную Думу попадали люди, находившиеся в конце
избирательного бюллетеня.
После выборов 2011 года процесс был значительно откорректирован, были
рассмотрены и введены 4 модели проведения праймериз, различающиеся по
степени вовлеченности в процесс электората, но об этом чуть позже.
Положение о праймериз-2016 утвердили в начале года на съезде «Единой
России». Предложить свою кандидатуру теперь мог любой человек. Проголосовать в праймериз по первой самой открытой модели также может любой желающий. Этот процесс начался с 15 февраля и продолжился (если речь вести
только о выборах в Государственную Думу; для региональных ЗакСов сроки
были расширены) до 10 апреля.
После чего до 21 мая будет вестись агитация, в ходе которой каждый кандидат должен будет принимать участие в публичных дебатах. Голосование на
всей территории РФ запланировано на 22 мая, после чего на основные выборы
пойдут те, кто одержал победу в предварительном голосовании.
Отчасти правила участия в праймериз повторяют выборные: кандидатам
нельзя использовать в пропагандистских материалах фото и высказывания популярных людей без письменного соглашения этого человека. В тоже время
есть и снисхождения – в праймериз смогут участвовать даже те, кто в настоящее время находятся под следствием, будучи фигурантами уголовных дел (с
учетом презумпции невиновности таких кандидатов допускают к праймериз в
каждом конкретном случае допуская или не допуская кандидатов до предварительного голосования, в зависимости от обстоятельств). Вне зависимости от
внешних факторов в праймериз запретили участвовать главам регионов, обладающим, по мнению представителей Генсовета партии, большой поддержкой в
своих субъектах федерации. Но в некоторых случаях губернаторам разрешат
возглавить партсписки на втором этапе съезда в июне [4].
А теперь рассмотрим, в чем же отличие моделей партийных праймериз.
«Единая Россия» ввела 4 модели предварительного голосования на региональных выборах.
Самые открытые из них – первая и вторая. Первая модель голосования
проводится с участием всех желающих избирателей в специально выбранный
день (такая модель используется для думского предварительного голосования
«ЕР»), вторая модель дублирует первую и отличается тем, что предполагает
предварительную регистрацию выборщиков в местном отделении партии, третья модель ориентирована на участие в праймериз партийцев вместе с представителями общественных объединений, четвертая представляет из себя сугубо
внутрипартийное мероприятие. Региональные отделения после проведенных
обсуждений выбрали разные модели.
Так, третья модель будет в этом году использована в Нижнем Новгороде,
Санкт-Петербурге и Дагестане. Участвовать в праймериз «Единой России» в
Законодательное собрание шестого созыва Петербурга все же смогут все граждане России, не состоящие в других партиях и не имеющие судимости. Но отбирать кандидатов будут сами же партийцы и представители 36 НКО, сотруд60
ничающие с партийной организацией (например, ветеранские и студенческие).
Региональное отделение петербургской «Единой России» аргументировало выбор закрытой модели наличием технических накладок: во-первых, количество
округов и их границы в ЗакС и Госдуму в Петербурге не совпадают, а значит,
будет сложно организовать участки и напечатать бюллетени для предварительного голосования в оба органа.
Во-вторых, по мнению питерцев, объективно закрытая модель, когда кандидатов могут определять только члены организации, наиболее оптимальна,
поскольку такая конкуренция более подходит для выдвижения и отбора перспективных политиков. «Третья модель» стимулирует членов партии к компромиссам, укрепляя структуру организации, но в то же время поддерживает
конкуренцию, которая в данном случае важна для повышения конкурентоспособности в борьбе с представителями других партий. При закрытой форме
праймериз их результаты выглядят для общества более презентабельными, поскольку в них участвуют лица, вовлеченные в политический процесс и такого
рода праймериз становятся альтернативой практике «распределения мест».
Но изначально стратегическая ставка партии сделана на развитие открытых
праймериз. Так, по словам первого замруководителя Администрации Президента
России Вячеслав Володин, открытая модель праймериз (предварительного голосования) должна использоваться для отбора кандидатов от партий на выборах
всех уровней. Открытая модель праймериз подразумевает возможность стать
кандидатами для всех желающих, а также всенародное голосование. «Когда используется закрытая модель праймериз, это говорит о том, что кто-то чего-то боится. Все остальные модели праймериз, кроме открытых, остались в прошлом», –
эту позицию Володин озвучил, обсуждая стратегию партии в ходе Медиафорума
Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге [4].
Рассмотрим подробнее, в чем же ее отличие.
Участие в праймериз по открытой модели могут принять все зарегистрированные избиратели. Впервые такое голосование единороссы провели в Сахалинской области в 2012 году. Затем этот опыт распространили на другие регионы, в
том числе на проблемные для партии власти. Согласно оптимистичным данным
партии, средняя явка на них составляла около 10 % избирателей. Именно эти открытые праймериз были взяты за модель партийного федерального предварительного голосования в этом году. Принимать в них участие на этот раз должны
все кандидаты, которые хотят избираться от партии в сентябре 2016 года.
Возвращение одномандатных округов увеличило число желающих баллотироваться от «Единой России» через процедуру праймериз, поскольку, получив от «партии власти» добро на свое выдвижение, можно впоследствии разыгрывать свою игру. В местах, где административный ресурс слаб и невысока популярность партии, местное руководство будет разрываться между желанием
найти на округ популярную фигуру, способную победить, и страхом получить
неуправляемого политика, который будет считать себя не связанным обещаниями перед местной парторганизацией.
По мнению экспертов Центра политической конъюнктуры, формат открытых праймериз плохо подходит для развития реальной внутрипартийной конкуренции по следующим причинам:
61
– «институт открытых праймериз оправдан в условиях развитой публичной
политики, при сравнительно высоком интересе граждан к политическим партиям. Российские партии не определяют содержание внутриполитической дискуссии. Их роль – скорее вспомогательная и инструментальная;
– в условиях, открытых праймериз ресурсные кандидаты усиливают свою
поддержку за счет выборщиков, не являющихся членами партии. В результате
больше всего пострадают региональные отделения, функция которых сведется
к простой организации внутрипартийного голосования;
– открытая модель дает преимущества популистам и потенциально позволяет оппозиции вмешиваться в процесс отбора кандидатов от партии власти» [11].
На практике возникает серьезный риск, что в праймериз будут принимать
участие либо административно принужденные к этому бюджетники, либо вообще случайные люди. Кандидатами выступят заранее согласованные внутри
местной бюрократии (и Кремля) фигуры. Не исключено также, что федеральный центр может использовать праймериз для сведения счетов с неугодными
или проштрафившимися депутатами.
В разрезе проведения открытых праймериз и создания конкуренции в партии не стоит упускать из вида момент, как в партии власти решают проблему
электорально сложных территорий, требующих поддержки. Единороссы, входящие в руководство Госдумы, выдвинутся на выборы в регионах, которые они
ранее в парламенте не представляли. В итоге, депутаты, которых относят к «политическим тяжеловесам», подают заявления на участие в праймериз в новых
для себя территориях, а в случае успешного выступления на предварительном
голосовании займут верхние строчки в предвыборных списках по этим регионам (вопрос об одномандатных округах решается отдельно) [14].
Мы видим, что партийный центр, заявляя необходимость конкурентной
борьбы среди кандидатов, своими руками лишает регионы возможности проводить собственных кандидатов, проводя через «сложные», по их мнению, регионы партийных «тяжеловесов», чтобы избежать попадания во властные структуры малоизвестных и, видимо, малопрогнозируемых кандидатов.
По словам многих политтехнологов, праймериз «Единой России» – процесс неоднозначный. Вместо одной предвыборной кампании «Единая Россия»
проводит две, которые для самой же партии становятся катализатором внутриэлитных конфликтов. Возникает серьезный риск последующего оттока проигравших на предварительных выборах в другие партии, а крупные федеральные
бизнес-структуры скорее предпочтут раскрученные бренды с высокой возможностью прохождения избирательного барьера, такие, как КПРФ и «Справедливая Россия», которые сейчас явно заняли позицию ожидания. Единороссы же
изначально обозначают задачу препятствовать прохождению бизнеса в политику, отпугивая бизнес от инвестиций в «Единую Россию».
Несовершенство самой процедуры открытых праймериз наиболее явно
проявилось на предварительном голосовании в Рыбинске Ярославской области,
где предвыборная ситуация обернулась серьезным конфликтом элит, исход которого показал, что рычаги управления истеблишментом на местах дают серьезные сбои.
62
Интерес к выборам главы Рыбинска был связан и с тем, что это одни из последних назначенных крупных местных выборов перед выборами в Государственную Думу VII созыва и иные выборы, назначенные на единый день голосования 18 сентября 2016 г. Прямые выборы мэра, там были сначала отменены,
а потом восстановлены. И наконец, интерес был вызван праймериз партии
«Единая Россия», которое отметилось скандалом и которое, судя по всему, стало репетицией больших праймериз в преддверии выборов в Госдуму, наглядно
показавшей все проблемы этого процесса.
В декабре муниципальный совет города Рыбинск назначил выборы главы
города на 20 марта 2016 года. Политический совет «Единой России» Ярославской области назначил предварительное партийное голосование по выборам
мэра Рыбинска на 24 января 2016 года.
Праймериз максимально приблизили к обычным выборам – все 20 избирательных участков, расположенных как в муниципальных учреждениях культуры, так и в коммерческих организациях, были закреплены за конкретными территориями. Время работы избирательных участков также было значительным –
как во время обычных выборов с 9:00 до 18:00. Проголосовать мог любой житель города, проживающий в границах данного участка. На участке гражданам
выдавался избирательный бюллетень, где можно поставить одну галочку
напротив фамилии кандидата. На праймериз было заявлено пять кандидатов.
Серьезная борьба развернулась между депутатом Ярославской областной думы
Владимиром Денисовым и заместителем главы администрации по городскому
хозяйству городского округа г. Рыбинск Денисом Добряковым. Борьба, развернувшаяся между кандидатами, соответствовала по масштабу общегородским
выборам, а не партийному мероприятию.
Праймериз в Рыбинске закончились победой Дениса Добрякова: 63,8%
пришедших на избирательные участки, или 23 812 человек, отдали ему свои голоса. За Владимира Денисова проголосовали 34,8 % (13 004 человека) [3].
Явка оказалась очень значительной для внутрипартийного мероприятия,
она составила около 40 тысяч избирателей Рыбинска. Изначально представители партии говорили о том, что праймериз показали высокий интерес людей к
процедуре, и такая показательная явка свидетельствует о легитимности и конкурентности процесса. Позже стороны признали значение развернутой агитации кандидатов и выявленного позже подкупа в виде премий на крупных промышленных предприятиях города, а также административного ресурса двух
главных кандидатов: Добрякова поддерживал крупнейший оборонный завод
НПО «Сатурн», Денисова – городские единороссы и местный средний бизнес.
Таким образом, выяснилось, что праймериз, организованные партией
«Единая Россия» в Рыбинске, проводились с очевидным привлечением административного ресурса, за счет использования общественных средств, а участие в
предварительном внутрипартийном голосовании немалого количества выборщиков было обеспечено посредством привлечения административно-зависимых
избирателей или подкупа. По мнению организации «Голос», «данное мероприятие внутри одной политической партии вводит избирателей в заблуждение о
том, что они уже участвуют в реальных выборах. Праймериз фактически сво63
дятся к административно-организованному голосованию, которое проходит в
преддверие собственно выборов и в отсутствие всех остальных участников избирательного процесса» [1].
В феврале местная конференция «Единой России» в Рыбинске утвердила
кандидатом на выборы главы города Рыбинска от «Единой России» Дениса
Добрякова как победителя праймериз. После проигрыша Денисов заявил об использовании против него нечестных технологий. Позже он написал заявление о
выходе из партии и объявил о своих планах идти на выборы в качестве самовыдвиженца, однако позже примкнул к партии «Родина».
В итоге на выборах мэра победил Денис Добряков, выдвинутый «Единой
Россией», с результатом 48 % голосов. Выборы прошли при явке 35,76 %. Основной оппонент г-на Добрякова Владимир Денисов, баллотировавшийся в мэры от «Родины», набрал 33,35 %. Третий результат у главы рыбинского горкома
КПРФ Шакира Абдуллаева (10,88 %). Кандидата «Справедливой России» Евгения Дикова поддержали 2,87 % избирателей [9].
После выборов главы Рыбинска депутат Ярославской областной Думы
Владимир Денисов вошел в список партии «Родина» на выборах в Государственную Думу. Подводя краткое резюме, констатируем: партия власти лишилась сильного депутата, по сути, «подарив» его оппозиционному лагерю. Плюс
– еще и «накачав» его известность перед осенними выборами.
«Рыбинская история» выявила явные недостатки открытой модели праймериз и показала, что открытые праймериз будут неизбежно сопровождаться
скандалами и конфликтами, и обозначила главную проблему – как заставить
людей, проигравших праймериз, не выдвигаться против победившего кандидата с протестной повесткой.
Таким образом, мы говорим о том, что праймериз «Единой России» – необходимый процесс, позволяющий партии «почистить» перед выборами ряды
своих кандидатов, оставить людей, заинтересованных в политическом процессе, а не участвующих в выборах для личных целей. В то же время этот процесс
обладает серьезными недостатками, в том числе для самой партии. Фактически
партия ставит себя в невыгодное положение, проводя две выборные кампании,
растрачивая ресурсы и лояльность собственных сторонников и членов партии.
Праймериз не регламентируется законом о выборах, и мы увидели на примере
ситуации в Рыбинске, что это вызывает серьезный риск применения административного ресурса, использования технологий «вбросов» и подкупа избирателей. Возникает серьезный риск конфликта элит и потери инвестиционной
привлекательности партии для бизнес-структур.
Аналитический центр «Анонимные политологи» предложил внести следующие изменения в процесс партийных праймериз:
1. Ограничить участие в качестве кандидата: каждый участник праймериз
должен быть либо членом «Единой России», либо быть рекомендован со стороны регионального отделения партии. Это позволит отсечь случайных людей и
сознательных провокаторов, а также в разы снизит вероятность возникновения
скандалов со стороны проигравших кандидатов. Кроме того, это сократит количество претендентов на каждое место, и позволит оставшимся проводить более
64
глубокие и полноценные кампании. Для обеспечения конкурентности праймериз
вполне достаточно, чтобы на одно место претендовало не более 5 человек.
2. Ограничение искусственной мобилизации. Снизить требования по обеспечению процентной явки на праймериз до 3–5 % от числа избирателей в регионе, нормы, которую можно легко достичь путем простой агитации. Необходимо донести до глав субъектов крайне жесткую позицию в отношении к любым
возможностям мобилизации через админресурс. Кроме того, важно по возможности пресечь любое использование существующих сетей со стороны кандидатов. Силами региональных администраций предупредить как самих кандидатов,
так и непосредственных владельцев существующих сетей, которые можно задействовать по каждому региону. Любые «карусели и приводы сетей» рассматривать как причину для дисквалификации и отмены результатов праймериз.
3. Ограничение на радикальный популизм. Пресекать любые экстремистские высказывания в рамках праймериз. Особенно если начинается спекуляция
на национальные темы и разжигание социальной розни. Разработать жесткий
свод правил в этом отношении и наказывать, начиная со снятия кандидатов с
праймериз до заведения уголовных дел за разжигание разнообразной розни.
4. Ограничение на публичную критику праймериз. К участию допускаются
только те претенденты, которые подписывают документ, в котором заранее
обязуются признать результаты праймериз. При этом участник получает возможность осуществлять полный контроль над всем процессом праймериз, лично и через своих представителей. Необходимо разработать механизм, который
позволит участникам отстаивать свои права, но конечные результаты праймериз не должны оспариваться. А если кто-то заранее не доверяет партии и честности подсчета голосов, то не нужно подписывать документ и участвовать в
праймериз вообще [10].
Также для минимизации рисков, логично было бы скорректировать закон о
политических партиях и сделать процедуру праймериз обязательной для всех
партий.
Подводя итог вышесказанному, мы можем зафиксировать следующее.
Многие региональные элиты не готовы к открытой модели праймериз. Несмотря на заявленную необходимость здоровой партийной конкуренции, в
«одобренные» списки праймериз попадают только «согласованные наверху»
кандидаты. Таким образом, проект отбора новых лиц просто не работает. В качестве «новых» многим регионам предлагают уже отработавших свое в других
субъектах Федерации. Да, звучит грубо, но в Новосибирской области по такой
схеме будет баллотироваться избранный ранее от Калининградской области
Александр Жуков; в Сибири это действительно «новое лицо», в политике вообще – конечно же, нет.
Если бы регионам была предоставлена большая самостоятельность, в
списки партии могли бы войти действительно молодые и заинтересованные в
политике кандидаты. Это позволило бы реально обновить и омолодить партийный состав, и использовать больше новых технологий. Например, голосование
через Интернет на сайте партии (в разделе, посвященном предварительному голосованию). Странно, что эти наработки, апробированные на выборах Совета
65
по правам человека при Президенте РФ в 2012 году и на выборах членов Общественной палаты РФ в 2014 году, в этот раз остались без внимания.
Таким образом, в данный момент праймериз продолжают оставаться по
большей части спорным процессом, осложняющим доверие электората и последующую выборную борьбу, прежде всего для самой партии «Единая Россия».
Литература
1. Аверин В., Шадрин Д. Аналитика: организация и проведение праймериз ЕР в Рыбинске // Голос за честные выборы: Интернет-портал. URL: http://www.golosinfo.org/ru/
articles/71321/ (дата обращения: 27.03.2016).
2. Вагина Л. С. Особенности формирования федерального списка кандидатов политической партии «Единая Россия» // Наука и современность. 2014. № 11. С. 3–91.
3. Винокурова Е. Вертикаль власти дала сбой // Знак: Интернет-газета. URL:
https://www.znak.com/2016-02-02/predvybornaya_situaciya_v_rybinske_pokazala_novye_
problemy_edinoy_rossii/ (дата обращения: 02.02.2016).
4. Володин призвал партии проводить открытые праймериз для выборов всех уровней //
Лента.ру: Интернет-газета. URL: https://lenta.ru/news/2016/04/06/mediaforum/ (дата обращения: 06.04.16).
5. Выборы в США: кокусы, праймериз и другие тонкости // Русская служба BBC. URL:
http://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160201_gch_us_electionguide/ (дата обращения: 01.02.2016).
6. Галлимова Н. Праймериз «Единой России» обойдутся в сотни миллионов // Газета.ру: Интернет-портал. URL: http://www.gazeta.ru/politics/2016/03/21_a_8135591.shtml/ (дата
обращения: 21.03.2016).
7/ «Единая Россия» закрыла ЗакС от чужих // Фонтанка.ру: Интернет-портал. URL:
http://www.fontanka.ru/2016/03/30/176/ (дата обращения: 30.03.2016).
8. Караваев А.А. Внутрипартийное голосование (праймериз) как фактор развития демократии в современной России (на примере Алтайского края) // Власть. 2012. № 11. С. 65–70.
9. На выборах мэра Рыбинска победил кандидат «Единой России» // Коммерсант: газета. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2943447/ (дата обращения: 21.03.16).
10. Нас ждут скандальные праймериз // Анонимные политологи: блог. URL:
http://analitic.livejournal.com/465630.html/ (дата обращения: 26.01.2016).
11. Праймериз «Единой России»: технологии в ущерб конкуренции // Центр политической конъюнктуры. URL: http://cpkr.ru/ru/comments/praymeriz-edinoy-rossii-tehnologii-vushcherb-konkurencii/ (дата обращения: 27.03.2016).
12. Праймериз-2016: бомба под партийный монолит «Единой России»? // ЯрНовости.
URL: http://yarnovosti.com/rus/articles/praymeriz_2016_bomba_pod_partiny_monolit_er/ (дата
обращения: 28.03.2016).
13. Перцев А. Рыбинск встал в очереди за голосованием // Коммерсант.ру: Интернетпортал. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2900353/ (дата обращения: 24.01.2016).
14. Рыбин М. «Политических тяжеловесов» отправят в Госдуму от чужих регионов //
РБК. URL: http://www.rbc.ru/politics/04/04/2016/570149a19a7947529c417cfc/ (дата обращения:
04.03.2016).
15. Чуракова О. Праймериз «Единой России» могут привести к внутриэлитным конфликтам // Ведомости: газета. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/28/
625935-praimeriz/ (дата обращения: 28.03.2016).
66
СЛУХИ И ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ В КОНТЕКСТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ
ВЛАСТИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ1
С.И. Морозов
канд. полит. наук, доцент
Волгоградского государственного университета
Т.В. Порошина
студент
Волгоградского государственного университета2
Современное государство представляет собой взаимосвязанную совокупность вертикально-ориентированных организационных структур, нормативных
стандартов и правил деятельности/оказания государственных услуг, а также
воспроизводящиеся практики профессиональной деятельности управленческого
аппарата – бюрократии (чиновничества). Реализуемая бюрократией государственная политика и управление направлено на выполнение таких функций как:
артикуляция общественно-значимых интересов; распределение / перераспределение ресурсов; контроль за исполнением федеральных и региональных программ и реформ. Многообразие общественных интересов и публичных организаций в пространстве политики обуславливают временный характер достигаемого консенсуса. Удовлетворение интересов населения в рамках реализуемой
государственной политики, ограничено не только наличием / отсутствием ресурсов, но и уровнем легитимности деятельности властных структур.
При этом важно подчеркнуть, что легитимация деятельности органов государственной власти является фактором общественной стабильности, эффективности политической системы. Следовательно, оценка населением деятельности
представителей органов государственной власти является основополагающей
при научно-теоретическом обосновании уровня доверия / не доверия к деятельности властных структур. Кроме того, научно – практический интерес представляют ответы на вопросы об особенностях и условиях деятельности региональных органов власти в контексте современного этапа развития отечественной системы федеративных отношений, а также о реализуемых технологиях легитимации / делегитимации власти с целью обеспечения общественно-политической стабильности в нашей стране.
Следует отметить, что в условиях возникновения новых рисков и угроз,
связанных с противоречивостью и неравновесным характером современной
мировой политической системы, а также под воздействием мировых экономических санкций, претерпевают трансформации доминиующие методы и способы государственного управления, и, прежде всего, в деятельности региональных органов власти. Это обуславливает противоречивость в способах и стратегиях реализации технологий легитимации государственной власти, как на
1
Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 15-13-34011.
© Морозов С.И., Порошина Т.В., 2016
67
уровне федерального центра, так и в регионах. Данная проблема очевидно актуальна в контексте политического процесса в Волгоградской области, с устоявшейся за последнее время практикой досрочного прекращения полномочий
глав региона. Реализуемая в Волгоградской области государственная политика,
направленная на развитие основ демократического правового, социальноориентированного государства в РФ, а также обеспечение политических прав и
свобод граждан, уровень компетенции представителей (руководителей) региональных органов исполнительной власти далеко не всегда находят поддержку и
понимание у населения региона.
Очевидно, что публичность деятельности региональных органов исполнительной власти; доступность каналов политико-коммуникативного взаимодействия населения и губернатора Волгоградской области формируются с применением технологий легитимации власти. Кроме того, обеспечение стабильности, развития и поддержки для региональных органов исполнительной власти
Волгоградской области является приоритетным, значимым и важным направлением совершенствования государственной политики. Однако следует обратить внимание на тот факт, что если раньше основой легитимности выступали
устойчивые, сложившиеся на протяжении 1990-х гг. «правила игры», в достаточной степени поддерживаемые большинством субъектов регионального политического процесса и коммунистическая идеология (так называемый «красный пояс»), то к середине 2000-х гг. ситуация начала радикально меняться.
Фактическая неготовность региональных политических элит к смене идеологического вектора в стране, усиливавшаяся «вертикаль власти» во-многом
спровоцировали внутриэлитный кризис в регионе. Отсутствие показателей эффективной и устойчивой региональной политики не могло не обратить на себя
внимание со стороны федерального центра. Отсутствие в регионе «крепких хозяйственников» и «политических тяжеловесов», способных контролировать ситуацию, предопределило выбор кандидатур глав региона в пользу «варягов».
Начиная с 2009 г., после окончания полномочий губернатора Н.К. Максюты, на
данный пост с разницей лишь в два года, в Областную думу были внесены кандидатуры А.Г. Бровко, С.А. Боженова, которые были отправлены в отставку
Президентом РФ до окончания срока их полномочий.
Назначение в апреле 2014 г. Указом Президента России, исполняющим
обязанности губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова также укладывалось в устоявшуюся логику «глава региона – не из региона». Однако следует
отметить, что действующий по настоящее время губернатор А.И. Бочаров, будучи и.о. главы региона, успешно прошел процедуру региональных выборов,
набрав свыше 90 %. В пользу успешного результата сказались не только высокое доверие к личности Президента РФ В.В. Путина, близостью с которым ассоциировался А.И. Бочаров среди населения. Этому также способствовало его
явная дистанцированность от «Единой России» и боевое прошлое, за что ему
было присвоено звание «герой Российской Федерации», а также «усталость»
населения от досрочных отставок предыдущих глав региона, ассоциировавшихся в массовом сознании лишь с громкими скандалами, но не политическими и
экономическими успехами в области.
68
Однако по прошествии полутора лет после региональных выборов, уровень электоральной поддержки и политического доверия действующему губернатору начинает снижаться и на март 2016 г., по оценкам региональных экспертов, составил примерно 67 %. С одной стороны, это обусловлено естественным
и неизбежным снижением легитимности действующей власти, объективно не
способной демонстрировать высокие результаты «здесь и сейчас». Обращает на
себя внимание выдвижение на сегодняшней день на первый план информационного фактора, который обладает сильным деконструктивным эффектом при
легитимации власти.
В последние месяцы уходящего 2015 г. и начало 2016 г. ознаменовалось в
регионе своеобразным «противостоянием «экспертных рейтингов. В борьбу за
«экспертизу» включились не только представители регионального экспертного
сообщества, но и авторитетные рейтинговые агентства Москвы и СанктПетербурга. Ситуацию усугубила «пропажа» на две недели губернатора в октябре 2015 г. и поступившая заявка на его поиск на сайте передачи Первого канала «Жди меня»: «Бочаров пропал из местного медиапространства две недели
назад. В последний раз о работе главы региона сообщалось 13 октября, он проводил совещание по строительству интермодального комплекса на базе аэропорта. Сайт администрации региона не публиковал никаких материалов о работе губернатора, а областные СМИ перестали освещать его деятельность. Прессслужба никаких комментариев не давала… Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что репутационный ущерб Бочарову нанесен серьезный. «Стоит отметить, что в последнее время отношение к
нему в Волгоградской области меняется, особенно среди элит, и не в лучшую
сторону», — заявил он» [1]. И хотя, как оказалось, губернатор был «в отпуске»,
данное событие спровоцировало в регионе соответствующие слухи, поддержанные и одновременно усиленными мнениями экспертного сообщества.
Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, представитель
Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Волгоградской области Виталий Арьков, комментируя ситуацию, отметил, что этого курьезного случая можно было избежать, если бы в команде Бочарова работали
профессионалы. «Я сразу предположил, что Бочаров отбыл в отпуск, тем более
что он исчез как раз сразу после своего дня рождения. В принципе, это нормальная, обычная ситуация, что человек решил уйти в отпуск. Но тут налицо
большой минус в работе даже не пресс-службы, а имиджмейкеров и пиарщиков
Бочарова, которые должны были как-то предусмотреть эту ситуацию. Сообщить жителям, что губернатор находится в отпуске. В этом случае не было бы
всей этой шумихи. А она, на мой взгляд, сильно бьет по рейтингу Бочарова...
Его команда в данном случае сама себе создала проблема. Возможно, Андрея
Бочарова не сильно заботит его имидж. Но в таком случае стоит обратить внимание на другие регионы, … как показывает опыт, даже если ты сегодня на
коне, уже завтра ты можешь оказаться в тени» [2].
В то же время эксперт заявил, что, несмотря на высокие позиции в различные рода рейтинга, в том числе и ФоРГО, Бочаров до сих пор не смог зарекомендовать себя в Волгоградской области как эффективный управленец. По сло69
вам Арькова, зачастую места в рейтингах зависят от аппаратных игр, а не от реальной работы губернаторов. Он также добавил, что, в случае с Бочаровым
«уже неприлично постоянно кивать на тяжелое наследство от предыдущих губернаторов, так как настало время демонстрировать результаты своей работы»
[2].
Бывший депутат Волгоградской областной думы Наталья Латышевская
также прокомментировала сложившуюся после «исчезновения» губернатора
ситуацию: «Он, однозначно, постоянно вне зоны досягаемости. И об этом говорят сами волгоградцы. Мне ни разу не удалось попасть к нему на прием. Не
удалось пообщаться, даже когда я была депутатом. Хотя и тогда, и сейчас есть,
о чем поговорить. Сейчас, занимаясь общественной деятельностью, неоднократно пыталась встретиться с губернатором, но в ответ никакой реакции…
Есть ощущение, что человек попросту отгородился от жителей, от общественности. Сейчас очень модно говорить о гражданском обществе. Но складывается
впечатление, что Андрею Ивановичу это гражданское общество как-то безразлично» [2].
Не останавливаясь на многочисленных последовавших сразу за этим «хвалебных» экспертных комментариях, совершенно естественных, на наш взгляд,
по отношению к действующему представителю государственной власти, занимающему достаточно высокое положение в политической иерархии, следует
обратить внимание на очевидное. И на федеральном, и региональном или даже
на местном уровне, завоевание доверие граждан, для успешного выполнения
собственных управленческих функций, является важной потребностью для
власть имущих. Но при этом в современной России, особенно в регионах, все
чаще на первый план для маргинальных политических сообществ и элитных
групп выдвигаются собственные, зачастую эгоистические интересы, нежели касающиеся интересов большинства граждан. И в данной связи, крайне опасные
высказывания экспертного сообщества, подогревающие негативные слухи
населения, способны значительно дестабилизировать политическую ситуацию,
спровоцировать протестные настроения граждан даже при вполне благоприятных макроэкономических и внутриполитических условиях. Кроме того, закономерный итог – снижение уровня легитимности действующей власти.
Более того, при современных технологиях информационно-коммуникативного взаимодействия, относительно легко контролируемая отечественная печатная, радио- и тележурналистика все чаще уступает свои позиции под воздействием Интернет-пространства (соцсети, блоги, независимая социальная
журналистика и др.). В меньшей степени контролируемая онлайн-среда становится площадкой свободной оппозиционной активности российских граждан.
Обращают на себя внимание и факты использования Интернет-коммуникации
политиками и экспертами для фактической делегитимации того или иного регионального политического лидера, утрачивающего доверие федерального центра или крупных финансово-промышленных групп. Благодаря «вбросу» не достоверной или не проверенной информации, и возникающим вследствие этого
слухам, которые региональные СМИ для поддержания рейтинга выносят на поверхность, усиливается социальная апатия граждан, снижается их электораль70
ная активность, формируются устойчивые абсентеистские политические установки, что может выступить благоприятной основой появления и распространения экстремистских форм поведения в России и ее регионах. Именно на этот
внешне тривиальный факт считаем необходимым вновь обратить внимание
отечественного экспертного политологического сообщества.
Литература
1. Пропавший две недели назад волгоградский губернатор нашелся в Барнауле // Лента.ру: интернет-газета. URL: https://lenta.ru/news/2015/10/27/guber_volgograd/ (дата обращения: 31.03.2016).
2. Бочаров вернулся, или Сказка о потерянном герое // Российское информационное
агентство «ФедералПресс». URL: http://fedpress.ru/news/polit_vlast/reviews/1445952999bocharov-vernulsya-ili-skazka-o-poteryannom-geroe/, свободный (дата обращения 31.03.2016).
71
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ1
С.А. Панкратов
д-р полит. наук, профессор,
заведующий кафедрой политологии
Волгоградского государственного университета2
Использование этатистской модели при модернизации современного российского общества предопределяется, с одной стороны, всей предшествующей
отечественной историей, способствовавшей выработке исторического кода
«сильного государства», а с другой стороны, такого рода изменения производятся государством постольку, поскольку только в государственной сфере возможна «поддержка идентичности социального целого в его движении от прошлого к будущему». При этом этатистская модель политической модернизации
предполагает, с одной стороны, структурное и функциональное осовременивание российского государства как политического института, а с другой – выработку специфических механизмов взаимодействия власти и гражданского общества, поиска согласования различных интересов, сочетания многих путей, то
есть того, в чем и состоит истинный смысл демократии. Суть данной модели
состоит в создании условий для формирования открытого общества, где государство выступает политической гарантией действительной альтернативы отсталости страны и неустойчивому развитию.
Принятие и реализация программы «электронное правительство» выступает и как технологический инструмент решения управленческих задач, и как
способ формирования виртуального пространства, где обсуждаются и принимаются решения по вопросам реализации национальной модели модернизационных преобразований, и как ресурс, в первую очередь, демократизации отношений между обществом и государством. В структуре электронного правительства выделяются три основных составных элемента: электронная демократия и
участие (e-democracy and participation), функциональная специфика которого
предполагает формирование общественного мнения, выработки решений, в конечном итоге высокий уровень институализации публичной сферы через электронные средства; электронные производственные сети (electronic production
network), обеспечивающего с помощью электронных средств сотрудничество
между публичными, публичными и частными институциональными образованиями; электронные общественные услуги (electronic public services), предназначенного для качественного с минимальными временными и иными издерж-
Работа выполнена в рамках реализации Гранта РГНФ и Администрации Волгоградской области № 15-13-34011
1
© Панкратов С.А., 2016
72
ками предоставление потребительских (государственных) услуг через местные,
региональные и национальные порталы [1, с. 221].
Внедрение системы электронное правительство способствует развитию
электронного участия как технологии привлечения различных групп населения
в публичную политику, использование информационно коммуникативных технологий для повышения ээфективности взаимодействия с органами власти. При
этом электронное участие первоначально включает двусторонний коммуникативный обмен значимой информацией как между индивидами и институтами
гражданского общества, так и с властными структурами различного уровня.
Вместе с тем, как показывает зарубежная и отечественная практика функционирования электронного правительства, неизбежно происходит расширение
сферы э-участия, ее усложнение и диверсификация, включая:
– создание относительно сплоченных групп (community) из представителей
активного населения, обменивающихся информацией и заинтересованных в ее
максимальном распространении;
– проведение он-лайн консультаций заинтересованными лицами (стейкхолдерами) по проблемным вопросам, возникающим в процессе непосредственной жизнедеятельности представителей различных социальных групп, до
общезначимых в рамках регионального, национального и глобального пространства;
– лоббирование тех или иных интересов через организацию и проведение
публичных акций протеста, подачи петиций и иных форм коллективного действия;
– ведение предвыборной кампании, включающей как размещение агитационных материалов в сети Интернет, так и проведение он-лайн обсуждений программных положений кандидатов;
– оперативное обсуждение гражданами и представителями органов власти
существующих проблем, выстраивание диалогового способа принятия решений;
– минимизация деструктивных последствий конфликтных ситуаций с привлечением заинтересованных сторон из представителей гражданского общества
и управленческих структур в режиме он-лайн (mediation);
– он-лайн мониторинг и обсуждение вопросов перспективного (социальноэкономического, социокультурного и др.) развития территорий;
– выявление общественного мнения населения с использованием электронных опросных листов;
– участие в выборах в режиме он-лайн.
Стоит согласится с М.В. Леоновой, выделяющей ряд причин организационного, методологического, социального характера, определяющих низкий
уровень э-участия в РФ. Среди них: недостаточно высокий уровень компьютерной грамотности управленческих кадров, что затрудняет активное участие
бюрократического аппарата в электронном диалоге с населением и институтами гражданского общества; недостаточное внимание руководителей исполнительных и законодательных органов власти, ведомств к использованию эучастия, ограничиваясь расширением перечня оказываемых государственных
73
услуг; несовершенство инструментальной (технической и программной) бызы,
используемой для организации и проведения э-участия; низкий уровень доверия со стороны граждан и общественных организаций к представителям органов власти, что не способствует расширению повседневных практик интерактивного взаимодействия; относительно невысокий уровень владения информационно-коммуникативными технологиями среди различных групп населения;
отсутствие просветительских программ, направленных на активизацию эучастие как формы реализации принципов и возможностей электронной демократии [2, с. 67].
С нашей точки зрения, использование электронной демократии выступает
попыткой в рамках этатистской модели политической модернизации актуализировать тенденцию утверждения системы общественно-политического правления (social-political qovernance), предполагающей тесное сотрудничество, сорегуляцию, со-производство и со-руководство представителей государственных
и гражданских институтов на различных уровнях. «Принцип минимального
вмешательства государства и лозунг “чем меньше централизованного управления, тем лучше, и пусть проблемы решаются сами собой”, используемый нередко некоторыми представителями как государственного, так и частного секторов, теперь сменяется новым – “давайте сотрудничать”. Таким образом,
управление становится не односторонним, а двухсторонним и даже многосторонним процессом. Изменяются не просто границы между государством и обществлом, но и сама природа их взаимодействия. Уже невозможно сказать, где
заканчивается одно и начинается другое» [3, с. 238].
Использование технологий электронной демократии расширяют и дополняют возможности GR (government relations) как институционализированной
деятельности по выстраиванию партнерских отношений между гражданским
обществом и государственной властью, включающей «в себя сбор и обработку
информации о деятельности правительства, подготовку и распространение информации о позиции представленных групп, влияние на процессы принятия политических и административных решений (лоббизм)» [4].
При анализе электронной демократии, реализуемой в пространстве Интернет важно учитывать, что оно выступает как территория обитания гражданина,
структурированное по социокультурным, политико-правовым, экономическим,
демографическим и иным канонам реального мира. Как отмечает ряд исследователей «растет понимание того, что использование технологии Интернета –
это часть непрекращающейся социально-политической борьбы внутри сложных
властных и социальных сетей» [5, с. 54].
Соотношение между пространством, местом и Интернетом наиболее последовательно объяснено в теории сетевого общества М. Кастельса. При этом
виртуальное пространство он характеризует как единство «пространства потоков» и «пространства мест». Это пространство «не без места, хотя его структурная логика и не имеет места. Оно основано на электронной сети, но эта сеть
соединяет конкретные места, с хорошо определенными социальными, культурными, физическими и функциональными характеристиками… И узлы, и центры
Сети организованы иерархически, в соответствии с их значимостью для Сети.
74
Эта иерархия может изменяться, в зависимости от изменения деятельности,
осуществляемой через Сеть» [6. с. 413].
Как справедливо отмечает Д.С. Баринова, свойством Интернета выступает
оспаривание существующих властных институтов, которым успешно пользуются преступные группировки и террористы. Вслед за М. Зуком исследователь
констатирует, что в информационную эпоху усиливается роль индивидов и социальных движений. «Интернет позволяет индивидам легко транслировать по
всему миру свои – подчас довольно узкие – экономические и политические
требования. Это свойство Сети стимулирует людей искать и находить единомышленников, и служит инструментом, усиливающим власть маргинальных
групп. Подобная тенденция представляет угрозу не только устоявшимся центральным позициям государства в политике, но и приводит к более глубинным
изменениям – к снижению лояльности граждан по отношению к своему государству» [7, с. 116].
Таким образом технология Интернет способна трансформировать общественное устройство по целому ряду направлений, в том числе возникновение
разрозненных сетей индивидов и феномен восприятия власти как «потоковой
власти в пространстве» [7, с. 118]. При этом «информационный поток является
центральным в политической структуре и политическом поведении. Информация – это не только инструмент и ресурс, используемый политическими акторами в стратегическом и психологическом смысле, но ее характеристики и качество влияют на самоидентификацию политических акторов» [8, с. 231].
Последовательное использование электронной демократии и расширение
Интернета как общественно-политической коммуникации так или иначе актуализирует вопрос о целесообразности воспроизводства представительной демократии, если уже в настоящее время интернет-технологии позволяют гражданам непосредственно выражать свое мнение и влиять на законотворческий процесс.
В политологическом сообшестве идет активное обсуждение недавно возникших концептуальных моделей: прямой цифровой демократии, которая
предполагает осуществление прямого волеизъявления граждан без использования институтов представительной демократии; демократии соучастия и совместного действия, основывающейся на организации взаимодействия между
государством и обществом по поводу выработки и принятия совместных решений с использованием интернет-коммуникационных технологий; экспертной
демократии с привлечением самостоятельно выбранных экспертов для профессионального решения конкретных вопросов и проблем, беспокоющих граждан.
В этой связи целесообразно выделить угрозы и риски демократической системе управления, которые способна нести в настоящее время отмена или
сужение сферы деятельности традиционных институтов представительной демократии, особенно в условиях укрепления новой российской государственности. Это в первую очередь:
Отсутствие информационного равенства, проявляющееся в различных
возможностях (территориальных, поселенческих и т.д.) доступа к информационно-коммуникативной инфраструктуре.
75
Существенный межпоколенческий, статусно-профессиональный, разрыв в
освоении компетенций и навыков использования технологий интернеткоммуникации, что исключает равенство в возможности артикуляции своих интересов.
Активизация в использовании инструментов электронной демократии
представителями радикальных и экстремистских групп, нацеленных на дестабилизации функционирования политической системы, насильственную смену
политического режима и т.д.
Нередкое предложение к принятию популистских управленческих решений, не учитывающих многоаспектность государственно-политического управления, качества профессионализма и компетенстного подхода к решению проблемных ситуаций.
Прогрессирующий объем необходимой информации для принятия решений, что затрудняет ее освоение рядовыми гражданами в качестве полноправного участника общественно-политического процесса.
Широкое рапространение манипулятивных технологий воздействия при
формировании общественного мнения, что сопряжено с возможностями формирования фантомной демократии, базирующейся на позиции узко информируемой и низко квалифицируемой части населения.
Множественность доступности к информации он-лайн -пользователей, что
создает иллюзорные представления и убеждения о всезнании, отвергающей
необходимость экспертных оценок профессионалов.
Виртуализаця экспертного статуса, обретение которого связано с PR-технологиями и маркентинговыми формами продвижения «товара».
Возможность ангажированности эксперта, действующего не в интересах
общества и государства, а преследующего интересы иных акторов общественно-политического процесса [9].
Снижение способности государства отстаивать свой суверенитет, национальные интересы, обеспечивать безопасность функционирования обществественной системы.
Таким образом, «новая технология может стать опасным проводником тирании. Не существует тирании более опасной, чем невидимая и мягкая, в которой подданные становятся соучастниками своего собственного жертвоприношения и в которой порабощение является результатом не намерений, а обстоятельств» [10, с. 581–582].
Следует подчеркнуть, что общественное сознание как важнейший фактор
развития во всех его формах, в том числе и политической модернизации, свидетельствует о ведущей роли общественных (гражданских) институтов в этих
процессах. Принудительная модернизация, какими бы обстоятельствами она не
была вызвана, раскалывает общество, ставя под сомнение достижение поставленной конечной цели. В этой связи необходимо последовательное использование позитивных аспектов электронного правительства и электронной демократии в рамках реализуемой этатистской модели политической модернизации.
При этом государственное воздействие на гражданские институты состоит в ак76
туализации поиска консенсуса и согласовании важнейших сторон модернизационного процесса между его ведущими акторами, а также общества в целом.
Литературы
1. Сморгунов Л.В. Электронное правительство, менеджмент знания и административные реформы // ПОЛИТЭКС (Политическая экспертиза). 2005. Вып. 2. С. 213–225.
2. Леонова М.В. Оценка и пути развития электронного участия в РФ // Человек. Сообщество. Управление. 2010. № 4. С. 57–68.
3. Павроз А.В. Government relations как институт социально-политического взаимодействия // ПОЛИТЭКС (Политическая экспертиза). 2005. Вып. 2. С. 238–251.
4. См.: Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR / пер. с англ. – СПб.,
2004.
5. Zook M. The geographies of the Internet // Annual review of information science and technology (ARIST) / B. Cronin (ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Vol. 40. P. 53–78.
6. Castells M. The rise of the network society. Malden, Mass.: Blackwell publishers, 1996.
7. Баринова Д.С. Методологические аспекты исследования виртуального пространства
Интернета // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: сб.
науч. тр. / РАН ИНИОН. М., 2010. Вып. 1. Альтернативные модели формирования наций.
440 с. С. 109–122.
8. California Internet Voting Task Force: A Report on the Feasibility of Internet Voting. Sacramento: Office of California Secretary of State, 2000.
9. См.: Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления. М.: Изд-во Московского ун-та; Проспект, 2015. 272 с.
10. Barber B. Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy // Political Science Quarterly. 1998/1999. Vol. 113. № 4.
77
ИСПАНИЯ: ДОЛГИЙ ПУТЬ К ФЕДЕРАЛИЗМУ1
Д.И. Попов
д-р ист. наук, профессор
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
История стран Запада демонстрирует нам немало примеров успешных демократических транзитов. Отказ от авторитарных политических режимов в
пользу демократизации политических систем представляет собой сравнительно
глубокую трансформацию целого ряда сфер общественно-политической жизни,
в числе которых – административно-территориальное устройство государства.
На путь его реформирования в ходе демократических транзитов в разное время
встали Греция, Испания, Италия, Польша, Португалия и др. [1; 3; 21, с. 217; 23,
с. 147; 25, с. 306]. Следует отметить достаточно широкий спектр таких реформ:
от децентрализации государственно-административной власти с одновременным усилением роли органов местного самоуправления, как это произошло в
Греции в начале 1980-х гг., до отказа от классического унитаризма и поиска новых моделей государственно-территориального устройства (Италия, Испания).
В последнем случае актуальной становилась проблема выбора таких моделей. Как известно, их разнообразие ограниченно следующими идеальными (в
веберовском понимании) типами: унитаризм, федерация, конфедерация и империя [11]. В XX в. в западной политической мысли сложился комплекс представлений о федерализме как о территориальной форме демократии, таком государственном устройстве, которое позволяет странам с глубоким региональным
разнообразием (социально-экономическим, природно-географическим, этнолингвистическим, конфессиональным и др.) сохранить свою целостность, снизить остроту центр-периферийных противоречий, найти эффективные механизмы управления многосоставным государством, гарантировать этнические и
культурные права меньшинств. Унитаризм и империя, в противоположность
федерализму, рассматривались в качестве одного из немаловажных факторов,
способствующих авторитарному перерождению власти, препятствующих сохранению и развитию национальных языков и культур.
Казалось бы, выбор в пользу федерализма очевиден, однако политическая
практика демократизировавшихся в различное время стран показала большую
сложность и разнообразие путей трансформации государственно-территориального устройства. Можно назвать ряд обстоятельств, на этот выбор влияющих.
Уже имеющееся государственно-территориальное устройство служит тем багажом, быстрый и полный отказ от которого чреват серьезными общественными потрясениями, разрывом сложившихся хозяйственных связей, нарастанием
политических противоречий между центром и регионами – единицами прежнего административно-территориального деления. Реформаторы зачастую оказы-
© Попов Д.И., 2016
78
ваются в ситуации «связанных рук», когда свобода выбора существенно ограничивается государственно-территориальным наследием прошлого.
Исторический контекст трансформационного процесса также играет немаловажную роль, определяя расстановку политических сил, согласие «снизу» на
проведение реформ «сверху», ресурсные возможности проводимых преобразований. В ситуации выбора нельзя не учитывать способность различных элитных групп, каждая из которых имеет свои интересы и преследует свои цели, достичь согласия относительно конечного результата и необходимых механизмов
преобразований. В ситуации, когда межэлитного согласия относительно результата реформ достичь не удается, на вооружение берется принцип «движения по пути». В таких случаях определяются некие промежуточные цели, достижение которых представляется вполне самоценным. Этим же снижается
градус радикализма в преобразованиях. В XX в. Испания избрала именно такой
механизм демократического транзита в области государственно-территориального устройства. С одной стороны, о себе давало знать унитарное прошлое (с
высоким уровнем централизации в условиях авторитарных режимов), с другой
стороны, идеологические и партийно-политические расколы не оставляли
надежды на достижение межэлитного консенсуса относительно модели желаемого государственно-территориального устройства. Следует отметить, что Испания не раз оказывалась в ситуации такого выбора, когда обсуждались федералистские проекты, консолидировавшие вокруг себя весьма влиятельные политические силы.
В Испании периода Первой республики революционные партии (в первую
очередь республиканцы) смогли реализовать столь желаемый ими федералистский проект [3, p. 47]. Федеративное испанское государство состояло из трех
уровней: муниципалитетов, регионов и самой федерации – республики. Однако
политическая слабость Центра, власть которого была номинальной и зачастую
не распространялась дальше Мадрида, отсутствие общественного согласия относительно федеративного будущего страны, углубившийся региональный раскол и начавшиеся кантональные восстания делали федеративную республику
нежизнеспособной. Неудачной оказалась попытка целого ряда провинций провести «федерализацию снизу» [3, p. 47; 17, с. 445-446; 16, с. 316-317]. Реставрация монархии в 1875 г. сопровождалась восстановлением унитарных начал испанской государственности, однако федералистские проекты по-прежнему разрабатывались лидерами целого ряда оппозиционных партий и общественнополитических организаций и неоднократно включались в их программные документы. В конце XIX – начале XX вв. последовательную приверженность
принципам федерализма демонстрировали регионалистские движения, в
первую очередь в Каталонии и Стране Басков. Так, с идеей создания «Иберийской федерации», в состав которой вошли бы, наряду с Каталонией, Кастилия,
Валенсия и Балеарские острова выступил один из «отцов» каталонского национализма Энрике Прат де ла Риба [7, с. 550-551]. В целом, как показал в своей
работе испанский исследователь Л. Морено, борьба против централизма являлась ключевым фактором политической жизни Испании XIX в. [3, p. 48].
79
Дискуссии о предпочтительной форме государственного устройства с новой интенсивностью развернулись в 1931 г. в ходе создания Второй испанской
республики. Ведущие общественно-политические силы страны предложили
широкий спектр проектов (от децентрализованного федерализма до традиционного для Испании унитарного устройства) и даже попытались явочным порядком реализовать некоторые из них. В частности, в апреле 1931 г. в Барселоне
была провозглашена «Каталонская республика, в качестве штата входящая в
Иберийскую федерацию». Президентом Каталонской республики и главой
Временного каталонского правительства был объявлен лидер националистической партии Республиканская левая Каталонии («Эскерра») Ф. Масиа. Ситуация осложнилась тем, что «Эскерра» входила в правительственную республиканско-социалистическую коалицию, пришедшую к власти в ходе революции
[15, с. 75].
Одновременно в Басконии главы муниципалитетов – сторонники Националистической партии басков созвали собрание муниципалитетов «с целью
продемонстрировать стремление к образованию Баскского республиканского
правительства в составе Испанской федеральной республики». Принятый по
итогам собрания манифест заявлял о необходимости «провозглашения и торжественного признания Баскской республики» [15, с. 76–77]. Успехи националистов в Каталонии и в провинциях басков вызвали отзвуки по всей Испании. Регионалистское движение активизировалась в Галисии и Валенсии. Так, в Галисии Автономная галисийская республиканская организация (ORGA) выступила
с программой автономизации провинции, предусматривавшей федеративное
устройство Испании [3, p. 58].
Упоминание в декларациях каталонских и баскских националистов несуществующих федераций («Иберийской федерации», «Испанского федерального
государства» и т.п.) вызвало большую тревогу среди других членов республиканско-социалистической коалиции, посчитавших, что Испании навязывается
определенная форма государственного устройства. Правые партии – сторонники теории единой испанской нации – поспешили заявить о начале распада единого государства. Как отмечал французский историк Ж. Сориа, действия каталонских националистов, «немедленно разбудили в душе монархистов и консерваторов – долгие годы вообще отрицавших особый характер регионов – хотя
Каталония и Страна Басков дают тому два бесспорных примера, – всех старых
демонов векового кастильского централизма» [24, с. 32]. Неудивительно поэтому, что в ходе подготовки и обсуждения проекта испанской республиканской
конституции на учредительных кортесах федералистские проекты были отвергнуты. Свою роль сыграло нежелание ведущих партийно-политических сил
страны радикально обрывать унитаристскую традицию в пользу диаметрально
противоположного и чреватого многими неожиданностями федеративного государственного устройства. Более того, принятая 9 декабря 1931 г. конституция
прямо и строго запрещала создание федерации в Испании (статья 13 гласила:
«Ни в коем случае не допускается создание федерации автономных регионов»)
[18, с. 351].
80
В то же время, существенным шагом на пути демократизации политической системы страны стало закрепление в конституции, в целом предусматривавшей унитарный характер испанской государственности, права испанских регионов на автономию. В статье 11 говорилось: «Если одна или несколько сопредельных провинций с общими историческими, культурными и экономическими традициями договорятся о создании региональной автономии для того,
чтобы образовать политико-административное единство в составе испанского
государства, они должны представить свой Статут…» [18, с. 351]. Основной закон являлся, по сути, компромиссом между традиционным централизованным
государством и автономистскими устремлениями отдельных частей страны.
До ликвидации республиканских институтов и восстановления высокоцентрализованного унитаризма франкистским режимом воспользоваться автономными правами, закрепленными соответствующим статутом, успела только Каталония. Примечательно, что каталонские националисты в процессе работы над
проектом статута и согласования его основных положений с центральным правительством, не желали отказываться от своих федералистских проектов. «Каталония хочет», – говорилось в преамбуле каталонского проекта статута, – чтобы испанское государство имело такую структуру, которая сделала бы возможной федерацию между всеми испанскими народами, установленную постепенно
посредством частных статутов, подобных ее собственному». Однако столкнувшись с непримиримой позицией правых, радикальных и, отчасти, республиканских партий в кортесах, каталонцы вынуждены были пойти на компромисс. Их
проект автономного статута был основательно изменен и согласован с текстом
конституции. Одобренный кортесами проект не содержал никаких упоминаний
о «федерации испанских народов» [15, с. 90, 118]. В июне 1936 г. был утвержден Галисийский статут, а в октябре – статут Страны Басков. Но оба на практике фактически не были воплощены. Еще один регион – Андалусия – также в
годы Второй республики подготовил свой особый статут, но начало Гражданской войны, а затем диктатура Ф. Франко помешали его принятию [26, с. 129].
Следующая и, очевидно, последняя волна демократического транзита в
Испании пришлась на вторую половину 1970-х – начало 1980-х гг. Залогом
успеха демократического транзита стало соглашение между «франкистской»
элитой (как ортодоксальной, так и умеренной), с одной стороны, и демократической оппозицией, представленной широким спектром политических партий, с
другой. Вовлеченность в обсуждение конституционных основ будущей парламентской демократии таких разнородных политических сил, как коммунисты,
социалисты, народные социалисты, франкисты, объединенные в «Народный
альянс», а также умеренные франкисты, образовавшие с левоцентристами
«Союз демократического центра», отнюдь не упрощало задачу достижения
компромисса. В числе прочих «сложных» вопросов, ставших предметов поиска
компромиссов, находился «территориальный» вопрос, а точнее необходимость
«состыковать» модели территориального обустройства, выдвигавшиеся различными политическими партиями. Очевидно, что компромиссный вариант соглашения должен был сочетать две, параллельно сосуществующие исторические
тенденции – централизации и децентрализации, а также учитывать, что различ81
ные региональные сообщества имеют отличающуюся степень национального
самосознания и социально-экономического развития. Закономерно поэтому, что
столь ненавистная франкистам модель федерализации не могла стать основой
для соглашения. В декабре 1978 г. король Хуан Карлос I подписал текст Конституции, закрепившей договоренности между ведущими политическими партиями и поддержанной на референдуме подавляющим большинством граждан
Испании. В статье 145 Конституции 1978 г., как и в республиканской конституции 1931 г., прямо запрещается федеративное устройство страны: «Ни в коем
случае не допускается создание федерации автономных сообществ» [19, с. 202].
Одновременно Конституция «признает и гарантирует право на автономию для
национальностей и регионов» [19, с. 173]. По словам испанского политолога
Рамона Майса, «Испания, по существу, единственная страна в мире, в которой
для значительной части общественного мнения федерация означает не создание
союза на федеративных началах, а «балканизацию» и «распад» государства»
[27, с. 135].
Модель государства автономий предполагает, что регионы по мере готовности сами инициируют автономный процесс. На его первом этапе испанским
провинциям предлагалось по их желанию объединиться в региональные сообщества, которые в свою очередь должны были обратиться с инициативой об автономизации в Генеральные кортесы и подготовить проект регионального устава. Пользуясь закрепленной в Конституции возможностью Каталония, Страна
Басков и Галисия свои автономии учредили в 1978-1981 гг., процесс утверждения уставов 14 других региональных сообществ растянулся до 1983 г. [2, p. 66].
Итогом реформ в сфере государственно-территориального устройства Испании стало создание так называемого государства автономий. Статус его территориальных единиц – регионов предполагает собственную политическую систему с властными институтами, действующими в пределах закрепленных в региональных статутах полномочий; право принятия собственных законов, интегрированных в систему законов государства в качестве подсистемы, т.е. право
на систематизированный свод нормативных актов, регулирующих жизнь сообщества; право осуществления собственного политического курса, т.е. возможность предпринимать политические действия в соответствии с решениями,
принимаемыми правящим большинством в органах власти сообщества; право
иметь свои собственные экономические ресурсы для удовлетворения своих потребностей, т.е. право на финансовую автономию [29, с. 276–290].
Особенностью, закрепленной в испанской конституции модели регионализованного государства, является т.н. «открытость» регулирования формы государственного устройства. Как отмечает профессор конституционного права
Университета Барселоны Жозеф Мария Кастелла Андрю, «автономный процесс» подразумевает не конституциональную предопределенность автономных
сообществ, а добровольное получение территориями автономии; закрепление в
уставах только тех полномочий, которые данный регион способен финансово и
организационно исполнять; право центра, принимать органические законы о
передаче полномочий от центра отдельным автономным сообществам; особую
82
роль Верховного Суда в распределении полномочий между Центром и автономными сообществами [14, с. 233].
Перечень закрепленных в уставах полномочий для каждой автономии уникален. Статья 148 Конституции перечисляет предметы ведения, закрепленные
за региональным уровнем, и определяет, что автономные регионы в рамках
этих предметов ведения вправе самостоятельно определять набор конкретных
полномочий и фиксировать его в своих статутах. Те полномочия из «регионального перечня», которые автономные сообщества сочтут для себя излишними, по умолчанию исполняются центральным уровнем власти. Кроме того,
Конституция предусмотрела право Генеральных Кортесов передавать на региональный уровень отдельные полномочия, конституционно закрепленные за испанским государством (статья 150) [19, с. 203, 206]. Вполне очевидно, что выбор автономным регионом того или иного набора полномочий в значительной
степени определяется уровнем его социально-экономического развития, налоговым потенциалом и, соответственно, состоянием бюджетной обеспеченности
(большая часть полномочий предусматривают соответствующие расходные
обязательства), историческими традициями самоуправления, степенью зрелости
регионального сообщества, уровнем его самосознания и особенностями политической культуры граждан. Такие регионы, как Каталония, Страна Басков, Галисия, Андалусия, Наварра и др. уже в период утверждения статутов добились
закрепления за собой максимально возможного на тот момент объема полномочий, тогда как Эстремадура, Кастилия-Ла-Манча, Арагон, Астурия и др. продемонстрировали гораздо меньшую степень притязаний. Так, согласно Статуту
1979 г., объем исключительных полномочий Каталонии включал вопросы
местного самоуправления, транспортной инфраструктуры, связи, образования,
культуры и языка, общественной безопасности (сформирована подчиняющаяся
Женералитату региональная полиция), охраны окружающей среды и др. Кроме
того, Каталония получила особые привилегии в налоговой сфере [4; 13, с. 34–
35].
Развитие автономного процесса в 1980–1990-х гг. сопровождалось постепенным изменением баланса полномочий между центром и автономными сообществами в пользу последних. По мере адаптации регионов к новому для них
политико-территориальному статусу их политические элиты, не удовлетворившись достигнутым, выступали с новыми притязаниями на властные полномочия. В первую очередь это относится к автономным сообществам «особых исторических прав» – Каталонии и Страны Басков, значительная часть населения
которых разделяет сецессионистские устремления местных элит. Первую половину 1980-х гг. в Испании называют «войной законов», поскольку автономные
сообщества стремились явочным порядком расширять сферу своей компетенции. Принимаемые регионами законы зачастую прямо противоречили положениям, как испанской конституции, так и автономным статутам. В свою очередь
региональные элиты весьма болезненно воспринимали законотворческую деятельность правительства Испанской социалистической рабочей партии, имевшей большинство в Генеральных Кортесах. Каждый третий закон, принимавшийся в автономиях, направлялся центральным правительством в Конституци83
онный суд. Такая же судьба постигала каждый десятый закон, принимаемый
центром. В этом случае заявителями выступали правительства регионов. В период 1983–1986 гг. центральное правительство обжаловало 45 законов, принятых автономиями, из которых 21 закон исходил из Каталонии и Страны Басков.
Всего между 1984 и 1987 гг. в Конституционном суде было рассмотрено 429
конфликтов и вынесено 100 судебных решений. Наиболее конфликтным был
1985 г. Тогда Конституционный суд рассмотрел 131 конфликт полномочий,
22 % из которых исходили от Каталонии и Страны Басков [12, с. 128; 10,
с. 169].
Важной политико-культурной особенностью Испании является приверженность пактам, т.е. компромиссам между основными политическими игроками. Поскольку стабильность дальнейшего политико-правового развития испанской государственности в значительной степени зависела от достижения согласия между центром и регионами, к середине 1980-х гг. был выработан механизм создания специальных (постоянных или временных) согласительных комиссий, которые, не выходя за рамки автономистской системы, способствовали
решению спорных вопросов. Одной из важнейших площадок, где разрешались
конфликты, возникающие между центром и автономиями или же между отдельными автономиями, стали Генеральные Кортесы, в том числе, специально
создаваемые комиссии Сената.
В конце 1980-х гг. целый ряд регионов, ссылаясь на 143 статью Конституции, выступил с инициативой расширения объема полномочий. Некоторые из
них даже разработали проекты новых статутов. Началась длительная полемика
по поводу достижения консенсуса в этом вопросе и выбора, наиболее подходящего для расширения полномочий пути. В результате в феврале 1992 г. были
подписаны «Автономные договоры» между ведущими политическими партиями – Испанской социалистической рабочей партией (партией большинства в
Палате представителей) и Народной партией. Этот пакт, а также принятый в
декабре 1992 г. Конституционный закон «О перенесении полномочий к автономным сообществам, которые согласились на автономию согласно статье 143
Конституции» позволил десяти автономным сообществам получить 32 новых
полномочия, существенно реформировать свои уставы [10, с. 170] и приблизиться к тому статусу, которым обладали регионы «особых исторических прав»
(Каталония, Страна Басков и Галисия). Те, в свою очередь, вынашивали еще
более амбициозные планы.
В 2002-2004 гг. с требованиями ревизии основополагающих правовых актов выступил Женералитат Каталонии. В специальном обращении к Мадриду
депутаты регионального парламента настаивали на передаче Каталонии дополнительных компетенций, входящих в категорию компетенций центрального
правительства; внесении поправок в действующее законодательство, в той или
иной мере ограничивающее автономные права региона; разработке механизма
непосредственного участия Женералитата в работе различных органов и комитетов Евросоюза. Апогеем претензий каталонской элиты стал проект нового
Статута, закрепляющий за регионом целый ряд новых полномочий (особенно в
финансово-бюджетной сфере) и определяющий региональное сообщество Ка84
талонии как «нацию» (хотя Конституция 1978 г. знает лишь одну нацию – испанскую). Проект Статута существенно расширил перечень предметов исключительной компетенции автономного сообщества (до 58), причем 10 из них ранее принадлежали центральной власти. Обсуждение проекта Статута в каталонском парламенте, а затем и в Генеральных Кортесах проходило в условиях роста сепаратистского движения в регионе. Несмотря расхождение позиций ведущих политических сил страны по ключевым положениям проекта, властям
Каталонии и центральному правительству удалось согласовать компромиссные
формулировки. Так, окончательный проект статута предусмотрел модель «экономического взаимодействия», схожую с отношениями центрального правительства со Страной Басков и Наваррой, и предусматривавшую значительную
финансовую и налоговую самостоятельность от Мадрида. Сбором налогов
должно заниматься Налоговое агентство Каталонии, подконтрольное Женералитату [9, с. 79]. Принятый на региональном референдуме 2006 г. Статут [5]
был оспорен в Конституционном суде, однако судьи своим вердиктом отвергли
подавляющее большинство требований критиков основного закона Каталонии.
Процесс перераспределения полномочий в пользу автономных сообществ,
начавшийся в первой половине 1980-х гг., не завершился и в начале XXI в. О
динамике этого процесса свидетельствуют следующие данные: если в 1981 г.
центральная администрация осуществляла 87 % общегосударственных расходов, местная – 9 % и автономии только 3 %, то в 1985 г. центральная администрация, соответственно, 73 %, автономии – 14 % и местные власти – 12 %, а в
1992 г. центр контролировал только 35 % расходов. В то же время, в сфере перераспределения полномочий наблюдался и обратный процесс. Ряд автономных регионов предпочли отказаться от некоторых (требующих значительных
расходов) полномочий, передав их центральному правительству. Это касается,
в первую очередь, сферы занятости, образования и здравоохранения [10, с. 170;
12, с. 129].
Некоторые исследователи характеризуют современную Испанию как федеративное государство [См., например: 3; 20, с. 267]. Другие авторы видят в
испанской модели государственного устройства черты как федерализма, так и
унитаризма [См., например: 13, с. 34; 14, с. 249; 22, с. 134–137]. Как представляется, вторая точка зрения в большей степени отражает реальность. Один из
авторов текста Конституции 1978 г. М. Фрага Ирибарне подчеркивал: «Нами
была предпринята попытка найти нечто среднее, эдакую заветную формулу,
которая не вела бы ни к унитарному государству, ни к федерализму, а сохраняла территориальное единство страны» [Цит. по: 8].
На протяжении более чем трех десятилетий после принятия Конституции
государственно-территориальная система Испании эволюционировала в сторону федерализма. К федеративным чертам современной испанской государственности можно отнести следующие: во-первых, Конституция и статуты автономных сообществ разграничили предметы ведения и полномочия между
двумя уровнями государственного управления. Изъятие, как и любое другое
перераспределение этих полномочий в одностороннем порядке невозможно. В
Испании создана сложная система урегулирования многочисленных и постоян85
но возникающих конфликтов между политическим центром и регионами и
охватывающих, главным образом, вопросы разграничения полномочий и сферу
межбюджетных отношений. Во-вторых, автономные сообщества Испании самостоятельно формируют систему органов государственной власти на своей
территории, а эти органы, в свою очередь, самостоятельно осуществляют полномочия, закрепленные за ними в статутах. В-третьих, в рамках формируемой в
Испании системы «бюджетного федерализма» за автономными сообществами
закреплен целый ряд региональных налогов, поступления от сбора которых невозможно изъять в общенациональный бюджет. В-четвертых, Испания является
страной с глубокими межрегиональными правовыми, социально-экономическими и социокультурными различиями, отчетливо выраженной региональной
идентичностью жителей автономных сообществ. Государству автономий присуща разделенная лояльность: для испанцев характерна привязанность как к
своей «малой родине», региону, так и испанскому государству в целом. Разделение лояльности является важным элементом федералистской политической
культуры.
В то же время, государственно-политическая система Испании не обладает
всеми признаками, характерными для федеративного государства. Во-первых,
основной закон не устанавливает федеративное государственное устройство
страны, не определяет структуру государственно-территориальных единиц –
субъектов. Конституция 1978 г. лишь предусматривает возможность создания
децентрализованного государства, в рамках которого могут образовываться автономные регионы. Следует отметить, что при институциализации федеративных отношений изначально устанавливается четкая структурно-территориальная организация, в то время как в государстве автономий региональные единицы по мере готовности сами инициируют автономный процесс [См. подробнее:
6, с. 125]. Во-вторых, в федеративном государстве обязательным является механизм участия субъектов в разработке и осуществлении общенациональной
государственной политики. Представители регионов (избранные населением
субъекта или делегированные его органами власти) формируют одну из палат
федерального парламента. Являясь местом выражения региональных интересов, она представляет собой неотъемлемое звено законотворческого процесса и,
как правило, наделена специальными полномочиями в сфере назначения должностных лиц федерации (например, членов конституционного суда). Сенат Испании не имеет статуса палаты регионального представительства, его формируют преимущественно провинции, а не автономные сообщества. Если от каждой из пятидесяти провинций избирается по четыре сенатора, то автономные
сообщества (в лице их законодательных органов) делегируют в Сенат по одному представителю и еще по одному представителю от каждого миллиона населения, проживающего на их территории. Властные полномочия испанского Сената существенно уступают властным полномочиям Конгресса депутатов. Кроме того, парламенты автономных сообществ лишены права законодательной
инициативы в Генеральных Кортесах, что является важным элементом участия
субъектов в общенациональном законотворческом процессе в федеративных
государствах [19, с. 187]. В-третьих, субъекты федеративных государств имеют
86
право самостоятельно принимать свои основные законы, закрепляющие их правовой статус, устанавливающие систему региональных органов государственной власти и управления. В Испании автономные сообщества не обладают таким правом, разработанные региональными парламентами и принятые на референдуме проекты статутов должны утверждаться Генеральными Кортесами [19,
с. 202].
Традиции регионализма в Испании предполагают, что автономные сообщества, по мере готовности воспринять больший объем полномочий, инициируют изменение баланса компетенций. В начале 2010-х гг. такой запрос испанскими регионами уже сделан, причем инициаторами этого процесса, как обычно, выступили Каталония и Страна Басков. Дальнейшая эволюция государственно-территориального устройства Испании будет в значительной степени
зависеть от достижения в результате диалога между центральным правительством и региональными сообществами консенсуса относительно «желаемого
завтра», неких общих контуров дальнейшей эволюции политико-территориального устройства страны. Не исключено, что им будет федерализм в своем классическом виде, тем более что определенные шаги в этом направлении уже сделаны.
Литературы
1. Gambino S. The Road Towards Federalism in Italy? // The Ways of Federalism in Western
Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain / A. Lopez-Basaguren, L. Escajcdo.
N.Y., 2013. V. 1. P. 351–374.
2. Maiz R, Caamano F., Azpitarte M. The Hidden Counterpoint of Spanish Federalism: Recentralization and Resymmetrization in Spain (1978–2008) // Regional and Federal Studies. 2010.
Vol. 20. № 7. March. 2010. P. 63–82.
3. Moreno L. The Federalization of Spain. London, 2001. 182 p.
4. Statute of autonomy of Catalonia 1979. URL: http://web.gencat.cat/en/generalitat/estatut/
estatut1979 (дата обращения: 01.03.2016).
5. Statute of autonomy of Catalonia 2006. URL: http://web.gencat.cat/en/generalitat/
estatut/estatut2006 (дата обращения: 01.03.2016).
6. Басиев М.С. Испанский опыт регионализма // Федерализм и регионализм: приоритеты XXI века: сб. материалов международ. науч. конф. Владикавказ, 2007. С. 120–135.
7. Бусыгина И.М. Взаимоотношения между властными уровнями в федеративном государстве и государстве автономий: сравнительный аспект (практика России и Испании) // Федерализм: российское и международное измерения (опыт сравнительного анализа) / под ред.
Р. Хакимова. Казань, 2004. С. 550–560.
8. Верников В. В автономном режиме // Известия. 1999. 20 мая.
9. Волкова Г.И. Процесс федерализации Испании // Вестник МГИМО-Университета.
2011. № 6. С. 78–85.
10. Годлевская В.Ю. Формирование государства автономий в Испании в условиях
установления и консолидации демократии (1975–1996 гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. Вып. № 5 (25). 2013. С. 165–172.
11. Грачев Н. И. Государственный суверенитет и формы территориальной организации
современного государства: основные закономерности и тенденции развития. М.: Книгодел,
2009.
12. Данилевич И.В. Автономизация Испании // Полис (Политические исследования).
1995. № 5. С. 121–129.
87
13. Дементьева Н.А. Понятие налогового федерализма в доктрине и законодательстве
Испании // Финансовое право. 2014. № 2. С. 34–39.
14. Жозеф Мария Кастелпа Андрю. Статут автономии в Испании: основные нормы автономных сообществ // Федерализм: российское и международное измерения (опыт сравнительного анализа) / под ред. Р. Хакимова. Казань, 2004. С. 232–251.
15. Испания. 1918–1972 гг. Исторический очерк / под ред. И.М. Майского. М.: Наука,
1975.
16. История XIX века / под ред. Э. Лависса, А. Рамбо: в 8 т. Т. 7. М.: ОГИЗ, 1939.
17. История Европы: в 8 т. Т. 5. От Французской революции конца XVIII века до первой мировой войны. М.: Наука, 2000.
18. Конституция Испании 1931 г. // Конституции буржуазных стран. Т. 2. Средние и
малые европейские страны. М.; Л., 1936.
19. Конституция Королевства Испания от 27 декабря 1978 г. // Конституции зарубежных государств / сост. проф. В.В. Маклаков. М.: БЕК, 2000. С. 163–214.
20. Ксавьер Арбос Марин. Отношения между государством и автономными сообществами // Федерализм: российское и международное измерения (опыт сравнительного анализа) / под ред. Р. Хакимова. Казань, 2004. С. 267–278.
21. На перекрестке Средиземноморья. «Итальянский сапог» перед вызовами ХХI века.
– М.: Весь мир, 2011 (Старый свет – новые времена) / под ред. Т.В. Зоновой. М., 2011.
22. Орлинская О.М. Федерализм в Испании миф или реальность // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. Тамбов, 2011. № 3 (9). Ч. I. C. 134–137.
23. Португалия: путь от революции (Старый свет – новые времена) / под ред. В.Л. Верникова. М.: Весь мир, 2014.
24. Сориа Ж. Война и революция в Испании. 1936–1939 гг. Т. 1. М.: Прогресс, 1987.
25. Улунян А.А. Политическая история современной Греции. Конец XVIII – 90-е гг.
XX в. М.: ИВИ РАН, 1998.
26. Фонсека Нели де Жезуш. Политика испанского государства по противодействию
сепаратизму // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология.
Политология. 2012. № 3 (19). С. 128–133.
27. Хенкин С.М. Каталонский конфликт вчера и сегодня // Актуальные проблемы Европы. Европа: вызовы сепаратизма. 2015. № 1. С. 117–138.
28. Хью Т. Гражданская война в Испании. 1931–1939 гг. М.: Центрполиграф, 2003.
29. Энрик Фоссас Эспадалер. Автономия Каталонии // Этнические и региональные
конфликты в Евразии. Т. 3: Международный опыт разрешения этнических конфликтов / общ.
ред. Б. Коппитерс. М.: Весь мир, 1997. С. 276–290.
88
НЕЛЕГАЛЬНАЯ ИММИГРАЦИЯ В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ:
ПРИЧИНЫ, ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ1
С.Г. Сизов
д-р ист. наук, доцент, профессор
кафедры «Общая экономика и право»
Сибирской государственной
автомобильно-дорожной академии (Омск)
Сообщения информационных агентств о нелегальной иммиграции в Европу всё больше напоминают сводки боевых действий. Канал «Евроньюс»
(Evronews) почти каждый свой выпуск начинает с того, сколько сегодня высадилось мигрантов на острова Италии и Греции. Цифры, как говорится, впечатляют, каждый день счёт идёт на сотни и тысячи. В 2014-м году до Европы добрались 280 тысяч нелегальных мигрантов, причём, по статистике, 90 % высадились на берег Италии или Греции. Между тем, уже в первом квартале 2015
года число нелегалов выросло в два с половиной раза [1].
Основные каналы нелегальной миграции давно отработаны. Это бизнес,
причём, многомиллионный бизнес по переправе людей. А поскольку спрос всё
растёт, а противодействие слабое или отсутствует вовсе, то бизнес этих контрабандистов будет процветать по определению.
Основные места стартов потенциальных иммигрантов – Ливия, Тунис, Марокко, Турция. Вот основные маршруты:
1. С Ливии и Туниса беженцы высаживаются на итальянских островах
Лампедуза, Сицилия, высаживаются и на Мальте.
2. С Марокко иммигранты плывут на лодках в Испанию или пытаются
прорваться через стены испанских анклавов в Африке (Сеута и Мелилья). Африканцы собираются группами в несколько сот человек и, вооружившись самодельными лестницами, штурмуют границу – два ряда шестиметровых проволочных заграждений. Кто-то пытается прорваться морем. Их цель – вступить на
землю Испании, ведь по испанскому закону после этого их можно будет выслать лишь по суду. При том, что полиции строжайше запрещена стрельба на
поражение. Запрещены на границе и колючие заграждения – во избежание более серьезных травм мигрантов.
3. С Турции иммигранты из стран Ближнего Востока высаживаются на
греческих островах, расположенных поблизости: Восточные Спорады (Самос,
Хиос), Южные Спорады (Кос), а также Родос. Эти острова находятся близко к
турецкому берегу. Особая хитрость заключается в том, что иммигранты при
приближении греческих пограничников повреждают лодки, чтобы заставить
греков спасти их.
4. В последнее время появляются новые маршруты, в частности, черноморский: из Турции в Болгарию и Румынию [2].
© Сизов С.Г., 2016
89
5. Путь в Норвегию через территорию России. По туристическим визам до
Москвы, далее поездом до Никеля, а затем на велосипеде (а сейчас после запрещения велосипедного пересечения, уже на автомобиле-развалюхе) к норвежской границе [3].
Есть, конечно, и другие маршруты, в том числе, через территорию Украины и Белоруссии, но там всё-таки счёт на многие тысячи пока не идёт. Там есть
охраняемая граница, да и эти маршруты, к нашему счастью, менее удобны для
иммигрантов.
До последнего времени Европа, искорёженная деструктивными «толерантными» ценностями, была абсолютно беззащитна перед этим наплывом. Страны
ЕС временно спасали всех мигрантов и везли их к себе, не понимая, что существуют пределы возможности принятия иммигрантов. Ведь, по сути, к ним
прибывают люди, которые не будут ассимилированы, и, вполне вероятно, не
смогут найти себе работу, будут жить на пособие и, которые, наверняка, пополнят криминалитет. Но ещё более опасно, что эти вполне страдающие иммигранты уже очень скоро не будут испытывать к своим спасителям ничего кроме
ненависти, и будут требовать переформатирования всей европейской жизни по
иным нормам, например, по законам шариата.
Один из символов нелегальной иммиграции для Италии – остров Лампедуза, уже ставший определённым символом. Лапедуза – небольшой итальянский
остров, расположенный всего в 120 км от африканского побережья. Его буквально штурмуют беженцы из Африки, пытаясь добраться до него на допотопных судах.
Они прекрасно знают, что итальянцы их будут спасать и худо-бедно пристроят. А там возникнет возможность перебраться куда-то ещё. Италия в шоке:
еженедельно на Лампедузу прибывают 10 тысяч африканцев. Они регулярно
тонут, поскольку их лодки набиты с колоссальным перегрузом. Нередки случаи, когда эти нелегалы сами выбрасываю кого-то за борт. Итак, более полумиллиона африканцев в год – на одну несчастную Лампедузу!
Итальянцы просят обсудить ситуацию своих коллег по Европейскому союзу. И ждут от них помощи по приёму иммигрантов. Но ведущие другие страны
Европы (Германия, Великобритания, Франция) не хотят принимать иммигрантов. Этого «добра» там достаточно. Тем более, речь идёт о малообразованных
африканцах, многие из которых пополнят ряды тунеядцев и бездельников, а то
и радикальных исламистов и террористов. Более того, лидеры Евросоюза упрекают Италию, что она до последнего времени давала им трёхмесячную визу,
которая позволяла попадать в другие страны ЕС. Как ответ – страны Европы
начинают восстанавливать пограничный контроль внутри Шенгена.
Помимо Италии и Греции сейчас довольно напряженная ситуация и во
французском Кале (на берегу пролива), где англичане выставили свои посты,
чтобы не допускать нелегальных иммигрантов. Они штурмуют грузовики прямо на ходу, пытаясь въехать в Англию любой ценой.
Главная причина лавинообразного роста иммиграции – это высочайшая
рождаемость в Африке (демографический взрыв!), выталкивающая на рынок
огромное количество никому не нужных рабочих рук. Плюс колоссальная бед90
ность и отсталость, политическая нестабильность. К этому добавляется фантастическая привлекательность Запада, с его «толерантностью», который до недавнего времени готов был принимать всех, кого ни попадя (даже исламских
радикалов), давать жильё, платить пособия. Разрушение существовавших политических режимов в Тунисе, Ливии, Сирии, Ираке, рост военных действий (в
связи с так называемым ИГИЛ – «Исламским государством») резко увеличивает потоки беженцев.
Остроты проблемы многие европейские интеллектуалы не понимают или
зашорены давным-давно провалившемся «мультикультурализмом». Вспоминаю, например, разговор в студии одного из федеральных телеканалов. В дискуссии участвовал французский писатель и политолог Марек Хальтер. Зашёл
разговор о массовой нелегальной иммиграции во Францию и Италию. И что же
он предложил для решения проблемы? Он предложил посылать корабли Евросоюза к берегам Африки, на которых бы привозили всех желающих в Е в-ропу.
Тогда бы, мол, удалось сохранить сотни жизней тонущих африканцев. Откровенно говоря, я был в шоке от этой, с позволения сказать, логики. Как же надо
ненавидеть свою страну, чтобы предлагать такое. И мои эмоции тут же разделил писатель Михаил Веллер, участвовавший в дискуссии. Он спросил этого
самоуверенного «мыслителя»: зачем же тогда мучиться, отменяйте визы, везите
вообще всю Африку к себе. И что ему мог ответить Хальтер? Да, ничего: просто смеялся и всё. И всё!
Все разговоры о необходимости создания новых рабочих мест в Северной
Африке как кардинального средства борьбы с нелегальной иммиграцией являются на сегодняшний день утопией и чистой глупостью. Никаких денег на это
не хватит. Кроме того, многие африканцы просто не смогут на современных
предприятиях работать. «Планирование семьи» – это, конечно, перспективная
для Африки и вполне либеральная мера, но потребует десятилетий для эффекта,
а проблему надо решать сейчас, срочно. На севере Африке ждут отъезда ещё
примерно полмиллиона потенциальных иммигрантов, а ещё миллионы следят
за ситуацией, готовясь оправиться в путь. И одним уничтожением лодок контрабандистов, как предлагают некоторые политики, мало чего не добьёшься.
Хочу немного поразмышлять о возможных путях решения проблемы беженцев. Ясно, что с существующими ультралиберальными нормами проблему
решать будет очень сложно. Но выход всё же есть. Нет, я не предлагаю ничего
радикального. Предлагаю Европе использовать опыт Австралии, которая в
1990-е годы столкнулась с колоссальным наплывом азиатских иммигрантов.
Австралия приняла абсолютно правильное решение: перевозить их назад, не
допуская высадки. И это, кстати, спасло многих от гибели в море. Именно так
поступают и некоторые другие страны, например, Индонезия которую осаждают беженцы с Бирмы.
Самое простое – дать возможность решать эту проблему новым североафриканским правителям за деньги. Что касается греческих островов, то Европе
необходимо жёстче работать с Турцией, которая, при наличии политической
воли, может остановить поток или хотя бы резко снизить беженцев.
91
Сегодня в Северной Африке остановить беженцев тяжело из-за существующей политической нестабильности. Напомню, что в своё время такие африканские лидеры, как Муамар Каддафи в Ливии и Зейн-аль-абедин Бен Али в
Тунисе, предприняли серьёзные усилия по блокированию нелегальных эмиграционных маршрутов в Европу. Но Запад по дурости помог свалить эти режимы,
вместо того, чтобы поддерживать их. (Хотя бы за то, что они во многом избавляли его от этого иммигрантского кошмара). И сегодня Европе надо будет
начинать всё с начала. Безусловно, надо создавать договорённости с Ливией,
откуда стартует большинство иммигрантских лодок. И платить деньги за то,
чтобы ни одна лодка не отошла от ливийских берегов. А за каждую причалившую к европейскому берегу снимать деньги, считая от количества иммигрантов. Конечно, правозащитники опять будут недовольны. Но выбор, откровенно
говоря, у Европы невелик, если она желает сохранить национальную и расовую
идентичность (хотя бы её остатки).
Но, возможно, главное, нужно кардинально изменить иммигрантское и социальное законодательство стран Европы, чтобы она, наконец, перестала быть
раем для африканских беженцев, пополняющих, как правило, ряды криминала
и исламских радикалов. И прут они туда потоком не только морем на допотопных посудинах. Многие приезжают туда вполне легально или полулегально,
пользуясь либеральными европейскими нормами. Пока ещё для этого достаточно возможностей.
Ну, а для несчастных людей, ставших невольными любителями экстремальных морских путешествий, можно создавать лагеря беженцев на территории Африки и Азии, куда немедленно переправлять всех высадившихся в Европе. Если делать это решительно, то количество иммигрантов значительно поубавится. И это будет реальным средством спасения сотен людей, которые тонут в море. В таких лагерях каждый должен получит возможность спастись от
голода. Лагеря эти должны финансироваться и контролироваться Европой, но
порядок там должны осуществлять местные, которые не будут слишком «заморачиваться» с правами человека, если дойдёт до беспорядков.
Многие ещё помнят, что такое «чеченизация» конфликта в Чечне. Так вот,
это будет своего рода «африканизация» и «турцизация» проблемы беженцев.
Это позволит спасти жизни людей на море и отвергнуть обвинения правозащитников в бездействии. Но, одновременно, это решение позволит не превратить Европу в безумный Новый Вавилон, предотвратит её дальнейшую маргинализацию, криминализацию, ускоренную исламизацию, сбережёт ей немалые
средства. А потом (по возможности) можно будет там подумать и о школах, и о
каких–то полезных занятиях в африканских пунктах приёма беженцев. А то,
что дойти может, свидетельствует их поведение в самой Италии, где нелегалы
неоднократно устраивают бунты, требуя немедленной допуска в Евросоюз. Последние рождественские новогодние праздники 2016 года ознаменовались массовыми нападениями иммигрантов на женщин в Германии, Швеции, Дании при
полном бессилии и попустительстве полиции.
Надо чётко понимать, что мигранты сегодня – это отнюдь не жалкие просители, они способны на всё, и никакой благодарности к свои итальянским и
92
немецким «спасителям» не испытывают. И ассимилироваться они не смогут, да
и не собираются. Наоборот, они будут пытаться подстроить коренных жителей
под себя. И, надо сказать, при существующей до последнего времени политики
заискивания перед разного рода меньшинствами в Западной Европе, это вполне
им удаётся.
18 октября 2015 года канцлер Германии Меркель приехала в Турцию договариваться с президентом Эрдоганом по проблеме нелегалов. Деваться ей особо
некуда: без Турции в этой проблеме – никуда, ведь большинство беженцев садится на свои лодки именно на турецком побережье. До последнего времени
препятствовать этому у Турции стимула не было. Страна ведь и так перенасыщена беженцами с Сирии и Ирака, брать на себя ещё заботу о дополнительных
сотнях тысячах никакого желания у турок нет. Более того, беженцы стали важным козырем Эрдогана в его давней игре с Евросоюзом.
И что же Меркель? Все её разговоры о том, что, мол, никому из беженцев
не откажем, забыты. Рейтинг канцлера стремительно ползёт вниз. Даже вполне
оболваненные толерастией бюргеры начинают смекать, что слишком дорого им
начинают обходиться эти самые беженцы (считать они ещё не разучились). Ну,
а те, кто ещё сохранил национальное чувство и религиозное сознание, чётко
понимают, что приезд такого количество чужаков может дестабилизировать
страну, резко изменить её расовый, этнический и конфессиональный баланс.
Отсюда рост движения Пегида, электоральные успехи Национального фронта
во Франции, жёсткие заявление венгерского премьер-министра В. Орбана и т.п.
И всё чаще наблюдаются поджоги домов, которые планируются под общежития
беженцам. Дело доходит уже до того, что коренных немцев власти выселяют из
муниципального жилья в более скромные условия, а на их место селят семьи
беженцев. И (маленькая деталь) мигранты всё равно недовольны…
После нападений на женщин в рождественские праздники в Германии
начинается создания групп самообороны, поскольку люди уже понимают: на
полицию и, тем более, на политиков надеяться не стоит. Посмотрим, как всё это
скажется на результатах выборов в Германии. Проблема на глазах умнеющих
немецких обывателей только в том, что Национального фронта, как во Франции, у них нет. Любой политик, который будет говорить о национальных проблемах, в Германии будет немедленно заклеймён как фашист. И если Франция
уже понемногу привыкает к успехам Национального фронта, то в Германии его
ещё предстоит его создать. Движение Пегида пока в политике не играет большой роли.
Что хочет канцлер ФРГ от Турции, вполне понятно: она желает резко сократить количество беженцев отправляющихся их Турции в Европу и (по возможности) возвратить «назад» экономических беженцев, заехавших ранее в ЕС
через Турцию. С последней частью будут большие проблемы, а вот первое для
турок вполне достижимо. А что в обмен? Меркель предложила туркам, вопервых, немаленькие деньги – 3 млрд. евро. Во-вторых, пообещала безвизовый
режим, и, в-третьих, главный приз – ускорение вступление в Евросоюз. Ведь
Турцию уже много лет держат в прихожей в качестве «кандидата» и кормят
обещаниями.
93
Следом за визитом Меркель, 11 и 12 ноября 2015 года прошла встреча в
верхах на Мальте. В Валлетте, лидеры стран ЕС и лидеры Африканских и транзитных стран обсудили острую проблему. Евросоюз выделяет 1,8 млрд евро на
то чтобы африканцы помогли справиться с проблемой беженцев. О том, как это
РЕАЛЬНО может произойти, поразмышляю чуть ниже.
12 ноября 2015 года следует созванный председателем Европейского Совета Дональдом Туском внеочередной неформальный саммит Европейского союза, который обсудит последнее развитие миграционного кризиса. И беспокойство понятно. Д.Туск в письме-приглашении на саммит в Валлетте главам государств и правительств стран ЕС пишет: «В октябре мы пережили рекордный
уровень – 218 тыс. беженцев и мигрантов, которые пересекли Средиземное море». И ЭТО ТОЛЬКО ЗА ОДИН МЕСЯЦ! Реальная цифра, вполне возможно,
ещё выше. Европейцам действительно давным-давно пора хвататься за голову.
Они уже порядком потеряли время. О негативных последствиях такого наплыва
маргиналов понимает любой здравомыслящий человек.
Международная организация «Эмнисти Интерненл» опасается, что саммит
на Мальте по проблеме беженцев завершится договоренностью о контроле границ и не улучшит положения беженцев. Опасается совершенно справедливо.
Но у Европы, похоже, нет выбора.
Что же будет? Давайте попробуем представить, что же могут такого предпринять Турция и страны Африки, чтобы остановить волну беженцев? Как вообще можно убедить людей, которые спасаются от нищеты и войны, отказаться
от плана попасть в немецкую «землю обетованную», где каждому по приезде
дают сразу 500 евро, а потом платят ни за что 300 евро ежемесячно, не считаю
иных, вполне ощутимых радостей (бесплатное обучение детей и т.д.). Этот всё
я не придумываю. Чем же можно остановить тысячи и десятки тысяч в нынешней ситуации? Мой ответ, к сожалению, однозначен: террором. Хотя и на это
потребуется очень много денег. И то не факт, что получится. В общем, Европа,
когда станет совсем плохо, решится дать много денег Африке и Турции (сегодня называют сумму в 600 млрд. долларов!) и закроет глаза и закроет глаза на
нарушения прав человека. (Эти деньги могут чуть ослабить социальное напряжение, но не более, поскольку средства будут неизбежно разворованы). Но,
главное, конечно, должна измениться сама Европа, покончив с нынешней иммиграционной политикой. Логика проста: чтобы люди перестали туда ехать,
там не должно быть столь хорошо для беженцев.
Есть ли примеры того, как останавливали беженцев? Когда-то римляне создавали огромные стены и валы в Европе, чтобы не допустить проникновения
на территорию империи германцев, даков. И, кстати, сами нанимали на службу
племена, чтобы они охраняли границу. И эти племена не особо стеснялись.
(Хотя закончилось всё для Римской империи довольно печально).
Есть примеры и посвежее. Вспомните, как остановили бегство жителей
Восточного Берлина. Построили стену и стали стрелять всех, кто пытался её
преодолеть. Но там не было: ни таких масштабов миграции, ни такого отчаяния. Как не допускают власти бегства из Северной Кореи в Южную? Если отбросить идеологическую обработку, опять-таки, террором. Получится ли ещё с
94
африканцами и азиатами, большой вопрос. Но другого пути в сложившихся
условиях я просто не вижу.
Кто-нибудь из находящихся в здравом уме верит, что на эти 1,8 млрд евро
в Африке будут открыты рабочие места, улучшены социальные условия и т.п.,
что и заставит сотни тысяч негров отказаться от желания уехать в Европу? Думаю, что у людей, которые сохранили здравомыслие, таких иллюзий нет. Даже
куда большие суммы вряд ли дадут эффект. Деньги эти в значительной части
будут разворованы, частично использованы для того, чтобы заткнуть самые
острые проблемы. Тем не менее, количество беженцев снизится. Ведь от этого
будет зависеть: получат ли они следующие транши Евросоюза. В лучшем случае, на половину этих денег построят лагеря, огромные лагеря беженцев с палаточными городками и будут их держать за колючей проволокой под автоматами. Ну, и конечно, переловят лодочников, для которых этот бизнес стал воистину золотым.
Африканцы-охранники при необходимости будут готовы стрелять, ведь
человеческая жизнь в воюющей, бедной и страшно перенаселённой Африке
стоит очень дёшево. И никаких лишних правозащитников к беженцам просто
не пустят. А если и окажутся они там Европа привычно разведёт руками: что
же вы хотите, это нецивилизованные страны. И через какое-то время (это будет
не очень быстро) поток желающих увидеть европейские берега, действительно
несколько ослабнет. Но не исчезнет.
С Турцией, конечно, всё будет чуть более цивильно, но только именно
чуть-чуть. Всё-таки будущий член Евросоюза не может действовать слишком
неприлично, но механизм будет примерно тот же, поскольку иного БОЛЕЕ
ДЕШЁВОГО ВАРИАНТА пока не существует.
Таким образом, мы видим очередное величайшее лицемерие, затеянное
Гейропой. Ведь не без их участия были разрушены режимы Саддама Хусейна,
Муамара Каддафи, а теперь пытаются смести и Асада. И вот эта цивильная Европа просит турок и африканцев: спасите нас от арабов, негров и иных ваших
собратьев. Как будто говорят: сами мы не можем держать беженцев в концлагерях, да и содержать их по нашим меркам весьма накладно, но у вас всё получится «дёшево и сердито». Мы на многое закроем глаза. И, быть может, если
Вы будете топить их лодки, мы этого не заметим.
Парадокс заключается в том, что это всё равно абсолютно паллиативные
меры. Главное, что внутри Евросоюза никаких мер пока не предпринимаются,
хотя первое, что нужно было бы сделать давным-давно: перестать давать деньги мигрантам. Но европейцы этого боятся: слишком они уже их развратили.
Эти «гости» давно чувствуют себя уже хозяевами во многих районах европейских городов. Вы перестанете им платить, значит, немедленно начнутся массовые поджоги машин, грабежи магазинов и прохожих. Поэтому толерастическая
Европа в полном бессилии складывает лапки. Кроме как решать проблему
деньгами, они и не умеют. И вероятнее другого способа заставить уехать беженцев, у них нет. Но и за деньги уедут считанные единицы. А кто же захочет?
За какие же деньги уедут они в никуда?
95
Попробуйте-ка выслать 400 тысяч из 500 тысяч мигрантов, заехавших с
января по сентябрь 2015, как заявляли некоторые западноевропейские руководители. Руки коротки! Даже экономически это потребует огромных затрат. Но
даже, допустим, нашли деньги, пригнали огромные паромы и собираетесь всех
грузить в немецких портах и везти прямо в Африку, чтоб по дороге не поразбежались. Но кто сказал, что мигранты просто будут сидеть, молчать, выполнять
безропотно все приказания властей? Тем более, что есть и мощные диаспоры, и
всё те же «правозащитники» (которым на интересы белых коренных жителей,
как обычно, плевать). Мигранты уже поняли, что в них за неповиновение полицейские стрелять не будут, а терять им больше нечего. Беженцы будут сопротивляться до последнего, будут орать женщины и дети, будут будоражить общественное мнение правозащитники, будут устраивать акции неповиновения
соплеменники и единоверцы, поднимется негодование в странах «третьего мира» и т.п. Будут и неизбежно новые теракты. В некоторых странах (Норвегия)
сейчас путаются платить деньги, чтобы беженцы уехали. Но готовы к этому
единицы.
С принятием некоторых мер Европой по борьбе с нелегалами, возникает
опасность популярности российского маршрута беженцев [3]. Если турецкоафриканские маршруты станут ненадёжными, азиатские беженцы могут ещё
большое обратить внимание на путь в Норвегию и другие страны ЕС через Россию. Но воз и ныне там. Российские посольства по-прежнему продолжают раздавать визы беженцам-азиатам. А ведь когда-то эти тысячи нам могут просто
вернуть назад. Причём Европа сделает это с удовольствием.
В общем, чем дальше, тем драматичнее. Думаю, что скоро маразм будет
ещё крепче. Одной рукой Евросоюз будет давать деньги африканцам и туркам
на борьбу с потоком беженцев-собратьев, а другой – выделять средства на
борьбу с детской смертностью в Африке, на спасение мигрантов на морях, на
выплату им пособий на территории Евросоюза. И продолжать участвовать (а
кто его особо спрашивает?) во всех американских авантюрах в «третьем мире».
Лучше бы финансировали программы планирования семьи в Африке: в этом
была бы хоть какая-то логика. Вечно этот маразм продолжаться не будет. И
боюсь, мы увидим ещё более драматическое развитие этой проблемы.
Ясно одно, проблему нелегальных иммигрантов придётся решать и решать
быстро, если Европа хочет выжить как цивилизация. «Забалтывание» проблемы
может потребовать куда более радикальных мер. Способна ли на них Европа
сегодня? Сочувствуя традиционной консервативной Европе, надеюсь, что здоровые силы смогут заставить своих политиков принять адекватные меры. Иначе
мы увидим неизбежно растущую дестабилизацию Европы, которая может привести к кардинальным изменениям национально-культурной, социальноэкономической, а в последующем, и политической жизни европейских стран. И
в этой связи политика России в Сирии, связанная с сохранением сирийского
государства и борьбой с терроризмом на Ближнем Востоке является фактором,
который способствует сокращению иммиграции в Западную Европу [4].
Литература
96
1. Беженцы из Сирии ищут новый путь в Европу – через Чёрное море. URL: http://ru.
euronews.com/2015/04/10/waiting-to-join-schengen-romania-a-new-gateway-to-migrants-heavenand-hell/ (дата обращения: 20.05.2015).
2. Небывалый рост нелегальной миграции в Европу. URL: http://ru.euronews.com/
2015/05/21/greek-island-of-samos-feels-strain-of-migrant-influex/ (дата обращения: 25.05.2015).
3. Сизов С. Российские посольства продают турвизы беженцам... // Читальня.ру. URL:
http://www.chitalnya.ru/work/1446461/ (дата обращения: 25.12.2015).
4. Сизов С.Г. Военная операция России в Сирии: очередной этап «геополитической реконкисты» // Архитектура, строительство, транспорт: материалы Международной научнопрактической конференции (к 85-летию ФГБОУ ВПО «СибАДИ») // elibrary.ru. URL:
http://elibrary.ru/download/33915536.pdf (дата обращения: 25.02.2016).
97
ВЛАСТНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
И ГОСУДАРСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1
А.А. Туровский
д-р экон. наук, профессор
Государственного университета управления (Москва)
И.М. Карелина
канд. психол. наук,
начальник отдела управления персоналом
ОАО «Омскнефтехимпроект»
Проблема эффективности функционирования государственной власти и
система государственного управления в современной России является объектом
исследования многих специалистов и ученых, экспертных и научных коллективов. По данной тематике подготовлено и издано довольно большое количество
научных трудов. В современных научных социально-философских и политологических исследованиях убедительно доказывается, что постепенно происходит
усиление взаимодействия двух видов: властно-политического и государственно-административного управления. В результате этого повышается ценностная
интеграция системы управления и распространение единых идейных оснований
политико-государственной деятельности на весь корпус правящего класса (политической элиты). А также усиливается идеология законности, уважения к
праву и букве Конституции, происходит расширение возможностей последней
для реализации текущих управленческих задач и развивается внутренняя конкуренция внутри самого правящего класса и т.д.
Взаимодействие политического и государственного происходит по-разному, которое зависит от характера общественного устройства и формы политического режима. Власть и государственное управление – это взаимосвязанные
категории и процессы в современном социуме. Что же касается высшей/политической и государственной власти, то они вообще не могут существовать друг
без друга. При этом высшая власть осуществляет политическое руководство в
обществе, формулируя наиболее общие социальные цели, ценности и идеалы, а
также создает проблемы, требующие как разрешения, так и корректировки в
политике. Приоритетные направления и объекты регулирования в экономике
обуславливают необходимость в разработке государственной властью соответствующих методов управления и их практической реализации. Дуалистический
характер современного государства означает, что управление политической системы не только не меняет ее базовых параметров, но и не всегда активизирует
внимание политической власти к управленческим проблемам. В современных
условиях властная и управленческая субсистемы остаются относительно самостоятельными образованиями, а процесс их взаимодействия в рамках государства носит противоречивый характер, которое является институтом власти.
© Туровский А.А., Карелина И.М., 2016
98
Государство понимается как политическая организация, объединение людей на властных началах [1, с. 11]. Современной наукой государство рассматривается в качестве совокупности народонаселения, обособленной территории
и публичной власти. Это означает, что в современных социумах постоянно
усложняется система государственной власти, растет и функционально дифференцируется государственный аппарат, усиливается взаимодействие органов
государства с институтами гражданского общества. Кроме того, в практику
государственного управления вводятся элементы в большей мере характерные
для бизнеса и иных не государственных структур. Многие вопросы, касающиеся соотношения политической и административной сторон в деятельности государственных институтов, обусловлены внутренними теоретико-методологическими проблемами политической науки. Среди политологов отсутствует единый подход в решении этой проблемы. Так, одни исследователи справедливо
полагают, что политические и государственные механизмы, политическое и
государственное управление тесно взаимосвязаны, но не тождественны друг
другу. При этом указывается на то, что «политическое» понимается несколько
шире, чем «государственное». Другие считают, что вообще бесперспективно
рассматривать взаимосвязь политики и государственной деятельности вне политической науки.
В научных исследованиях появилось немалое количество работ, в которых
взаимосвязь политической и государственной власти является объектом научного анализа. При этом во многих из них постулируется, что государство всегда
представляет собой специфический социальный институт, обладающий своими
особенностями в деле производства, продвижения и реализации социально значимых целей. Конечно, выступая как институт регулирования общественных
процессов, государство действует в разных поведенческих форматах. Однако
все акции данного института могут быть представлены как продукты двух особых подсистем регулятивной деятельности: властно-политической и собственно-управленческой. Многие зарубежные специалисты полагают, что деятельность государственных органов и бюрократии носит политический характер,
поэтому контроль должен носить публичный характер.
Наличие относительно самостоятельных подсистем принятия государственных решений показывает, что в едином процессе целеполагания существуют различные выработки ориентиров, особые механизмы согласования интересов, мотивации акторов, свои стратегии выработки позиций, а также различные альтернативы применения тех или иных ценностей и традиций, норм и
стереотипов, правил и технологий действий. В процессе длящейся в отечественном научном сообществе уже несколько десятилетий теоретической дискуссии выработаны две базовые позиции в вопросе определения диалектики
взаимодействия этих двух сфер. При этом одни ученые подтверждают наличие
этих сфер деятельности государства как достаточно самостоятельных, другие
предпочитают отстаивать тезис об их органической целостности. Третьи полагают, что в качестве политической организации государство представляет собой определенный правовой порядок, поскольку оно управляется и регулируется посредством права.
99
Государство не является единственным, а в некоторых случаях и доминирующим субъектом политики, допуская наличие множественных и авторитетных центров политического воздействия на процесс подготовки и приятия государственных решений. Учитывая масштаб деятельности государства, следует
особо отметить, что политическая составляющая чаще всего присутствует в
свойственном ему типе решений. В этом смысле принимаемые решения являются важнейшим аргументом в борьбе за власть между конкурирующими в
обществе группами. Однако это не свидетельствует о том, что весь процесс целеполагания в государстве можно расценивать в качестве политического.
Прежде всего, в силу того, что, несмотря на претензии политической власти,
она не может всецело господствовать над управляемым ею обществом. То есть,
государство в процессе государственное управления способно воспроизводить
не только политические, но и иные по характеру публичные и не публичные
решения макросоциального или локального характера. Иными словами, регулирование государством социальных объектов может осуществляться только на
основе применения этим институтом различных в отличие от правовых стандартов по отношению к тем или иным социальным партнерам и контрагентам.
При этом государственное управление базовыми приоритетами при иногда достаточно произвольном распределении ресурсов и статусов зависит не только и
не столько от его «симпатий» к контрагенту, сколько от силы, ресурсов и позиций последнего.
Следует особо подчеркнуть, что в научной литературе отсутствует единое
понятие по поводу термина «государственное управление». Так, одни специалисты характеризуют термин «государственное управление» как практически организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнь
в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, а также как опирающуюся на власть деятельность государственного аппарата по регулированию
общественных отношений. При этом объектом государственного управления
рассматриваются как общественные дела, так и основные цели самого государственного аппарата – внутренние по отношению к органам государственной
власти цели. У других авторов встречаются попытки более узкого толкования
сути государственного управления, которые сводит его преимущественно к организующей, исполнительно-распорядительной деятельности органов государства, осуществляемой на основе и во исполнение законов и состоящей в повседневном практическом выполнении функций. Тем самым значительно сужается
объект понятия, поскольку при этом фактически отождествляется сфера государственного управления со сферой функционирования исполнительной власти.
Третьи определяют государственного управления как деятельность исполнительно-распорядительного органа по воздействию на объект управления посредством принятия правовых актов, организации и контроля исполнения этих
актов и актов органов представительной власти. Такая трактовка позволяет акцентировать внимание только на вертикальном влиянии и фактически исключает форму сотрудничества между субъектом и объектом управления.
Наиболее веское определение государственного управления дает Н.И. Глазунова, которая его идентифицирует с целенаправленным организующе100
регулирующим воздействием государства через систему его органов и должностных лиц на общественные процессы, отношения и деятельность людей [2,
с. 13]. Государство у этого исследователя выступает как основной, но не единственный институт политической системы общества. Данный автор определяет
государственное управление в широком и узком смысле. В широком варианте
государственное управление ею понимается как непосредственная реализация
системы государственной власти. В узком же смысле этот вид управления ассоциируется с деятельностью государственных органов, например, исполнительной власти. В результате получается, что к характеристике государственного управления применима определенная дихотомия, заключающаяся в двойственности политической и государственной власти. То есть, осуществляющий
государственное управление орган/структура выполняет одновременно две базовые функции: политическую, которая состоит в выработке общих направлений политики и законов и административную, которая является приложением
политики и законов к отдельным индивидуумам и конкретным ситуациям.
Термин «административное» происходит от слова «администрация». Под
ним понимаются органы исполнительной власти и государственного управления, должностные лица управления, руководящий персонал какого-либо учреждения, распорядители и ответственные устроители. Например, применительно
к какой-либо организации администрация – это совокупность линейных и
функциональных руководителей и их заместителей на всех уровнях управления
организацией, имеющих право принимать решения. В общем плане под администрацией организации подразумевается ее руководящий состав. На основании администраторами считаются те, кто организует управление. В Энциклопедическом словаре «Управление организацией» отмечается, что администрирование осуществляется при помощи административно-управленческих технологий, под которыми понимаются способы непосредственного оперативного
воздействия на управляемый объект.
Способы воздействия основаны на авторитете власти, полномочиях и праве субъекта управления отдавать распоряжения, принципе добровольного и
точного их выполнения подчиненными. Данные технологии находят свое выражение в конкретных решениях, принятие которых управленческим органом
или руководителем предполагает вместе с осуществлением ими своей правовой
функции глубокие знания, полное и достоверное представление о состоянии
объекта, понимание последствий принимаемых решений и отдаваемых распоряжений, обеспечение взаимодействия людей. Также в этом словаре подчеркивается, что административно-управленческие технологии не противоречат другим методам управления, поскольку всякий административный акт (решение,
распоряжение, приказ) выступает комплексным проявлением практического
использования закономерностей развития управления в сочетании с умением
руководителей пользоваться предоставляемыми полномочиями.
Административное управление не имеет ничего общего с обюрокраченным
администрированием, субъективизмом и волюнтаризмом, нарушением прав и
свобод человека. Однако в реальной действительности многое происходит как
раз наоборот. Зачастую административное управление не является научным и
101
тесно сопряжено с бюрократизацией, субъективизмом и другими негативными
социальными явлениями. По мнению Г.П. Зинченко администрирование является социальным феноменом, обусловленным потребностью реализации политики государства по поддержанию общественного порядка и прогресса. Выполняя функцию посредника между государством и обществом, публичное администрирование вторгается в социальную ткань современной жизни людей,
испытывает ответную реакцию социума и определяется общественными отношениями [3, с. 27]. Кроме этого, по мнению данного автора, администрирование обеспечивает взаимодействие институтов государства и общества с чем
можно согласиться. Однако при этом несколько усложняет ситуацию, поскольку отделяет администрирование не только от общества, но и от государства,
включая администрирование в совокупность властно-управленческих отношений, не поясняя при этом, каким образом администрирование соотносится с
высшей властью.
Сущность административного отношения позволяет раскрыть теория,
сформулированная профессором С.Г. Кордонским, который изучая функционирование советского государства, выдвинул предположение о том, что административные отношения в отличие от рыночных включают в себя ценности и институты, появление которых в виде товара на «капиталистическом» рынке
практически исключено. В соответствии с этим административные отношения
иерархичны и определяются априорными ценностями, целями и средствами для
их достижения. В частности, для СССР «административное» было доминирующим явлением, поскольку капиталистического рынка, как и иного другого в
стране в тот период не было в принципе. Таким образом, автор достаточно четко противопоставляет «политическое» и «административное», указывая на то,
что административное олицетворяло и реализовывало государство, а политическое было сосредоточено в высшем партийном руководстве [4, с. 43]. То есть, в
соответствии с его теорией, чем больше административного в социуме и государстве, тем меньше в них будет политического и наоборот. В идеале эти явления должны диалектически дополнять друг друга.
Во многих научных источниках отмечается, что в основе управления лежит принцип единоначалия. Конечно, вряд ли этот принцип применим для характеристики политической власти. Так, в вышеуказанном словаре единоначалие определяется как принцип управления, означающий предоставление руководителю какого-либо органа широких полномочий, необходимых для выполнения его функций, а также установление его персональной ответственности за
результаты работы. В этом случае предполагается, что руководителю даются
широкие, но функционально ограниченные полномочия, который одновременно с этим несет ответственность за все достигнутые результаты работы, поэтому важнейшим для понимания сути современного менеджмента является анализ результатов, а не сам процесс деятельности.
В качестве вывода следует признать, что преобладание администрирования в государственном управлении характеризует, как правило, тоталитарные
либо авторитарные социально-политические системы, а разумное сочетание
102
политического управления и административного скорее присуще демократическим общественно-политическим системам.
Литература
1. Иванов В.К. К критике современной теории государства. Территория будущего,
2008. С. 11.
2. Глазунова Н.И. Система государственного управления. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
С. 13.
3. Зинченко Г.П. Социология управления. Ростов нД.: Феникс, 2004. 384 с.
4. Кордонский С.Г. Рынки власти. Административные рынки СССР и России. ОГИ,
2006. 240 с.
103
ВОПРОСЫ ЭТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Л.В. Федорченко
канд. полит. наук, старший преподаватель
кафедры истории и политологии
Московского государственного машиностроительного университета
1
Вопросы политической этики как никогда актуальны в современной российской жизни, образовательном процессе и науке. Проблемы этики избирательного процесса, этики политической справедливости всерьёз обсуждаются в
российском социуме на самых разных уровнях. В настоящее время появляется
всё больше исследователей [1; 2], как зарубежных, так и отечественных, изучающих этические проблемы политического и социального сегментов общества.
Также увеличилось количество научных статей по политико-этическим аспектам общественной жизни.
Важнейшим этическим вопросом управления политическими процессами
является аспект иерархии, иными словами – феномен подчинения объекта политического управления субъекту власти. Для начала разберёмся в принципах
иерархичности самой управленческой этики. Управленческая этика означает
довольно общее понятие – специфический вид профессиональной этики, предполагающей принципы поведения должностных лиц в самых различных (государственных, партийных, муниципальных, коммерческих и др.) управленческих организациях. Интересно, что, несмотря на некоторую специфику, существуют довольно схожие управленческие этические параметры. Этика управления политическими процессами предполагает приспособленные к профессиональным нуждам политики данные о базовых этических категориях, тенденциях и закономерностях политических отношений, о нравственной аксиологии,
моральных предписаниях к методам, формам, а также к стилю управленческой
деятельности.
Следует помнить и о таких понятиях как профессиональная ответственность, профессиональный долг, профессиональная справедливость и профессиональная честь объекта и субъекта политического процесса. И, если вспомнить
работу М. Вебера «Политика как призвание и профессия», то становится понятно, как важны эти стороны современной политической сферы. Профессиональная ответственность означает ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на участника политического процесса тех
или иных обязанностей. Профессиональный долг подразумевает определённые
предписания и нравственные требования, необходимые для управленцев и подчинённых (будь то политический консультант либо партийный функционер).
Профессиональная справедливость же – это правомерное и рациональное использование участниками политических отношений своих властных полномо© Федорченко Л.В., 2016
104
чий при отсутствии дискриминации, теневых практик и привилегий. Профессиональная честь является мировоззренческой установкой управленца и его подчинённых на сопричастность к особой политической профессии, осознание её
социально-этичной значимости.
Профессор Н.Н. Еговцева пишет, что нельзя забывать об иерархическом
принципе управленческих решений. Важно учитывать соподчиненность и не давать задания «через голову» нижестоящего подчинённого или заместителя. Иначе будет подорван его авторитет и политический вес. Если же по каким-то причинам произошло нарушение управленческой субординации, то начальнику
нужно непременно проинформировать об этом подчиненного руководителя,
иначе возникнет ощущение, что с ним никто не считается. Не зря специалисты
советуют участникам управления в любых жизненных ситуациях сохранять самообладание и вежливость, отдавая задания и поручения своим подчиненным.
Дело в том, что не все участники управленческого процесса воспринимают задания и поручения в приказном порядке. Между тем, нельзя злоупотреблять своими просьбами к подчиненным, полностью заменив ими приказы. Это приведёт к
нежелательной фамильярности [3]. Недопустим имидж чопорного, малодоступного, авторитарного начальника. Также следует быть внимательным к подчинённым, замечая каждый их успех и не скупиться на похвалу и поощрение. Допускать лишь уместную критику. Иногда простое «спасибо» бывает не менее
эффективным, чем денежная премия. А ведь этого сильно не хватает современной российской управленческой культуре. На этом фоне специалистам-управленцам важно обращаться к научно-теоретическому наследию в этой сфере.
В своё время в научной управленческой литературе получила известность
теория зарубежного учёного Д. Макгрегора, которая базируется на двух идеях.
«Теория X» исходит из того предположения, что среднестатистический человек
не любит работать, а следовательно, стремится её избежать. При этом большинство людей допускает, чтобы ими управляли. Отсюда нужен авторитарный
стиль управления и угроза наказания. Тогда как «теория Y» утверждает, что
умственные и физические усилия в профессиональной деятельности также
свойственны человеку, как развлечения или отдых. Демократический стиль руководства означает, что работник активно не только привлекается к управлению, но и делает вклад в общее. В реальной жизни существуют гибридные стили управления, поэтому данную теорию принимать за абсолютную догму явно
не следует.
Интересна концепция «страха и любви» А. Этцони. Она заимствуют и развивают идеи Н. Макиавелли, исходя из допущения, что профессиональные отношения, основанные на любви, краткосрочны и непостоянны, если нет страха
перед наказанием и возмездием. Однако, согласно Этцони, деловые отношения,
основанные на страхе, более продолжительные. Тем не менее, они имеют главный недостаток – скрытое сопротивление. Поэтому эффективный управленец
должен жертвовать недолговечными дружественными отношениями ради профессионального уважения. Но при этом управленец должен сохранять осторожность, если не хочет, чтобы страх трансформировался в ненависть.
105
Концепция стилей Р. Лайкерта описывает четыре модели этики управления. Во-первых, управленец может не доверять своим подчиненным и не подключать их к принятию различных решений. Кардинальный стимул этой модели – страх и угроза наказания. Обычно при таком стиле управления растёт недоверие к руководителю, а в профессиональной структуре появляется неформальная организация, которая состоит в постоянном конфликте с управленцами. Во-вторых, согласно Лайкерту, управленец может лишь удостаивать служащих некоторым доверием, но как хозяин собственных слуг, делегируя часть
полномочий вниз. При этом стиле управления наказание скорее потенциальное,
чем реальное, а вознаграждение – действительное. Тем не менее, сохраняется
сопротивление неформальной системы формальной иерархической структуре.
В-третьих, управленец (к примеру, партийный функционер или государственный деятель) вполне может проявить большое, но не окончательное доверие к
подчинённым, пользуясь их ограниченным включением в утверждение решений. В этой модели неформальная сеть может даже и не возникнуть. Наконец,
в-четвёртых, управленец может полностью доверять своим подчинённым, мотивируя их посредством вовлечения в принятие основных политических решений. В этом случае формальная и неформальная системы совпадают. Одновременно важен принцип достоверности управленческой информации, недопущение «чёрных» пропагандистских и манипулятивных схем [4].
Полезен и зарубежный опыт. К примеру, американские управленцы уделяют большое внимание кодификации этики. Уже в 1958 г. в США появился
Кодекс этики правительственной службы, где зафиксировано, что каждый служащий должен: быть преданным моральным принципам, поддерживать конституционный порядок, выполнять все свои обязанности, стараться находить
наиболее эффективные и экономичные способы поставленных задач, не создавать условий для дискриминации и необоснованных привилегий, не использовать конфиденциальную информацию в корыстных целях. Также американский
служащий обязан вскрывать случаи коррупции при их локализации [5]. В США
запрещено государственным служащим принимать подарки или какие-либо
блага от тех лиц, кто заинтересован в том, чтобы были приняты официальные
меры или решения в их пользу.
Немаловажны и этические нормы в сфере политического консультирования, которые стали недавно документально закрепляться многими международными организациями с целью борьбы с «чёрными» политическими технологиями и недобросовестной манипуляцией сознанием избирателей. К примеру,
известен Этический кодекс Азиатско-Тихоокеанской ассоциации политических
консультантов. В кодексе по образу клятвы прописаны следующие моральные
нормы, относящиеся к профессиональной деятельности политических консультантов [6; 7]. Приведём выдержки из неё:
«Я не буду заниматься любой деятельностью, которая может повредить
или ухудшить практику политического консалтинга.
Я буду с уважением относиться к моим коллегам и клиентам, и не буду
намеренно угрожать их профессиональной или личной репутации.
106
Я буду уважать доверие своих клиентов и не раскрывать конфиденциальную или секретную информацию, полученную в ходе профессиональных контактов.
Я не буду использовать в своей работе с избирателями расизм, сексизм, религиозную нетерпимость или любые формы незаконной дискриминации и буду
осуждать тех, кто использует подобную практику. В свою очередь, я буду работать за равные избирательные возможности и привилегии для всех граждан.
Я буду воздерживаться от ложных или вводящих в заблуждение нападений
на конкурента или членов его или её семьи и буду делать всё, что в моих силах,
чтобы предотвратить использование такой тактики.
Я буду документировать точно и полно любую критику конкурента.
Я буду честен в моих отношениях со средствами массовой информации и
откровенно отвечать на вопросы, когда у меня есть право на это.
Я буду использовать любые средства, которые получаю от моих клиентов,
или от имени своих клиентов через счета в письменной форме.
Я не буду поддерживать лица или организации, которые не соблюдают
данный Кодекс» [8]. Схожие этические кодексы есть у Американской ассоциации политических консультантов, Канадской ассоциации политических консультантов, а также у многих других схожих организаций.
Другим немаловажным вопросом этики управления политическими процессами остаётся феномен справедливости [9; 10]. Понятие справедливости является одним из спорных в современном политическом дискурсе. Этой теме посвящено множество научных работ. Так, в книге Дж. Ролза воскрешается ещё
кантовское определение общественного договора, согласно которому справедливость является обычным правом любого человека в независимости от того,
каковы его политические интересы и жизненные приоритеты. Ролз пишет, что
человеческие интересы должны соответствовать абстрактному идеалу справедливости. При этом условием формирования чувства справедливости у людей
является социально здоровое, разумно построенное общество.
Важно отметить, что коммунитаристская критика подвигла Ролза частично пересмотреть свои взгляды на сущность политической системы [11]. Поэтому с конца 1980-х гг. исследователь трактовал свои постулаты о справедливости как результат политической культуры обществ либерально-демократического типа.
В 1974 г. вышла книга Р. Нозика «Анархия, государственность и утопия»,
которая стала крупным вкладом в либеральную теорию справедливости. Основа работы Нозика – критика нормативных идей либерализма Ролза и солидарность с либертаризмом – политической философии, полагающей, что основой
справедливости может стать создание условий, при которых каждый гражданин
будет хозяином своей жизни, потому ему нужно дать максимально возможную
свободу, ограниченную лишь свободой других. Согласно либертаризму, блага и
зло люди приобретают в результате воздаяния или обмена, потому постановка
проблемы о справедливом распределении является ложной. Отсюда морально
оправданным может быть лишь наличие минимального государства, необходимого для защиты людей от обмана и насилия.
107
Нозик говорит об исторических и неисторических принципах справедливости. Так, исторические принципы основываются на прошлых передачах и
приобретениях благ. Они не знают никакого прочного состояния. Тогда как неисторические принципы предполагают возможным добиться относительно идеального баланса общественных процессов, результатом чего может стать справедливость. Зарубежный исследователь выдвигает три принципа справедливости для современного государства. Во-первых, это принцип справедливого
приобретения никому ранее не принадлежавшей собственности. Во-вторых, это
принцип справедливой передачи. В этом случае всякая приобретённая собственность является справедливой, если сам факт передачи произошёл добровольно. Наконец, в-третьих, исследователь предлагает принцип исправления
ранее допущенной несправедливости.
Основная проблема модели справедливости Нозика кроется в основании
его теории – концепции собственности в отношении самого человека, где собственность выступает базой нерушимости естественных прав [12]. Иными словами, основные положения либертаризма Нозика являются не более чем дедукцией естественных прав.
Есть и другой подход к этике справедливости политических процессов и
управления. Так, работа Д. Готиера «Мораль по соглашению», изданная в
1985 г., появилась на фоне бурной полемики между сторонниками Ролза и Нозика. Концепт справедливости Готиера является альтернативой всем либеральным проектам, попыткой построить моральную теорию на основе рационализма. Готиер критикует не только утилитаризм, но и концепции Нозика и Ролза.
Учёный не принимает необоснованность моральных запретов Нозика. В то же
время он и не может согласиться с сильной морализацией рыночных отношений в идеях Ролза. Иными словами, его концепт справедливости занимает как
бы среднее положение между теориями Ролза и Нозика. Готиер отвергает как
крайний либертаризм Нозика, так и скрытый утилитаризм идей Ролза, к примеру, то обстоятельство, что естественные способности людей представляют достояние социума.
В отличие от либертаристов, Готиер предлагает снабдить свободный рынок кооперацией, а «невидимую руку» дополнить «видимой рукой», которая не
допускала бы злоупотребления, иждивенчество и паразитизм. Готиер советует
для достижения справедливости всем сторонам общественных взаимоотношений заключить своеобразную сделку [13]. Однако этот социальный пакт возможен лишь между равноправными и свободными людьми, поэтому итоги сделки
не должны ухудшить положение кого-либо из участников. Готиер полагает, что
политическая справедливость при рыночных отношениях в принципе возможна
с исключением насилия и обмана.
Другой зарубежный исследователь О. Хеффе, проанализировав разные
подходы к политической справедливости, применял правовой подход к её изучению. Он писал, что политическая справедливость носит и ограничивающий и
уполномочивающий характер. Также Хеффе отмечал, что в настоящее время на
смену государства, контролирующего граждан и управленческие процессы,
пришла юстиция, по сути, со своего начала актуализирующая проблемы спра108
ведливости в конкретном государстве. Учёный пришёл к выводу, что политическая справедливость – необходимое условие человеческого социального существования, а не моральная роскошь [14]. Хеффе предложил три критерия оценки государственно-правового порядка: 1) государству требуется быть справедливым; 2) политическая справедливость формирует нормативно-критический
масштаб права; 3) справедливое право означает легитимную форму человеческого общежития.
Обратимся к российским исследованиям проблемы справедливости в политических процессах и управлении. Например, отечественный специалист Б.Н.
Кашников выдвигает пять альтернативных вариантов развития политической
справедливости в России. В первом случае возможно так называемое «приспособление к гниению» (формулировка Б.Г. Капустина) – дальнейшая деградация
в роли псевдолиберального смысла на фоне растущей коррупции и несправедливости. Учёный справедливо замечает, что этот путь приведёт Россию к гибели. Второй вариант, согласно Кашникову, предполагает возрождение патримониального смысла политической справедливости в славянофильской форме.
Сторонником подобной альтернативы развития справедливости можно назвать
А.С. Панарина, который писал, что для борьбы с разрушительными силами людям нужно государство, опирающееся на православные традиции. Третий вариант означает формирование в управлении некого здорового иерархического
идеала справедливости по типу «Философии права» Гегеля. Однако без мобилизационной составляющей иерархия теряет всякое своё моральное оправдание, а у общества появляются паразитические черты. Четвёртый вариант предполагает утверждение в управлении либерально-эгалитарной справедливости
без иерархических и патримониальных атавизмов. С этой целью создаются
условия для появления норм справедливости в виде общепринятых правил
честной игры, происходит становление гражданского общества и правового
государства.
Наиболее вероятным и предпочтительным Кашников считает пятый путь,
когда происходит создание так называемой гибридной справедливости. Гибридная форма, согласно исследователю, должна представлять собой синтез
социально-либеральной и патримониальной справедливости, где управленческие иерархические системы станут уживаться с либеральной политической
идеологией и крупными фондами потребления, распределяемыми чиновниками. По Кашникову, данная гибридная форма политической и социальной справедливости будет очень напоминать советский социализм, однако в его рамках
будет происходить постепенное вытеснение иерархических атавизмов из политических процессов.
Таким образом, можно выделить два основных вопроса этики управления
политическими процессами, актуализирующихся в научной литературе. Вопервых, это аспект иерархии. С ним современные исследователи связывают
сферы государственной службы, стили управления, вопросы политического
консалтинга, коррупции, взаимоотношения субъектов и объектов политического процесса, а также партийного строительства. Во-вторых, важнейшей стороной этики управления политическими процессами остаётся феномен справед109
ливости. Здесь существует довольно серьёзная дискуссия в среде отечественных и зарубежных учёных, которая, в основном, посвящена темам политической ответственности, легитимности и места идеологии в политическом процессе.
Литература
1. Алексеева Т.А. Справедливость как политическая концепция. Очерк современных
западных дискуссий. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. 244 с.
2. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении // Общественные науки и
современность. 2007. № 1. С. 66–72.
3. Еговцева Н.Н. Основы профессионального общения специалиста социальной сферы.
Курган: Издательство КГУ, 2007. 286 с.
4. Федорченко С.Н., Федорченко Л.В. Антисоветская пропаганда нацистской Германии
// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2015. № 2. С. 87–93.
5. Николайчик В.М. правовое регулирование этики официальных лиц в США // США.
Экономика. Политика. Идеология. 1998. № 5. С. 5–6.
6. Федорченко Л.В. Теоретические аспекты исследования института политических консультантов // Вестник Московского государственного областного университета. 2013. № 4.
URL: http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/477 (дата обращения^ 09.02.2016).
7. Федорченко Л.В., Федорченко С.Н. Переориентация российского PR-менеджмента на
бизнес-клиентов // Известия Московского государственного технического университета
МАМИ. 2013. Т. 2. № 4. С. 221–228.
8. Федорченко Л.В. Теоретические аспекты исследования института политических консультантов // Вестник Московского государственного областного университета (Электронный журнал). 2013. № 4. URL: http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/477 (дата обращения:
09.02.2016).
9. Федорченко Л.В. Теоретические аспекты исследования института политических консультантов // Вестник Московского государственного областного университета (Электронный журнал). 2013. № 4. URL: http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/477 (дата обращения
09.02.2016).
10. Канарш Г.Ю. Политическая справедливость (Запад и Россия) // Знание. Понимание.
Умение. 2007. № 2. С. 40–44.
11. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. 535 с.
12. Nozick R. Anarchy, State and Utopia. New York: Basic Books, Inc, Publishers, 1974.
367 p.
13. Gauthier D. Moral by Agreement. Oxford: Clarendon Press, 1985. 367 p.
14. Хеффе О. Политика, право, справедливость. М., 1994. 319 с.
110
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА ПАРТИЙНЫХ ФРАКЦИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В 2010-е гг.1
Я.Ю. Шашкова
д-р полит. наук,
заведующий кафедрой политологии
Алтайского государственного университета (Барнаул)
2
Органы законодательной власти любого уровня представляют собой не
только центры принятия политических решений, но и элементы системы представительства, обеспечивающие агрегирование и артикуляцию социальных интересов, перевод их в значимые для всего общества или его части решения и
действия. В условиях партийной демократии реальное исполнение данных
функций переходит к политическим партиям.
В нашей стране участие партий в законотворческой работе носит в основном формальный характер, что, однако, не исключает анализ партий как механизмов представительства интересов, тем более что они уже более десяти лет
являются основными, а затем единственными акторами электоральных процессов. А потому анализ состава партийных фракций, в частности региональных
легислатур, может показать тенденции структурирования региональных групп
интересов и характер взаимодействия партийных организаций с ними.
Региональные партийно-политические процессы 2010-х гг. стали логичным
продолжением, своеобразной объективацией политических трендов 2000-х.
Во-первых, перевод региональных законодательных собраний на смешанный принцип формирования в сочетании монополией партий на выдвижение
кандидатов привели к инкорпорации в партийные организации и партийные
спискипредставителей различных групп интересов, особенно бизнеса, предпочитавших с 2000-х гг. лично контролировать процесс принятия решений. Однако данная интеграция носила во многом формальный характер, превратив партии в «псевдоакционерные общества», в которые представители бизнеса и иных
групп интересов либо вкладывают деньги во время выборов, чтобы пройти по
партийным спискам, либо, используя при необходимости известный брэнд,
раскручивают себя, давая партиям лишь обещания будущей поддержки.
Во-вторых, произошла унификация и «стабилизация» состава партий – основных игроков регионального политического поля, ограничив их списком
парламентских партий, в связи с чем в Алтайском краевом Законодательном
Собрании (АКЗС) созывов 2008 и 2011 гг. функционируют 4 фракции – КПРФ,
ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России» при существенном доминировании последней.
1
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-03-50136.
© Шашкова Я.Ю., 2016
111
Правда, такая конфигурация партийной системы и партийной элиты не является новшеством для Алтайского края. В нём даже в 1990-е гг. не существовало характерной для федеральной партийной системы того периодаатомизированности. С середины 1990-х гг. основное содержание краевого партийнополитического процесса составляло противостояние «народно-патриотического
движения» и «демократических» партий, объединенных в два региональных
общественно-политических движения – «Согласие» (образовано в 1995 г.) и «За
подлинное народовластие, гражданский мир и интересы человека труда»
(1993 г.). По сути, существовал «конфликт внутри [региональной] элиты, развертывающийся в ходе электорального соревнования, в рамках которого решающую роль играют политические партии» или их объединения, «причем исходом этого конфликта не являлась полная и окончательная победа одной из
группировок элиты» [1, с. 58].
В 1990-е гг. и 2000 г. лидерство в этом размежевании сохраняли левые. Созыв АКЗС (тогда – Алтайский краевой Совет народных депутатов) 2004–
2008 гг. характеризовался определенным паритетом сил. С 2008 г. перевес сил
стал склоняться в пользу «Единой России».
Однако, несмотря на устоявшиеся тенденции, созыв АКЗС 2011 г. отличается от предыдущих.
Так, он впервые формировался в ситуации совмещения выборов региональной и федеральной легислатур. Это привело к смещению акцентов в электоральной тактике партий. Прежде выборы депутатов Госдумы РФ, предшествующие региональным выборам, рассматривались как своеобразная проба
сил. Участвуя в федеральной кампании, кандидаты повышали степень своей
узнаваемости, начинали работу с будущим электоратом, актуализировали или
корректировали свой имидж или просто набирались опыта избирательной
борьбы и получали представление о массовых настроениях и электоральной ситуации, чтобы использовать все это на последующих выборах в региональный
орган законодательной власти.
В 2011 г. избирательные кампании федерального и регионального уровня,
несмотря на совмещенность, а точнее благодаря ей, стали изолированными событиями. Региональный бизнес фактически утратил контроль над процессом
формирования списков на выборах депутатов Государственной Думы – соглашения заключались с федеральной властью, что сразу привело к повышению
«входного взноса» в основных партиях. В связи с этим региональный бизнес
проигрывал крупному, хоть и базирующемуся в регионах, но имеющему федеральный масштаб (например, «Эвалар» в Алтайском крае), и был вынужден переключаться на региональные выборы, т.к. одновременное участие в двух избирательных кампаниях (даже на менее проходных местах списков в Госдуму)
было нецелесообразно с точки зрения соотношения выгод и затрат.
Кроме того, на региональных выборах 2011 г. в Алтайском крае впервые
применялась пропорциональная избирательная система с обязательным делением на региональные группы. В ее основу была положена модель горизонтальных списков, привязанных к одномандатным округам. В этих условиях списки
кандидатов в депутаты Законодательного собрания довольно сильно различа112
лись по принципам формирования: если у «Единой России» и «Справедливой
России» они охватывали определенные сегменты региональной и местной политических элит и даже становились объектом внутрипартийной борьбы, то у
КПРФ и ЛДПР составлялись явно по остаточному принципу. В итоге общерегиональные части списков КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» полностью
или в основном повторяли списки кандидатов в Госдуму, состоявшие из известных депутатов АКЗС, которые не претендовали на федеральные мандаты.
Кроме того, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выбрали вариант регистрации своих кандидатов – одномандатников и как лидеров списков. «Единая Россия» же, стремясь увеличить списочные рейтинги за счет депутатов, уже зарекомендовавших себя в одномандатных округах, поставила инкумбентов во главе
партийных списков, выдвинув новые кадры по одномандатным округам. Последними в основном стали бизнесмены, финансировавшие не только свои избирательные кампании, но и общепартийную.
В итоге, «Единая Россия» на выборах в АКЗС 2011 г. выдвинула 34 территориальные группы и 34одномандатника, «Справедливая Россия» и ЛДПР – по
34 группы и 31 одномандатника, КПРФ – 34 группы и 32 одномандатника [2].
По результатам голосования «Единая Россия» смогла провести в ассамблею своих представителей по всем 34 одномандатным округам и еще 14 мандатов получила в ходе конвертации 39,81% голосов избирателей, отданных за
список. Остальные политические партии представлены в депутатском корпусе
лишь «списочниками»: 9 мандатов у фракции КПРФ (25,4 % голосов на выборах), 6 – у ЛДПР (16,6 %) и 5 – у «Справедливой России» (16 %) [3, с. 167; 4; 5].
Социально-демографический портрет АКЗС созыва 2011 г. составляют
следующие характеристики: в нем заседают 9 женщин (14 % состава) и 57 мужчин (86%). По роду занятий на момент избрания в нынешнем созыве наиболее
многочисленной являлась группа бывших депутатов АКЗС, Государственной
Думы и помощников депутатов (10 человек, 15 % состава), 9 депутатов (13,6 %)
представляют аграрный сектор и сельхозпереработку. По 6 депутатов занимают
руководящие должности на промышленных предприятиях и в сфере торговли,
по 5 депутатов – в строительстве и энергетике, а также в здравоохранении. 4
депутата руководят предприятиями золотодобычи и структурами «Газпрома»,
столько же в АКЗС работников образования. 3 депутата возглавляют общественные организации. Также в АКЗС заседают по 2 руководителя предприятий
лесной промышленности, организаций финансовой сферы, 2 пенсионера, военнослужащий, представитель ЖКХ, транспорта, индивидуальный предприниматель, юрист, редактор районной газеты, спортсменка и директор зоопарка. Тем
самым нынешний состав АКЗС – один из самых социально диверсифицированных. При этом почти неизменным за последние 15 лет остается один показатель
– 68 % депутатов принадлежат к руководящему составу своих предприятий и
организаций.
Утверждение «Единой России» в качестве доминирующей партии изменило социальный состав партийных фракций.
Так, до конца 2000-х гг. фракция «За наш Алтай» (КПРФ и АПР) объединяла руководящих работников краевого Совета народных депутатов, агрохо113
зяйств и сельхозперерабатывающих предприятий, общественно-политических
организаций, медицинских и образовательных учреждений.
Фракция «Единой России» имела ярко выраженный индустриальный характер, включая руководителей промышленных, строительных, транспортных,
энергетических и сельхозперерабатывающих предприятий края (в совокупности 78 % членов фракции), лечебных учреждений.
Независимые (в созыве 2004 г. – «Объединенные») депутаты в основном
были представлены руководителями общественных организаций, региональных
отделений политических партий, газовых предприятий края, врачами.
На данный момент фракция «Единой России» в связи со своей многочисленностьюобъединяет представителей почти всех сфер занятости. В нее входят
все руководители агропредприятий и предприятий сельхозпереработки, промышленных предприятий, лесной промышленности, транспорта, оба представителя «Газпрома», один из двух золотодобытчиков, 4 из 5 строителей и медиков, 2 из 3 руководителя общественных организаций, половина занятых в сферах образования, торговли, финансов, а также бывшая спортсменка и директор
зоопарка. Также с изменением расстановки сил в АКЗС на данную фракцию
приходится наибольший процент бывших депутатов АКЗС, работавших на
освобожденной основе [6].
В этой ситуации невольно проводятся аналогии с блестящей характеристикой Российской коммунистической партии (РКП), данной российским ученым
и политическим деятелем начала ХХ в. С.О. Португейсом: «Если хозяйствовать
можно только или состоя в РКП, или 'примыкая к ней'... то, стало быть, весь
многообразный мир интересов, страстей, столкновений, связанных с хозяйственной деятельностью, … с борьбой в пределах каждого класса – все это должно найти то или иное отражение внутри этой огромной губки – РКП. Если никуда
нельзя пойти и ничего сделать нельзя, не побывав внутри или около РКП, то
естественно здесь образуется водоворот, дикая свалка тех интересов, которые в
нормальной обстановке находят себе свои собственные многочисленные русла,
свои собственные организационные формы...» [Цит. по: 7, с. 132].
На этом фоне фракция КПРФ объединяет единичных представителей сфер
образования, торговли, золотодобычи, общественных организаций, военнослужащего, юриста и редактора газеты. Треть фракции (3 депутата) ранее являлись
депутатами или помощниками депутатов [8].
Во фракцию ЛДПР входят пенсионер, руководители предприятия ЖКХ,
финансовой и торговой организаций, индивидуальный предприниматель и
бывший помощник депутата АКЗС [9].
Фракция «Справедливой России» представлена преподавателем, пенсионером МВД, руководителями строительной, медицинской и торговой организаций
[10].
Таким образом, говорить о профессиональной специализации какой-либо
фракции, особенно малочисленных, не представляется возможным.
Еще одним критерием представительности партийных фракций можно
считать степень их обновляемости. Самой устойчивой по составу оказалась
фракция ЛДПР – 67 % ее нынешних членов заседало в прошлом созыве. Далее
114
следуют фракции «Единой России», включающей 46 % переизбранных депутатов, и «Справедливой России» – 40 %. Наиболее обновление, в отличие от
1990–2000-х гг., претерпела фракция КПРФ – лишь 22 % ее членов (2) заседало
в АКЗС прошлого созыва, что связано с начатым в 2011 г. курсом на повышения электоральной привлекательности парторганизации.
Таким образом, трансформация партийно-политических процессов в РФ в
2000-2010-е гг. оказала значительное влияние на социальный состав партийных
фракций региональных легислатур, в частности в Алтайском крае. Доминирование «Единой России» повлекло за собой активною инкорпорацию в ее списки
представителей различных групп интересов. Однако и другие парламентские
партии выглядят с этой точки зрения не менее привлекательно, что может, на
фоне современной социально-экономической ситуации, привести к существенному изменению социального состава партийных фракций по итогам избирательных кампаний 2016 г.
Литература
1. Голосов Г.В. Элиты, общероссийские партии, местные избирательные системы //
ОНС. 2000. № 3.
2. Сведения о кандидатах в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания
шестого созыва // Избирательная комиссия Алтайского края. URL: http://www.altai-terr.
izbirkom.ru/WAY/486BE470-6A07-4F5C-B46D-FF0241FB8449.html
(дата
обращения:
28.03.2016).
3. Девятиярова А.И. Реализация региональными парламентами РФ функции социальнополитического представительства (на примере регионов Западной Сибири): дис. … канд. полит. наук. М., 2014.
4. Краткая сводная таблица по пропорциональной системе выборов // Избирательная
комиссия Алтайского края. URL: http://altai-terr.izbirkom.ru/way/973094.html (дата обращения:
28.03.2016).
5. Сводные сведения о результатах выборов по одномандатным избирательным округам // Избирательная комиссия Алтайского края. URL: http://altai-terr.izbirkom.ru/way/
973094.html (дата обращения: 28.03.2016).
6. Фракция Единая Россия // Алтайское краевое Законодательное Собрание. URL:
http://www.akzs.ru/ksnd/unions6/edros/ (дата обращения: 29.03.2016).
7. Кара-Мурза А.А. Первый советолог русской эмиграции: Семен Осипович Португейс
// Полис. 2006. № 1.
8. Фракция КПРФ // Алтайское краевое Законодательное Собрание. URL: http://www.
akzs.ru/ksnd/unions6/kprf/ (дата обращения: 29.03.2016).
9. Фракция ЛДПР // Алтайское краевое Законодательное Собрание. URL: http://www.
akzs.ru/ksnd/unions6/ldpr/ (дата обращения: 29.03.2016).
10. Фракция Справедливая Россия // Алтайское краевое Законодательное Собрание.
URL: http://www.akzs.ru/ksnd/unions6/sr/ (дата обращения: 29.03.2016).
115
СПЕЦИФИКА ВОЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА1
В.В. Шурыгин
заместитель главного редактора
газеты «Завтра» (Москва)
В условиях современных международных процессов подвергается изменению роль и значимость деятельности ряда профессиональных групп в общественном мнении. Как показывает действительность, меняется отношение в
обществе к политологам, большинству граждан до недавнего времени сложно
было представить, чем занимаются специалисты этого профиля, растет статус
военных журналистов, которые становятся главными информаторами с полей
открытых военных политических конфликтов (Украина, Сирия). Тем самым
объясняется интерес населения к специфике деятельности данных профессионалов. В контексте нашей статьи мы остановимся именно на военной журналистике, как области профессиональной деятельности, имеющей воздействие на
процесс формирования и изменения общественного мнения в отношении оценки эффективности внешней политики отдельных стран и сущности протекающих международных процессов.
Изначально нам бы хотелось пролить свет на то, кто такие военные корреспонденты и откуда берет начало их профессия. К сожалению, вспомнить имя
первого русского военного корреспондента не представляется возможным, но
можно точно назвать первый его репортаж – это «Слово о полку Игореве», рассказ о неудачном походе русских князей на половцев, предпринятый новгородсеверским князем Игорем Святославичем в 1185 году. Есть объективные основания отнести автора этого произведения, имя которого до нас не дошло к категории военных журналистов (корреспондентов), поскольку очевидно, что автор
его был участником похода и оставил нам о нём самое подробное литературное
описание. Мы знаем, как проходил этот поход, как были одеты и вооружены
наши и воины [1].
Игорь показан военным руководителем похода, его пламенные речи руководят северскими князьями – «братию и дружину» (известная из древнерусских
текстов формула обращения военачальника к отряду) [1, с. 12].
С пятницы по воскресенье, следуют решительные битвы несчастного Игорева полка, окруженного «въ полѣ нєзнаемѣ» многочисленными половецкими
полками на Каяле, где третий день шумит и звенит оружие. Игорь заворачивает
полки, чтобы высвободить своего брата Всеволода; но уже полегли храбрые русичи на берегу быстрой Каялы… [1]. Конечно, автор данного произведения ещё
не был военным корреспондентом в полном смысле этого слова, так как тогда
не существовало понятия СМИ, но точно то, что сам он был очевидцем происходящего.
© Шурыгин В.В., 2016
116
Следует отметить, что для возникновения такой профессии необходимо
было появление полноценных средств массовой информации (СМИ). Уже к середине XIX века тиражи газет и их влияние на общество достигли такого уровня, что газеты стали определять настроения общества. Репортёры стали одной
из самых распространённых профессий среди людей, имеющих гуманитарное
образование. Поскольку в этот период почти все мировые державы непрерывно
вели локальные воины, постольку не удивительно то, что репортёры очень скоро потянулись вслед за войсками на передовые с целью информирования общества о происходящем. Примерно в данный период времени складывается содержание и объем понятия «военный корреспондент».
Сегодня в журналистке сложилось несколько подходов к дефинизации
данного понятия. В силу наличия практического опыта на данном поприще мы
в определении исходим из деятельности и конечного результата военного корреспондента.
Таким образом, военный корреспондент представляет собой журналиста,
сопровождающего армию, во время военных действий и освещающего события
войны в прессе или на телевидении.
На наш взгляд, немаловажным для российской военной журналистики и
публицистики является тот факт, что первые профессиональные военные корреспонденты появились во время Крымской войны. Так, Николай Берг отправился в Севастополь, откуда писал для журнала «Москвитянин« Михаила Погодина. С английской стороны осаду Севастополя освещал приобретший большую известность корреспондент Уильям Рассел. Тогда же появились и первые
фоторепортажи с полей боёв и расположений войск.
Во время Русско-турецкой войны 1878 года при русской армии было уже
более двух десятков русских и иностранных корреспондентов, а во время русско-японской войны в маньчжурских армиях побывало 102 русских корреспондента и 38 иностранных.
В 1889 году деятельность военных корреспондентов впервые была регламентирована на международном уровне: Ст. 13 2-й главы Гаагской международной конвенции гласила, что «газетные корреспонденты и репортёры… в том
случае, когда будут захвачены неприятелем и когда последний сочтёт полезным
задержать их, пользуются правами военнопленных, если только имеют удостоверение от военной власти той армии, которую они сопровождали» [2].
Влияние этих репортажей с полей боёв оказалось столь существенным, что
к началу XX века впервые было сформулировано понятие информационной или
пропагандисткой войны и уже первые войны этого века показали, насколько
ход и исход войны зависят от общественного мнения воюющих стран. Достаточно вспомнить такие исторические факты как англо-бурская война 1899–
1902 годов, на ход и исход которой репортажи с полей сражений оказали исключительно высокое значение.
В 1889 году новый губернатор Капской колонии Альфред Мильнер, который сам в прошлом был репортером, начинает кампанию, которую сегодня
назвали бы кампании по разжиганию войны. Английские газеты, причём принадлежащие разным партиям и направлениям, вдруг разразились одинаковые
117
статьями, рисующими буров дикарями, злодеями, жестокими рабовладельцами
и религиозными фанатиками. Статьи, для большей наглядности, иллюстрировались нарисованными картинками. В последствии историки выяснили причину такого единогласия – практически всю информацию о «реальном» положении дел английская пресса брала из двух издававшийся в Кейптауне газет: «Йоханнесбург Стар» и «Кейп Таймс», по «удивительному» совпадению, принадлежащих к одному из ближайших к Мильнеру предпринимателю Родсу будущему основателю компании Де-Бирс.
Следует отметить, что в это идеологической войне успел отметиться и такой известный классик английской журналистики, будущий всемирно известный писатель Редьярд Киплинг, который несколько месяцев провёл в действующей армии, выпускал там военную газету и посылал в Англию репортажи об
этой войне.
Надо констатировать, что сами буры в информационной войне особо не
отличились, но к тому времени Британия сумела обзавестись немалым количеством недоброжелателей по всему миру. В первую очередь это были Россия,
Франция, Германия и, конечно, Голландия. Их совместной заслугой было то,
что будущую войну объявили «войной между белыми», что, по сути, было не
так уж мало, ибо на войну против «дикарей» не распространялись правила,
принятые на прошедшей за полгода до этих событий Гаагской конференции,
созванной, кстати, по инициативе России. Соответственно, симпатии большей
части «цивилизованного» мира были на стороне буров.
В российской прессе, на протяжении всей войны о бурах писали с неизменным восторгом и даже старательно подчёркивали их сходство с русскими,
примером чему служила высокая религиозность буров, их склонность к сельскому хозяйству, а также привычка носить окладистые бороды. Умение ездить
верхом и метко стрелять позволяло сравнивать буров с казаками.
В этот период сложился уникальный прецедент, благодаря многочисленным статьям средний российский гимназист знал географию Южной Африки,
лучше, чем родной губернии. Было написано несколько песен, одна из которых
– «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне» – стала поистине
народной и, по свидетельствам фольклористов, вовсю распевалась вплоть до
Второй Мировой Войны. На каждом углу продавались тонкие брошюрки печатного сериала «Роза Бургер», в котором на фоне англо-бурской войны развивались поистине африканские страсти. Надо отметить, что 75 выпусков этого
сериала разошлись стотысячными тиражами.
Уже тогда стали складываться «принципы» идеологической войны: пропаганда, контрпропаганда, дезинфомация и информационное противоборство. Так,
обеими сторонами во всю использовались двойные стандарты. Например, отравление колодцев бурами считалось военной хитростью. А подобное же действие
со стороны англичан – варварством. Всякие успехи бурской армии превозносились до небес, а любые успехи англичан подвергались сомнениям и осмеянию.
Интересным представляется тот факт, что от России на эту войну в качестве военного корреспондента «Нового времени» был откомандирован некий
поручик Едрихин, писавший под псевдонимом Вандам, уже во время англо118
бурской войны предостерегал соотечественников: «Плохо иметь англосакса
врагом, но не дай Бог иметь его другом... Главным противником англосаксов на
пути к мировому господству является русский народ» [3, с. 331].
Всем известен роман Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова», написанный
в 1901 году, который, наверное, с тех пор читает каждое поколение мальчишек
по всему миру, очень ясно отражает отношение континентальной Европы к той
войне.
Итог таков, что в результате информационной поддержки – в армию буров
хлынул поток добровольцев со всего света. Большинство составляли голландцы
(около 650 человек), французы (400), немцы (550), американцы (300), итальянцы (200), шведы (150), ирландцы (200) и русские (около 225).
На эту информационную войну были брошены немалые силы репортёров.
От одного только агентства «Рейтер» на фронт было послано больше сотни человек. Плюс каждая большая лондонская газета прислала туда в среднем по 20
сотрудников, да и британские газеты помельче предпочитали иметь в Южной
Африке, как минимум, одного журналиста.
Среди этой армии корреспондентов было множество информационных тяжеловесов. Однако стоит назвать имена Артура Конан Дойла, поехавшего на
эту войну в качестве военного доктора, Редьярда Киплинга и даже Уинстона
Черчилля, представлявшего газету «Морнинг Пост». Собственно говоря, именно эта война, бурский плен и побег из него, живо описанные в его репортажах,
и положили начало его политической карьере.
Множество фотографий и бесконечные ленты кинохроники вызывали у
зрителя «эффект присутствия» и производили неизгладимое впечатление. Но
иногда и у англичан случались казусы, например, один английский генерал обвинил буров в том, что «они употребляют запрещённые пули «дум-дум», захваченные ими у англичан и дозволенные к употреблению только в английских
войсках».
Можно заключить, что эта война стала «золотым стандартом» военной
журналистики и информационной войны. В последовавшей затем I Мировой
войне все эти принципы и приёмы стали уже таким же мощнейшим фактором
воздействия на ход и исход войны, как обеспечение войск боеприпасами, продовольствием или пополнениями.
Не в последнюю роль поражению и выходу из войны Германии и России
содействовали в том числе и либеральные и социал-демократические газеты,
смаковавшие проблемы и поражения своих армий.
В период II Мировой войны на фронтах уже работали тысячи военных
корреспондентов, формировавших информационное поле своих стран. К концу
1942 г. в Вооруженных Силах выходило 4 центральных, 13 фронтовых, 60 армейских, 33 корпусных, 600 дивизионных и бригадных газет. На фронтах и в
армии было немало газет на языках народов СССР.
Метафора «К штыку прировняли перо» не просто красивость. Доставка газет в части была приравнена к доставке боеприпасов. Фронтовые, армейские и
дивизионные газеты должны были доставляться в войска в день выпуска, а
прочие на следующий день! Перед войной в СССР было 2186 писателей и по119
этов. В кадрах Красной Армии и Военно-Моского Флота в годы Великой Отечественной войны находилось 943 писателя из них не вернулось оттуда 417,
среди них Константин Симонов, Евгения Долматовский, Михаил Шолохов,
Сергей Михалков, Андрей Платонов, Василий Гроссман, Александр Твардовский, Тимур Гайдар, Алексей Сурков, Александр Фадеев, Евгений Петров.
Наш столь детальный исторический экскурс необходим для того, чтобы
наглядно продемонстрировать, что в нынешнем веке идут войны нового типа.
Их формат изменился кардинально. Появился качественно новый формат –
«Война в прямом эфире»:
1. Первой такой войной стала война в Ираке «Буря в пустыне» (17 января –
28 февраля 1991) – практически непрерывный репортаж о продвижении войск.
24 часа в эфире. Десятки камер CNN, BBC и других западных агентств;
2. Это была первая война, которую «видели» по обе стороны фронта. В
Багдаде транслировались все основные иностранные новостные каналы и население видело он-лайн, как его бомбят. Это стало важнейшим психологическим
фактором, который во многом дезинформировал и психологически подавил
иракцев;
3. Вторично этот же приём был применен в войне против Югославии «Союзная сила» – такой же прямой эфир на обе стороны фронта и в итоге именно
это мощнейшее психологическое давление сломило волю к сопротивлению лидера Югославии Слободана Милошевича и вынудило его принять условия капитуляции;
4. В третий раз эта же технология была применена в ходе вторая войны
против Ирака «Шок и трепет» 20 марта – 1 мая 2003. Снова прямой эфир нонстоп и беспрецедентная информационная поддержка – камеры в батальонах,
интернет-сети. Но в этот раз технология не сработала. Более того обернулась
против самих американцев и удар был нанесён из интернета.
Тогда впервые США столкнулись с принципиально новым видом информационного противодействия – сетевой информационной волной, которая
«фейс-то-фейс» – подорвала макро пропагандистскую кампанию США. Созданная группой российских энтузиастов информационно-аналитическая группа «Рамзай» своими альтернативными сводками с иракского фронта, идущими
вразрез с бравурными докладами американцев, но куда более объективно отражающих реальность, в считанные дни составила критическую конкуренцию
американской пропаганде и сместила вектор общественного восприятия этой
войны с проамериканского на антиамериканский.
В итоге Америка была вынуждена: прекратить он-лайн трансляцию, перейти на дозирование информации, опровергать сообщения группы «Рамзай»,
отключить войсковые интернет-сети.
Сегодня для всех очевидным стали следующие тезисы. Теперь информационное противоборство ведётся на всю глубину территорий всех воюющих
сторон. Сеть Интеренет, глобальные телевизионные порталы, агентства, спутниковые системы сделали любую информацию принципиально доступной с
любой точки планеты. Вещание на противника, дезинформация, подрыв его
морально-психологического состояния становится ключевой задачей иногда
120
опережающей задачи военного поражения. Один из ярких примеров это доказывающих является разгром украинских войск в 2015–2015 гг. под Иловайском
и Дебальцево, заполнившие все интернет-сети и новостные ленты репортажи и
видеосюжеты о разгроме войск привели к полной деморализация ВСУ и украинского общества. При этом «закрыться» от этого «информационного проникновения» фактически невозможно. Отключить интернет сегодня крайне трудно,
кроме того, психологический эффект такого «отрубания» информации может
оказаться совершенно обратным. Поэтому борьба против противника на информационном пространстве и защита своего населения от пропаганды противника, сохранение социальной стабильности и поддержки действий политического и военного руководства становится сверхзадачей.
Наконец в рамках своей статьи нам бы хотелось остановиться на особенностях работы военного журналиста на войне, опираясь на собственный опыт.
В этой связи хочется вспомнить слова Карла Филиппа Готтлиб фон Клаузевица:
«Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать
сложно» [4, с. 43]. Соответственно главная особенность работы военного журналиста состоит в том, что он находится в зоне ведения боевых действий, где
каждая из сторон стремится нанести максимальный урон противнику, применяя
все имеющиеся в его распоряжении средства поражения и, соответственно, в
условиях дистанционной войны между журналистом и солдатом нет никакой
разницы, это равные мишени: 100 м. – видно лицо человека, 200 м. – лица не
разобрать, 300 м. – кисти рук неразличимы, 400 м. – голова сливается с телом,
600 м. – люди выглядят как толстые треугольники. Слово «Пресса» – в лучшем
случае просто эффектная мишень для снайпера.
Следовательно, главное отличие военного корреспондента от обычного
репортёра – это способность правильно понимать и оценивать, что происходит
вокруг него, то есть знать военное дело. Пренебрежение или не знание этого заканчивается, как правило, трагично.
В обязательном порядке военному корреспонденту перед началом работы
требуется решить все оргмоменты: пройти аккредитацию, уточнить район и место работы и получить все нужные для работы контакта, а так же на смете согласовать с военными контролирующими данную территорию чего можно и
что нельзя.
Следует быть готовыми к так называемой «шпиономании», что часто бывает оправданным. Так, за два дня до падения Дебальцева журналистка «Громадського ТБ» Анастасия Станко в своём «Фейсбуке» радостно написала: «Я
еду по дороге и такое вижу! Муженко я люблю тебя! Ждите хороших новостей!» – так была вскрыта переброска последнего резерва ВСУ, который должен был нанести контрудар и пробить стенку котла. По украинским войскам
были нанесены артудары, на встречу им были переброшены резервы ополчения
и как следствие ВСУ понёсли потери и задачу не выполнили.
Еще одним не маловажным моментом в работе военного журналиста является – постоянное мониторинг обстановки. Следует отдавать себе отчет в том, что
современный фронт непрерывно движется. Там, где вчера была безопасная дорога сегодня блок-пост противника. Где было тихое место – сегодня обстреливает
121
артиллерия. Количество журналистов «заехавших» в плен, на мины или под обстрел исчисляется сотнями. И среди них хватало и опытных и бывалых – поэтому
здравая осторожность сверх важное качество! Интуиция – важнейшее чувство.
Военному корреспонденту необходимо обязательно информировать о своих планах руководство редакций и по возможности постоянно выходить на
связь. Куда бы вы не собрались выезжать, – в тылу (редакции, «базе», на которой вы остановились) кто-то должен знать, куда вы поехали и на какой срок?
Война это всегда крайне опасный хаос – и всегда кто-то должен знать район,
где вас искать.
Так, 16 февраля 2015 – Дмитрий Лабуткин, капитан-лейтенант, военный
корреспондент и заместитель редактора телерадиовещательной компании Министерства обороны Украины ТРК «Бриз»; пресс-офицер сектора «С» АТО был
убит в ходе боевых действий за Дебальцево у ЖД вокзала. Поскольку никто из
его близких и руководства не знал его местонахождения, то он фактически
пропал без вести. Был найден и опознан только благодаря другому военкору
Дмитрию Стешину, на чьей видеозаписи были сняты его тело и документы.
Еще одним важным навыком военного корреспондента должна быть автономность. На войне вам никто не продаст ни зубную пасту, ни батарейки, ни запасной аккумулятор, ни объектив, ни бронежилет, ни фонарь. Поэтому сборы в
командировку это половина профессионального успеха военного корреспондента.
Как показывает наш опыт, наилучший алгоритм работы журналиста такой:
по цепочке от штаба вниз добраться до воюющего подразделения – самый
удобный для работы журналиста уровень, куда стекается как информация
«сверху» об обстановке, так и «снизу» – батальон. И там задержаться на несколько дней, прожить жизнью бойцов, спать с ними в одной палатке, есть за
одним столом, слушать их и разговаривать. В первый день вы будете экзотическим гостем, а на третий станете частью этих людей, так как на войне люди
сходятся очень быстро и сможете получить наиболее интересную и полную
информацию. Самый удобный рабочий инструмент – блокнот. Опыт свидетельствует – необходима ежевечерняя запись впечатлений, образов, деталей, информации. Не запишите – уже утром не вспомните.
Таким образом, история становления военной журналистики и обобщение
нами своего многолетнего опыта показывает нам то, что профессия военного
корреспондента настолько же значима, насколько и опасна. Она имеет свои
специфические особенности, как и любой другой вид профессиональной деятельности, только ошибки в их деятельности несут слишком большую цену.
Литература
1. Слово о полку Игореве, Игоря сына Святослава внука Олегова: Древнерусский текст
подгот. к печ. В. Ожигой. М.: Академия, 1934. 50 с.
2. IV конвенция о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября 1907 г.).
URL: http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1519, свободный (дата обращения 20.04.2016).
3. История военного дела: справочное издание: в 4 т. М.: Дело, 2004. Т. 3. 250 с.
4. История военного дела: справочное издание: в 4 т. М.: Дело, 2004. Т. 1. 348 с.
5. «Англо-бурская война». URL: http://topwar.ru/350-anglo-burskaya-vojna.html (дата обращения: 20.04.2016).
122
Секция 2
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБЩЕСТВА, БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1
А.В. Богачев
канд. полит. наук, доцент
кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Казанского филиала Российской международной академии туризма
Исследование мы хотели бы посвятить партийной системе России и, в
первую очередь, оппозиционным политическим партиям. Политическая оппозиция играет важнейшую роль в любом демократическом обществе или обществе,
осуществляющем переход к демократии. Рост и политизация протестной активности в конце 2011 – начале 2012 гг., ставшие следствием социального запроса на
изменения, вынудили российскую правящую элиту пойти на реформу партийной
системы. В результате нее минимальные требования к численности партий были
снижены с самых высоких в Европе 40000 человек до 500, с 4 до 14 выросло число партий, имеющих право выдвигать кандидатов в депутаты Государственной
Думы без сбора подписей. Количество зарегистрированных в России политических партий выросло с 7 в 2011 году до 77 в настоящее время. Однако, с нашей
точки зрения, эти изменения в законодательстве представляли собой лишь тактические уступки власти, имевшие целью другими способами получить имевшийся
результат: доминирование правящей партии. Если раньше он достигался мерами,
чрезвычайно затрудняющими создание новых партий, то сейчас наличие большого числа малых партий, не имеющих шансов на прохождение в легислатуры, никоим образом не препятствует, а зачастую способствует «Единой России». Это
подтверждают прошедшие за истекшее время региональные выборы.
К началу 2012 г. партийный состав законодательных собраний большинства регионов страны представлял собой почти полный аналог общероссийской модели. В региональных парламентах, как правило, присутствовали
все четыре федеральные парламентские партии, в легислатурах некоторых
субъектов РФ также были представлены «Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело» и Аграрная партия России. Из 27 региональных заксобраний, избранных в декабре 2011 г., лишь в пяти фракционный состав отличался от феде© Богачев А.В., 2016
123
рального. Крупнейшие фракции во всех региональных собраниях были у «Единой России». Везде, кроме четырех субъектов, она имела абсолютное большинство мандатов (в Кировской области – 50 процентов), хотя в ряде регионов
ЕР получала менее 50% голосов.
В течение 2012-2013 гг. выборы в региональные легислатуры проводились
дважды: 14 октября 2012 г. были избраны полные составы шести региональных
парламентов, 8 сентября 2013 г. – шестнадцати.
Если в региональных выборах 2011 г. имели право участвовать семь партий, а пользовались этим правом четыре или пять, то уже в 2012 г. в каждом регионе насчитывалось от 11 до 17 зарегистрированных партийных списков (в
среднем 13,2), а в 2013 г. – от 8 до 23 (в среднем 17,2). В целом по стране в 2013
г. в выборах в региональные парламенты по пропорциональной системе участвовали 42 партии, а с учетом депутатов, баллотировавшихся по одномандатным
округам, – 47 (из 54 имевших право на участие в выборах). Большинство партий, получивших право на участие в выборах 2012 г., были политтехнологическими проектами, не могли и не имели целью составить реальную конкуренцию
«старым» партиям.
Шесть из них – Демократическая партия России, Социал-демократическая
партия России, Народная партия России, Коммунистическая партия социальной
справедливости (КПСС), «Союз горожан», Партия социальных сетей (впоследствии переименована в «Гражданскую позицию») – были созданы «Центром
Андрея Богданова». Их принадлежность к одному пулу проявилась в ходе выборов 2012 и 2013 гг. Краткая и маловразумительная предвыборная программа,
неизвестные лица в лидерах – свойственные этому типу признаки присутствуют
также у Партии свободных граждан и у Политической партии социальной защиты. Большинство новых партий проявили очень слабую электоральную активность. Только 18 из 54 новых партий выдвинули списки более чем в половине кампаний в региональные парламенты и горсоветы административных
центров субъектов РФ. При этом партии, созданные «Центром Андрея Богданова», выдвигали списки из одних и тех же кандидатов, в основном не имевших
отношения к регионам и городам, в которых выдвигались. Эти партии также
почти не выдвигали кандидатов в мажоритарных округах. Именно партии «богдановского пула», а также применившая ту же технологию «Гражданская сила»
обеспечили высокие показатели формальной межпартийной конкуренции.
Значительное упрощение процедуры создания новых партий привело к появлению партий – спойлеров, оттягивающих голоса у парламентской оппозиции. Некоторые из участников выборов 2012–2013 гг. были по сути спойлерами
КПРФ, «Справедливой России» и набиравшей силу «Гражданской платформы».
Об этом говорит, в частности, то, что они использовали схожие названия и символику – «Коммунисты России», Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС), «Партия за справедливость!», «Гражданская позиция»,
«Гражданская сила».
Средний уровень голосования за «партию власти» в 2013 г. снизился по
сравнению с предыдущими выборами на 8 % – до 54,1 %. Тем не менее «Единая
Россия» в основном сохранила, а в ряде регионов даже упрочила свои позиции.
В 2012 г. данный показатель снизился всего на 0,1 %, причем в трех регионах
124
из шести «Единая Россия» получила даже больше голосов, чем на предыдущих
выборах. Уменьшение представительства «Единой России» на выборах 2013
года по сравнению с предыдущим циклом таких же выборов не обернулось
чьим-то выигрышем: традиционные парламентские партии получили примерно
столько же, сколько в прошлом цикле (на 1,4 % меньше, в 2012 г. – на 9,55 %
голосов). Разницу поделили между собой два десятка новых малых партий,
лишь в редких случаях преодолевавших заградительный барьер. Так, в четырех
регионах доля голосов за партии, не преодолевшие заградительный барьер,
превысила 20 %.
Всего по итогам выборов 2013 г. представительство в законодательных собраниях субъектов РФ получили 14 партий, 10 из которых прошли по пропорциональной системе, 4 провели кандидатов только по одномандатным округам.
Результаты большинства выборов воспроизвели «традиционную» конфигурацию парламентских сил. В 2012 г. в региональные парламенты были избраны только представители «большой четверки» – «Единой России», КПРФ,
«Справедливой России» и ЛДПР; в каждом были представлены от двух до четырех партий. В 2013 г. – от трех до семи (с учетом одномандатников), при
этом вновь созданные партии получили места в 10 из 16 парламентов. Средняя
доля депутатов законодательных собраний от «Единой России» по итогам выборов 2012 г. составила 83 %, 2013-го – 78 %. В пяти вновь избранных региональных парламентах «ЕР» имеет более чем 90 % мандатов, только в двух у нее
менее чем две трети депутатских мест.
Таким образом, можно констатировать, что партийная реформа несколько
увеличила конкурентность выборов, в ряде регионов расширилось партийное
представительство в законодательных органах. Вместе с тем, она способствовала укреплению позиций «партии власти» – несмотря на заметное снижение в
2013 г. доли голосов, отданных за «Единую Россию», удельный вес ее депутатского корпуса даже несколько вырос. Этот эффект был достигнут за счет перераспределения «потерянных» голосов, в основном отданных за новых участников выборов, т.к. в наибольшей степени они достаются партии-победителю. В
одном регионе в 2012 г. и в девяти регионах в 2013 г. «Единая Россия» получила менее 50 % голосов, но при этом везде более половины (а в основном более
70 %) мандатов. Помимо вышеуказанных факторов, представительство «ЕР»
увеличили депутаты, избранные по одномандатным округам.
Выборы 2014 г. прошли в условиях ревизии правящей элитой реформы
партийной и избирательной систем и отказа от ряда прогрессивных новаций.
Это стало возможным благодаря резкому спаду протестной активности вследствие работы силовых структур и пропагандистской машины по противодействию протестам, принятию ряда законов, ограничивающих деятельность некоммерческих организаций и свободу проведения митингов. Проявлением
«консервативного отката», в частности, стала отмена в 2014 г. введенного в
2012-м освобождения всех зарегистрированных партий от сбора подписей.
Необходимо отметить, что в начальный период активного партстроительства, стартовавшего в 2012 г. после объявления о партийной реформе, Министерство юстиции РФ не сообщало об отказах в регистрации. В октябре 2012 г.
их получили 6 партий. К началу апреля 2013 г. количество отказов достигло 16.
125
С апреля 2013 по октябрь 2014 г. в регистрации было отказано 37 партиям. На
наш взгляд, это объясняется изменением подхода власти к регистрации партий.
Об этом же свидетельствует и увеличение сроков прохождения регистрации.
Примечателен список партий, получивших отказ в регистрации. Среди них
есть организации с экзотическими названиями и малоизвестными лидерами
(Нетократическая партия России, Метагалактическая гражданская конфедерация России), а также партии, названия которых дублируют названия уже зарегистрированных. Однако немало и таких, которые связаны с протестным движением и/или возглавляются известными оппозиционными политиками:
«Народный альянс» (партия сторонников А.А. Навального), Партия 5 декабря
(лидер – член Координационного совета оппозиции С.К. Давидис), Национально-демократическая партия (лидеры – члены Координационного совета оппозиции К.А. Крылов и В. Тор), «Новая сила», Пиратская партия России, «Свобода и народовластие» (лидер – бывший мэр Владивостока, бывший депутат Госдумы В.И. Черепков). До февраля 2014 г. не была зарегистрирована ни одна
партия, напрямую связанная с Координационным советом оппозиции. Сторонники Алексея Навального дважды безуспешно пытались зарегистрировать партию «Народный альянс». В ноябре 2013 года партия «Родная страна», созданная Андреем Богдановым, сменила название на «Народный альянс», еще раз
подтвердив, что спойлерство является целью партий «богдановского пула». В
феврале 2014 года было принято решение о переименовании партии «Народный
Альянс» (которую к тому моменту официально возглавлял Навальный) в Партию Прогресса . 25 февраля 2014 года Партия Прогресса была зарегистрирована
Министерством юстиции, но уже 2 апреля ведомство заявило о возможности
отзыва регистрации. Партия столкнулась с многочисленными (к 27 сентября
2014 года – более 160) отказами отделений Минюста в регистрации региональных отделений, обоснования части из которых были откровенно абсурдными.
Минюст РФ не включил Партию прогресса в список партий, имеющих право
участвовать в выборах, в связи с тем, что необходимое для этого число региональных отделений было зарегистрировано с нарушением установленных сроков. 28 апреля 2015 года Министерство юстиции РФ приняло решение о лишении Партии Прогресса государственной регистрации. Можно констатировать,
что, помимо отказа власти от либерализации партийного законодательства в
случае необходимости исключения из избирательного процесса наиболее ярких
представителей оппозиции включается «ручной режим».
14 сентября 2014 г. выборы в законодательные собрания прошли в 14-ти
субъектах РФ (в том числе в двух новых). Большинство партий было лишено
права регистрировать кандидатов без сбора подписей, что сказалось на составе
участников выборов. Большая часть партий в 2014 г. снизила активность. В выборах в региональные собрания участвовало от 5 до 14 списков (в среднем 9,1).
В целом по стране списки выдвинули 27 партий из 69 имевших право, с учетом
кандидатов по одномандатным округам – 28. Практически везде результаты
«Единой России» улучшились по сравнению с предыдущими выборами, а парламентской оппозиции в целом – ухудшились. Достижения непарламентских
партий были более скромными, чем в 2013 г. Более чем в одном регионе загра126
дительный барьер преодолели только «Патриоты России», «Родина», РЭП «Зеленые» и «Гражданская сила» – только в одном.
После выборов 2014 г. партий, которые сумели провести кандидатов по
партийным спискам хотя бы в один региональный парламент, стало десять:
«Яблоко», «Патриоты России», «Гражданская платформа», Российская партия
пенсионеров за справедливость, «Правое дело», «Родина», РЭП «Зеленые»,
«Коммунисты России», РПР-ПАРНАС и «Гражданская сила». Эти партии по
действующему закону имеют право не собирать подписи избирателей на выборах в Государственную Думу, а также на региональных и муниципальных выборах в тех субъектах РФ, где они прошли в региональные парламенты.
13 сентября 2015 года состоялись выборы депутатов 11 региональных законодательных собраний. По единым избирательным округам списки выдвинули 36 партий. В выборах в региональные собрания участвовало от 5 до 15 списков (в среднем 7,8). В среднем по партийным спискам за «Единую Россию»
проголосовало 59,3 % избирателей. За счет перераспределения голосов и одномандатников «Единая Россия» получила 80,9 % мандатов в законодательных
собраниях РФ. Партии парламентской оппозиции в целом выступили лучше,
чем в 2014 году. Ни одна из партий, представляющих непарламентскую оппозицию, не смогла преодолеть заградительный барьер. В результате, как и в 2014
году, те же 14 партий сохраняют возможность участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей.
Одним из инструментов по нейтрализации оппонентов власти стали отказы
в регистрации кандидатам в округах и партийным спискам. Так, оппозиционная
Демократическая коалиция планировала пойти на выборы по спискам на базе
партии ПАРНАС в четырех регионах страны – в Костромской, Калужской, Новосибирской и Магаданской областях. В Калужской области оппозиция сама
отказалась от сдачи подписей в избирком. Региональные избирательные комиссии Новосибирской и Магаданской областей не допустили партию к выборам,
забраковав более 10% собранных подписей. Центризбирком РФ отклонил жалобу ПАРНАС на действия Новосибирского и Магаданского облизбиркомов.
Костромской облизбирком также не допустил ПАРНАС до участия в выборах,
однако, после предписания ЦИК это решение было пересмотрено. Необходимо
отметить, что ПАРНАС допустили к участию в выборах в регионе, где было зарегистрировано максимальное количество партийных списков – 15, в числе которых была и партия-спойлер ПАРНАСа – «Партия за справедливость!»
(ПАРЗАС). Руководитель предвыборного штаба ПАРНАСа в Костроме Андрей
Пивоваров был арестован за попытку сверить подписи перед сдачей по базе
данных МВД. Несмотря на давление, попытки дискредитации, срывы агитационных мероприятий посредством организации провокаций, ПАРНАС провел
одну из самых ярких и интенсивных агитационных кампаний. Кандидат юридических наук, глава межрегиональной ассоциации избирателей Андрей Бузин
видит причину большинства снятий с выборов в «близости избиркомов к штабам административных кандидатов». «В 2007-2010 годах снятие списков с выборов было явлением достаточно редким, тогда искусственно выстраивалась
партийная система. После упрощения регистрации партий отказов становится
127
больше. Повод для снятия всегда найдется, если избирательная комиссия не
беспристрастна», – указывает Бузин [1].
Кроме того, требует изучения ситуация, сложившаяся после присоединения Крыма к России и во время событий на Украине, которую мы бы охарактеризовали как «посткрымский консенсус».
В мировой политической науке существуют десятки классификаций политической оппозиции. И действительно, возможно выделение большого числа
критериев классификации. В их качестве предлагают отношение оппозиции к
действующей власти и существующей политической системе; наличие у оппозиции реальной альтернативы правительственному курсу; форму деятельности;
форму выражения своих требований; легальный статус; средства достижения
целей и т.д.
Автору наиболее близок подход российского исследователя В.Гельмана,
предложившего объединить классификации Р. Даля и Х.Линца и получить тем
самым обобщенную классификацию политических оппозиций по целям и средствам [2, с. 54–55]. Подобная классификация целей оппозиции способствует
выделению ее четырех разновидностей:
1. Термин «полуоппозиция» обозначает те партии и политиков, которые
критикуют правительственный курс, но готовы войти в правительство (если их
попросят) без всяких предварительных условий.
2. Под «неструктурной оппозицией» подразумеваются те, кто настаивает
на частичном изменении политического курса.
3. «Структурная оппозиция» требует общего изменения курса и частичного
изменения политического режима.
4. «Принципиальная оппозиция» имеет антисистемный характер, противостоит не только конкретному правительству, но и всему режиму в целом.
В сложившейся в современной России ситуации правящая элита стремится
усилить контроль над оппозицией в Государственной Думе, зависимость «системных» партий от исполнительной власти. По сути, парламентская оппозиция
с трудом дотягивает до состояния «полуоппозиции», становясь частью системы, в которой выполняет функции «попутчика» режима, поддерживает его. В
подтверждение этого можно привести следующие факты. В 2015 году в преддверии единого дня голосования «Единая Россия» заключила коалиционные
договоренности с представителями думской оппозиции в трех регионах – Омской, Смоленской и Брянской областях. В этих регионах одна из партий не выставляла кандидата против действующего губернатора, а он в обмен на это выдвигал оппонента в Совет Федерации ФС РФ [3]. В феврале 2016 года секретарь
генерального совета «Единой России» С.Неверов рассказал о том, что парламентские партии ведут переговоры о разделе 40 одномандатных округов на
предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу. По замыслу авторов этой инициативы, каждая из парламентских партий получит округа, в которых их коллеги по парламенту не будут выдвигать своих сильных кандидатов
[4]. С осени 2014 года впервые в новейшей истории «Единая Россия» стала
проводить массовые уличные акции вместе с представителями думской оппозиции. Три из четырех совместных акций, прошедших в Москве в сентябре и
ноябре 2014 года, феврале и марте 2015 года, были посвящены событиям в Ки128
еве, Крыму и на Юго-Востоке Украины. В официальном дискурсе и дискурсе
«системных» партий позиция тех политических сил, которые ставят под сомнение законность действий российской власти в украинском кризисе («Яблоко»,
ПАРНАС, представители ряда других непарламентских партий) представляется
как деструктивная, не отвечающая интересам России. В этой связи показательно снятие списка «Яблока» с выборов в Государственный Совет Республики
Татарстан в 2014 году по заявлению представителей регионального отделения
«Справедливой России». Справедливороссы считали, что кандидаты из партийного списка «Яблока» неверно заполнили документы со сведениями о кандидатах: напротив графы «наличие имущества или обязательств имущественного
характера за пределами России» у пяти кандидатов от «Яблока» вместо записи
«отсутствует» стоял прочерк. Верховный Суд России постановил частично удовлетворить иск и удалить из списка четверых кандидатов, что автоматически
привело к аннулированию списка по избирательному законодательству Татарстана. У подобных действий татарстанских справедливороссов была очевидная
цель: получить голоса снятой с дистанции партии-конкурента. Однако, вот как
обосновывает то, почему в качестве мишени было избрано именно «Яблоко»,
председатель «Справедливой России» Сергей Миронов: «Когда мне позвонили
и сказали: «У нас есть основания», я сказал: «Снимайте!» Один из главных мотивов, почему я дал добро. «Яблоко» сразу сделало заявление по Крыму, а потом замолчало, хотя слово не воробей. По Украине они как-то стараются, а
«Парнас» собирается Марш мира делать в Москве. Это та самая «пятая колонна». Посмотрите, кто там пойдет. Парнасовцы и яблочники пойдут. Ну и ходите
дальше. Идите прямо в Киев ваш любимый» [5]. С точки зрения власти за «границей дозволенного» оказывается не только антисистемная оппозиция, но и
многие демократически ориентированные политики. Необходимо отметить,
что, выступая против права установившегося режима быть «истиной в последней инстанции», они не ставят под сомнение основы конституционного строя
России, наоборот, призывают к соблюдению Конституции, законов, принципов
права. Подобная тактика властей во взаимоотношениях с оппозицией означает
создание новых барьеров для политической конкуренции, давление на партии,
применение репрессивных механизмов к политическим активистам. Выборы в
регионах показывают, что в дополнение к масштабному использованию административного ресурса и фальсификаций власти прибегают к недопущению до
выборов наиболее активных оппонентов и снятию целых партийных списков.
Литература
1. Перцев А. В регионах творится черт-те что. URL: http://www.gazeta.ru/politics/
2013/07/29_a_5530025.shtml (дата обращения: 17.11.2015).
2. Гельман В. Политическая оппозиция в России: вымирающий вид? // Полис. 2003.
№ 4. С. 52–70.
3. Рубин М., Макутина М., Бочарова С. Елена Мизулина покинет Госдуму. URL:
http://www.rbc.ru/politics/15/07/2015/55a67d389a7947eadaa651d8 (дата обращения: 26.03.2016).
4. Винокуров А., Галимова Н. Партии делят думские выборы. URL: http://www.
gazeta.ru/politics/2016/02/14_a_8074751.shtml (дата обращения: 26.03.2016).
5. СР: Зачем было устранять «Яблоко». URL: http://www.youtube.com/watch?v=
chbVASvZgtk (дата обращения: 17.11.2015).
129
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО:
ИДЕИ БРИТАНСКИХ РАДИКАЛОВ1
Ю.В. Василенко
канд. филос. наук, доцент
Пермского филиала
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
Э.С. Рифиниус
студент
Пермского филиала
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
Последние двадцать лет политики Европы охарактеризованы многими исследователями как рост праворадикальных настроений и укрепление позиций
экстремистских партий правого толка. Этот вопрос активно обсуждается как
лидерами отдельных стран (в особенности – Франции и Германии [2]), так и на
уровне целых политических объединений – таких, как Европейский союз [5].
Более того, внимание исследователей привлекают случаи стран, где позиции
праворадикальных политических партий до недавнего времени были относительно слабы – Швеции, Бельгии, Австрии, Швейцарии [4]. На этом фоне случай Великобритании является достойным рассмотрения в виду двух факторов.
Во-первых, оформившийся институционально еще в 70-х годах XX века правый
радикализм в настоящее время имеет место на британской политической арене.
Во-вторых, по итогам парламентских выборов 2015 года к власти пришли консерваторы, которые, вероятно, могут адаптировать идеи правых радикалов к
своей программе.
Проанализировав манифесты, программные документы двух крупнейших
праворадикальных партий Великобритании – «Британская национальная партия» и «Национальный фронт» –, а также книги их лидеров, мы сможем выявить идеи устройства государства и общества, их взаимодействия, которые
лежат в основании британского правого радикализма.
«Национальный фронт» отличается жесткой и открытой критикой коммунизма. Кроме опубликованных ими заявлений об интервенции СССР в политику Англии, партия открыто заявляет о том, что коммунизм – первый враг порядка в мире, поэтому социалистические страны никогда не смогут существовать мирно рядом со странами Запада [6, с. 67].
Одна из центральных проблем в идеях «Национального фронта» – проблема
национализма. Члены партии, задавшись целью сделать данную проблему актуальной для общественных масс, понятной всем, а не только отдельным слоям
населения, связывают ее с «проблемой цветной иммиграции», которая является
© Василенко Ю.В., Рифиниус Э.С., 2016
130
более очевидной для общества, страдающего от недостатка рабочих мест. О том,
что партия добилась нужного эффекта, говорят статьи в британских газетах 2010
года, в которых подчеркивается связь между многочисленными столкновениями
иммигрантов с полицией и полученными партией местами в Парламенте [26].
Другой стороной (можно сказать – подходом) национализма стала идея сохранения нации. Нация, за сохранение которой борется Национальный фронт, получила название «северное арийство» или «англо-саксы» [19, с. 172]. По мнению
представителей НФ, все нации могут образовывать иерархию – от самых способных и сильных до самых слабых, и естественным образом сильные нации доминируют над слабыми [8, с. 198]. Идея национализма включает в себя национализм и экономический: НФ считают, что Великобритании следует выйти из составов всех политических организаций и самостоятельно решать экономические
проблемы; кроме того, жестко критикуется идея мирового экономического рынка. Что касается внутренней политики, то государство должно также контролировать все финансовые институты [9, с. 199]
Идея расового неравенства также выражена в лозунгах, примерами которых могут служить – «Черных и кудрявых гоните прочь!» и «Сохраним нашу
нацию и будущее для белых детей» [13]. Под расой понимается именно деление
на «белых» и «небелых», последние приравнивались к недостойным. Идея расового неравенства и сохранения «белых семейных ценностей» [13] обосновывается правыми радикалами биологически – в основе объяснения лежит теория
о влиянии генетики на поведение человека. Таким образом, раса влияет на поведение людей, в том числе – политические действия [17, с. 77]. Так, британцы,
как одни из представителей сильнейшей расы – европейской – должны стремиться достичь «эволюционного прыжка» [27, с. 265]. Лидер партии М. Уэбстер пишет: «Если британский народ подвергнется расовому кровосмешению,
британская нация прекратит свое существование… если мы не донесем эту
идею до народа, все остальные наши позиции… будут совершенно бессмысленны» [8, с. 65]. Особую опасность представляет собой так называемое «мировое еврейство»: именно евреи, стремясь контролировать все финансовые ресурсы мира, могут разрушить британское единство и могущество [9, с. 198]. Однако представители партии, несмотря на частые упоминания британской истории
в своих идеях, отрицают такой громкий для мировой истории факт, как Холокост [28, с. 265]. Если обратиться к форме выражения идей и расовом неравенстве представителями НФ, то лозунги занимают здесь одно из значимых мест.
Что касается таких ценностей, как опыт и традиции, представители «Национального фронта» в своих идеях не противопоставляют настоящее прошлому,
напротив, партия считает своим долгом «напомнить Британии об ее истории и
наследии» [12]. Традиционным для БНФ считается установление в обществе
единых «духовных ориентиров», способствующих сплочению и чувству гордости за свою идентичность [9, с. 201].
Защита народа – важнейшая миссия правительства. По мнению представителей партии, защита и возможность быстро отреагировать на внешнюю агрессию – исключительный повод содержать британские военные силы [13]. Это
защита, в частности, может проявиться в отказе от либеральных ценностей –
131
тех, что делают Британию «мягкотелой», восстановить «национальную гордость» через изменение политической системы [9, 198]. Если же не изменить
принципы политики, оставить ее мягкой по отношению к «цветным», это грозит утратой «британского национального характера» [27, с. 272]. М. Уэбстер
подчеркивает, что необходимо не просто изменить политическую систему, то и
совершить «переворот в сознании общества»: «необходимо навсегда изжить из
умов британцев чувство вины перед цветными расами» [9, с. 201].
Европейский вопрос, являющийся актуальным со второй половины XX века и до настоящего времени, также затрагивается в идеях Национального фронта. Представители партии не отрицают восприятие Европы как некой целостности, и в основании этого восприятия лежит общая многовековая история. Несмотря на это, «каждая нация идет по своему пути развития» [13]. Именно поэтому концепция «Европейского сверхгосударства», по мнению Национального
фронта, не сочетается принципом невмешательства в дела другой страны [13].
Главный принцип европейской интеграции – стандартизация, и особенно это
касается экономики. Правые радикалы считают, что в погоне друг за другом
производители устанавливают неформальные стандарты, которым должны соответствовать продукты, произведенные в Европе. Это, прежде всего, связывает
руки мелким предпринимателям, которые руководствуются принципом нестандартного подхода к производству и в целом пресекают их инициативы. В свою
очередь, это противоречит принципам человеческой свободы и стремлению человека совершенствоваться, поощряемому консерваторами [13].
Говоря об идеологии Британской национальной партии, в первую очередь
для нее характерно скептическое отношение к человеку и к обществу в целом.
Как писал лидер партии Тинделл, британское общество измучено болезнью, в
центре которой находится раковая опухоль – доктрина либерализма, и вскоре
оно подойдет к распаду [16, с. 83]. По их мнению, настоящая доктрина должна
распространяться на все общество; она должна быть не политической, она
должна менять взгляд людей на мир [16, с. 84]. Безусловно, эта черта роднит
британский фашизм с традиционализмом, для которого так же характерно отношение к человеку как к существу изначально греховному и неразумному.
Партия выдвинула идею будущей беспартийной политической системы, в
которой существовали бы только отдельные политические акторы [16, с. 86].
По мнению представителей БНП (и такой подход характерен для большинства
праворадикальных партий Европы), большие партии не являются представителями воли народа, они дистанцированы от общества и нацелены на отстаивание
собственных интересов [3, с. 98]. Как именно будущая беспартийная система
будет функционировать – не ясно, но очевидно, что это противоречит идеям
демократии.
Сторонникам Британской национальной партии присущ ярко выраженный
расизм. Подобно идеям Национального фронта, представители БНФ, используют понятие «раса» для отделения «белых» (европейцев) от «небелых» (иммигрантов). Ценностью является достойная раса, под которой понимаются «анлгосаксонские и кельтские народы, уникальная смесь Северного Европейского
наследия, которое дало Британии ее величие и ее гениев» [16, с. 88]. «Небелым»
132
людям запрещается членство в партии [21, с. 403]. Подобно идеологам Национального фронта, они считают, что корни расового неравенства заложены в генетике.
Национализм – также одна из важнейших черт идеологии партии. Британская нация, несмотря на свое превосходство, имеет «слабый инстинкт самосохранения, отчего пала жертвой либерализма» [16, с. 88]. Проблема бесчисленных иммиграций и мультикультурализм – результат «либерального заговора»,
основанного еврейской нацией, имеющей очень сильный инстинкт выживания
[16, с. 88]. В этом смысле демократия не несет ничего хорошего, поскольку
распространяет идею расового равенства, ведущую к вырождению «достойных». По мнению членов партии, необходимо вселить в британцев так называемый «дух возрождения» англосаксов, которые являются одной из двух понастоящему великих рас на ряду с немцами [28, с. 71]. Тинделлом также были
написаны «Шесть принципов национализма», на которых во многом основана
партийная идеология. «Только самые мужественные нации могут быть свободными… поэтому Англия должна стремиться к независимости. Мы одобряем
взаимодействие, но мы порицаем взаимозависимость» [29]. Принцип национализма становится одним из ключевых прежде всего потому, что играет конкретную и важную роль – восстановление единства британского народа [29].
Британцы и европейцы в целом, по мнению членов БНП, играют особую роль в
развитии мира: «…несмотря на то, что каждая раса может обладать некоторыми
способностями и умениями, способность управлять и поддерживать цивилизацию принадлежит европейской расе» [8, с. 131].
Наряду с рассуждениями о роли еврейской нации в сложившейся ситуации, поднимается вопрос и о Холокосте [15]. Тиндэлл и его сподвижники
утверждают, что Гитлер в свое время не занимался убийствами, он собирал весь
«сброд» в лагеря, где вовсе не было недостатка пищи. В интервью, когда поднимался вопрос об отношении членов партии к Холокосту, они говорили, что
не имеют мнения по этому вопросу [16, с. 93]. В целом, такой подход можно
назвать отрицанием Холокоста как явления, что является специфической чертой британского фашизма.
Партия выступает за активную роль государства в регулировании экономики. Идеальная модель, предлагаемая Британской Национальной партией, носит название «экономического национализма» [16, с. 94] и подразумевает экономику, подконтрольную государству и регулируемую им в соответствии с
национальными интересами. Это касается даже денежных ресурсов: выпуск
монет должен стать прерогативой Правительства, его объем и траты также
должны определяться Правительством [17, с. 66].
По европейскому вопросу, как подчеркивают исследователи, Британская
национальная партия имеет мнение, сходное с остальными праворадикальными
партиями Европы [22, с. 669]. Они не отвергают идею евроинтеграции, но лишь
в пределах объединения ради взаимной помощи друг другу развитых стран. Что
касается идеи создания «сверх-государства», БНП относится к ней резко негативно, утверждая, что Великобритания после сближения с Европой не должна
133
изменять своим принципам, вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю
политику, иметь собственную постоянную армию [23].
Проблема массовых иммиграций также обратила на себя внимание партии.
В «Принципах и политике Британской национальной партии» говорится о том,
что «иммиграция в Британию неевропейцев должна быть прекращена, и мы
должны реализовать масштабную программу репатриации иммигрантов и переселения людей неевропейских народов в те страны, в которых они уже проживают» [21, с. 399]. Под программу репатриации попадают также люди смешанной расы. Кроме того, БНП призывают «не закрывать глаза на тот беспредел,
который творят иммигранты» путем ужесточения законодательства в отношении их: дабы нарушить тот «комфорт», который испытывают иммигранты,
«вторгаясь» в Великобританию, необходимо сделать их статус отягчающим обстоятельством в случае какого-либо проступка [23]. Представители БНП считают, что расширение прав иммигрантов и их положительное восприятие не
приведут ни к чему иному, как к потере национального единства и гордости, а
британцы рискуют стать национальным меньшинством [23].
БНП уделяет большое внимание вопросу свободы и демократии. По их
мнению, современный мир страдает именно от «лжедемократии», в которой
главная ценность – свобода – заменяется возможностью лавировать между многочисленными «палачами, судьями, папами и цензорами» [23]. Истинная свобода – это свобода мнений, когда твои идеи могут быть отвергнуты только тогда, когда они проиграли на «рынке идей» [8]. Не менее важную роль в наборе
тех свобод, которые должна гарантировать демократия, играет свобода слова.
Как утверждают представители БНП, свобода слова достигается тогда, когда «
нет контроля над СМИ со стороны крупных корпораций и медиа-баронов» [23].
Для достижения этой цели БНП предлагают контроль над свободой СМИ со
стороны государства.
Традиция – одна из тех ценностей, которая пронизывает практически каждую мысль, высказанную представителями БНП. Это касается не только таких,
как говорят сами авторы идей, «традиционно британских» черт, как «вежливость и учтивость», но и более материальных вещей. В частности, БНП обращают внимание на актуальную проблему культурного аспекта жизни Великобритании – отказ от традиционной архитектуры и вида города – с единым центром и торговыми площадями вместо торговых центров за городскими пределами [23]. Еще одной важной традицией члены БНП признают преданность
британским законам. Эта традиция находится в опасности ввиду сближения с
Европейским союзом, поэтому партия считает необходимым «защитить традиционные британские законы» от внешних вмешательств, обеспечить их верховенство [24]. Таким образом, традиция призвана поддерживать единство людей
и их искреннюю веру в государство и нацию.
В идеях партии встречается вопрос о религии. Религия рассматривается
ими как некий обязательный, естественный компонент жизни человека. Под религией у БНП подразумевается не абстрактная вера, а именно Западное Христианство. Роль государства в этом плане – обеспечить такой уклад жизни британского общества, где «некоторые аспекты публичной жизни будут базиро134
ваться на принципах Западного Христианства» [23, с. 38]. Именно Христианство, по мнению представителей БНП, является «бесценным наследством…
камнем преткновения нашей [британской] культуры и идентичности» [24].
Идентичность – также одна из тех ценностей, которые на современном этапе
следует оберегать от ее главных врагов – «массовых иммиграций, мультикультурализма и глобализации» [24].
Отвергая принцип естественного равенства людей, члены БНП обращают
внимание на необходимость создать такие условия, в которых каждый человек
смог бы реализовать свой собственный потенциал. Касаемо системы образования, они считают неразумным идею «уравнивания», предложенную «левыми».
Напротив, распределение по лучшим школам в соответствии с успехами –
наиболее разумна. Эта же идея воплощается и в сфере торговли, в виде монополизации – с ней, утверждают БНП, необходимо бороться в пользу мелких
предпринимателей, стремящихся воплотить свои идеи и стремиться к лучшему
[23]. Более того, они поддерживают принцип частной собственности, поскольку
обладание ей напрямую связано с ответственностью, возложенной на человека
[23]. По мнению БНП, человек должен чувствовать ответственность, проявлять
инициативу. Если переносить идеи партии на практику, то предлагается учредить Референдум гражданских инициатив, где граждане смогут выносить какие-либо предложения по решению актуальных проблем, если будут поддержаны другими гражданами [25].
Итак, мы можем сделать выводы относительно идейно-ценностного основания британского правого радикализма. Во-первых, это важная роль традиции
и религии, которая заключается в определении и поддержании общих морально-нравственных и духовных ориентиров, формировании национальной гордости и искренней веры в государство. Роль государства определяется радикалами как защита народа от внешней опасности (в виде иммигрантов) и внутренней (в виде распространения либерализма). Третья важная позиция – это идея
естественного расового неравенства, которое определяет и разные таланты и
возможности людей. Следующее, о чем следует сказать, – это национализм, а
именно – идея о необходимости вселить в британцев «дух возрождения и победы над другими нациями», об исключительности и превосходстве британской
нации. Сближение с Европой радикалами резко критикуется как удар по идентичности народа. Сквозной темой также является иммиграционный вопрос.
Резко негативное отношение к иммиграционным потокам радикалы объясняют
не только стремлением избавить британцев от проблем безработицы и низкого
уровня жизни, но и оградить нацию от кровосмешения с «недостойными».
Наконец, ностальгия по истории, характерная для представителей правой части
политического спектра, у британских радикалов дополняется идеей верификации исторических фактов, а именно – отрицанием Холокоста как явления.
Стоит отметить, что в ряде вопросов Британская национальная партия
предлагает более крайние меры, нежели Национальный фронт: превосходство
Европы сменяется превосходством именно британской нации, предлагается тотальная репатриация иммигрантов, роль государства расширяется с защиты от
внешних опасностей до активной роли в распределении ресурсов. Подводя об135
щую черту, мы можем сказать, что ценности правого радикализма в Великобритании со временем изменяются, становясь более «радикальными». Будучи
вполне устойчивой системой взглядов, это может оказать влияние на британский консерватизм, сместив его идейно-ценностное основание в «правом»
направлении.
Литература
1. Адорно Т. Исследование авторитарной личности // Библиотека Гумер. URL:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Adorno/01.php (дата обращения: 25.05.2015).
2. Арефьева А. Праворадикальная Европа // Россия в глобальной политике. URL:
http://www.globalaffairs.ru/studconf/Pravoradikalnaya-Evropa-16694 (дата обращения: 20.10.15)
3. Аршба О., Татунц С.А. Особенности правого радикализма // Государственная служба. 2013. № 4.
4. Болотникова Е.Г. Праворадикальные партии Швеции // Журнал ПОЛИТЭКС. URL:
http://www.politex.info/content/view/405/30/ (дата обращения 21.10.2015).
5. Единой Европе угрожает экстремизм / пер. А. Полоцкого // РБК. URL: http://www.
rbcdaily.ru/politics/562949983674773 (дата обращения: 21.10. 2015).
6. Жигалов И.И. Неофашизм в Великобритании: истоки, цели, особенности // Вопросы
истории. 1980. № 7.
7. Круглова Е.В. Правый экстремизм в современной Великобритании: дис. … канд. полит. наук. М., –2005.
8. Курносов Д.Д. Идеологический профиль британских праворадикальных политических сил: историческая эволюция и актуальные тенденции // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 2012. № 1.
9. Ларионов И.С. Британский национальный фронт – проблема идеологии // Всеобщая
история. 2010. № 2.
10. Мязин Н.А. Британская национальная партия: к вопросу о трансформации неофашизма в современной Великобритании // Вестник Пермского университета. 2012. № 3.
11. Национальная энциклопедическая служба. URL: http://vocabulary.ru/dictionary/
3/word/politicheskie-cenosti (дата обращения: 17.03.2015).
12. Cайт партии Национальный фронт. URL: http://www.national-front.org.uk/ (дата обращения: 18.03.2015).
13. Правый мир. URL: http://www.right-world.net/countries/uk/ (дата обращения:
2.04.2015).
14. События 1979 года // Хронос. URL: http://www.hrono.ru/1979_.php (дата обращения:
02.05. 2015).
15. Толковый словарь Ефремовой // Энциклопедии&Словари. URL: http://enc-dic.com/
efremova/Holokost-117133.html (дата обращения: 20.04.2015).
16. Copsey N. Contemporary British fascism. The British National party and the Quest for legitimacy. L.: Macmillan, 2004. 212 p.
17. Eatwell R., Wright A. Contemporary political ideologies. L.: Printer, 1993. 182 p.
18. Gottlieb J., Linehan T. The culture of fascism: Visions of the far right in Britain. L:
B. Tauris & Co Ltd, 2004. 128 p.
19. Ignazi P. Extreme right parties in Western Europe. Oxford: Oxford University press,
2003. 270 p.
20. Kirk R. Ten Conservative principles. URL: http://www.kirkcenter.org/index.php/detail/
ten-conservative-principles/#ten (20.02.2015).
21. Lennox C. Racial integration, ethnic diversity, and prejudice: empirical evidence from a
study of the British national party // Oxford economics paper. 2011. № 2.
22. McGowan L. Engaging with the European Union? Exploring the Europeanization of the
British National Party // Parliamentary affairs. 2015. № 68.
136
23. Rebuilding British democracy. British national party General Election 2005 Manifesto,
2005. URL: http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/BNP_uk_manifesto.pdf (18.05.2015).
24. Securing our British future. British National party Parliamentary election 2015 Manifesto,
2015. URL: http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/bnp_manifesto– 2015.pdf, free (10.05.2015).
25. The constitution of the British National party, 2014. URL: http://www.bnp.org.uk/
sites/default/files/constitutionbnp14-2.pdf (23.05.2015).
26. The National Front´s long march back to politics. URL: http://www.independent.co.uk/
news/uk/politics/the-national-fronts-long-march-back-to-politics-7669132.html (дата обращения:
15.04.2015).
27. Thurlow R. Fascism in Britain.NY: I.B. Tauris & Co Ltd, 1998. 301 p.
28. Thurlow R. The Developing British fascists. Interpretation of race, culture and evolution.
L: I.B. Tauris & Co Ltd, 2004. Р. 126.
29. Tyndall J. Six principles of nationalism. URL: http://www.aryanunity.com/
sixprincip1.html, free (24.04.2015).
137
РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В СИСТЕМЕ МЕЖСЕКТОРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1
Х.А. Кобелева
канд. полит. наук, преподаватель
кафедры социологии и политологии
Воронежского государственного университета
Формирование и развитие эффективной системы межсекторного социального партнёрства государства, бизнеса и гражданского общества обусловлено
особенностями развития современной России, когда доминированию власти
необходимо противопоставить качественно иное состояние общества, характеризуемое чётким артикулированием интересов, способностью к автономному
политическому действию, осознанием ответственности за происходящее и т.д.
Для современной России данная тема является актуальной, поскольку в настоящее время достижение органического взаимодействия между государством и
гражданским обществом является ключевой проблемой для консолидации демократии и противодействия авторитарным тенденциям, проявившимся в ходе
реформ.
Как показывает опыт других стран, следует учесть, что для выхода из режима вялотекущей политической трансформации, ситуации «зависания» в неопределённости необходимо всестороннее развитие структур и элементов
гражданского общества в качестве посредника и «проводника» между государством и обществом, личностью и государством. Для этого необходимо создавать и развивать демократию участия. Это, в свою очередь, требует создания и
применения различных её форм, действующих на постоянной основе и реализующих разные механизмы общественного участия, посредством которых формируются устойчивые связи между обществом и государством. Прежде всего,
речь идёт о реальном гражданском участии, которое даёт человеку чувство сопричастности и востребованности его инициатив, сопряжённых с ответственностью и подотчётностью власти и влияющих на характер и содержание властных
решений.
Кроме того, характер взаимодействия гражданского общества с государством сегодня является важным фактором, определяющим судьбу демократии в
России, поскольку гражданское общество в лице его инициативных сил рассматривается как важный фактор обновления демократических политических
институтов.
Как показывает политическая практика, необходимость налаживания межсекторного социального партнёрства обусловлена следующими факторами:
© Кобелева Х.А., 2016
138
1) система социального партнёрства выступает важным фактором формирования и развития институтов гражданского общества, осуществляя их цивилизованный диалог между собой, бизнесом и государством;
2) данная система реализуется на основе взаимных уступок, путём достижения компромисса, консенсуса, заключения договоров и соглашений.
Сам же механизм социального партнёрства характеризуется постоянно
действующим переговорным процессом, политико-правовым обеспечением и
нормативным установлением процедур согласования интересов, участием
представителей общественных организаций в выработке договоров и соглашений.
На сегодняшний день в России данная система находится на этапе становления. Необходимость же её формирования на всех уровнях российского общества связана с кризисом во взаимодействии власти, гражданского общества и
бизнес-структур, требующим для его преодоления достижения согласия между
основными политическими силами и социальными группами. Несмотря на слабость гражданского общества, его роль в процессе утверждения системы социального партнёрства может быть вполне весомой. Но многое здесь зависит от
линии поведения двух других участников диалога – государства и бизнеса, поскольку на современном этапе развития в России они, по сути, предопределяют
и пути развития гражданского общества, и модели его политического участия.
Анализируя общество как потенциального партнёра государства и бизнеса,
стоит отметить, что низкий уровень жизни большинства россиян, их реальная
социальная незащищённость свидетельствуют о слабости данного социального
партнёра. Постоянные социально-экономические и политические кризисы, стабильно низкий уровень жизни большинства граждан порождают безнадежность, усиливают социальную напряженность, неуверенность в завтрашнем
дне, а также снижают политическую и гражданскую активность населения.
Большинство граждан в России большую часть времени заняты зарабатыванием
денег для того, чтобы обеспечить достойную жизнь своим семьям. Поэтому у
них, чаще всего, не было и нет ни возможности, ни желания жертвовать даже
небольшие суммы денег на деятельность гражданских организаций или создавать свои собственные, как это распространено на Западе. И это не случайно.
Ведь в 1990-е гг. россияне, по сути, оказались брошены властью и научились
рассчитывать только на свои силы. В условиях крайней экономической и политической нестабильности страны, большинство населения опасалось даже
строить планы на будущее.
Понятия «демократия», «правовое государство», «гражданское общество»
воспринимались гражданами как некий недостижимый идеал, о необходимости
формирования которого постоянно декларативно заявляли политики. В действительности, большинство россиян были отчуждены от политики, не имели
возможности влиять на решения представителей власти.
К тому же, в тот период, изменились формальные «правила игры», представителями новой экономической и политической элиты страны стала насаждаться «сверху» новая система ценностей, которая позиционировалась ими как
«западная», базирующаяся на общепризнанных правах и свободах. Но в дей139
ствительности эти ценности были «западными» лишь по названию. На практике
это оказались «ценности потребления и вседозволенности». До сих пор в российском обществе сосуществуют две полярные системы ценностей: «западная»,
ориентированная на индивидуализм, личный успех, обогащение (как правило,
её разделяет столичная элита, связанная с властью и нефтебизнесом), и
традиционная, или патриархально-коллективистская (большая часть россиян).
Власть надеялась, что благодаря внедрению в общество новых ценностей
управляемые признают способность управляющих решать соответствующие
задачи и назовут такое правление справедливым. Но этого не произошло.
Наоборот, народ отказался признать установившейся в стране порядок вещей
справедливым и правильным. Поэтому неслучайно, данная система ценностей
оказалась чужда и непонятна большинству населения России.
Более того, «потребительские» ценности, разделяемые новой элитой, проникая в общество, вступили в противоречие с традиционными психологическими установками и базовыми ценностями граждан. Это ещё больше усилило
непонимание между властью и обществом. К тому же, искусственно привнесённые, навязанные «сверху» принципы жизни и ценности не стали основополагающими и консолидирующими, а напротив, раскололи общество на отдельные атомизированные группы, каждая из которых стала действовать в соответствии со своими правилами и нормами морали. Как правило, руководствуясь
принципом «не мы такие – жизнь такая».
Недовольство экономическим и политическим развитием усилило значение в российском обществе традиционных ценностей [1, с. 63]. Большинство
населения стало испытывать ностальгию, прежде всего, по защищённости, стабильности, покою и порядку.
При этом именно за нестабильные 1990-е гг. россияне приобрели огромный опыт решения своих насущных проблем (социального, экономического и
иного характера) при помощи так называемых горизонтальных связей. Это было своеобразное протогражданское общество, которое действовало, как правило, на низовом уровне, не создавая формальных организаций (например, гаражные, дачные кооперативы). Оно возникло без «указки сверху» и либо вообще не
обращалось к власти за помощью, либо взаимодействовало только с отдельными представителями региональной власти, отдельными ведомствами. По мнению российского политолога И.С. Семененко, «в постсоветском обществе эта
деятельность граждан развивалась на низовом уровне и этим уровнем ограничивалась» [2, с. 42].
До конца 1990-х гг. большинство россиян даже не осознавали, что мир некоммерческих организаций образует основу гражданского общества. Как верно
в своё время заметил известный русский историк Н. Лосский, автор знаменитой
книги «Характер русского народа»: «В числе многих парадоксов русской жизни
один из самых замечательных тот, что политически Россия была абсолютной
монархией, а в общественной жизни была бытовой демократией, более свободной, чем Западная Европа… Не будь войны 1914 г. и большевистской революции, Россия благодаря сочетанию бытовой демократии с политической, выра140
ботала бы режим правового государства с большей свободой, чем в Западной
Европе» [3, с. 151].
При этом «у русских в сознании есть клеточки: государство, бизнес, но в
их картине мира нет клеточки гражданское общество. В итоге возникает крайне
странная ситуация, когда явление есть, а слова нет. И это очень сильно влияет
на поведение – когда люди неверно обобщают свой собственный опыт» [4]. Видимо, должно пройти время, чтобы понятия «гражданское общество», «социальный капитал», «общественные организации» и их роль получили закрепление в сознании россиян и обрели определённый уровень легитимности. Деятельность структур гражданского общества должна органично войти в общую
политическую культуру страны, учитывая уже существующие ценностные ориентации, установки, стереотипы, модели поведения и жизни граждан,
обеспечивающие воспроизводство политической, гражданской жизни общества
на основе преемственности.
Однако до сих пор россияне не осознают, что некоторые вопросы они уже
сейчас умеют решать лучше, чем власть, к которой они обращаются с просьбой
это сделать; что у них уже есть определённый опыт решения разнообразных
проблем. И пока они не поймут этого, будут по-прежнему возлагать свои
надежды и ждать помощи в решении любых вопросов со стороны государства,
развивая патернализм. Стоит особо подчеркнуть, что данная особенность является одной из главных социокультурных и психологических черт генотипа российского социума. Доминирование в сознании данной черты порождает неверие людей в возможность самостоятельной коллективной защиты своих прав,
свобод и интересов, а также фаталистическое представление о необоримости
государственной власти.
В этом плане показательны данные опросов, проведённых ВЦИОМ ещё в
середине 1990-х гг. Так, отвечая на вопрос, как бы респонденты прореагировали на противоречащие их интересам решения местных властей, лишь 13–16 %
респондентов выбрали формулировку «организовать группу заинтересованных
лиц, чтобы как-то решить эту проблему». Большинство же ограничилось бы
«выражением недовольства своим друзьям и родным» [5, c. 242].
Таким образом, можно сделать вывод, что у русских людей продолжает
доминировать подданнический склад ума, который уже стал специфической
особенностью русской ментальности. И это не случайно. Ведь если обратиться
к политическому генотипу, то можно увидеть, что в России государство всегда
претендовало на роль своеобразного Демиурга общественных процессов.
Большинство реформ и преобразований, насаждавшихся «сверху», без учёта
мнения народа, лишь укрепляли многовековую традицию россиян склоняться
перед властью, с большей готовностью исполнять приказы, чем проявлять инициативу. Государство в России на протяжении истории воспринимается народом как становой хребет цивилизации, гарант целостности существования общества, а власть – не как субъект обслуживания общества, а как средоточие
национальной миссии, исполнение которой является общей задачей представителей власти и народа. Это обстоятельство наложило отпечаток на характер
взаимоотношений общества и государства.
141
Это также является одной из причин, из-за которой гражданская активность россиян в целом остаётся довольно низкой. В России конформизм, воспитанный страхом, десятилетиями психологического и идеологического давления,
отчуждения того самого «большинства» от реального осуществления власти на
генетическом уровне выработал привычку пассивного соглашательства. Результатом же такой многовековой практики стала полная некомпетентность подавляющей части россиян в вопросах отстаивания собственных интересов, защиты своих прав и свобод, участия в осуществлении власти, контроля за её деятельностью.
На сегодняшний день это является серьёзной преградой для налаживания
партнёрских отношений с государством. Ведь для осуществления конструктивного сотрудничества, как показывает практика, необходим сильный и дееспособный партнёр, выступающий на равных с другими участниками диалога и
предлагающий им свои варианты решения различных вопросов, проблем, а не
просто соглашающийся с уже принятыми решениями. Однако на сегодняшний
день для большинства россиян смысл и цена гражданской самореализации
остаются не очевидны.
Важно также укрепление доверия и сотрудничества внутри самого гражданского общества. Это поможет в формировании образа гражданского общества как единого консолидированного актора, а не в качестве группы разобщенных активистов. В данном случае главная роль отводится общественным
организациям, как важнейшим элементам современного гражданского общества. Видится, что именно они способны выполнить интегративную функцию,
объединив разобщенные социальные группы российского общества в единую
структуру, выступающую за необходимость эффективного контроля над деятельностью органов власти, проведением общественных экспертиз законопроектов и т. п.
В тоже время политическая система страны до сих пор так и не смогла в
полной мере эволюционировать в сторону учёта реальных интересов и потребностей граждан, адекватно и своевременно реагируя на новые социальноэкономические и политические вызовы.
Учитывая вышесказанное, можно сформулировать ряд задач, которые
необходимо будет решить государству и гражданскому обществу в России,
чтобы социальное партнёрство между ними действительно стало полноценным
и эффективным:
1) сформировать правовую базу, которая стала бы «прочным фундаментом», необходимым для выстраивания конструктивных отношений между государством и сектором некоммерческих организаций. Правовую базу, которая
регулировала бы взаимодействие власти и некоммерческих организаций, а также участие гражданского общества в процессе принятия органами власти всех
уровней решений, затрагивающих интересы его членов;
2) необходимо изучить так называемые «поля вмененного взаимодействия», т.е. те вопросы, которые закон обязывает органы власти решать только
после консультаций с гражданами и их объединениями;
142
3) само гражданское общество должно стать более активным, инициативным, научиться чётко, связно, аргументировано представлять свои предложения, программы, проекты, а также результаты своей деятельности. От этого
напрямую зависит то, как органы власти будут к нему относиться, и будет ли
развиваться диалог;
4) обеспечение открытости и прозрачности органов власти, принципа равноправия сторон межсекторного партнёрства, а также необходимость осуществлять контроль за выполнением государством взятых на себя обязательств;
5) повышение профессионального уровня, компетентности участников
диалога;
6) наладить широкий обмен опытом и информацией между сотрудниками
государственных ведомств и структурами гражданского общества для адресного акцентирования социальных программ;
7) паритетное партнерство без принижения роли какой-либо из сторон
межсекторного социального партнерства. Особенно это касается организаций
гражданского общества, которые обычно воспринимаются государством как
некомпетентный помощник, которого или нужно постоянно контролировать,
или вообще не учитывать его мнения.
Видится, что эффективное решение обозначенных задач в современной
России могло бы повысить уровень доверия общества к власти, дать дополнительный «кредит доверия» при осуществлении реформ. Но в условиях отсутствия реальных механизмов контроля за действиями представителей власти,
коррупции, нежелании политиков идти на конструктивный диалог с гражданским обществом, продолжает снижаться уровень доверия народа к власти и
сужается поле публичной политики.
Необходимы усилия со стороны всех участников процесса межсекторного
социального партнерства для устраняя барьеров, препятствующих осуществлению конструктивного диалога между властью и гражданским обществом,
укрепляя их взаимодействие на паритетных началах, превращая тем самым
гражданское общество в дееспособного актора.
Литература
1. Харланд Х.П., Ниссен Х-Й, Францен В. К развитию демократии и рыночной экономики в центральноевропейских и восточноевропейских странах // Мониторинг общественного мнения. – №6. – ноябрь-декабрь 2000. – с. 58-63.
2. Семененко И.С. Группы интересов на Западе и в России. Концепции и практика. –
М., 2001.
3. Лосский Н. Характер русского народа. – М.,1957.
4. Аузан А. А. Общественный договор и гражданское общество / [polit.ru]. Режим доступа: http://www.polit.ru/lectures/2005/01/11/auzan.html (дата обращения: 27.03.2016).
5. Гражданское общество в России: проблемы самоопределения и развития. М., 2001.
143
АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ,
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ
РОССИЙСКИХ МОНАРХИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ1
Д.А. Коновалов
преподаватель кафедры политологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Формально-юридической основой для деятельности монархических объединений российских граждан является Основной закон страны – Конституция
РФ, статья 30 которой прямо указывает на то, что «1. Каждый имеет право на
объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты
своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется; 2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем» [1]. В развёрнутом варианте данное декларативное
заявление представлено в Федеральном законе «Об общественных объединениях», статья 3 которого содержит «права граждан на объединение, которое
включает в себя право создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, право вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от
вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных
объединений» [3]. Создание общественных объединений способствует реализации прав и законных интересов граждан, которые имеют право создавать по
своему выбору общественные объединения без предварительного разрешения
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также
право вступать в такого рода объединения на условиях соблюдения норм их
уставов. Так, например, в статье 13 Конституции РФ «признаётся идеологическое многообразие» [1]. Несмотря на то, что «никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [1], монархическая идеология как разновидность консервативной имеет право на существование, тем более что многие монархисты высказываются и призывают к цивилизованному решению вопроса о восстановлении монархии в России. Также следует обратить внимание на п.5 статьи 13 Конституции РФ, в которой «запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни» [1]. Исходя из этого, государство
в целях своей безопасности может рассматривать деятельность некоторых общественных объединений, и не только монархических, в качестве потенциальной группы лиц, действия которых направлены на изменение политической системы, что, безусловно, подрывает основы конституционного строя России.
© Коновалов Д.А., 2016
144
Под юрисдикцию № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» подпадают и некоторые «нежелательные» с точки зрения российского законодательства монархические объединения (Русское Имперское Движение,
Российский Национальный Союз (РОНС)), которые стремятся изменить существующий общественно-политический строй, ведь главная цель таких объединений – восстановление монархии в России, что, естественно, противоречит
нормам и правилам современного российского государства, идущего по пути
построения демократического политического режима.
Действие данного закона распространяется и на монархические объединения в соответствии со следующими аспектами: «насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
… возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; …
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением» [5]. К данному списку действий, связанных с экстремистской деятельностью, подлежат также такие монархические объединения помимо названных
выше, как партия «Великая Россия», «Чёрная Сотня», Союз русского народа,
Русское Имперское Движение.
Статья 14, п.1. Конституции РФ утверждает Россию как «светское государство, где никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [1]. Монархические объединения считают православие
основополагающим историческим ориентиром в жизни российского общества и
многие эти объединения выступают за то, чтобы православие стало государственной религией, поскольку до этого она являлась одной из трёх главных
звеньев, скрепляющих Россию, в структуре идеологемы «Православие, Самодержавие, Народность». Статья 16, п.1. свидетельствует о том, что «положения
настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя
Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией» [1]. Это особенно важно для деятельности монархических объединений, потому что они выступают за изменение,
пусть и ненасильственное, конституционного строя, выдвигая основным аргументом в пользу данной процедуры возможность созыва Конституционного
Собрания, которое способствует изменению основ конституционного строя в
России.
145
Более подробно формально-юридические основы деятельности монархических объединений разъясняются в № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,
действие которого распространяется на все общественные объединения, созданные по инициативе граждан, за исключением религиозных, а также коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций). Этот федеральный закон интересен не только с позиций оформления законодательных рамок деятельности монархических объединений, но и любопытен для исследования тем, что понятия «организация», «объединение», «партия», «движение», «сообщество» нуждаются в дополнительном разъяснении.
Статья 7 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» показывает, что общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм: общественная организация, общественное движение,
общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, политическая партия. Примечателен тот факт, что все типы форм
артикуляции и агрегирования интересов граждан имеют общий знаменатель –
общественное объединение, которое и является базовым понятием, разъясняющим всё многообразие проявлений коммуникации между политическими и общественными акторами. Поскольку форма самоорганизации граждан имеет общее основание в лице общественного объединения, постольку мы считаем использование термина «монархическое объединение» нейтральным и адекватно
отображающим реальную картину монархического политического пространства, сочетающего в себе формальные и неформальные группы интересов.
Под общественным объединением понимается «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения» [3]. Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица – общественные объединения. Таким образом, монархическим объединением считаем любой тип
сообщества групп интересов, осуществляющих свою деятельность в политическом пространстве, ставящим целью восстановление монархии в России, отражённой в политических программах и уставах объединений. Общественные
объединения тесно связаны с таким типом связи между людьми, как политические сообщества, которые представляют собой такие политические сети, которые характеризуются стабильностью взаимоотношений, устойчивым и в высокой степени ограниченным членством, вертикальной взаимозависимостью, основанной на совместной ответственности за предоставление услуг, и изоляцией
как от других сетей, так и от публичных организаций. Такие политические сети
являются высоко интегрированными и имеют высокую степень вертикальной
взаимозависимости и ограниченную вертикальную координацию.
Общественной организацией является «основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан» [3]. Таким образом, монархическое объединение можно рассматривать как
организацию с постоянным членством и, как показывает практика, люди не мо146
гут быть членами других организаций. Примером такой монархической организации можно считать Русский Общевоинский Союз (РОВС).
Общественным движением является «состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые
участниками общественного движения» [3]. Мы полагаем, что во всероссийском масштабе некорректно говорить о монархическом движении, во-первых,
потому что оно разрозненно на мелкие группы монархистов; во-вторых, оно не
носит массового характера. Те монархические объединения, которые именуются «движениями» («Российское монархическое движение», общественное движение «За Веру и Отечество» нецелесообразно относить к движениям, поскольку внутри этих объединений есть постоянное членство и устав, а его наличие не
может свидетельствовать о движении, поскольку представляет собой организацию.
Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов и
представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель которого заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании данного
имущества на общественно полезные цели. Учредители и управляющие имуществом общественного фонда не вправе использовать указанное имущество в
собственных интересах. Среди монархических организаций к таковым можно
отнести Музей Императорской Фамилии, Императорское Петропавловское
Общество и т. д.
Общественным учреждением является не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного объединения. Анализируя деятельность современных монархических объединений, мы не выявили наличие данного типа объединения граждан РФ в
монархической среде.
Органом общественной самодеятельности является не имеющее членства
общественное объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства,
работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания. Орган общественной самодеятельности формируется по инициативе
граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и строит свою работу на основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на собрании учредителей. Орган общественной самодеятельности не имеет над собой
вышестоящих органов или организаций. При исследовании монархических
объединений мы также не выделили примеры такого типа связи граждан.
Общественные объединения независимо от их организационно-правовой
формы вправе создавать союзы (ассоциации) общественных объединений на
основе учредительных договоров и (или) уставов, принятых союзами (ассоциациями), образуя новые общественные объединения. Правоспособность союзов
147
(ассоциаций) общественных объединений как юридических лиц возникает с
момента их государственной регистрации. Это право является возможностью,
поскольку в действительности монархические объединения редко создают такого рода союзы.
Общественные объединения имеют и различия по уровням. Так, под общероссийским общественным объединением понимается объединение, которое
осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои
структурные подразделения – организации, отделения или филиалы и представительства. Под межрегиональным общественным объединением понимается
объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях менее половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения – организации, отделения или
филиалы и представительства. Под региональным общественным объединением
понимается объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской
Федерации. Под местным общественным объединением понимается объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории органа местного самоуправления. В основном,
монархические объединения позиционируют себя как общероссийские, а
структурные подразделения данных объединений, как правило, немногочисленны.
Общероссийские общественные объединения могут использовать в своих
названиях наименования «Россия», «Российская Федерация» и образованные на
их основе слова и словосочетания без специального разрешения правомочного
государственного органа (Российское монархическое движение, Российский
Императорский Дом, Партия «Великая Россия», Российский Имперский СоюзОрден, Монархическая Партия России, Монархическая Партия «Самодержавная Россия», Императорское Общество России, Российское Дворянское Собрание, Общероссийское общественное движение «За Веру и Отечество»).
Следующий закон, обеспечивающий нормативно-правовое функционирование общественных объединений вообще и монархических в частности, это №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях». В данном законе под некоммерческой
организацией понимается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками. Сопоставляя деятельность монархических объединений в общественных отношениях, можно отнести их к социально ориентированным некоммерческим организациям, «созданные в предусмотренных
настоящим Федеральным законом формах (за исключением государственных
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации…» [2].
Специфическим типом монархических объединений представляется монархическая политическая партия. Так, в № 95-ФЗ «О политических партиях»
148
политическая партия представляет собой «общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а
также в целях представления интересов граждан в органах государственной
власти и органах местного самоуправления» [4].
В рамках российского партийного законодательства, политическая партия
должна отвечать следующим требованиям: а) Политическая партия должна
иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов Российской
Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации может быть создано
только одно региональное отделение данной политической партии; б) В политической партии должно состоять не менее пятисот членов политической партии с учетом требований, которые предусмотрены п.6. ст. 23. настоящего Федерального закона. Уставом политической партии могут быть установлены требования к минимальной численности членов политической партии в ее региональных отделениях; в) Руководящие и иные органы политической партии, ее
региональные отделения и иные структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации.
Под региональным отделением политической партии в настоящем Федеральном законе понимается структурное подразделение политической партии,
созданное по решению её уполномоченного руководящего органа и осуществляющее свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации. В
субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят) автономный округ (автономные округа), может быть создано единое региональное отделение политической партии. Иные структурные подразделения политической
партии (местные и первичные отделения) создаются в случаях и порядке,
предусмотренных ее уставом.
Цели и задачи политической партии излагаются в её уставе и программе,
основными из которых являются: «формирование общественного мнения; политическое образование и воспитание граждан; выражение мнений граждан по
любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения
широкой общественности и органов государственной власти; выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации,
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных
лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных
образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов» [4]. К такому типу объединений относится Монархическая партия Российской Федерации и политическая партия «Самодержавная Россия».
Проблема создания и функционирования в современном российском политическом пространстве монархической партии состоит в том, что политическая
партия есть институт демократического государства, а регистрация монархиче149
ских партий приводит нас к заключению о превращении монархической программы в средство получения политической власти, отступая при этом от
принципиальных монархических постулатов, один из которых, например, связан с тем, что истинный монархист не может быть партийным человеком, поскольку верховная власть является неделимой и принадлежит только монарху.
На основе проведенного анализа можно заключить, что современные российские монархические объединения обладают всеми чертами общественных
объединений, т.е. являются видом некоммерческой организации, так как не
преследуют цели извлечения прибыли; образуются как физическими, так и
юридическими лицами; формируются на добровольной основе; не наделены
государственно-властными полномочиями, но могут их получить от государственных органов и органов местного самоуправления; действуют от своего
имени. Несмотря на это, монархические объединения обязаны учитывать сложившийся общественно-политический контекст в сочетании с выше перечисленной нормативно-правовой базой, которые оказывают влияние на деятельность монархических объединений, становящуюся спорным вопросом на пути
их становления, функционирования и дальнейшего развития. Знание особенностей нормативно-правовой основы деятельности монархических объединений
поможет впоследствии выстраивать гибкие и одновременно доверительные отношения между органами государственного управления и данными общественными объединениями.
Литература
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/10103000/2/#block_2000 (дата
обращения: 29.03.2016).
2. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред.
от 30.03.2016 г.) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/ (дата
обращения: 31.03.2016).
3. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (ред.
от 31.01.2016 г.) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/popular/obob/76_1.html
(дата обращения: 31.03.2016).
4. О политических партиях: Федеральный закон от 11.06.2001 г. № 95-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/183523/ (дата обращения: 01.04.2016).
5. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ. URL: http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html (дата обращения: 01.04.2016).
150
РОЛЬ МОЛОДЕЖНОГО МАССОВОГО СПОРТА И КУЛЬТУРЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
И ГРАЖДАНСКИХ ОСНОВ ЛИЧНОСТИ 1
О.А. Коряковцева
д-р полит. наук, профессор
кафедры социальной педагогики и организации работы с молодежью,
декан факультета дополнительного профессионального образования
Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского
Т.В. Бугайчук
канд. психол. наук, доцент
кафедры теории и методики профессионального образования
Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского
Процесс социализации, в том числе выбор гражданской позиции, обретение истинно духовных и нравственных качеств, профессиональное становление, здоровый образ жизни, – сложнейшая проблема для молодежи в эпоху глобальных перемен. Молодым предстоит жить и действовать в условиях усиления
глобальной конкуренции, возрастании роли инноваций и значения человеческого капитала как основного фактора экономического развития. И их преимущества в этом далеко не всегда очевидны, поскольку старшее поколение имеет богатый опыт практической деятельности во всех сферах жизни.
Основополагающим фактором успешной социальной адаптации молодежи,
на наш взгляд, является молодежная политика государства, направленная на
развитие социальной активности молодого поколения. Особенности современного этапа социально-политической трансформации требуют нового уровня
взаимодействия молодежи, граждан общества, общественно-политических молодежных организаций и властных структур. Результативная молодежная политика должна обеспечить обществу и государству возможности инновационного
развития за счет создания условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развития и эффективного использования ее потенциала в интересах страны.
Одним из важнейших условий обеспечения безопасности, стабильности и
мобильности государства мы считаем состояние здоровья населения, прежде
всего детей и молодежи. В настоящее время среди приоритетов молодежной
политики любой страны значимое место занимает формирование здорового образа жизни молодёжи, развитие физической культуры и массового спорта.
В 2014–2015 гг. процессе научного исследования вопросов, связанных с
гражданским становлением современной молодежи [2; 4–6], мы, к сожалению,
нашли определенное подтверждение таких негативных тенденций, как рост
© Коряковцева О.А., Бугайчук Т.В., 2016
151
наркомании, алкоголизма, преступности, безработица, ухудшение здоровья молодых людей, что связано с недостаточной профилактической работой по всем
указанным направлениям. Отсутствие во многих территориях условий для организации досуга и занятости молодежи не позволяет молодым гражданам в
полной мере реализовать свои возможности, создает условия для проявления
различных социальных девиаций. В отдельных населенных пунктах наблюдаются вспышки экстремистских проявлений, межнациональной розни, а также
случаи вовлечения молодежи в различные религиозные секты.
В сложившейся ситуации одной из стратегий молодежной политики становится оздоровление общества, пропаганда здорового образа жизни, профилактика и оздоровление негативных явлений в молодежной среде. Так, например, в
большинстве региональных программ по молодежной политике предусмотрены
целые комплексы мероприятий по реализации данного направления работы с
молодежью, которые выстроены на основе системы целевых блоков действий.
Информационно-пропагандистский блок: организация и проведение акций
среди молодежи по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, а также вируса иммунодефицита человека и
заболеваний, передающихся половым путем. Организационный блок: содействие созданию молодежных организаций, осуществляющих антинаркотическую деятельность в подростковой и молодежной среде. Поддержка проектов,
программ студенческих социальных, педагогических отрядов, деятельность которых направлена на работу со школьной, учащейся и студенческой молодежью по профилактике асоциальных явлений и по внедрению здорового образа
жизни в молодежную среду. Практический блок: применение здоровьесберегающих технологий, организация мероприятий, способствующих социализации и
оздоровлению молодых людей (летние смены, турпоходы, выездные занятия,
фестивали, форумы). Развитие системы работы с молодежью «группы риска» и
неформальной молодежью в аспекте здорового образа жизни. Научно-исследовательский блок: проведение научных исследований, мониторингов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики применения психоактивных веществ в молодежной среде. Организация и проведение итоговых
совещаний, конференций, «круглых столов» по вопросам обобщения опыта
профилактической работы с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних, их асоциальным поведением, опыта создания оздоравливающего
пространства и использования здоровьесберегающих технологий.
В регионах существует множество проблем с реализацией данного направления государственной молодежной политики, обусловленных во многом методологической, нормативно-правовой и технологической, непроработаностью
основ профилактической деятельности. Субъекты профилактики недостаточно
четко представляют свою роль, имеют смутное представление о роли, функциях и полномочиях других субъектов профилактики. Вследствие этого возникает
проблема нескоординированности действий, отсутствия должного межведомственного взаимодействия. Во многом это связано с низким уровнем профессионализма кадров, реализующих молодежную политику.
152
До сих пор не сложилась система подготовки и повышения квалификации
специалистов, работающих в сфере профилактики алкоголизма, наркомании и
токсикомании и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. В большинстве случаев используется информационно-лекционный формат обучения,
не соответствующий требованиям сегодняшнего дня. Интерактивные формы
обучения (тренинги, деловые игры) применяются достаточно редко. В особенности слабо организована работа по повышению квалификации специалистов,
работающих в муниципальных образованиях. Перечисленные объективно существующие проблемы минимизируют эффект от проводимых мероприятий в
данной области молодежной политики.
Хотелось бы отметить, что в ряде регионов России (Свердловская, Иркутская, Тверская, Ярославская области) особое внимание уделяется требованиям
к содержанию досуговой деятельности, предназначенной для молодых граждан,
в том числе и к спорту. Это обусловлено тем, что в период общественных
трансформаций значительное место в оздоровлении молодежной среды занимает досуговая сфера.
Деятельность по организации досуга молодежи преследует следующие цели: создание условий для самоопределения личности, для ее самореализации;
формирование гражданственности и социально позитивных ориентаций; воспитание высокого уровня общей и правовой культуры; создание стойких убеждений в недопустимости антиобщественной, антигосударственной и противоправной деятельности.
В общей же своей массе законодательство регионов по молодежной политике в сфере организации досуга для учащихся и студентов образовательных
учреждений предоставляет преимущественное право пользования культурнопросветительными и спортивно-оздоровительными учреждениями с оплатой их
посещения по льготным тарифам, а для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, – бесплатно, в порядке, установленном собственником
учреждения. Но для достижения указанных выше целей необходима как методическая основа, так и хорошо организованный процесс.
Итак, мы считаем, что в трансформационный период крайне важно разработать стратегию развития молодежи, а инициативу по ее реализации следует
взять на себя государству и общественным организациям посредством поддержки и развития молодежных и детских общественных объединений всех
уровней, создания дополнительных форм и механизмов взаимодействия, стимулирующего общественную активность молодежи. Общий смысл стратегии
молодежной политики – создание условий и стимулов для социализации и жизнедеятельности нового здорового поколения, которые способствовали бы проявлению, развитию и реализации задатков, способностей и талантов молодых
людей в целях социально-экономического развития общества.
Роль массового спорта и культуры в формировании патриотических и
гражданских основ личности молодого человека в процессе его социализации
трудно переоценить. Именно эти основы способствуют национальной идентификации каждого человека, без освоения и принятия которой не может сформироваться гражданское и патриотическое самосознание.
153
В целом анализ одного из приоритетных направлений молодежной политики позволяет отметить, что наиболее слабым звеном в его реализации является решение проблемы развитие общественной активности молодежи. Но, как
подчеркивает известный российский философ – идеалист Н.И. Бердяев еще в
начале 20 века, активность молодых должна проявляться не только в «активности действий», но, прежде всего, – в «активности духа» [1, с. 21], поскольку активность действий без духовного наполнения часто ведет к экстремизму.
Именно уровень такого типа активности молодежи является ключевым показателем сформированности гражданского общества, а значит, и эффективности
молодежной политики, ее «оздоровления».
Можно утверждать, что наиболее благоприятным периодом формирования
активности духа является подростковый период (школьный). Активность же
действий целесообразно формировать после 18-ти лет, когда молодые люди
начинают осознавать значимость созидательной гражданской позиции, зависимость собственной активности от внешних обстоятельств.
Степень вовлеченности молодежи в общественную и политическую жизнь,
безусловно, напрямую связана и с ценностным компонентом. Известно, что ценностное сознание играет регулятивную роль, оказывая определенное влияние на
действия и поступки людей в сфере их каждодневной жизнедеятельности.
Таким образом, высокий конечный результат взаимодействия молодежи,
общества и власти при решении вопросов здорового образа жизни современной
молодежи достижим при условии совместной реализации продуманной системной стратегии и тактики молодежной политики в этом направлении, наличия
материального потенциала и регулирования профессиональной компетентности
специалистов в области молодежной политики.
Литература
1. Бердяев Н.А. Мое философское миросозерцание // Н.А. Бердяев о русской философии. Свердловск, 1991. Ч. 1.
2. Коряковцева О.А., Бугайчук Т.В. Воспитание современной молодежи: формирование
гражданской идентичности: Современные концепции профессионального образования студенческой молодежи: коллективная научная монография. Ульяновск: SIMJET, 2015. 496 с.
С. 244–267.
3. Коряковцева О.А., Бугайчук Т.В. Гражданская идентичность современной молодежи
Ярославской области // Ярославский педагогический вестник. 2013. № 4. Т. I (Гуманитарные
науки). С. 143–149.
4. Коряковцева О.А., Бугайчук Т.В. Социально-политические и психологические основы работы с молодежью: учебное пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
2014. 104 с.
5. Коряковцева О.А., Бугайчук Т.В., Тарханова И.Ю. Патриотическое воспитание как
фактор формирования гражданской идентичности молодежи: методические рекомендации.
Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2014. 48 с.
6. Молодежь России: феноменология гражданственности: коллективная монография /
под ред. О.А. Коряковцевой. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. 162 с.
7. Российская идентичность в Москве и регионах / отв. ред. Л.М. Дробижева. М., 2009.
8. Koryakovtseva O.A., Ermakova L.I., Bugaychuk T.V., Upeniece I. Formation of young
people’s civil identity: technological approach // 3d the International Scientific-Practical Conference on the Humanities and the Natural Science 23–29 December 2015. London. Р. 129–139.
154
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ
ИНСТИТУТА ЛОББИЗМА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ1
С.В. Муращенков
канд. полит. наук, доцент
Тульского государственного университета
Активизация роли групп давления в политической системе современных
государств, укрепление механизма взаимовлияния гражданского общества и
органов власти в контексте демократических преобразований детерминировали
использование лоббистского потенциала заинтересованных субъектов. Лоббизм
как политический институт или же как неформальная политическая практика
свойственен политическим системам различных типов независимо от характера
политического режима и особенностей политической культуры общества. Лоббизм, являясь одним из важных элементов системы социально-политического
представительства, может стимулировать ее развитие только в условиях демократической политической системы и гражданской политической культуры
участия. В отсутствие функциональных каналов коммуникации гражданского
общества и государства лоббизм, как и любая другая его разновидность, может
способствовать развитию неформального влияния на органы власти [2, с. 109].
Исследование института лоббизма, методов и структурной организации
лоббистской деятельности позволило выделить четыре модели лоббизма, реализуемых в мировой практике: институциональная плюралистическая, институциональная корпоративная, неинституциональная корпоративная, квазиинституциональная корпоративная; и две теоретические модели лоббизма: квазиинституциональная плюралистическая, неинституциональная плюралистическая.
Модель в данном случае рассматривается в качестве совокупности признаков, характерных для института лоббизма и проявлений лоббистской деятельности, свойственных политическим системам различных государств и регионов, в которых произошла или происходит институционализация лоббизма
(США, Великобритания, Франция, ФРГ, Япония, Россия, Индия, Китай и др.).
Типологический анализ данных моделей диктуется наличием достаточных
критериев для их классификации:
– во-первых, плюрализм субъектов лоббирования (тип представительства
интересов: плюралистический, корпоративный);
– во-вторых, доступность каналов для лоббирования (система обратной
связи «государственный орган – лоббист – группа давления»);
– в-третьих, построение процесса лоббирования (прямой, косвенный, внутренний);
– в-четвертых, частота использования лоббистами формальных и неформальных методов в их деятельности;
© Муращенков С.В., 2016
155
– в-пятых, наличие законодательства о лоббизме (специальный(ые) закон(ы), несколько нормативно-правовых актов) и его институциональная завершенность (механизмы, признание, контроль, структура, профессиональный
статус лоббистской деятельности);
– в-шестых, социально-политические, правовые и культурные характеристики процесса лоббирования.
Институциональная плюралистическая модель лоббизма получила свое
распространение преимущественно в англо-саксонских странах (США и Великобритания). Она характеризуется следующими особенностями: наличием
множества субъектов, занятых лоббистской деятельностью на профессиональной основе; доступностью каналов для лоббирования; институциональной завершенностью лоббизма; регламентацией правового статуса лоббистской деятельности (создание системы регистрации, контроля и ответственности лоббистов перед законом) и др.
В государствах, в которых реализуется данная модель, лоббизм является
функциональным демократическим институтом, а лоббистская деятельность
признается в качестве одной из конвенциональных форм взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти. Причем такая практика
в США выступает конституционным правом обращаться лично или коллективно к своему правительству.
Для большинства западноевропейских стран характерна институциональная корпоративная модель лоббизма. Ее отличает преимущественно корпоративный тип представительства интересов (в качестве субъектов лоббирования
выступают крупные союзы, ассоциации (Франция), территориальные образования (ФРГ), компании, банки (Япония) и др.). Данная модель лоббизма строится
на признании лоббистской деятельности в качестве легальной (существуют отдельные нормативно-правовые акты и специализирующиеся в области лоббирования органы – социально-экономические советы, выступающие в роли
«лоббистских парламентов»), однако эта деятельность в политической системе
данных государств не является правовым институтом и осуществляется непрофессионалами.
Институциональная плюралистическая и институциональная корпоративная модели лоббизма характеризуются использованием в практике лоббирования «косвенных» приемов оказания давления на органы власти, когда в пользу
той или иной лоббистской кампании организуется целая серия политических
акций, целенаправленная агитация в средствах массовой информации и др. Однако это не исключает наличие в политических системах этих государств прямого и внутреннего лоббизма (они представлены в наименьшей степени).
Неинституциональные и квазиинституциональные модели лоббизма, соответственно с плюралистическим или корпоративным вариантом представительства интересов распространены в политических системах государств, в которых
лоббистская деятельность носит неконвенциональный характер, то есть существует как неформальная политическая практика. Квазиинституциональные модели лоббизма получили такое название потому, что, с одной стороны, в политических системах, в которых они распространены, лоббизм признается в каче156
стве формальной и неформальной практики взаимодействия с органами власти,
наличествует стремление не допустить лоббирование интересов незаконными
способами, хотя не вводится законодательное регулирование данной деятельности, с другой – расширяются возможности для лоббирования посредством
официальных организаций, чей статус закреплен законом.
Неинституциональная плюралистическая и квазиинституциональная плюралистическая модели лоббизма являются теоретическими. Среди базовых характеристик первой можно выделить следующие особенности: плюрализм
субъектов лоббирования; осознание равноправия представительства интересов
различными социальными группами, объединениями, ассоциациями; возможность «открытого соревнования интересов». Вторая обращает внимание на
расширение возможности участия множества групп давления в политической
жизни через формальные институты, выполняющие функции артикуляции и агрегирования интересов.
Реализация данных моделей на практике невозможна в силу действия следующих объективных законов: отсутствие контроля (общественного, правового) детерминирует развитие коррупции органов власти, следовательно, ведет к
теневизации принятия политических решений. Закрытость каналов лоббирования для рядовых граждан, социальных групп и других субъектов способствует
увеличению корпоративного воздействия. Поэтому наибольшее развитие в мировой практике получили неинституциональная корпоративная и квазиинституциональная корпоративная модели лоббизма.
Первая в настоящее время распространена в Индии и Китае. Несмотря на
различия в политических режимах этих государств, лоббистской деятельности в
политической сфере свойственны общие черты: ограничение интересов множества субъектов лоббирования артикуляцией корпоративных интересов; клановость представительства интересов; отсутствие различных механизмов активного участия граждан в политической сфере; закрытость каналов для лоббирования. Правительства этих государств не признают лоббизм в качестве института
социально-политического представительства, поэтому не существует нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок взаимодействия гражданского
общества и органов власти посредством лоббистской деятельности. Субъекты
лоббирования либо создаются «сверху» (например, отрасли народного хозяйства, партийные активисты, ведомства (Китай)), либо «снизу» в результате самоорганизации гражданского общества. В отсутствие правового контроля за таким
процессом основным субъектом лоббирования выступает криминальное лобби
(Индия). Для данной модели характерен прямой и внутренний лоббизм.
Квазиинституциональная корпоративная модель получила свое распространение в современной России. Она характеризуется следующими особенностями:
– во-первых, отсутствием плюрализма субъектов лоббизма: давление на
органы власти преимущественно оказывает корпоративный сектор (бизнес, союзы и ассоциации и др.); рядовые граждане частично или полностью отстранены от влияния на принятие политически значимых решений;
157
– во-вторых, расширением практики использования лоббистами неформальных методов влияния, деятельность которых преимущественно носит неспециализированный характер, осуществляясь непосредственно субъектами
лоббирования;
– в-третьих, в отсутствие законодательной базы, регулирующей лоббизм,
существует ряд формальных организаций, за которыми законодательство определяет возможности для легального лоббирования, а среди основных направлений их деятельности признает функцию представительства интересов различных социально-экономических и политических групп в органах государственной власти.
Специфика института лоббизма в посткоммунистической России отражает
искажения в институциональной структуре политической системы общества,
связанные с неконвенциональным давлением на нее неформальных субъектов.
Отсутствие эффективных социально-политических и правовых механизмов
взаимодействия групп интересов и государства в современной России стимулирует развитие латентных форм и методов лоббирования, что усиливает коррупционную составляющую его образа в сознании массовых и элитных групп. Однако правовое регулирование лоббистской деятельности только отчасти способно повлиять на характер лоббизма. Наиболее значимыми факторами воспроизведения «российской модели» лоббирования являются: распространение
вертикальных политических отношений, ограниченное использование в политическом процессе консенсусных практик, деформирование институционального рынка. Следовательно, сохранение и укрепление демократического вектора
развития политической системы, повышение конкурентности политического
пространства, формирование сети функциональных институтов социальнополитического представительства будут способствовать раскрытию позитивного потенциала лоббистской деятельности в России [1, с. 83].
Сущность российской модели лоббизма заключается в том, что в условиях
неопределенного политико-правового статуса субъектов лоббирования взаимодействие с властными структурами зависит от системной или антисистемной
направленности их деятельности. Исходя из этого, вместо формирования функциональной системы представительства частных интересов, сохраняется клиентелистский, а не партнерский вариант отношений между властными и гражданскими структурами. Распространенность неконвенциональных лоббистских
практик в определенной мере является следствием специфичного развития системы социально-политического представительства в период трансформации
посткоммунистической России [3, с. 70–71].
В целом, субъектно-институциональная специфика лоббистской деятельности в современной России определила ее основные характеристики: доминирование корпоративного типа представительства интересов, модифицированного спецификой посткоммунистического трансформационного процесса; кризисы легитимности, навязанный негативный консенсус элит, дефицит демократических акторов и другие особенности, связанные с межрежимным переходом
стимулировали ограничение числа субъектов лоббирования и способствовали
становлению в России квазиинституциональной модели лоббизма.
158
Литература
1. Бродовская Е.В. Образ коррупции в дискурсе элитных групп Тульского региона //
Известия Тульского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». 2008.
Вып. 2. С. 82–88.
2. Киняшева Ю.Б., Муращенков С.В. Информационный лоббизм в системе представительства интересов гражданского общества в органах государственной власти современной
России // Известия Тульского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки».
2014. Вып. 2. С. 108–114
3. Пустошинская О.С., Манукян А. Сущность лоббизма и его роль в обществе: научные
представления // Культура. Духовность. Общество. Новосибирск: Центр развития научного
сотрудничества, 2014. № 11. С. 67–71.
159
КАКАЯ РЕФОРМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НУЖНА РОССИИ?
К ВОПРОСУ ОБ ОДНОМ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ1
В.В. Ошкин
канд. полит. наук, младший научный сотрудник
НИИ истории и культуры им. Н.М. Карамзина (Ульяновск)
Образование в России с начала 1990-х гг. постоянно находится в процессе
преобразования. Для этой сферы неоднократно менялись как внешние условия,
так и внутренние «правила игры». Пожалуй, самые интересные и глубокие изменения претерпело высшее образование в Российской Федерации. За последние 25 лет мы стали свидетелями и появления множества новых вузов, и преобразования вузов имеющихся, и попыток включиться в Болонский процесс, и
изменений в системе отбора студентов. Ни в одной из отраслей образования не
произошло столь масштабных количественных и качественных перемен. Количественно в России стало больше вузов, чем ранее во всем СССР. Качественно
изменилось и наполнение учебных курсов, и уровень подготовки выпускников.
Если появление новых для нашей страны дисциплин в учебных планах (социологии, политологии и т.д.) можно считать благом, то качество подготовки современных студентов вызывает большие вопросы. У современного российского
высшего образования накопилось достаточное количество проблем, которые
обусловлены, в том числе, тем, что оно было долгое время предоставлено само
себе и «выживало» как могло.
Видимо, элита осознала наличие сложностей в российской системе образования, если решилась на преобразования в этой сфере. Эти сложности стали
наносить вред самой элите, требуя всё больше ресурсов и не принося желаемой
отдачи. Провозглашаемые в качестве цели нынешней реформы высшего образования его доступность и качество показывают косвенно, что в современном
состоянии не каждый может позволить себе подобное обучение, а позволившие
могут получить не знания, а лишь документ. В задачи данной работы не входит
выяснение мотивов абитуриентов (быть может, многим достаточно лишь документа), для нас достаточно того, что молодые люди стремятся попасть в вузы,
где им в результате решения второй задачи реформы (в области качества)
должны предоставить достойное образование. Мы рассматриваем комплекс
мер, который должен открыть перед россиянами определённые возможности,
параллельно решив проблемы граждан (рост социального статуса) и государства (получение от системы образования нужных экономике и науке специалистов). А уж пользоваться или нет возможностями – дело свободной воли человека.
Реформа – это не только деятельность по достижению поставленных целей, преобразование социального института. Это еще и взаимодействие элиты с
группами населения (в случае высшего образования – с преподавателями, сту© Ошкин В.В., 2016
160
дентами, их родителями, потенциальными работодателями). Интересы всех
этих групп должны быть согласованы, что мы не всегда видим в имеющейся
практике. Чаще во главу угла ставится интерес одной из них, а прочие вынуждены лишь подстраиваться под новые «правила игры».
Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных положений реформы и
пониманию того, чьи интересы она ставит над всеми прочими, нужно кратко
описать современное положение дел в сфере высшего образования. Имеющиеся
в нашей стране вузы, в массе своей, направлены на подготовку специалистов по
направлениям, считающимся востребованными у абитуриентов, а не у будущих
работодателей. Даже на уровне высшего руководства страны звучат призывы
связывать свою судьбу с инженерными и техническими специальностями, которые востребованы в экономике [7]. Ощущается дефицит рабочих кадров по специальностям, не требующим высшего образования. Автору известна ситуация,
когда предприятие, способное конкурировать со своей продукцией на уровне
всей страны, оказывается на грани остановки производства по весьма экзотической причине. Один из двух сотрудников, умеющих работать на станке с ЧПУ,
отправлен в отпуск и отсутствует в населённом пункте, а второй попал в больницу. Кадрового резерва нет, заказ оказывается на грани срыва. А система образования продолжает выдавать каждый год новую порцию экономистов, юристов,
менеджеров – специальностей, востребованных у «потребителей»-абитуриентов.
Ещё одна проблема современного российского высшего образования – перегруженность ППС преподаванием, что мешает заниматься наукой и повышать свой уровень знаний. Как говорит один из современных российских учёных, становится всё больше «инструкторов» (механически передающих знания
студентам) и всё меньше «настоящих профессоров», «академиков» (занимающихся также наукой, имеющих мотивацию к генерации нового знания, создающих вокруг себя атмосферу научного поиска, научной дискуссии, формирующих у студентов отношение к знанию как самоценности) [8, с. 200]. Чтобы
иметь приемлемый уровень жизни, современные российские преподаватели
должны много работать в аудитории, относясь к требованиям вуза по научной
деятельности как к обязанности, а не свободному научному поиску.
Также сеть российских вузов настолько разрослась [5], что в условиях демографического спада за абитуриента начинают конкурировать вузы. Об отборе лучших, о принципе меритократии нет и речи. Также в численно выросших
учебных заведениях проблема возникает не только с качеством поступающих,
но и с качеством преподавания. Ярким штрихом в этой картине является стремление государства провести ревизию качества образования в вузах и филиалах,
что проявляется в публичном пространстве в их громких закрытиях, в лишении
права выдавать дипломы государственного образца [4].
Эти проблемы, в той или иной степени, сформировались под воздействием
экономического фактора. Если бы преподавателям не приходилось думать о
дополнительном заработке, то они чаще бы занимались научными исследованиями. Если бы исследования финансировались, то их было бы больше (возможно, они оканчивались бы чаще научными прорывами). Если бы в 1990-е гг.
образование финансировалось, то вузы не бросились бы в стихию «зарабатыва161
ния денег», открывая «модные» специальности в ущерб качеству [8, с. 206]. Таких «если бы» можно назвать много. Но является ли ситуация в российском
высшем образовании уникальной, или она типична в современном мире? И как
эти процессы влияют на роль образования как социального лифта?
Зарубежную, в частности, западную систему высшего образования в нашей
стране любят приводить в пример. Из научных статей в государственные программы кочуют различные «рейтинги», согласно которым отечественная система признаётся глубоко кризисной и бесперспективной. Они же становятся
поводом к изменениям и ориентиром в оценке результатов. Нашим исследователям, политикам, неравнодушным общественникам кажется привлекательной
многовековая история европейских университетов, большие бюджеты американских университетов, элитный или элитарный (терминология Г.К. Ашина)
характер ряда вузов мира [1, с. 83]. Но попытки создать нечто подобное на российской земле пока не приводят к появлению в вожделенных списках и рейтингах знакомых отечественных названий.
Тем не менее, стоит сначала обратиться к оценке деятельности лучших западных вузов, даваемой самими западными исследователями. При всей увлечённости великой западной системой, социальным институтом под названием
«западный университет», слово лучше дать тем, кто изучил этот институт изнутри, а не любовался фасадом, музеем или стендом «Наши лучшие выпускники». А западные исследователи (которые также, как и российские, озабочены
профессиональными качествами выпускников вузов) указывают на то, что
высшее образование переживает не самые лучшие годы. И проблемы, называемые в качестве основных, очень похожи на российские, пусть и история их возникновения несколько иная.
Ведущие университеты Запада в наше время становятся всё менее доступны для студентов из средних и низших слоёв общества. Система высшего образования перестаёт пытаться предоставлять равные возможности для всех. При
этом существует (в США) группа колледжей, которые готовы принять всех желающих и предоставить им по истечении 2 лет диплом (естественно, на основе
обучения за умеренную плату). Ситуация удивительно напоминает современные российские реалии, когда с дипломом может оказаться каждый обладатель
определённой суммы денег, но качество образования будет сомнительным.
Причиной этого зарубежные учёные часто называют возросшую коммерциализацию высшего образования и недостаточную заботу государства о субсидировании возможностей для представителей широких масс на получение высшего
образования [6].
Коммерциализация высшего образования по-американски выглядит не совсем так, как мы привыкли в России. Конечно, имеется традиционный для нас
способ получения денег для университета – платное обучение. Но также существует широкий спектр дополнительных источников. Во-первых, есть многолетняя традиция спонсорства, при которой богатые экс-студенты перечисляют
университету свои пожертвования. Во-вторых, средства, привлечённые ведущими вузами, используются как капитал, который можно вложить в какойнибудь бизнес-проект. Исследователи американского высшего образования в
162
этой связи упоминают, какой страшный удар по элитным университетам нанёс
финансовый кризис, уничтоживший их активов на сотни миллионов долларов
[3, с. 272].
Коммерциализация образования несёт ряд интересных социальных последствий. Во-первых, элитный университет перестаёт быть механизмом, который помогает талантливому представителю масс пробиться в элиту, останавливая важный социальный лифт. Западные учёные склонны разбирать эту ситуацию не только на этапе поступления, когда у абитуриента не хватает денег на
плату за обучение. Отдельно указывается, что абитуриент из неэлитных социальных групп не поступит и по формальным критериям, так как не мог себе ранее позволить репетиторов и обучение в частной школе. Таким образом,
надёжно перекрывается доступ к уникальным знаниям и подготовке для непричастных к элите [2, с. 5].
Во-вторых, элитный университет начинает больше заботиться о той стороне своей деятельности, которая связана с привлечением средств и управлением активами. Для этого предпринимается ряд мероприятий, которые труднообъяснимы с позиции повышения качества высшего образования. Университеты проводят настоящие PR-акции, подобно ведущим спортивным клубам привлекают в свой состав (педагогический) «звёзд», переманивая их у конкурентов. Подъём влияния Нью-Йоркского университета современные западные исследователи связывают и с такой политикой. При этом «звёзды» имеют особые
условия для работы и не слишком заботятся о качестве преподавания. Заработки таких преподавателей несоизмеримы с средними по учебному заведению. А
основную работу по обучению ведут обычные преподаватели, которых в российских реалиях Л.Л. Любимов метко назвал «инструкторами». Тем самым, мы
видим не только усиление элитистских тенденций в деле поступления в университет, но и элитизм внутри преподавательской корпорации [9, с. 89–101].
В-третьих, студенты перестают стремиться к всестороннему развитию своей личности в рамках университета. Их интересуют лишь те знания, которые
можно реализовать в профессиональной деятельности. Концепция «свободного» (либерального) образования размывается. Но в попытках получить только
«нужное», поступая, как им кажется, рационально, студенты не получают способности мыслить творчески, нестандартно. Это приведёт их не к ожидаемому
успеху в карьере, а к трудностям. Так рациональное в ближайшей перспективе
становится нерациональным в стратегическом плане. «Утрата образовательного
этоса», которую констатируют для нашей страны, является более распространенным явлением нежели просто отечественной тенденцией [2, с. 9].
С другой стороны, имеется большое количество относительно доступных
колледжей, которые условно делят на те, которые набирают всех желающих и
способных заплатить за обучение, а также те, которые имеют возможность проводить конкурсный отбор. Эти образовательные учреждения базируются, в основном, в своих финансовых возможностях на оплате за обучение. И им в ещё
большей степени свойственны проблемы российских вузов: перегруженность
преподавателей работой, невысокое качество образования, стремление обеспечить набор студентов без оглядки на способности студентов. Падение платёже163
способности населения ведёт к переходу всё большего количества колледжей
на систему набора всех желающих.
Также этим учебным заведениям невыгодно объективно оценивать уровень знаний собственных выпускников. Реалистичный взгляд на результаты
обучения ставит под удар место вуза в системе рейтингов, что немедленно отразится на количестве поступающих и финансовом положении организации.
Поэтому можно говорить, что между студентами и учебными заведениями существует негласный договор, по которому первые могут для себя выбирать, что
учить (считая полезным лишь некоторые знания), а вторые могут закрывать
глаза на неуспеваемость [2, с. 10].
Таким образом, обратившись к работам западных учёных, мы можем установить ряд интересных совпадений в состоянии социального лифта «университет». Во-первых, этот механизм отбора в элиту имеет тенденцию исключать всё
большее количество людей из вертикальной социальной мобильности. База отбора становится всё более узкой. Из меньшего количества людей можно
отобрать меньшее количество поистине талантливых. Во-вторых, нарушается
меритократический принцип, потому что доступ в высшие учебные заведения
осуществляется не по таланту, а по материальным возможностям. При этом высокие показатели учёбы не гарантируют более высокие способности их обладателя. Они могут оказаться следствием больших материальных возможностей
(оплата репетиторов и элитной школы) на предыдущей ступени образования. Втретьих, ширится сеть неэлитных высших учебных заведений, которые представляют собой лишь суррогат «социального лифта», не давая реального преимущества в карьере. В-четвёртых, все эти проблемы тесно связаны с вопросом
о качестве высшего образования, которое вызывает сомнения у отечественных
и зарубежных специалистов.
Вывод из современных исследований в области высшего образования
вполне однозначен: университет видоизменяется, в том числе и в аспекте «социального лифта» (в сторону меньшего благоприятствования выходцам из
масс, большей закрытости), во многом по причине коммерциализации высшего
образования. Российское высшее образование повторяет, в целом, мировые
тенденции (если считать лидером мирового прогресса в высшем образовании
западное высшее образование), но на более низком уровне. Причинами тому
могут быть названы разрушительные процессы 90-х гг., меньшая история коммерциализации, незавершившаяся выработка механизмов негосударственного
финансирования. Российские вузы не практикуют пока в больших масштабах
привлечение спонсорских средств и создание фондов, средства которых будут
вкладываться в рыночные механизмы.
Реформа высшего образования последних лет подразумевает ряд конкретных мер. Рассмотрим их с точки зрения функции «социального лифта». Одной из
самых обсуждаемых мер в пакете реформ является изменение системы поступления – введение ЕГЭ. Несмотря на масштабную критику (справедливую по
многим параметрам), ЕГЭ – это шаг в сторону демократизации института высшего образования. Этот механизм выбивает, в основном, почву из-под ног коррупционеров от высшего образования, которым стало сложнее наживаться на
164
вступительной кампании. Конечно, коррупционная составляющая (что на самом
деле есть элемент элитизации образования, механизм, ограничивающий доступ
для бедных) не исчезла совсем, но возможности резко сократились. А наш словарный запас после введения ЕГЭ обогатился новыми терминами, характеризующими новые нечистоплотные схемы (например, «ЕГЭ-туризм»). Относительно
вопроса коммерциализации высшего образования стоит заметить, что радикально на рынок платного образования введение ЕГЭ не повлияло – это просто параллельное явление, не призванное регулировать данный аспект.
Второй значимой нормой в пакете реформ высшего образования является
курс на укрупнение вузов, кафедр, специализаций, что направлено, по мнению
реформаторов, на повышение качества подготовки студентов. Однако есть основание сомневаться в том, что прикрепление слабых к сильным ведёт к росту
результативности. Скорее можно будет увидеть общее падение уровня подготовки, по крайней мере, на первом этапе. С вопросом о коммерциализации образования эта мера связана лишь частично. Государство стремится оптимизировать, то есть сократить расходы на высшее образование за счёт устранения
лишних бюрократических структур, а также (что более тревожно) «лишних»
кафедр, факультетов и специализаций.
Третье из значимых направлений реформирования высшего образования –
это включение в Болонский процесс. Внешне это проявилось в появлении ступеней высшего образования. Значительная часть студентов отныне отсечена от
магистратуры своими материальными возможностями. К положительным моментам можно отнести то, что все, кто не желает связывать себя с сферой знания, могут остановиться на ступени бакалавра.
Таким образом, выявляемая отечественными и зарубежными учёными как
основная в наше время проблема коммерциализации высшего образования не
находит отражения в последних реформах нашей страны. Она либо игнорируется, либо затрагивается косвенно. По факту, цели в виде «доступности и качества» напрямую должны быть связаны с вопросом о коммерциализации. В
условиях финансово-экономического кризиса невозможно возлагать на население повышенную нагрузку по оплате обучения в университете. И здесь нам
может помочь опыт США, уже испытавших экономическую встряску в 20082009 гг. На чужом примере можно увидеть не самый вдохновляющий в аспекте
качества результат коммерциализации. Система начинает накапливать аномалии, показывающие, что в ней отныне главное – это бизнес, а не знания. Самое
важное в вопросе о коммерциализации образования – это не «социалистический» принцип раздачи этого блага представителям всех слоёв, а интересы элиты страны, которая должна решить, для чего ей нужно высшее образование.
Доступное высшее образование – это, прежде всего, условие конкурентоспособности страны. Опыт стран Запада показывает, что введение платы за обучение как значимого источника для содержания учебного заведения, ведёт к падению качества обучения даже в учебных заведениях с богатейшими традициями и сильным преподавательским составом. Поэтому государство должно для
себя решить, что для него важнее – ситуативная экономия на бюджетных местах и заработной плате преподавателя или стратегический выигрыш от воз165
рождения «университетского этоса» и появления когорты сильных специалистов. В Средние века, в период зарождения самого понятия «университет», слабообразованные феодалы лучше современных менеджеров от сферы образования понимали выгоды наличия в столице собственного владения корпорации
образованных людей, притягивающих к себе знания, деньги и будущих элитариев. Удержание процесса коммерциализации в допустимых для общества рамках позволит снять все вопросы относительно судьбы университета как социального лифта. Элита сможет получить в таком случае качественное пополнение из масс (выходцы из масс, прошедшие университет, по европейской практике могут попадать в элиту как напрямую, так и, как минимум, создавать
условия для вступления в неё своих детей) [10, с. 64-65]. Массы получат понятные прозрачные правила для продвижения, основанные не на финансовых возможностях, а на принципе «заслуг и достижений». Это не может не снизить социальную напряжённость, вызываемую сильнейшим социальным расслоением
современности. Преподаватели как социальная группа, если на оплате их труда
не будут экономить в истинно капиталистическом духе, смогут больше посвящать времени науке и саморазвитию, что отразится на качестве преподавания.
Студенты не будут питать иллюзий о том, что если ими уплачены деньги, то
диплом о высшем образовании будет получен так или иначе. Как бы то ни было, но предлагать и реализовывать эти меры придётся элите. Пока лишь немногие из современных реформ в сфере образования нацелены на такой сценарий.
Скорее ближе к нему введение ЕГЭ (при доведении его до определённой степени совершенства), а вот следование Болонской системе можно оценить как не
влияющее на доступность и качество образования. В конце концов, ни экономике, ни государству нет дела до формулировки в документе об образовании
(специалист, магистр или бакалавр), если речь идёт о его обладателе – грамотном профессионале. Также интересным представляется опыт рассмотрения доступности образования среднего и высшего в комплексе.
Литература
1. Ашин Г.К. Элитное образование // Общественные науки и современность. 2001. № 5.
С. 82–99.
2. Делбанко Э. Коллежди: вымирающий вид? / пер. с англ. О. Фадиной // Вопросы образования. 2005. № 2. С. 328–338.
3. Делбанко Э. Университеты в беде / пер. с англ. О. Шляхтина // Вопросы образования.
2009. № 3. С. 271–286.
4. Ивойлова И. Приема нет // Российская газета. URL: http://rg.ru/2016/01/29/abiturientsite.html (дата обращения: 17.03.2016).
5. Количество вузов в России больше чем в бывшем СССР // РИА Новости. URL:
http://ria.ru/society/20050211/26015957.html (дата обращения: 17.03.2016).
6. Ланган Э. Высшее образование в США: изменения и перспективы // Вопросы образования. 2007. № 4. С. 295–301.
7. Латухина К. Непростой инженер // Российская газета. URL: http://rg.ru/2014/06/
23/kadri-site.html (дата обращения: 21.03.2016).
8. Любимов Л.Л. Угасание образовательного этоса // Вопросы образования. 2009. № 1.
С. 199–210.
9. Хили П. Вузы: битва за профессуру // Вопросы образования. 2004. № 4. С. 102–106.
10. Michels R. Umschichtungen in den herrschenden Klassen nach dem Kriege. Stuttgart, 1934.
166
ОБ ОДНОЙ ИЗ ПРОБЛЕМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ1
С.В. Фоменко
д-р ист. наук, профессор
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Эффективное управление политическими процессами: предотвращение
распада государства, прорыва к власти экстремистов и т.п. – требует соответствующей подготовки политиков, государственных чиновников и их экспертов,
значительная часть которых, как предполагается, должна рекрутироваться из
среды политологов. Но о какой основательной подготовке последних может идти речь, если пособия, предназначенные для студентов-политологов, часто просто игнорируют достижения науки?
Возьмём в качестве примера недавнее, уже второе по счёту, издание учебника А.И. Соловьёва «Политология» и проанализируем представленную в нём
трактовку только одного феномена – тоталитаризма.
Несмотря на то, что конкретно-историческое изучение и теоретическое
осмысление тоталитаризма прошло большой путь, автор «современного» (курсив везде мой. – С.Ф.) учебника в постижении данного феномена продолжает
оставаться где-то далеко в прошлом – может, потому, что искренне считает, что
«самые серьёзные теоретические попытки концептуальной интерпретации этого политического устройства общества были предприняты … в послевоенное
время» [17, с. 249].
Возможно, потому, что «фашист № 1» – Б. Муссолини – был в прошлом
членом Итальянской социалистической партии, само рождение термина «тоталитаризм» приписывается А.И. Соловьёвым «среде социалистов». Но вообщето впервые о тоталитарном государстве заговорили в середине 1920-х годов лидеры итальянского фашизма [10, с.4]. Перечисляя 3 главных условия создаваемой им в Италии корпоративной системы, Муссолини на 2-е место – после однопартийности – ставил наличие тоталитарного государства, т.е. «государства, поглощающего … всю энергию, все интересы и все надежды народа» [9,
с.41]. После прихода в 1933 г. к власти Гитлера на складывание в Германии тоталитарного государства обратил внимание К. Шмидт и ряд других теоретиков,
но в официальной риторике Третьего рейха термин не прижился.
Вслед за идеологами фашизма Американское философское общество тоже
стало определять фашистский режим как тоталитарный. При характеристике
фашистской системы термин «тоталитарное государство» в 1930-х годах стали
употреблять и коммунисты: Г.М. Димитров на Лейпцигском процессе 1933 г.,
П. Тольятти в своих «Лекциях о фашизме», прочитанных в 1935 г. в Москве.
При этом современники подчёркивали, например, что «итальянский фашизм не
был тоталитарным от рождения», режим Муссолини, пришедшего к власти в
© Фоменко С.В., 2016
167
конце 1922 г., вступил в тоталитарную фазу своего развития только в 1925 г.
[19, с. 44, 33] либо в 1926 г. [16, с. 65; 9, с. 44].
О тоталитаризме же как о государственно-политической системе, утвердившейся не только в Италии, Германии или франкистской Испании, впервые
заговорил, возможно, немецкий экономист и социолог Питер Дракер, эмигрировавший в 1933 г. в Англию, а затем в США. Считавшийся в научной среде
чутким уловителем общественных сдвигов, Дракер в своей работе 1939 г. «Конец экономического человека. Исследование нового тоталитаризма» обратил
внимание на появление в ХХ в. массовых движений, порождённых протестом
людей, которые ранее подчинялись слепым и стихийным законам описанной К.
Марксом «капиталистической экономики», против их положения в качестве
«гомо экономикус», против социального неравенства. Выделяя фашистскую и
советскую форму тоталитаризма, главным в нём этот немецко-американский
учёный считал то, что тоталитаризм обеспечил господство политической воли
над экономикой. Следующей, посттоталитарной фазой развития общества
«Дракеру представлялась такая политическая система, которая сохранит способность контроля над социально-экономической сферой, но преодолеет уродливые стороны тоталитаризма, будет построена на принятии демократических
идеалов» [10, с. 5].
После окончания Второй мировой войны восторжествовавшие на Западе
воззрения на тоталитаризм складывались не только под влиянием чисто эмоционального восприятия ужасов гитлеровского террора и сталинских репрессий,
но и под влиянием начавшейся «холодной войны». Ещё до появления в 1951 г.
знаменитой работы Х. Арендт «Истоки тоталитаризма» [1] концепция тоталитаризма стала фактически идеологическим довеском к внешнеполитическим и
военно-стратегическим доктринам США.
В 1947 г. референты библиотеки Конгресса США подготовили работу
«Фашизм в действии», рассматривая фашизм как международное явление и
указывая на первостепенную роль в фашистских режимах крупного капитала.
Но прежде, чем эта рукопись пошла в печать, в неё по настоянию конгрессменов, было внесено 16 дополнений с перечислением, в соответствии с духом
«холодной войны», сходства между фашизмом и коммунизмом.
Окончательно статус научной концепции за термином «тоталитаризм» закрепил один из американских симпозиумов 1952 г., определивший тоталитаризм как «закрытую и неподвижную социо-культурную и политическую структуру, в которой всякое действие – от воспитания детей до производства и распределения товаров – направляется и контролируется из единого центра» [6,
с. 9]. Общеизвестно, что своё законченное выражение концепция тоталитаризма
получила в 1956 г. в работе К. Фридриха и З. Бжезинского «Тоталитарная диктатура и автократия». Ссылка на выделенные этими авторами 6 признаков тоталитаризма имеется практически в каждом учебнике политологии, в том числе
и в учебнике Соловьёва.
При этом, однако, игнорируется тот факт, что формальные признаки тоталитарных режимов, предложенные Фридрихом и Бжезинским, исходно не были
безупречными – и прежде всего из-за замалчивания факта массовой поддержки
168
данных режимов. Игнорируется также и то, что уже в 1960-х годах Фридрих и
Бжезинский уточнили своё представление о тоталитаризме. Карл Фридрих стал,
например, делать оговорку, что контроль над обществом в условиях тоталитаризма «не обязательно принадлежит партии… главное – это монополия на
власть со стороны определённой элитной группы, стремящейся увековечить
своё правление». Показательно и то, что террор как основа метода управления
обществом им уже не упоминался [10, с. 6].
Изменение акцентов произошло не без влияния оппозиции со стороны
научного сообщества. Так, в американском издании 1969 г. «Энциклопедии социальных наук» тоталитаризм был назван «не научной концепцией», а всего
лишь политической метафорой [18, с. 228]. То, что концепция тоталитаризма
«поставлена под вопрос в исторической и политической науке западного мира»
[8, с. 322], констатировал в 1970 г. западногерманский историк В. Шидер. 20
лет спустя другой крупный историк – теперь уже британский – отмечал, что
«сейчас термин «тоталитаризм» вышел из моды» – по причине того, что «в своём стремлении определить модель тоталитарного государства политологи изолированно рассматривали черты сходства» нацистской Германии, Советской
России и фашистской Италии [4, с. 14]. (Поэтому-то, говоря о 1930-х годах,
даже американские историки – такие как Генри Шлезингер-младший – предпочитали вести речь о фашизме и тоталитарном коммунистическом режиме).
Не удивительно, что и в отечественной историографии сегодня раздаются
голоса о том, что «на фоне низкой плодотворности споров по поводу “измов”
гораздо уместнее выглядит преимущественное употребление понятия «тоталитарный» в качестве определения к более конкретному явлению, как-то: тоталитарный режим, тоталитарная власть, тоталитарное сознание, тоталитарный
образ жизни» [11, с. 49]. И в то же время сохраняется мнение, что «эвристический потенциал исторического феномена – тоталитаризма – не исчерпан ни в
научном, ни в политическом смысле» [13, с. 31].
К последним принадлежит и А.И. Соловьёв, пишущий «о трёх основных
типах тоталитаризма: фашистском (национал-социалистическом, нацистском),
коммунистическом (советском) и теократическом» [17, с. 258] – без упоминания того, что вопрос о тоталитаризме религиозной окраски остаётся спорным.
К сожалению только, признавая явное сходство политического инструментария и методов достижения целей диктатурами первых двух типов, автор игнорирует «их столь существенные различия, как принципиальная несовместимость ценностных систем и противоположность основных установок», что является совершенно «непозволительным» [3, с. 363].
Одним из первых на это (а значит, и на изъяны только что обнародованной
концепции Фридриха и Бжезинского) обратил внимание крупнейший французский мыслитель ХХ в. Раймон Арон. В прочитанных в 1957–58 гг. в Сорбонне
лекциях, которые будут изданы в 1965 г. в виде книги «Демократия и тоталитаризм», Арон вёл речь о 5 основных признаках тоталитаризма, подчёркивая при
этом, что явление «тоталитаризм» «получает законченный вид только тогда, когда все эти черты объединены и полностью выражены». В СССР, по мнению
169
учёного, «пять перечисленных признаков были взаимосвязаны» лишь в 1934–38
и 1948–52 гг. [2, с. 230–231].
Поскольку первым среди признаков тоталитаризма Арон поставил однопартийный режим, он задавал закономерный вопрос: «Обречён ли однопартийный режим или режим тотального планирования на тоталитаризацию?» – и давал отрицательный ответ. «…есть однопартийные режимы, не ставшие тоталитарными, не занимающиеся распространением официальной идеологии,
не стремящиеся охватить своей идеологией все виды деятельности». (Подтверждением этой мысли Арона по поводу существования «однопартийных режимов, где государство не поглощает общество, а идеология не имеет патологического размаха», может служить политический режим Мексики периода монопольного правления в 1929-1997 гг. Институционально-революционной партии
– режим, определяемый западными социологами чаще всего как «несовершенная демократия»).
Второй задаваемый Ароном вопрос звучал так: «Насколько советский тоталитаризм сопоставим с аналогичными явлениями в других режимах, например, в национал-социализме?» Отвечая на него и ссылаясь на осуществлённое
Х. Арендт отождествление режима большевиков после 1930 г. и гитлеровского
режима после 1938 г. [1, с.515], Арон писал: «…было бы несправедливо ставить на одну доску сравнение этих двух периодов и двух типов террора – и
режимов в целом. […] Нельзя довольствоваться сравнительным социологическим анализом, если хочешь уяснить относительные масштабы родства и противоположности; следует принимать во внимание и два других метода: историю и идеологию» [2, с. 235–236]. Подчёркивая, что «различия в идеях и целях
слишком очевидны, чтобы принять мысль о коренном родстве режимов», Арон,
в частности, указывал: «одна идеология выглядит универсалистской и гуманной, а другая – националистической, расистской и ни в коей мере не гуманной», цель наци «состояла в том, чтобы перекроить расовую карту Европы…
[…] Цель террора в СССР – создание общества, полностью отвечающему определённому идеалу, тогда как для Гитлера истребление было важно само по себе. Вот почему…, – заключал Арон, – я по-прежнему буду настаивать на том,
что это различие двух видов террора решающее, какими бы ни были черты
сходства» [2, с. 236, 234, 241–242].
Британский историк Алан Буллок в 1991 г. также обращал внимание на
различие двух видов террора – на то, что «сталинская система прибегала к террору… как к средству обеспечения политических и социальных, но не биологических целей» [5, с. 641]. Что же касается фашистской диктатуры, то, по мнению ещё одного историка – американского, её отличие от других тоталитарных
форм заключалось в жёстком националистическом и расистском подходе,
накладывающем свой отпечаток на приоритеты экономического развития,
очертания устанавливаемой в обществе иерархии, содержание культурной и
идеологической политики, характер проводимого террора, и обуславливающем
экспансионистскую направленность внешней политики [21, с. 349].
Никто не будет спорить с А.И. Соловьёвым по поводу того, что «установление тоталитарных политических порядков не является непосредственным
170
продолжением деятельности предшествующего легитимного режима власти…»
[17, с. 252] или что «тоталитарные режимы, а впоследствии и системы рождались как воплощение определённых политических проектов, предусматривавших построение властью «нового» общества и отметавших при этом всё то, что
не соответствует или мешает реализации таких помыслов» [17, с. 253]. Трудно
отрицать и то, что в условиях тоталитаризма «всё, что отрицалось идеологическим проектом, подлежало уничтожению, всё, что предписывалось им, –
непременному воплощению» [17, с. 253]: «на основе идеологий не только проектировалось будущее, но и переосмыслялось, а точнее, переписывалось прошлое и даже, – как пишет А.И. Соловьёв, – настоящее» [17, с. 255]. «Занимая
центральное место в политических механизмах», идеология, наверное, действительно, как пишет автор, «превращалась из инструмента власти в саму власть
(курсив А.С.). В силу этого и тоталитарный политический режим, и тоталитарная система политической власти становилась разновидностью идеократии,
или, с учётом священного для властей характера этой доктрины, “обратной теократией”» [17, с. 253].
А вот следующее утверждение А.И. Соловьёва ничего, кроме удивления,
вызвать не может. Автор полагает, что «несмотря на различия социальных целей, формулируемых в различных тоталитарных режимах, их идейные основания были по сути идентичными. Все тоталитарные идеологии предлагали обществу свой собственный вариант установления социального счастья, справедливости и общественного благополучия» [17, с. 253].
Здесь вновь хочется сослаться на Р. Арона. Признавая, что «любой однопартийный режим в индустриальных обществах чреват расцветом тоталитаризма», Арон в то же время прямо подчёркивал: «для этого достаточно любой
идеологии», поскольку «люди никогда не проявляют чрезмерной придирчивости к качеству идеологических систем» [2, с. 232]. Как следствие, уже сама по
себе подобная постановка вопроса исключает правомерность использования
понятия «тоталитарная идеология». Хочется обратить внимание и на то, что во
всех обществах с чётко выраженным неравенством групп населения, включая и
общество либеральной демократии, «люди, обладающие наибольшей властью,
опираются главным образом на воздействие идеологии для сохранения своего
господства» [7, с. 576], а явление «обратной теократии», о котором пишет со
ссылкой на Н. Бердяева А.И. Соловьёв, свойственно не только тоталитарным,
но и либерально-демократическим режимам. Не случайно Г. Маркузе, знакомый с реалиями монархической и Веймарской Германии, столкнувшись с послевоенной североамериканской действительностью, пришёл к выводу, что
«сущность различных режимов проявляется теперь не в альтернативных формах жизни, но в альтернативных техниках манипулирования и контроля» [12,
с. 134].
Если в социалистических странах, писал Маркузе, «аналитическое предицирование» осуществляется посредством терминов: «рабочие и крестьяне»,
«построение социализма или коммунизма», уничтожение антагонистических
классов», то в «индустриальных странах» (т.е. на Западе) в качестве таких терминов выступают: «свободное предпринимательство», «инициатива», «выбо171
ры», «индивид» [12, с. 115]. При этом согласно «публичному и стандартизированному употреблению» в США понятия «свобода» «свободными являются
лишь те институты, которые действуют и приводятся в действие в Свободном
Мире; остальные трансдентирующие формы свободы по определению записываются в разряд анархизма, коммунизма или пропаганды» [12, с.19].
Языковое и политическое явление, при котором «деспотическое правительство называется “демократическим”, а сфабрикованные выборы “свободными”», писал Маркузе, это явление не ново. Относительно же новым является
«полное приятие этой лжи общественным и частным мнением» [12, с. 116], порождённое тем, что «изготовители политики и их наместники в сфере массовой
информации» систематически внедряют в массы свой «универсум дискурса» и,
наделяя «ритуализированное понятие … иммунитетом против противоречия»,
порождают «одномерное мышление» [12, с. 19, 116]. (Не случайно сам Г. Маркузе называл США даже обществом «нетеррористического тоталитаризма» и
подчёркивал, что тоталитаризм вполне совместим «с “плюрализмом” партий,
прессы, “соперничающих сил” и т.п.» [12, с. 4]).
А.И. Соловьёв, судя по всему, не хочет знать, что не только при «фашистском» или «коммунистическом» тоталитаризме, но и в рамках той системы, что
он называет «политической системой демократического типа», политические
партии и отдельные политики тоже осуществляют «развенчание идей противников и вытеснение конкурентов из политической жизни» [17, с. 254]. Кампании «по промыванию мозгов», поощрение доносительства, контроль над лояльностью» [17, с. 255] – это тоже, вопреки утверждениям автора, удел не одних
только тоталитарных государств.
Ещё более обескураживающим является тот раздел обсуждаемого учебника, что озаглавлен как «Институциональные и нормативные свойства тоталитаризма».
В отличие от исследователей, которые тоталитарным считают Советский
Союз лишь в период правления Сталина (в 1929-1953 или 1934-1953 гг.), определяя «режим, сложившийся после его смерти… как посттоталитарный» [15,
с. 241], как авторитарно-бюрократический и т.п., А.И. Соловьёв тоталитарным
считает, видимо, весь период советской истории. И поскольку, по его заявлению, «самой исторически длительной явилась коммунистическая форма тоталитаризма» [17, с. 258], а «СССР дал значительно более богатый исторический
опыт тоталитарного правления, чем другие страны», то образцы «социальных и
политических отношений, к которым вела логика развития тоталитаризма» [17,
с. 256], автором прослеживаются исключительно на примере СССР.
Часть этих «образцов» никто не будет отрицать, хотя о многих из них было
уже достаточно сказано в предыдущих разделах пособия. Речь вновь ведётся о
«срастании государства и правящей партии», о «полном приоритете идеологических подходов при решении любых общезначимых (государственных) …
проблем», о «практическом срастании всех ветвей власти», о «механизме всепроникающего контроля и управления», о стирании границы «между государством и обществом» [17, с. 256–257]. Но один вывод, который, судя по названию раздела пособия, должен относиться к феномену тоталитаризма в целом,
172
просто обескураживает. Оказывается, в его условиях «полное господство крупных предприятий, недопущение частной собственности ставили государство в
положение единственного работодателя» [17, с. 256]. Жаль, что автора невозможно окунуть в практику хозяйствования, допустим, в фашистской Италии!
(Впрочем, при обсуждении проблемы тоталитаризма А.И. Соловьёв совершенно игнорирует просуществовавший свыше 20 лет режим Муссолини, который
являлся пусть и не классическим тоталитарным, но всё же тоталитарным, с таким культом вождя, который даже превзошёл то, что имело место в Германии
при Гитлере и в CCCР при Сталине).
Не будем комментировать фразу нашего автора, согласно которой «само
по себе государство не может стать системой тотального контроля, поскольку в основе своей ориентировано на закон» [17, с. 252], хотя она одна фактически перечёркивает всё, что пытался сказать о тоталитаризме А.И. Соловьёв.
Не будем цепляться за начало и его очень расплывчатой мысли, согласно которой «как самостоятельные и качественно целостные тоталитарные политические системы исторически сформировались из соответствующих диктаторских
режимов, которые искусственно (курсив А.С.) выстроили однотипные юридические, социальные и экономические отношения» [17, с. 251]. Но «однотипность юридических, социальных и экономических отношений» во всех странах
с тоталитарными режимами – это своего рода научное открытие, с порога отметающее какие-либо размышления по поводу того, что режимы эти всё же опирались на разную экономику, одна из которых продолжала ориентироваться в
основном на получение прибыли, а на предприятиях второй не было «хозяина в
доме» или «фюрера предприятия».
Как метко заметил американский профессор-политолог Э. Хейвуд, «на
всех своих уровнях политика теснейшим образом переплетается с экономическими и общественными отношениями … для политики (и политологии) социально-экономические факторы действительно в высшей степени важны. Выразимся ещё однозначнее: политику вообще невозможно понять вне её экономического и социального контекста» [20, с. 222]. Во многом именно поэтому отечественные авторы, рассматривающие тоталитаризм в качестве крайнего проявления авторитаризма, подчёркивают: в странах с фашистскими режимами
(Германии, Испании, Италии) существовали авторитарно-неэгалитарные системы, а системы «в странах бывшей мировой системы социализма были …
эгалитарно-авторитарными» [15, с. 237].
Наконец, большинство исследователей отмечает, что тоталитаризм – это
«реакция» общества на кризисы периода индустриализации. По выражению известного советского обществоведа А.П. Бутенко, «тоталитаризм становится
возможным и действительным в тех условиях и странах, которые в ходе своего
развития по разным причинам объективно оказываются перед исключительными, экстремальными задачами, для решения которых необходимы» чрезвычайная мобилизация энергии и усилия всего населения. Именно поэтому-то население, чувствуя ситуацию, идёт за «спасателями нации, вождями народа [14,
с. 127]. Отсюда «парадокс тоталитаризма», заключающийся в том, «что его
173
“творцом” (в отличие от предыдущих диктатур) являются самые широкие
народные массы, против которых он потом и оборачивается» [15, с. 240].
А.И. Соловьёв не отрицает связи тоталитаризма с глубоким кризисом общества. «В целом, – пишет он, – тоталитаризм явился одной из тех альтернатив,
которые были у стран, оказавшихся в условиях системного (модернизационного) кризиса» [17, с. 251]. Но вместе с тем он пытается убедить читателя, что
«социальная база тоталитарных режимов узка» [17, с. 259] и что «в качестве
основных социальных источников формирования тоталитарной системы власти
выступали широкие слои маргиналов… именно маргинальные и люмпенизированные слои были главным источником массового распространения уравнительно-распределительных отношений, настроений пренебрежения к богатству,
разжигания социальной ненависти к зажиточным, более удачливым слоям
населения» [17, с. 251].
При такой постановке проблемы тот, кто будет обучаться по аналогичного
рода пособиям, никогда, конечно, не поймёт, почему Х. Арендт почти в самом
конце своей знаменитой работы написала: «Тоталитарные решения могут спокойно пережить падение тоталитарных режимов, превратившись в сильный соблазн, который будет возобновляться всякий раз, когда покажется невозможным смягчить политические и социальные проблемы или ослабить экономические страдания способом, достойным человека» [1, с. 596].
Поскольку политическая наука как отдельная дисциплина в нашей стране
очень молода, отечественные политологи, независимо от их биологического
возраста, продолжают оставаться «юными», что усугубляет проблему создания
учебных пособий, освещающих все основные политологические проблемы на
высоком профессиональном уровне. В этих условиях выходом, на наш взгляд,
является подготовка учебников коллективами профессионально специализированных авторов.
Литература
1. Арендт Х. Истоки тоталитаризма [1951] / пер. с англ. М., 1996. 672 с.
2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм [1965] / пер. с фр. М., 1993. 303 с.
3. Борозняк А.И. Преодоление тоталитарного прошлого в Германии и в России: попытка критического сопоставления // Россия и Германия в ХХ веке: две тоталитарные диктатуры, два пути к демократии. Кемерово, 2001. С. 363–373.
4. Буллок А. Гитлер и Сталин: Жизнь и власть: Сравнительное жизнеописание: в 2 т.
Т. 1. [1991] / пер. с англ. Смоленск, 1994. 528 с.
5. Буллок А. Гитлер и Сталин… Т. 2. / пер. с англ. Смоленск, 1994. 672 с.
6. Гаджиев К.С. Тоталитаризм как феномен ХХ века // Вопросы философии. 1992. № 2.
С. 3–25.
7. Гидденс Э. Социология / при участии К. Бердсолл: пер. с англ. 2-е изд., полностью
перераб. и доп. М., 2005. 632 с.
8. Дякин В.С. «Век масс» и ответственность классов (Вопрос о классовой сущности
фашизма в западногерманской историографии) // Критика новейшей буржуазной историографии: сб. статей. Л., 1967. 380 с.
9. Желев Ж. Тоталитарное государство [1967] / пер. с болг. М., 1991. 336 c.
10. Загладин Н.В. Тоталитаризм и демократия: конфликт века // Кентавр. 1992. Май–
июнь. С. 3–18.
174
11. Лаптева М.П. Методологический анализ тоталитарной политической культуры //
Россия и Германия в ХХ веке… С. 47–53.
12. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого Индустриального Общества [1964] / пер. с англ. М., 1994. 368 с.
13. Михайленко В.И. Тоталитаризм: эвристический потенциал научного понятия // Россия и Германия в ХХ веке… С. 15–33.
14. Горелов А.А. Политология в вопросах: учебное пособие. М., 2009. 256 с.
15. Политология: учебник / под ред. М.А. Василика. М., 2003. 592 с.
16. Слободской С.М. Итальянский фашизм и его крах. М., 1946. 207 с.
17. Соловьёв А.И. Политология: Политическая теория, Политические технологии.
учебник для ст-в вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 575 с.
18. Стариков Е. Перед выбором // Знамя. 1991. № 5. С. 225–233.
19. Тольятти П. Лекции о фашизме. М., 1974. 200 с.
20. Хейвуд Э. Политология [2002] / пер. с англ. М., 2005. 544 с.
21. Шлезингер А.- мл. Циклы американской истории [1986]. М., 1992. 688 с.
175
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАУДСОРСИНГ
КАК ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА,
БИЗНЕСА И ВЛАСТИ1
С.В. Шакарбиева
канд. филос. наук, доцент
Волгоградской академии последипломного образования
Сегодня более очевидной становится актуализация политического проектного менеджмента, все интенсивнее вбирающего в себя методы и технологии,
еще недавно применявшиеся лишь в бизнесе или в социальной сфере. Бесспорно, это связано с усилением научного компонента при постановке и решении
социально-политических проблем современного общества.
По мнению Афонасовой А.В., в большинстве экономически развитых
стран, со стабильно функционирующими политическими институтами проектная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть государственной политики по повышению эффективности государственного управления общественными практиками и процессами развития институтов гражданского общества, инвестициями «человеческого капитала» в современную политику, экономику и культуру [1].
По объективным причинам, в современной России политический проектный
менеджмент, имевший свои уникальные особенности в советский период, последние двадцать пять лет развивался с явным отставанием от общемировых
тенденций в этой сфере. Такие изменения связываются, прежде всего, с общим
ослаблением роли государства и, соответственно, неспособностью долгосрочного стратегического проектирования, как в области бизнеса и социальной сфере,
так и по многим собственно политическим направлениям развития социума.
Говоря об уникальных особенностях политического проектного менеджмента в советский период, прежде всего, имеем в виду глобальную пропаганду
конкретных ценностей, с вовлечением большинства граждан СССР в решение
провозглашаемых задач, как технологию. Например, одной из важных социально-политических позиций являлась задача популяризации рабочих специальностей, решению которой были подчинены практически все отрасли деятельности: СМИ, ЖКХ, образование…; льготные условия по всем возможным направлениям – от профсоюзных путёвок до уровня заработной платы квалифицированных рабочих. Казалось бы, это не в полной мере краудсорсинг, однако, учитывая отклик «снизу», наблюдалась массовая поддержка государственной политики через деятельность. Логично, этот командный пропагандистский механизм был обречен на отмирание с развалом Советского Союза в то время, как
мог переродиться в соответствующий времени демократический способ открытой инициативной интеграции «общество-бизнес-власть» с похожими задачами.
Подобные технологии уже очень давно используются, например, в американ© Шакарбиева С.В., 2016
176
ском кинематографе (подобно советскому опыту), где наблюдаем создание
огромного количества кинопродукта, например, о супер-людях, о конкретных
популярных и востребованных профессиях и т.д. На этом выстраивается диалог, завязанный, прежде всего, на государственном заказе и удовлетворяющий
его политические интересы. В таком диалоге главное – реакция со стороны потребителя данного продукта, который на определенном этапе вполне может
стать его производителем.
В данной статье мы обращаемся к наиболее современной социальнополитической технологии – краудсорсингу, так как политические процессы, как
в России, так и общемирового масштаба во многом не могут рассматриваться
как уникальные по той лишь причине, что границы между понятиями «внутренняя коммуникация» и «внешняя коммуникация» размываются с непредсказуемой скоростью. Поэтому для начала необходимо понять, что именно имеется в виду под термином «краудсорсинг».
Наиболее популярным определением понятия «краудсо́рсинг» (англ.
crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing – «использование ресурсов») является следующее – это привлечение к решению тех или иных проблем инновационной производственной деятельности широкого круга лиц для использования
их творческих способностей, знаний и опыта по типу субподрядной работы
на добровольных началах с применением инфокоммуникационных технологий.
Краудсорсинг применим к решению той или иной проблемы с привлечением
группы людей в режиме онлайн, так что в проекте потенциально участвуют тысячи человек. Этот метод часто используют для получения массовых отзывов
на тот или иной продукт [2].
Самым распространенным сегодня остается бизнес-краудсорсинг, так как
именно в сфере бизнеса чаще всего возникают задачи, при выборе решений которых лучше всего опираться не на единственный вариант, а на их множество,
и выбирать оптимальный. Примеры краудсорсинга в бизнесе весьма разнообразны: разработка слогана для рекламной кампании, разработка дизайна обложки музыкального альбома и многое другое [3].
Важно понимать, что решение задач бизнеса укладывается в понятие «корпоративная политика», а она, в свою очередь, не должна противоречить соответствующим законом, поддерживающих государственность. Поэтому интересы общества, реализующиеся в области бизнеса, всегда прямо или косвенно
связаны с задачами политической власти, осуществляемыми в долгосрочной
перспективе. А именно, в перспективе макро- и микро- политэкономических и
социально-политических стратегий.
Исходя из того, что политика связана с вопросами и событиями общественной жизни, отражающими функционирование государства, в данном контексте не обойтись и без понятия «социально-общественный краудсорсинг».
Этот вид краудсорсинга опирается на решение любых задач, связанных с общественно значимыми вопросами и социальной жизнью людей. Это и научные задачи, и поиск без вести пропавших людей, строительство детского сада или
другого объекта общими усилиями или различные благотворительные проекты.
177
Из данной характеристики понятно, что краудсорсинг, способный охватывать многочисленные аудитории, неизбежно применим и в области решения
различных политических задач. Поэтому сравнительно недавно появилось понятие политического краудсорсинга (там же), куда пока попадают проекты,
связанные с выяснением мнения о тех или иных действиях государства. Обычно этот вид краудсорсинга осуществляется в режиме голосования с использование Интернет-технологий.
Таким образом, задания, которые можно выполнять посредством политического краудсорсинга, кроме уже перечисленных, можно определить следующим образом:
– создание политического продукта;
– поиск оптимального решения в каком-либо социально-политическом вопросе;
– сбор и обработка необходимой информации;
– выяснение мнений о политических действиях или продуктах и т.д.
Если к привлечению решения подобного рода задач возможно, даже гипотетически, привлекать многочисленные аудитории, то встает вопрос об определении краудсорсингового пространства, в рамках которого формируется механизм ускоренного превращения толпы в публику. А учитывая мнения противников применения краудсорсинга для решения каких-либо задач, считающих,
что толпа не способна прорабатывать важные проблемы (там же), то вопрос создания специального пространства встает весьма остро.
Таким образом, под краудсорсинговым пространством предлагаем понимать интеграцию виртуального и реального пространств, где границы (физические или культурные) перестают иметь значение, во всяком случае, на время
реализации конкретной задачи. В этом пространстве краудсорсинг выполняет
следующие функции:
– информационную;
– образовательную;
– воспитательную;
– коммуникационную;
– компетентностную.
По итогам реализации того или иного краудсорсингового проекта участники получают не только знания, умения, навыки в социальной и бизнес сферах,
но и осознают необходимость конкретных политических условий (ситуации),
при которых максимально реализуется отдельно взятая личность. Следовательно, количество людей, четко понимающих, как именно взаимодействуют общество, бизнес и власть, растет в прогрессии, благодаря краудсорсингу.
И здесь нельзя не упомянуть тот факт, что задолго до появления понятия
краудсорсинга, функции его как технологии рассматривались многими мыслителями, среди которых хотелось бы выделить работу Г. Тарда «Общественное
мнение и толпа», в которой ученый обращаясь к важности понятия «разговор»,
пишет: «...среди этих действий, в результате которых появляется мнение, мы
станем искать самое общее и постоянное, то без труда убедимся, что таковым
178
является разговор, элементарное, социальное отношение, совершенно забытое
социологами…» [4, с. 3].
Сравнивая высказывание Г. Тарда с современностью, отметим, что разговор, который часто теперь ведут политики с народом, внешне носит форму диалога (например, во время пресс-конференций), что создает у людей впечатление
некоторого «присоединения» к обсуждаемым проблемам. Однако вопрос здесь
заключается в том, насколько подобные «разговоры» влияют на формирование
мнения. И насколько это мнение устойчиво. Может быть, следует предположить, что любое мнение устойчивее тогда, когда публика сама создает историю, в которую и верит, что собственно и производит краудсорсинг.
Как это не удивительно, но у Г. Тарда находим буквально предсказание
возникновения технологии, которую теперь мы именуем краудсорсингом:
«Полная история разговора у всех народов во все времена была бы в высшей
степени интересным документом социального знания; и если бы все трудности,
которые представляет этот вопрос, удалось победить с помощью коллективной
работы многочисленных ученых, то нет сомнения, что из сопоставления фактов,
полученных по этому вопросу у самых различных между собою народов, выделился бы большой запас общих идей, которые позволили бы сделать
из сравнительного разговора настоящую науку, немного уступающую сравнительной религии, сравнительному искусству и даже сравнительной промышленности, иначе говоря политической экономии» (там же).
Из данного высказывания становятся очевидными изменения, произошедшие за последние сто с лишним лет. Благодаря современным информационным
и другим технологиям стало абсолютно возможным как раз «выделение большого запаса общих идей, которые позволяют делать из сравнительного разговора настоящую науку» (см. выше), а в действительности «настоящие науки»,
связанные с изучением особенностей массовой коммуникации и доказывающих
верность понимания Г. Тардом различий в трактовке толпы («Толпа – это социальная группа прошлого; после семьи она самая старинная из всех социальных групп. Она во всех своих видах – стоит ли или сидит, неподвижна или
движется – не способна расширяться дальше известного предела; когда ее вожаки перестают держать ее in manu, когда она перестает слышать их голос, она
распадается» [4, с. 5]) и публики («…Но публика бесконечно растяжима, и так
как по мере ее растяжения ее социальная жизнь становится более интенсивной,
то нельзя отрицать, что она станет социальной группой будущего. Таким образом, благодаря соединению трех взаимно поддерживающих друг друга изобретений: книгопечатания, железных дорог и телеграфа, приобрела свое страшное
могущество пресса, этот чудесный телефон, который так безмерно расширил
древнюю аудиторию трибунов и проповедников. Итак, я не могу согласиться с
смелым писателем, д-ром Лебоном, заявляющим, что наш век – это «эра толпы». Наш век – это эра публики или публик, что далеко не похоже на его
утверждение» [4, с. 6]).
Рассуждения Г. Тарда о толпе, публике и способах превращения первой во
вторую, предвосхитившие Интернет, сегодня можно назвать пророческими и в
плане рождения краудсорсинговых технологий, потому что в основе такого
179
«превращения» лежит стихийная образованность людей, которые обладают
возможностями просвещаться независимо от кого и чего-либо. Необходимым и
достаточным условием для того, чтобы, например, быть услышанными являются лишь ординарные умения и навыки, связанные с современными технологиями доступными каждому.
В политике, как считает А.В. Курочкин в связи с широким распространением сетевых структур и методов координации взаимодействия, существенные
изменения произошли в технологиях политической мобилизации граждан, кардинальном расширении способов политического участия, изменении роли и
функций национального государства: «Национальное государство начинает
существовать как минимум в двух измерениях: глобальном и локальном. В результате образуется новая форма государства – так называемое сетевое государство, в котором принятие решений есть результат сложного процесса переговоров и согласований на всех уровнях. В этот процесс оказываются вовлеченными центральное правительство, субнациональные органы государственной власти, международные институты, местное самоуправление и неправительственные организации. Таким образом, государство начинает функционировать как сеть» [5, с. 119].
Благодаря краудсорсингу, новые технологии реально повысили прозрачность и открытость процесса принятия решений, значительно оптимизировали
информационный обмен, открыли новые возможности для вовлечения граждан
в политический процесс и, прежде всего, расширили возможности демократического участия [6, с. 1].
Отсюда следует, что краудсорсинг способен не только привлекать желающих реализоваться в том или ином виде деятельности или политического участия, но и создает масштабные (пространственные) условия для вовлечения образованных, разумных, современно мыслящих людей в решение задач государства посредством общественной, политической или бизнес-активности.
Краудсорсинг с огромной скоростью становится полит-технологией, так
как сетевое пространство буквально заставляет взаимодействовать общество,
бизнес и власть. По всей вероятности, такая его популярность все-таки связана
с изначально заложенным в нем механизме признания профессионализма, таланта или способностей огромного количества людей.
Тема краудсорсинга практически не проработана в науке, однако Джеф
Хау в своем замечательном труде «Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса» обращает внимание на тот факт, что «…как бы ни
было велико число добровольцев, с удовольствием принимающих участие в
конкурсах, главное здесь не деньги. Главный стимул – вызвать к себе уважение
или, выражаясь современным языком, речь идет о зарождающейся экономике
репутации, когда люди делают ту или иную работу в надежде получить признание от сообщества коллег – будь то художники, ученые или компьютерные хакеры» [7, с. 9]. А это уже вопрос «человеческого капитала», понимаемого как
совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения
многообразных потребностей человека и общества в целом.
180
Постановка вопроса о том, применим ли краудсорсинг как полит-технология в России, возможна лишь при четком понимании того, в каком состоянии
находится «человеческий капитал» в нашей стране. Аналитическая группа Всемирного экономического форума опубликовала результаты рейтинга стран по
Индексу развития человеческого капитала (Human Capital Index 2015). В исследовании, охватившем 124 страны, учитывались 46 показателей, которые отражали состояние четырех сфер: образование и профессиональная подготовка,
физическое и психологическое здоровье, занятость и трудоустройство, правовая защита и социальная мобильность. Возглавили рейтинг скандинавские
страны, а Россия заняла в рейтинге 26-е место, опередив все страны СНГ [8].
Данные исследования говорят о том, что вовлечение большого количества
людей к решению конкретных задач общества, бизнеса или власти вполне может оказаться рациональным и иметь свои позитивные особенности по той
лишь причине, что россияне достаточно образованы, чтобы полноценно участвовать в краудсорсинговых проектах таких, как, например, создание и голосование за символы Олимпиады в Сочи, которые, войдя в историю мирового
олимпийского движения, играют серьёзную роль по развитию имиджа страны
на международной арене.
Таким образом, краудсорсинг – это еще и технология создания пространства делегированных обязательств, где, как было сказано выше, желающим
передаётся право предложить решение конкретной задачи; доверяется предоставить варианты рационального подхода к той и иной проблеме, будь то проблема бизнеса, общества или власти.
Кроме этого, краудсорсинг как политтехнология обладает способностью к
само-мониторингу, когда результаты проведённых работ, также с помощью
привлечённых желающих проявить себя в данном направлении, исследуются и
предлагаются в готовом виде заказчику. Так краудсорсинг формирует новую
сферу интеграции бизнеса, общества и власти, в которой неравнодушных и заинтересованных людей (публика) больше, чем индиферентно настроенных
наблюдателей (толпа).
Границы такой сферы или, как мы предлагаем называть ее, краудсорсингового пространства, определяются не линиями на карте, а количеством участников грандиозного созидательного процесса, формирующего собственно публику, т. е. высоко компетентных и информированы людей, способных вести
грамотный диалог в огромном пространстве инициатив. Следовательно, краудсорсинговое пространство – это еще и пространство инициатив, открывающие
безграничные возможности для бизнеса, общества и власти.
С этой позиции краудсорсинг представляется полноценной полит-технологией, насыщенной социокультурным и экономическим содержанием, способной прогнозировать важные для государства возможности и выстраивать стратегические шаги по их реализации. При этом, будучи глобальной, данная технология индивидуально ориентирована, что не маловажно при формировании
диалога «общество-бизнес-власть».
Так, например, автор книги «Краудсорсинг для демократии: новая эра в
принятии политических решений» Таня Аитамурто (Tanja Aitamurto) рассматривает применение краудсорсинга при выработке политического курса. В книге
181
приведены примеры использования краудсорсинга в политике в разных странах, на основании которых анализируется роль карудсорсинга в демократии [9].
Основную ценность для нас это исследование представляет в контексте составляющих успешного краудсорсинга и сложностей реализации краудсорсинговых мероприятий.
В частности, говоря о составляющих успешного краудсорсинга, Таня Аитамурто описывает восемь четких позиций, которые наглядно характеризуют
проектную его сущность: определение конечной цели и шагов ее достижения;
коммуникация; простой интерфейс; управление краудсорсинговым проектом;
продолжительность проекта; мероприятия; анализ и мониторинг проекта и вовлеченность в проект.
Пока еще краудсорсинг остается относительно новым и непривычным инструментом, но имеет потенциал стать нормой. Результаты исследований о
применении краудсорсинга в политике свидетельствуют о том, что граждане
хотят влиять на политику и использовать для этого цифровые инструменты.
По мнению Тани Аитомурто, краудсорсинг, наряду с другими инструментами, создает новые возможности для гражданской активности в политике. Это
новый способ достичь цели – демократического, равноправного общества, в котором каждый может быть услышан (там же).
Подводя итог, отметим, что краудсорсинг можно считать сегодня одной из
эффективнейших технологий политического проектного менеджмента, где
управление – это самоорганизующийся процесс с учетом интересов каждого
его участника.
Литература
1. Афонасова А.В. Политическое проектирование как ресурс современной российской
модернизации: автореф. дис. канд. полит. наук. Саратов, 2013.
2. Краудсорсинг // ВикипедиЯ. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80,
(дата обращения: 26.03.2016).
3. Что такое краудсорсинг. URL: http://dengodel.com/interesting/145-chto-takoekraudsorsing.html (дата обращения: 26.03.2016).
4. Тард Г. Общественное мнение и толпа. Изд-во Т-ва типографии А. И. Мамонтова, М.,
1902 (с приведением текста к нормам современного русского языка). Институт психологии
РАН, Изд-во «КСП+», 1999. 414 с.
5. Курочкин А. В. Теория политических сетей: предпосылки становления и место в современной политической науке // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота,
2011. № 8. Ч. III. C. 117–119.
6. Курочкин А.В. Краудсорсинг как новый метод политического управления в условиях
сетевого общества. URL: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2013_9-1_21.pdf (дата обращения: 29.03.2016).
7. Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Издво: Альпина Паблишер, 2012. 288 с.
8. Человеческий капитал в России и в мире. URL: http://rusrand.ru/sociology/
-chelovecheskiy-kapital-v-rossii-i-mire (дата обращения: 29.03.2016).
9. Аитамурто Т. Краудсорсинг для демократии: новая эра в принятии политических
решений.
URL:
https://te-st.ru/2013/05/28/crowdsourcing-for-democracy-new-era-in-policymaking/ (дата обращения: 30.03.2016).
182
Секция 3
ОСОБЕННОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ПОЛИТИКА ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ:
ВОПРОСЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ1
Т.Н. Дмитриева
начальник отделения содействия интеграции и адаптации мигрантов
отдела по работе с иностранными гражданами УФМС России по г. Москве,
член Экспертного совета Общественной палаты г. Москвы
Всеобъемлющие процессы глобализации подвергают испытанию национальную идентичность многих государств. Страны, принимающие значительные миграционные потоки, поставлены перед необходимостью выработки гармоничной модели взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом. Именно в этой области миграционная политика Российской Федерации,
направленная на удовлетворение потребностей экономического, социального и
демографического развития страны, смыкается с государственной национальной политикой, призванной обеспечить гражданское единство в условиях культурного и конфессионального разнообразия. Таким образом, миграционные потоки «являются значительной частью системы социально-экономического, демографического, этнокультурного развития государства и обеспечения его
национальной безопасности» [1, с. 162].
Политика интеграции мигрантов в качестве составляющей национальной
политики и миграционной политики безальтернативна для России. Ассимиляционистские политики не приемлемы по гуманитарным соображениям, мультикультурные политики западных стран, по сути, являющиеся сепарацией мигрантов, неэффективны. Одна из характеристик политики интеграции состоит в
том, что иммигранты уважают фундаментальные нормы и ценности принимающей страны и активно участвуют в процессе интеграции без потери своей
собственной идентичности [2, с. 5]. Такая характеристика вполне коррелируется с двуединой задачей создания общероссийской гражданской нации и этнокультурного развития всех народов Российской Федерации, сформулирован© Дмитриева Т.Н., 2016
183
нойв Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года [3].
Изучив современное состояние миграционной политики и управления миграционными процессами, В.А. Волох перечисляет «несовершенство институционального, инструментального и законодательного обеспечения миграционной политики» вряду наиболее острых недостатков, препятствующих реализации государственной миграционной политики [1, с. 169]. Представляется, что
касательно реализации политики интеграции этотвопросвесьма актуален.
Федеральным законом от 22 октября 2013 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» определено, что органы
государственной власти субъектов Российской Федерации уполномочены осуществлять меры по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия; предотвращению дискриминации по признакам национальной, языковой или религиозной принадлежности; социальной и культурной адаптации
мигрантов [4]. Учитывая тот факт, именно политика интеграции рассматривается как оптимальная модель этнокультурной организации общества в условиях
миграционного притока, не логично ограничивать полномочия органов государственной власти на местах исключительно осуществлением мер по адаптации мигрантов. Необходимо внести соответствующие изменения в указанный
законодательный акт, дополнив полномочия мерами по интеграции мигрантов.
До настоящего времени находится в стадии обсуждения макет профессионального стандарта «Специалист по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений». Профессиональный стандарт должен содержать трудовые функции в области управления и координации деятельности по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе, адаптации
и интеграции мигрантов. Автор статьи является постоянным участником межведомственных совещаний, посвященным данному вопросу, последнее состоялось в ФАДН 25 марта 2016 года.
В феврале 2014 года Федеральной миграционной службой России предложен проект Федерального закона «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», который направлен
на регулирование общественных отношений в данной сфере. Проект до настоящего времени не принят, в связи с чем, законодательно не закреплены функции и полномочия органов государственной власти всех уровней в области
адаптации и интеграции, не определен федеральный орган исполнительной
власти – координатор деятельности в данной сфере [5].
С 01 января 2015 года вступил в силу федеральный закон от 20.04 2014 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который рассматривался как эффективный механизм мотивации иностранных граждан к изучению
русского языка, истории России и основ законодательства.
184
В течение 2013, 2014 и 2015 гг. автором статьи проводился мониторинг
курсов русского языка и культуры для иностранных граждан. Результаты мониторинга представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты мониторинга курсов русского языка и культуры для
иностранных граждан за 2013–2015 гг.
2013
2014
2015
общее число
адаптационных
площадок
28
41
33
из них
учебные
общественные
заведения
объединения
21
7
15
26
27
6
из них
платные
10
8
28
число
прошедших
обучение,чел.
500
800
2700
Как видно из таблицы, всего в течение трех лет обучение прошло 4000
иностранных граждан. В московском Многофункциональном миграционном
центре в 2015 году оформлено 450 тысяч патентов [6].Следовательно, 450 тысяч иностранных граждан представили необходимые документы об образовании, включая соответствующие сертификат либо документ о прохождении
комплексного экзамена. Таким образом, число иностранцев, обучившихся на
курсах в 2013–2015 гг. составляет менее процента от числа оформивших разрешительные документы на право трудовой деятельности в Москве в соответствии с новыми правилами.Анализ состояния инфраструктуры для адаптации и
интеграции мигрантов в Москве, в целом, позволяет сделать вывод о низкой
индивидуальной мотивации временных трудовых мигрантов к изучению русского языка и культуры [7, с. 122].Сегодня,Федеральный закон от 20.04 2014
года № 74-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»приходится рассматриватьне как эффективный инструмент мотивации иностранных граждан к
освоению русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации, а как один из факторов регулирования трудовой миграции.При отсутствии мотивации иностранных граждан к обучению на адаптационных курсах, соответствующая инфраструктура развиваться не может. Недостаточен для этого и временной интервал, отведенный законодателем для
оформления разрешительных документов на работу. Таким образом, предвыездная подготовка в странах – донорах должна стать основной составляющей
процесса социокультурной адаптации иностранных граждан, планирующих
осуществление трудовой деятельности в РФ.
Тем не менее, актуальность мероприятий по включению в социум мигрантов, длительное время находящихся, либо проживающих в России, не вызывает
сомнений. Для указанной категории мигрантов недостаточен уровень адаптации трудовых мигрантов, необходимо не только знание русского языка, истории России и основ законодательства на уровне теста, но и освоение норм и
правил поведения, понимание и уважение культуры и традиций принимающего
сообщества.
185
В 2015 году в столице зарегистрировано по месту жительства 28 807 иностранных граждан и лиц без гражданства, что больше на 16,6 %, чем в прошлом
году. Всего, временно и постоянно в г. Москве проживает 54 456 иностранных
граждан или 0,44% от постоянного населения Москвы [8].
Включение в социум на уровне интеграции востребовано для определенной части вынужденных мигрантов. По состоянию на 31 декабря 2015 года на
учете в Управлении Федеральной миграционной службы по г. Москве состояло
415 человек, имеющих статус беженца. Свободно владеют русским языком 40%
беженцев, имеют высшее или среднее образование – 68 %. Как получившие
временное убежище учтены 4 383 человека, преимущественно граждане Украины. Подавляющее большинство (83,5 %) свободно владеют русским языком,
78,2 % имеют высшее или среднее образование [8].
В связи с расширением ЕАЭС появилась новая категория иностранных
граждан, длительное время находящихся на территории РФ, это члены семей
трудящихся мигрантов (жены и дети), которые в соответствии с положениями
Договора о Евразийском экономическом союзе могут находиться на территории
РФ на срок действия трудового или гражданско-правового договора трудящегося
мигранта. В основном, речь идет о гражданах Республики Кыргызстан, как
наиболее многочисленных, так и, возможно, наименее интегрированных в российский социум по сравнению с гражданами из других стран-участниц ЕАЭС.
На 31 декабря 2015 года в г. Москве находилось 1455000 иностранных граждан.
Большинство – иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получение визы (84,1 %), их них граждане Кыргызстана
составили 14,3 % [8]. Если произвести вычисления, то к началу 2016 года в столице находилось свыше 175000 граждан среднеазиатской республики.
Важнейшая категория участников интеграционного процесса – это дети
мигрантов, легально находящихся на территории субъекта. Включение детей
мигрантов в российский образовательно-воспитательный процесс– стратегическая задача: от результатов ее решения зависит и качественный уровень демографического потенциала страны, и состояние межнациональных отношений.
Произведем приблизительную оценку включенности детей мигрантов в российский образовательно-воспитательный процесс на примере киргизской диаспоры
Москвы. Выше изложены аргументы, обуславливающие интерес именно к этому сообществу. В связи с тем, что Управление Федеральной миграционной
службы по г. Москве не публикует сведения по половозрастному составу находящихся на территории иностранных граждан, представляется возможным произвести приблизительную оценку численности находящихся на территории
Москвы детей-граждан республики Кыргызстан путем корреляции с общероссийскими данными. Сведения в отношении граждан Киргизии, находящихся на
территории Российской Федерации, в половозрастном разрезе представлены в
таблице 2 [9].
Таким образом, несовершеннолетние граждане Киргизии составляют до
18 % от численности всех мигрантов из этой республики на территории России.Экстраполяция полученного соотношения на московскую статистику позволяет предположить, что на территории города к началу 2016 года могло
186
находиться порядка 30000 детей – граждан Киргизии. В тоже время, из 25357
иностранных граждан, обучавшихся в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы в 2014–2015 годах,
гражданство Киргизии имеют 3128 человек [10].
Таблица 2
Сведения в отношении граждан республики Кыргызстан,
находящихся на территории Российской Федерации,
в половозрастном разрезе (информация на 12 января 2016 года)
Пол
мужчины
женщины
итого
до 17 лет
57 157
42 487
99644
18–29
лет
163 856
92 366
256222
Возраст
40–49
лет
36 352
26 847
63199
30–39
лет
60 126
42 179
102305
50–59
лет
13 090
11 183
24273
старше
60 лет
2 962
5 305
8267
итого
333543
220367
553910
Интеграционные практики могут быть востребованы у трудовых мигрантов, получивших разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности и мотивированных к дальнейшему повышению своих компетенций.
Для указанных категорий мигрантов не существует препятствия в виде
ограничения временного интервала для участия в мероприятиях по интеграции,
актуальна лишь проблема мотивации. Юдина Т.Н., обобщая интеграционный
опыт европейских стран, приходит к выводу о целесообразности использования
в качестве одного из инструментов интеграции – интеграционных контрактов.
Интеграционные контракты сосредоточены на интеграции как индивидуальном
процессе, в котором новый мигрант несет ответственность за его интеграционный успех в принимающем обществе, мигрант имеет не только права, но обязанности по уровню своей интегрированности [11]. В проекте закона «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» предусмотрены два вида контрактов: адаптационный и интеграционный. Опыт применения нового миграционного законодательства с 01
января 2015 года в Москве свидетельствует о том, что адаптационный контракт,
вероятно, востребован не будет. К составлению интеграционного контракта
необходимо подходить дифференцировано, учитывая категорию мигрантов –
одну из сторон договора.
Так, вынужденные мигранты, ходатайствующие о признании беженцем
либо о получении временного убежища, могли бы заключать интеграционный
контракт, предметом которого стало бы посещение соответствующих бесплатных курсов, как необходимого условия получения статуса.
Для членов семей трудящихся мигрантов из стран-участниц ЕАЭС можно
было бы предложить контракт, заключаемый при поступлении ребенкаиностранца в школу, обязывающий одного из родителей посетить определенные интеграционные мероприятия. Гарантом исполнения такого контракта
могло бы выступить национальное объединение, например, национально-культурная автономия,как проводник политики интеграции.
187
Эффективным инструментом политики интеграции должно послужить
Постановление Правительства РФ «О балльной системе отбора иностранных
граждан и лиц без гражданства, желающих получить разрешение на постоянное
проживание в Российской Федерации», проект которого разработан ФМС
России в августе 2015 года [12]. Целевая аудитория проекта – иммигранты.
15 марта Московском доме национальностей состоялось расширенное заседание Комиссии по миграционным вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.Федеральное агентство по
делам национальностей представило проект подпрограммы «Социокультурная
адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации» в рамках разрабатываемой Федеральным агентством по делам национальностей Государственной программы по реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Планируемый срок реализации документа – 01.01.2017 года по 31.12.2025 года. Подпрограмму планируется реализовать посредством
комплекса мероприятий, направленных на снижение социальной и культурной
дистанции между иностранными гражданами и коренным населением [13].
Для обеспечения эффективности запланированных мероприятий необходимо:
– доработать механизмы реализации государственной национальной и миграционной политики Российской Федерации в сфере социальной и культурной
адаптации и интеграции иностранных граждан;
– определить категориииностранных граждан-акторов политики интеграции;
– разработать реальные инструменты мотивации иностранных граждан к
участию в интеграционных мероприятиях.
Литература
1. Волох В.А. Новая Россия: политика и управление миграционными процессами; монография. Самара: Издательский Дом «Бахран-М», 2015. 192 с.
2. Мукомель В.И. Политика интеграции мигрантов в России: вызовы, потенциал, риски:
рабочая тетрадь. М.: Спецкнига, 2013. 33 с.
3. Мнение эксперта: Владимир Зорин // Федеральное агентство по делам национальностей. URL: http://fadn.gov.ru/news/2015/12/22/2565-vladimir-zorin (дата обращения: 29.03.2016).
4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений: Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153536 (дата обращения:
29.03.2016).
5. О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации (проект) // Федеральная миграционная служба. URL: https://77.fms.gov.ru/
documents/projects/item/1623/ (дата обращения: 29.03.2016).
6. В Москве вручили 450-тысячный трудовой патент мигранту // Многофункциональный миграционный центр города Москва. URL: http://mc.mos.ru/presscenter/news/detail/
2435276.html (дата обращения: 29.03.2016).
7. Дмитриева Т.Н. Состояние и перспективы развития инфраструктуры для социальной
и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Москве // Государство, власть,
188
управление и право: история и современность: материалы 5-й Всероссийской научнопрактической конференции. М.: Государственный университет управления, 2015. С.117–121.
8. Показатели деятельности // Управление Федеральной миграционной службы по
г. Москве: официальный сайт. URL: https://77.fms.gov.ru/about/Pokazateli (дата обращения:
29.03.2016).
9. Сведения в отношении иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, в половозрастном разрезе (по состоянию на 12 января 2016 г.) // Добрососедство. URL: http://www.dobro-sosedstvo.ru/dobro/ru/etc/o_53245 (дата обращения:
29.03.2016).
10. Об обучении иностранцев в образовательных организациях Москвы (Проект «Реальная миграция») // Добрососедство. URL: http://www.dobro-sosedstvo.ru/dobro/ru//
information/o_51098 (дата обращения: 29.03.2016).
11. Юдина Т.Н. Адаптационные и интеграционные контракты: опыт стран иммиграции
для России // АШПИ. URL: http://ashpi.asu.ru/ic/?p=2851 (дата обращения: 29.03.2016).
12. О балльной системе отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих получить разрешение на постоянное проживание в Российской Федерации: Проект Постановления Правительства РФ // Федеральный портал проектов нормативных актов. URL:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=39144 (дата обращения: 29.03.2016).
13. ФАДН России представило проект Подпрограммы по социокультурной адаптации и
интеграции мигрантов в Российской Федерации // ФАДН. URL: http://fadn.gov.ru/news/
2016/03/15/2665 (дата обращения: 29.03.2016).
189
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ1
И.К. Жуков
канд. полит. наук, доцент
кафедры политологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Руководство Российского государства регулярно применяло мобилизационную модель развития по причине в том числе наличия внешних негативных
факторов. Поставленная в ситуацию выживания и борьбы, страна напрягала все
ресурсы для достижения поставленных целей. Вехой перехода к подобной модели можно считать 2014-2015 гг., когда Россия и Запад перешли от попыток
кооперации к конфронтации и взаимным экономическим санкциям. Российским
руководством был провозглашён курс на импортозамещение, то есть страна
вновь перешла к мобилизации – с тем лишь отличием от предыдущих эпох, что
некоторая роль в планировании и реализации данного кура отведена и регионам. В каком-то смысле настоящая ситуация является проверкой государственной власти федерального и регионального уровней – насколько подготовлена
база для ускоренного развития ключевых отраслей отечественной экономики.
Несмотря на то, что Владимир Путин говорил об импортозамещении ещё в
2009 г., данная тема стала актуальной с 2014 г., когда зарубежные страны и
Россия ввели обоюдные экономические санкции, максимально остро актуализировавшие вопрос самообеспечения.
Слово «санкции» приобрело почти ритуальное значение, поэтому необходимо определиться, последствия чего предстоит преодолеть регионам (ниже
приведены не все негативные меры, а лишь актуальные для экономики в целом,
поэтому, например, персональных санкций в списке нет):
1. Западные санкции.
1.1. Банковские (ограничение внешнего кредитования, приостановка финансирования проектов).
1.2. Нефтегазовые (запрет инвестиций в добычу нефти, газа, минералов;
запрет поставок оборудования для добычи и оказания нефтесервисных услуг).
1.3. Оборонные (запрет на экспорт и импорт оружия и техники и технлогий
двойного назначения, в т.ч. электроники для космических ракет).
2. Российские контрсанкции.
2.1. Продуктовое эмбарго (самое заметное и тяжёлое именно для российских граждан).
2.2. Ограничение закупок лекарств.
3. Украинско-российские санкции.
3.1. Ограничение поставок комплектующих для двигателей, а также микроэлектроники для ракетно-космической промышленности, самолёто- и вертолётостроения.
© Жуков И.К., 2016
190
4. Антитурецкие санкции
4.1. Запрет на поставки овощей, фруктов, ягод, мяса птицы, соли, трикотажа, запрет строительного, туристического, гостиничного бизнеса. Запрет привлекать граждан Турции к осуществлению строительных проектов. Обсуждается запрет на поставки продукции лёгкой промышленности.
Эти санкции можно назвать полноценными. Они распространяются не
только на бизнес, находящийся в турецкой юрисдикции, но и на контролируемый гражданами этой страны (так что перенести производство под видом «инвестиций в экономику региона» вряд ли получится).
Кроме того, целесообразно указать ограничение туристических поездок в
Египет (санкциями не является, однако имеет аналогичный эффект).
Туризм нельзя считать импортом, однако данная отрасль экономики также
нуждается в импортозамещении. Так, въездной туризм заметно растёт (особенно вырос турпоток из Азии – на 35–40 %), но преимуществами пользуются
лишь несколько наиболее развитых городов (Москва, Санкт-Петербург, Сочи,
Калининград, Казань). Крайне небольшое число регионов развивают туристическую инфраструктуру, например, Алтайский край, ставший единственным
регионом с функционирующей особой экономической зоной (ОЭЗ) туристскорекреационного типа. Кроме того, начала работу игорная зона в Приморском
крае (отметим, что перспективы данного проекта пока можно охарактеризовать
как неясные).
Импортозамещение в широком смысле представляет собой ускоренное
развитие экономики в сочетании со структурными реформами. В этом контексте, строго говоря, оно должно являться не самоцелью, а лишь одним из результатов появления в стране сильных промышленности и сельского хозяйства.
Решение об ограничении импорта – политическое, выбор ограничиваемых позиций часто не подчиняется экономической логике и не может служить ориентиром. Например, после обострения отношений с Турцией запрещён ввоз помидоров (т.е. их нужно «импортозамещать»), но не запрещены лимоны (получается, их выращивать не нужно). В рамках «новой холодной войны» с Западом
введено продуктовое, но, например, не автомобильное или «компьютерное»
эмбарго (что отнюдь не означает, что России не нужно снижение зависимости
от зарубежной электроники). И такой процесс вполне сочетается с другими
провозглашёнными задачами: деоффшоризацией, снижением административных барьеров, стимулированием конкуренции и т.д.
Повышение самодостаточности национальных экономик стало одним из
новых трендов в развитии передовых стран (наряду с продолжающейся глобализацией экономики). Так, в США стал популярным термин reshore (как противоположность понятию offshore), означающий возврат производств на свою
территорию.
В узкополитическом, конъюнктурном смысле импортозамещение – замена
одних поставщиков другими в результате конфликта, а также наращивание
производства по «санкционным» направлениям. Причём данное производство
необязательно является собственным, это могут быть резиденты других стран,
не попавших под санкции. Такой путь, на наш взгляд, является рискованным,
191
затратным и бесперспективным. Единственная возможность его оправданного
применения – это кратковременное сочетание с первым в течение небольшого
времени, необходимого для развития собственной базы. Можно рассматривать
импортозамещение как аналог нацпроектов, в рамках которого реализуется ряд
программ.
Именно отсутствие чётких целей приводит к размытости стратегии и ряду
парадоксальных ситуаций в регионах. Так, например, когда западная компания
поставляет продукции в РФ – это импорт, который нужно заместить. А когда
эта же компания (например, Valio) переносит часть производств на территорию
РФ, чтобы производить ту же продукцию, то это уже инвестиции, привлечение
которых поощряется.
В науке существует минимум пять вариантов определения импортозамещения, каждый из которых основан на отдельных концепции и стратегии. На
наш взгляд, одним из наиболее перспективных является подход, при котором
импортозамещение понимается как важный фактор экономического развития
регионов, система мер, «обеспечивающая достижение намеченных регионом
целей по объемам и структуре производства отечественной продукции при одновременном снижении потребления импортных товаров». В этом контексте
огромное значение приобретает межрегиональная кооперация. Ряд регионов в
2015г. активизировали сотрудничество с помощью соглашений и побратимства:
Костромская область и Татарстан, Новосибирская область и Севастополь, Омская область и Санкт-Петербург, Липецкая область и Крым, Ростовская область
и Дагестан, Владимирская область и Приморский край, Удмуртия – с Нижегородской областью и ЯНАО и т.д.
Важным показателем импортозамещения является динамика внешнеторгового оборота регионов. Судя по данным Федеральной таможенной службы, мы
имеем дело с системным кризисом отечественной экономики, который выражается в постоянном снижении объёмов экспорта и импорта. Оба этих показателя
заметно снизились и в 2014, и в 2015 гг. Внешнеторговый оборот со всеми основными странами-партнёрами упал, вырос только импорт из Киргизии и –
особенно – Таджикистана. Сильно упал оборот и с КНР. Интересно, что незначительно сократился экспорт в США (меньше падение – только в Армению).
Объёмы экспорта упали по всем статьям. Что интересно: меньше всего (на
5 %) сократился экспорт по статье «машины, оборудование и транспортные
средства». Учитывая, что данная статья занимает в валютном измерении четвёртое место (после сырья), можно говорить об относительной способности
промышленности удерживать позиции.
Ещё сильнее упал импорт – по всем показателям на 30-40% (продукты,
текстиль, химия и т.д.).
По словам Дмитрия Медведева, малый и средний бизнес (МСБ) оперативнее всего реагирует на колебания рынка. Соответственно, лишь поддержка данного сектора экономики позволит оперативно компенсировать такой обвал
внешнеторгового оборота.
Чтобы оценить потенциал МСБ в регионах и степень его поддержки, можно проанализировать объём его экспортных поставок [1]. В число лидеров вхо192
дят обе столицы (ожидаемо), а также такие регионы-»гиганты», как Краснодарский край и Ростовская область, и субъекты с выгодным приграничным положением (Калининградская область, Приморский край). Успех последнего региона можно объяснить также стремлением федерального Центра развивать ДФО.
В лидерах с объёмом экспорта МСБ более чем на 1 млрд. руб. в год – и Иркутская область.
Вторая выделенная нами группа регионов – с объёмом экспорта от 150 до
500 млн. руб. в год. Здесь около 20-ти регионов: и богатых природными ресурсами (Кемеровская область), и в целом экономически мощных (Красноярский
край, Нижегородская, Свердловская и Самарская области, Татарстан), и активно развивающих и поддерживающих конкретные отрасли экономики (аграрные
Алтайский и Ставропольский края).
Разумеется, бизнес, не работающий на экспорт, необязательно слаб, он
может активно работать на внутренний рынок. В то же время внешнеэкономическая активность (особенно в условиях бюрократической специфики РФ) может служить косвенным показателем качества предприятий и свидетельством
их готовности наращивать объёмы производства.
Развитие экономики подразумевает увеличение производительности труда.
Именно с данным показателем у России хронические проблемы – среди стран
ОЭСР мы занимаем предпоследнее место по производительности труда (ВВП
на одного работника), уступая Европе и США в три раза [2]. Между тем, именно производительность труда является одним из «краеугольных камней» развития экономики и импортозамещения.
В субъектах РФ производительность меняется ещё более разительно: так,
Москва опережает Дагестан в 128 раз.
Среди высокопроизводительных регионов в исследованиях 2012 г. выделили четыре группы:
1. Две столицы, эксплуатирующие «столичную ренту», концентрирующие
штаб-квартиры все крупных компаний, активно развивающие секторы финансов и услуг.
2. Крупные промышленные агломерации (Свердловская, Нижегородская
области), где возможен прогресс на основе мощного индустриального базиса; к
тому же здесь наблюдается постепенное изменение соотношение численности
работников от промышленности с избыточной занятостью в пользу динамично
растущего сектора услуг и постиндустриальных отраслей.
3. Сырьевые, особенно нефтяные, регионы, однако за последний год их
вклад существенно снизился; абсолютная зависимость этих регионов от экспорта сырья обусловила снижение роста производительности.
4. Регионы, преуспевшие в создании высокотехнологичных секторов экономики (таких, к сожалению, весьма немного, среди них выделяется Татарстан).
Ярким примером технологического продвижения является открытие Дмитрием Медведевым города Иннополиса – центра IT-разработок в Татарстане.
В целом в 2012 г. (последнее исследование на эту тему) топ-10 регионов по
созданию высокотехнологичных рабочих мест выглядел следующим образом:
1. Москва.
193
2. Санкт-Петербург.
3. Татарстан.
4. ХМАО.
5. Московская область.
6. Башкортостан.
7. Свердловская область.
8. ЯНАО.
9. Краснодарский край
10. Нижегородская область.
Кроме того, в исследованиях отмечается «калужское экономическое чудо»
– последовательное привлечение зарубежных инвесторов в регион. Калужская
область два года назад входила также в лидеры по динамике роста числа высокопроизводительных рабочих мест. Это отчасти продолжилось и в прошлом году – открыт датский инсулиновый завод.
Отметим, что уже в 2015 г. такая стратегия обнаружила серьёзный изъян:
при резком падении спроса инвесторы уходят из региона, что приводит к падению производства и росту безработицы. Так, компания GeneralMotors до минимума сократила присутствие в России, что стало угрозой увольнения 2 тыс. рабочих в Петербурге. Сложная ситуация с автозаводами во Всеволожске (Ленинградская область), где профсоюз объявил бессрочную забастовку, и Калуге, где
губернатор Анатолий Артамонов старается удержать ситуацию (заводы
Volkswagen, Mitsubishi и Peugeot-Citroen объявляют простой и сокращают персонал). Небольшое преимущество автопрома – в постоянном внимании федерального Центра. Возможно, в том числе за счёт этого автомобильное двигателестроение также достигло некоторых успехов: в Набережных Челнах начали
выпускать отечественный двигатель, который компания «Форд» устанавливает
на свои российские модели. В Калужской области, несмотря на кризис автокластера, запущен новый двигателестроительный завод Volkswagen.
В целом промышленное производство в России упало с января по ноябрь
2015 г. на несколько процентов – на 3,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
Обращает внимание сильное падение (более чем на 8 %) в Калужской области, вызванное кризисом мощного бюджетообразующего автомобильного
кластера. Косвенно с этим может быть связан небольшой рост в Липецкой области: сокращение производства западных автокомпаний в Калуге позволил
Липецку сделать интересное предложение китайским автомобильным производителям.
Регионов с высокими темпами роста промышленности почти отсутствуют;
как правило, лучшим результатом является сохранение прежних объёмов. В
большинстве же субъектов промышленность стагнирует. Большой спад заметен
в части инвестиционно ориентированных регионов, откуда уходят резиденты
(Петербург, Калининградская область). Интересно, что почти на 5% упало промышленное производство в Приморском крае, несмотря на все усилия Минвостокразвития по созданию и развитию ТОР. В лидерах падения – Оренбургская
область, Северная Осетия, ЧАО, Севастополь.
194
Рост промышленного производства, как правило, наблюдался в пределах
5 %. Несколько регионов вышли за этот рубеж: Тюменская область (110 %, губернатор по этому повод даже заявил, что область опередила по темпам Китай),
Брянская (113 %), Тульская (111 %), Сахалинская (114 %), Республика Алтай
(вероятно, серьёзным фактором стало открытие крупной солнечной электростанции). Рекордсмен – Ростовская область (155 %).
Идеальным примером глубоко кризисной отрасли, которой не помогут полумеры, является лёгкая промышленность. Её доля в ВВП сократилась в 30 раз.
Одно из подтверждений – заметный спад индекса промышленного производства Ивановской области. Неоднократные резкие падения объясняются тем, что
предприятий в стране остается немного, и закрытие любого из них является
сильным ударом по отрасли. Например, упадок производства льняных тканей
вызван тем, что лидирующее предприятие («Вологодский текстиль») обанкротилось в 2014 г.
Лишь немногие направления лёгкой промышленности демонстрируют
рост; так, наращивается производство синтетических тканей после недавнего
открытия заводов (они сразу были названы инновационными). В России химическое волокно производят лишь два завода (в Амурской и Владимирской областях).
Сельское хозяйство является традиционно проблемной сферой российской
экономики. В нём отчётливо проявляется несоответствие между необоснованным оптимизмом федеральных чиновников и кризисом отрасли. Так, после
конфликта с Турцией российские профильные ведомства сразу заявили о полной способности заменить любой турецкий импорт, а министр сельского хозяйства Александр Ткачев вообще пообещал восполнить турецкие агропоставки на
1,7 млрд. долл. за неделю (разумеется, это не было реализовано).
Ответные санкции стали, возможно, не менее сильным ударом по экономике России, нежели санкции США и Европы. Их результатом стало сужение
ассортимента и рост цен на продукты в магазинах. Пострадали и некоторые
российские предприятия: Мурманский рыбозавод прекратил свою деятельность
из-за отсутствия сырья для переработки, ведущие дистрибьюторские компании
несут большие убытки.
По данным Национального доклада «О ходе и результатах реализации в
2014 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы», примерно лишь четверть регионов демонстрируют пусть небольшое, но увеличение показателей производительности мяса, молока, растительной продукции, а также техники. Успехи по некоторым направлениям (тульское предприятие стало первым российским экспортером мяса индейки в ЕС, а в
Тамбовской области заканчивается строительство сверхкрупного комплекса по
производству того же мяса) всё же пока не складываются в единую систему.
Растительные культуры в основном (кроме льна, сахарной свёклы и подсолнечника) продемонстрировали рост урожайности во всех хозяйствах. Исключение составляют лён, подсолнечник и сахарная свёкла (последняя относится к культурам с высокой импортной зависимостью от семян и техники). В
195
2014 г. Минсельхозом РФ было отобрано 58 региональных программ в области
растениеводства для последующей поддержки. Что интересно: в растениеводстве наблюдается определённое несоответствие между количеством субсидий
на погашение кредитов и объёмом произведённой продукции. Иными словами:
регионы, кому Центр выдал свыше половины всех субсидий, не дают большинства продукции растениеводства.
Чрезвычайно важна поддержка федеральной и региональной власти в виде,
например, денежных средств и, что не менее важно в российских условиях,
скорости их доведения до получателей. К сожалению, регионы можно ранжировать и по данному показателю, а есть и регионы, доводящие деньги медленно
и не в заявленном объёме. Для примера приведём сельское хозяйство.
По данным Минсельхоза РФ, лишь 16 регионов РФ освоили федеральные
средства более чем на 99 % (и 8 регионов – средства собственных бюджетов). И
только три региона полностью освоили средства бюджетов обоих уровней (Воронежская область, Петербург, ЯНАО).
В то же время 10 регионов очень плохо освоили федеральные (менее 80 %)
и собственные средства (иногда около 50 %): Владимирская, Астраханская, Новосибирская области, Крым, Северная Осетия, Приморский и Камчатский края.
Хуже всего освоены средства в Калужской, Мурманской областях и Севастополе [3].
Федеральный центр оценивает регионы даже по количеству представленных отраслевых планов импортозамещения. 43 региона представили 1878 планов, треть из которых представлена четырьмя наиболее активными субъектами:
Тверской областью (222), Удмуртией (150), Свердловской областью (126), Татарстаном (121).
По данным опроса 200 тыс. предпринимателей, сведёнными в единый рейтинг инвестклимата в регионах, абсолютными лидерами привлекательности стали Татарстан, Калужская, Белгородская, Тамбовская и Ульяновская области [4].
Губернаторы поняли логику работы масс-медиа и теперь не просто открывают новее предприятия, а определённое время анонсируют запуск, приурочивают его к отраслевому мероприятию, стараются привлекать статусных лиц.
Для большего эффекта используется слово «импортозамещение». Характерным
примером является экономический форум во Владимирской области «Владимирская область – территориальный центр импортозамещения», где было объявлено о создании в регионе четырёх центров импортозамещения. В итоге медиарейтинг региона дополнительно «накачивается», что, конечно, необязательно говорит о мощных прорывах в экономике [5].
Импортозамещение по стандартной логике политического процесса стало
таким же лозунгом, как и ранее – инновационное производство (таковых
намного больше не стало, просто инновационным стали называть почти каждое
открытое предприятие).
Так же и импортозамещением называют почти любое производство. Ряд
ключевых производств в силу масштаба разрабатывался ещё в «досанкционный»
период и лишь с началом экономической войны принял статус «импортозамещающих». А регионы оценивают даже по количеству предложений в сфере им196
портозамещения (причём лидеры по количеству предложений отнюдь не всегда
являются лидерами по объёмам производства или промышленному росту).
При правильном планировании и осуществлении стратегия импортозамещения может стать «новым планом ГОЭЛРО», драйвером развития экономики
и межрегиональной кооперации. При отсутствии стратегического реалистичного подхода импортозамещение лишь приведёт к ненужным тратам ресурсов и
закончится имитацией.
Литература
1. Объём экспортных поставок малого и среднего бизнеса за 2014 г. // Портал внешнеэкономической информации. URL: http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/
services_export_imports/ (дата обращения: 07.03.2016).
2. LevelofGDPpercapitaandproductivity // ОЭСР: официальный сайт. URL: http://
stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_LV (дата обращения: 01.02.2016).
3. Рейтинг субъектов РФ по степени освоения средств федерального и региональных
бюджетов // Министерство сельского хозяйства РФ. URL: http://www.mcx.ru/documents/
document/show/23487.htm (дата обращения: 02.03.2016).
4. На ПМЭФ-2015 представлены результаты национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах // Агентство стратегических инициатив. URL: http://asi.ru/news/
37034/ (дата обращения: 07.01.2016).
5. Жуков И.К. Импортозамещение-2015: регионы России // Санкт-Петербургский центр
«Стратегия». URL: http://club-rf.ru/theme/438 (дата обращения: 02.02.2016).
197
ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ1
Е.А. Назаренко
заместитель начальника Управления Президента
по внутренней политике Администрации Президента
Приднестровской Молдавской Республики, политолог
Образование в начале 1990-х гг. Приднестровской Молдавской Республики
(ПМР) привело к необходимости трансформаций на ее территории политических устоев СССР и перехода к реалиям жизни нового государственного строя.
За более чем 25-летнюю историю Приднестровского государства свое развитие
получил и политический процесс, отразивший результат действия совокупности внутренних и внешних факторов.
В отечественной (российской) политологии закономерно сложилось убеждение в том, что политический процесс является одной из ключевых категорий
политической науки. Специализированная литература суммировала несколько
точек зрения относительно понимания универсалии «политический процесс».
Так, некоторые авторы трактуют политический процесс как совокупность всех
событий, происходящих в политике, другие исследователи нивелируют границу
между понятиями «политика» и «политический процесс», отождествляя их,
третьи полагают, что политический процесс – это есть смена состояний политической системы общества.
По мнению Р.Т. Мухаева, назначение «политического процесса» заключается в способности отражать динамические аспекты политики, выражать динамику политической жизни, изменений в ней [1, c. 351].
Исходя из изложенного, к рассмотрению предложим два основных показателя политического процесса ПМР: показатель взаимоотношений государства и
гражданского общества и показатель борьбы ПМР за признание международной правосубъектности.
1. Государство и гражданское общество. Развитие гражданского общества
невозможно рассматривать в отрыве от этапов становления ПМР, ее институтов, политической системы и геополитических ориентиров.
Сегодняшняя активность гражданского общества Приднестровья значительно ниже, чем в период общественного подъема конца 1980-х – начала 1990-х гг.,
однако именно сейчас оно переживает стадию своего вялотекущего, но все-таки
становления и даже развития. И здесь на первый план выходят взаимоотношения в дихотомии «государство – гражданское общество».
Директор приднестровского Независимого центра аналитических исследований «Новый Век» Е.М. Бобковой считает, что «становление гражданского
общества в Приднестровье происходит в условиях дефицита доверия как к ин© Назаренко Е.А., 2016
198
ститутам самого государства, так и к институтам гражданского общества. Деятельность различных партийных объединений и институтов гражданского общества, их возможности в реализации своих функций значимо регулируются
как государством в целом, так и СМИ, являющимися в настоящее время чрезмерно политизированными и ангажированными институтами» [2].
Трендом для постсоветского пространства является своего рода мониторинг состояния (самочувствия) «третьего сектора» – некоммерческих организаций (НКО) – организаций, не имеющих в качестве целей деятельности извлечение прибыли, положение которых для государства является индикатором политико-правовой и социальной зрелости.
Действующий Закон ПМР «О некоммерческих организациях» определяет
ряд форм существования НКО: общественные или религиозные организации
(объединения), некоммерческие партнерства, учреждения, автономные некоммерческие организации, социальные, благотворительные и иные фонды, ассоциации и союзы, и другие формы, предусмотренные действующим законодательством [3]. По данным Государственной службы регистрации и нотариата
Министерства юстиции ПМР, на сегодня в республике зарегистрировано более
2380 НКО [4]. Изложенная статистика свидетельствует о значительном преобладании НКО в структуре гражданского общества ПМР, которые в сложных
условиях жизнедеятельности республики зачастую способны более мобильно
реагировать на проблемы и чаяния граждан. Однако, с одной стороны, подобный рост гражданских объединений (в сравнении с началом 1990-х гг.) демонстрирует возможность комплексного применения партикулярных механизмов и
средств в отстаивании интересов различных социальных групп, а с другой – акцентирует внимание на новых социально-экономических и политических проблемах приднестровского общества.
В целом же остается бесспорной заинтересованность государства в институте гражданского общества. Например, итогом диалога государства и гражданского общество последних лет стало создание в ПМР Общественной палаты. Государство также не остается безучастным к материальным проблемам
НКО. Так, несколько лет подряд функционировала система государственных
грандов для общественных объединений, реализующих социально значимые
проекты, а сегодня наиболее массовым республиканским организациям и организациям социальной направленности оказывается материальная помощь и
поддержка. При этом в гражданском обществе продолжают звучать реплики о
стойком «коммуникативном провале» общения власти и общественности.
В одном из ежегодных докладов Общественная палата ПМР отмечает, что
до сих пор продолжают отсутствовать данные по не зарегистрированным в органах юстиции, но существующим НКО. В докладе также сказано, что действующими являются примерно от 20 до 60 % от общего числа зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц [5, c. 8]. В последние годы Министерство юстиции ПМР реализовывало ряд мероприятий по
сокращению (ликвидации) числящихся, но реально не функционирующих НКО,
нарушающих законодательство Приднестровья. То есть деятельность обще199
ственных объединений в ПМР, а их чуть более 550, не всегда однозначно положительна.
В СМИ и литературе гражданские объединения, не преследующие политических целей и не финансируемые правительством государств, где осуществляют свою деятельность, зачастую трактуются как «неправительственные организации» (НПО).
12 июня 2015 г. в Приднестровском государственном университете имени
Т.Г. Шевченко состоялся круглый стол «Правовые и политические механизмы
функционирования НПО в новых условиях». Присутствующие эксперты высказывали разные точки зрения, но пришли к выводу, что сегодня республика
находится в преддверии двух избирательных циклов 2015 г. и 2016 г., в связи с
чем, учитывая специфику существования ПМР и события вокруг Приднестровья, активизируются внешние силы, которые пытаются воздействовать на приднестровский социум. Такое воздействие происходит через некоторые НПО,
декларативно заявляющие о своей аполитичности (носят социальный, правозащитный, экологический характер), однако на практике использующие именно
политические рычаги влияния на граждан. Целесообразным становится обсуждение и регулирование деятельности подобных организаций с точки зрения
государственной безопасности, интересов ПМР и желательности присутствия.
Продолжая тему общественных объединений, рассмотрим и вопрос партийного строительства, поскольку партия как политический институт помимо
борьбы за власть должна выступать в качестве политического посредника между государством и гражданами, способствовать формированию демократическим путем общенациональных интересов и целей [6, c. 6].
На сегодня в ПМР насчитывается 10 политических партий: «Возрождение», «Коммунистическая партия Приднестровья – КПСС», «Либерально-демократическая партия Республики Приднестровье», «Обновление», «Приднестровская Коммунистическая Партия», «Приднестровская Республиканская
Партия», «Республиканская социал-патриотическая партия», «Республиканская
партия «Родина», «Социал-демократическая партия Приднестровья», «Трудовая партия Приднестровья». Их особенность заключается в том, что все они носят лидерский характер, борьба за сторонников происходит в рамках одних и
тех же целей и идей, например: «международное признание ПМР», «быть вместе с Россией», «благополучие», «стабильность», «социальная справедливость».
Ряд аналитиков считают, что некоторые партии являются структурами, не
выражающими социально-политические интересы крупных общественных
групп, необъединенными по принципу близости совокупных экономических,
социальных и политических потребностей, то есть партии позиционируют себя
в качестве выразителей интересов «всех приднестровцев». Реальный же уровень связи партий с обществом, социальными группами населения существенно
отстает от уровня, присущего развитым партийным системам в демократических государствах мира. В результате чего складывается ситуация, когда не политические партии выражают интересы избирателей, а, скорее, наоборот, народ
должен оказывать им содействие в продвижении к политической власти [7].
200
Директор Центра исследований Южно-украинского пограничья В.К. Коробков выделил несколько «волн» в партийном строительстве ПМР. «Первая
волна» (1990-е гг.) практически завершилась провалом в результате усиления
президентской вертикали И.Н. Смирнова. «Вторая волна» началась в 2006 г. с
учреждения партии «Обновление» [8]. Дополним данную классификацию,
предложив и «третью волну», которая стартовала в 2012 г. из-за смены правящих элит после президентских выборов 2011 г. В этот период появились две
новые партии – «Возрождение» и «Родина».
Выборы депутатов Верховного Совета ПМР VI созыва, депутатов местных
Советов народных депутатов, председателей Советов – глав администраций
сел, поселков, города-спутника, которые прошли в единый день голосования 29
ноября 2015 г., стали новой вехой в продолжение «третьей волны» партийного
строительства в ПМР. Для подобной точки зрения есть некоторые предпосылки. Так, 6 октября 2014 г. прошел учредительный съезд Трудовой партии Приднестровья. 20 февраля 2015 г. после длительного политического молчания состоялся IV съезд Приднестровской Республиканской Партии. С марта 2015 г.
предпринимались попытки реанимировать Социал-демократическую партию
Приднестровья (после смерти ее председателя А.Г. Радченко). 14 апреля и 31
августа 2015 г. состоялись расширенные пленумы Центрального Комитета
Приднестровской Коммунистической Партии, на которых главной темой обозначались выборы 29 ноября. 27 июня 2015 г. прошел VII съезд партии «Обновление», участие в избирательной кампании 2015 г. определено в качестве приоритета.
Но состоявшиеся выборы подтвердили уже неоднократно высказываемое в
экспертном сообществе Приднестровья мнение о кризисе партийной системы
(имеют место быть декларации, но не действия), ее неразвитости и существовании значительного препятствия в ее эволюции – проведение выборов в представительные органы власти по мажоритарной избирательной системе относительного большинства. Для разрешения этой проблемы звучат подчас полярные
позиции: от необходимости оставить существующую мажоритарную систему
только на уровне выборов в местные Советы до целесообразности перехода на
смешанную систему или замены существующей системы на пропорциональную
при выборах парламента ПМР.
Показательными являются и следующие данные: на 43 депутатских мандата Верховного Совета ПМР претендовали 158 кандидатов, из них 143 баллотировались в порядке самовыдвижения [9]. При этом ни один из кандидатов не
был выдвинут партией, хотя лидеры 5 политсил активно боролись за победу.
Также лишь некоторые кандидаты указывали свою партийную принадлежность
или использовали партийную символику в ходе кампании (аналогична ситуация
и на выборах в местные Советы).
2. Борьба за международное признание. Претендуя на самостоятельность,
ПМР за годы существования создала собственную систему обоснования притязаний на независимость и суверенитет, в основу которой положены политикоидеологические и историко-территориальные факты. «Приднестровье осуществляет последовательную деятельность, нацеленную на признание между201
народной правосубъектности ПМР с ее последующим вхождением в региональные и универсальные международные организации, включая ООН» [10].
Смена политического руководства Приднестровья в декабре 2011 г., образование новых институтов власти – Правительства, Государственного совета
при Президенте ПМР, возобновление после длительного перерыва официальной работы «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» послужили основой формирования нового этапа во внешней политике Приднестровья и существенному смещению внешнеполитических акцентов [11, c. 6].
В этой связи закономерным стало появление в 2012 г. новой Концепции
внешней политики. До этого дня в Приднестровье действовала Концепция
внешней политики образца 2005 г., но реалии времени потребовали качественного расставления внешнеполитических приоритетов. Обновленная концепция
вобрала в себя ряд принципиальных новшеств: главным приоритетом внешней
политики республики обозначена «комплексная евразийская интеграция». При
этом «участие Приднестровской Молдавской Республики в евразийских интеграционных проектах является одной из прочных основ современной национальной идеи Приднестровья» [10].
Стоит понимать, что центральным актором борьбы за независимость Приднестровья был и остается приднестровский народ («носитель суверенитета,
единственный источник власти» – ст. 1 Конституции ПМР [12]). Исторически
сложилось, что именно народ находился в авангарде всех общественнополитических событий Приднестровья:
– националистическая политика руководства Молдавии привела к подъему
рабочего движения – флагмана борьбы за гражданские права в рамках первой в
СССР политической забастовки августа-сентября 1989 г., когда работу прекратили десятки предприятий региона. В это же время для Приднестровья очерчивается смысл понятия «народная дипломатия» – распространение приднестровцами реальной информации о событиях в регионе на территории других советских республик посредством раздачи листовок, газет и др.;
– провозглашение независимой Приднестровской Молдавской ССР 2 сентября 1990 г. на II Чрезвычайном съезде депутатов всех уровней Приднестровья;
– защита государственности ПМР в вооруженном конфликте 1990–1992 гг.
с Молдовой;
реализуя одно из фундаментальных принципов международного права
– право народов на самоопределение, ПМР является ярким примером референдарной демократии. За столь короткую историю в Приднестровье прошло 7 референдумов. Дважды на референдумы выносился вопрос о независимости
ПМР. Так, в 1991 г. явка избирателей на участках для голосования составила
78 %, «за независимость» – 97,7, в 2006 г. явка составила 78,6 %, «за курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации» – 97,2 % [13,
c. 26].
202
Современное Приднестровье находится в жестких условиях экономической блокады со стороны Республики Молдова, которая в 2014 г. ратифицировала Соглашение об ассоциации с Европейским союзом (в том же году аналогичные действия реализовывала и Украина). Период 2014–2015 гг. охарактеризован возбуждением силовыми органами Молдовы политически мотивированных уголовных дел в отношении должностных лиц ПМР. Это приобрело,
к сожалению, масштабный и лавинообразный характер [14, с. 24]. Разность геополитических ориентаций и устремлений Приднестровья и Молдовы становится все ощутимей в связи с противоречивыми событиями на Украине. Сегодня
Украина и Молдова рассматривается возможность установления совместного
таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган» на приднестровско-украинском сегменте границы, что может крайне негативно сказаться
на деятельности экономических агентов ПМР.
Все это позволяет говорить, скорее, о политически обусловленном непризнании ПМР, чем юридически обоснованном. На повестке дня появляется закономерный вопрос: как в условиях отсутствия международной правосубъектности, санкционно-блокадных мер со стороны Молдовы и Украины, ложных антиприднестровских заявлений от стран-соседей и государств Запада доносить миру
правду о Приднестровском государстве? В сложившихся условиях единственным ответом на этот вопрос может стать публичная дипломатия как «комплекс
мер, направленных на оказание влияния на политику иностранного государства
путем влияния на установки и взгляды иностранных граждан…, создание благоприятного образа страны за рубежом, на повышение ее репутации, на лучшее
понимание действий государства среди мирового сообщества» [15].
Длительный анализ действий правящих в ПМР политических элит позволяет сделать вывод о существовании единой концептуальной позиции по «независимости Приднестровья» и «пророссийскому вектору развития ПМР». При
этом усилия по достижению международного признания республики претворяются в жизнь в большей степени не за счет классического политико-дипломатического инструментария, а в рамках разнопланового диалога с широким кругом
иностранных акторов, через механизмы публичной дипломатии (например,
пресс-туров иностранных журналистов и экспертов в ПМР, культурных и научных обменов, туризма).
Подводя итог сказанному, отметим, что уникальный политический процесс
Приднестровья нельзя рассматривать вне совокупности внутри и внешнеполитических контекстов и проблематик, не учитывая их ретроспективные и современные составляющие, а связь государства, гражданского общества, фактора непризнанности и обоснованных устремлений ПМР на признание международной
правосубъектности, в том числе и при использовании комплекса мер неправительственной дипломатии, является бесспорной и взаимообусловленной.
Литература
1. Мухаев Р.Т. Политология: учебник. М.: Проспект, 2010. 640 с.
2. Бобкова Е.М. Гражданское общество и демократизация в ПМР // Приднестровье ХХI.
URL: http://www.pmr21.info/text.php?cat=10&name=grazhdanskoe_obschestvo_i_demokratizatsija
_v_pmr&arch=onsite (дата обращения: 9.03.2016).
203
3. Закон ПМР от 28 декабря 2005 г. № 718 «О некоммерческих организациях» (САЗ
06-1), текущ. ред. по сост. на 28 декабря 2007 г.
4. Отчеты Государственной службы регистрации и нотариата // Министерство юстиции
ПМР. URL: http://www.minjust.org/web.nsf/all/ReportGSRIN (дата обращения: 9.03.2016).
5. Ежегодный доклад Общественной палаты о состоянии гражданского общества в
ПМР за 2013 г. Тирасполь: Общественная палата, 2014. 31 с.
6. Политические партии, движения и организации ПМР / А.В. Дирун, В.В. Лысенко,
Е.М. Бобкова, А.В. Кривенко. Тирасполь, 2004. 196 с.
7. Галинский И.Н., Кушаков М.Н. Реформирование избирательной системы ПМР –
назревшая необходимость // ИАП «PolitTiras.info». URL: http://polittiras.info/?module=
articles&action=view&id=4608 (дата обращения: 9.03.2016).
8. Коробов В.К. Становление многопартийности в Приднестровье: новые политические
реалии и старые призраки // Приднестровье ХХI. URL: http://www.pmr21.info/text.php?cat
=7&name=stanovlenie%20mnogopartiynosty&arch=onsite (дата обращения: 9.03.2016).
9. Признаны полномочия избранных депутатов Верховного Совета ПМР VI созыва //
Центральная избирательная комиссия ПМР. URL: http://www.cikpmr.com/index.php/novosti/
item/741-priznany-polnomochiya-izbrannykh-deputatov-verkhovnogo-soveta-pmr-vi-sozyva (дата
обращения: 9.03.2016).
10. Об утверждении Концепции внешней политики Приднестровской Молдавской Республики: Указ Президента ПМР от 20 ноября 2012 г. № 766 (САЗ 12-48).
11. Актуальные вопросы внешней политики Приднестровья (2012–2013 гг.). Выпуск
первый / под общ. ред. канд. полит. наук. Н.В. Штански. Тирасполь, 2014. 142 с.
12. Конституция ПМР от 24 декабря 1995 г. (СЗМР 96-1), текущ. ред. по сост. на 6 августа 2011 г.
13. Волкова А.З. Референдумы в контексте истории становления и развития демократических институтов в Приднестровье (в конце ХХ – начало ХХI вв.) // Дипломатический вестник Приднестровья. 2011. № 3 (5). С. 20–27.
14. Инструменты давления на Приднестровье в молдо-приднестровском урегулировании: политически мотивированное уголовное преследование Молдовой граждан Приднестровья / под общ. ред. Н.В. Шевчук и В.В. Игнатьева (на русском и английском языках).
Бендеры: ГУИПП «Бендер. тип. «Полиграфист», 2016. 88 c.
15. Протасов А.В. Публичная дипломатия и неправительственные организации: проблемы и перспективы // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 6. URL: http://
human.snauka.ru/2014/06/7164 (дата обращения: 9.03.2016).
204
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1
Ю.В. Попова
канд. ист. наук, доцент
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
В научном сообществе, как и в публичном пространстве, относительно
давно утвердилась мысль о российском режиме как недемократическом, как
режиме электорального авторитаризма, как гибридном режиме. Показательна в
этом отношении дискуссия, проведенная осенью 2015 г. фондом «Либеральная
миссия» по теме «Обратный транзит в России: недоразвитый нео-тоталитаризм
или авторитарный пост-модернизм?» [3]. Свидетельством провала демократизации являются и международное положение РФ (режим санкций, исключение
из Большой восьмерки, временное приостановление участия в работе ПАСЕ), и
все более широко тиражируемая зарубежными СМИ и поддерживаемая официальным лицами зарубежных государств информация о коррумпированности
российского политического истеблишмента (фильм ВВС «Тайные богатства
Путина, т.н. «дело «русской мафии» в Испании), и содержание российских
внутриполитических процессов, отличающихся продолжающимся сокращением публичного конкурентного пространства, числа независимых политических
акторов, каналов обратной связи общества и власти. В своем отчете о свободе в
мире за 2016 г. Freedom House отнес РФ к числу несвободных государств [10],
причем такую оценку Россия имеет с 2005 г. Сама власть совсем не стремится
опровергать это, напротив, она переориентровалась с идеи «суверенной демократии» на идею самобытности, буквально автаркичности российской цивилизации и государства, вводя т.н. ответные санкции, разрешая Конституционному
суду решать вопрос о «правовом суверенитете» России, отменяя приоритет
решений международных судов по своему усмотрению (соответствующие
поправки внесены в ФЗ «О Конституционном Суде РФ» в декабре 2015 г.). Соответственно, возникает вопрос, насколько закономерен подобный итог эволюции российского политического режима, начинавшейся во второй половине
1980-х гг. с демократических идей, и насколько прочен свершившийся поворот.
Американские экономисты Дарен Асемоглу и Джеймс Робинсон (Daron
Acemoglu and James Robinson) в двух работах, получивших широкое признание
в научном сообществе: «Экономические истоки диктатуры и демократии»
(«Economic origins of dictatorship and democracy», 2006 г.) и «Почему нации терпят поражение» («Why Nations Fail», 2012 г.) – предлагают свое объяснение.
Демократия в понимании Д. Асемоглу и Дж. Робинсона – это режим, благоприятный для большинства населения, где каждый имеет право голоса и может участвовать в политическом процессе [1, с. 40]. Обозначая детерминанты
демократии, авторы указывают на следующие: наличие гражданского общества,
© Попова Ю.В., 2016
205
индустриальная (не аграрная) экономика, открытые институты, средний уровень межгруппового неравенства, преобладающий в социальной структуре
средний класс, включенность в глобальное международное пространство и отношения [1 с. 56–70]. Соответственно, недемократический режим имеет обратные детерминанты. «Недемократия – это обычно режим для элиты и привилегированных [1, с. 40], «недемократия обычно есть ситуация политического неравенства, с большей властью в руках какой-либо элиты» [1, с. 129]. И пока эти
детерминанты сохраняются как актуальные, движение к другому, противоположному политическому режиму невозможно.
Для начала и успешного завершения демократизации необходима ситуация
экономического или политического кризиса, явно обозначающего угрозу революции [1, с. 57]. Угроза революции будет явственна и осязаема для правящего
касса, если граждане консолидированы, а значительная их часть составляет
средний класс – буфер между элитами и остальными гражданами [1, с. 66–67].
Консолидированные граждане будут самим своим наличием так же делать репрессии со стороны обладающих властью более трудноосуществимыми [2,
с. 56–57], благодаря чему возможность подавить протест граждан оказывается
очень дорогостоящей для властьпридержащих. Готовность властвующей элиты
на шаги в направлении демократизации обусловлена и преобладающим источником дохода элиты: «демократия более вероятна, когда элиту составляют
промышленники, а не землевладельцы» [1, с. 58]. Причина этого – в соображениях индивидуальной экономической выгоды, поскольку демократия – реализация государственной политики в пользу большинства [1, с. 51], возможность
реализовать эту государственную политику основана на собираемых налогах, а
землю легче облагать налогом, чем «физический и человеческий капитал» [1,
с. 58]. Элита, чей капитал не является по преимуществу земельным, более осторожна относительно репрессий, т.к. они ведут к разрушению активов, к возможным санкциям со стороны международного сообщества [1, с. 55]. Величина
межгруппового неравенства так же значима в процессе демократизации: высокая степень неравенства, с одной стороны, не позволяет гражданам консолидироваться для эффективного противодействия правящему классу, а с другой, делает для этого правящего класса чрезмерно высокой стоимость шагов в направлении демократизации [1, с. 62–65]. И так же демократизация очень выигрывает
от глобализации, от интегрированности государства в международное экономическое и политическое пространство, которое выступает в роли фактора
сдерживания от проведения недемократической политики, от популистской политики, а так же фактором, сокращающим «масштабы неравенства между обладателями капитала и труда» [1, с. 68–70].
Не менее важны для успешной демократизации и политические институты,
которые должны обеспечивать реализацию принципа сдержек и противовесов,
чтобы проводимая политика не скатывалась к популизму ли антидемократичности. [1, с. 61–62]. »Политика – это процесс, посредством которого общество
выбирает правила, которые будут управлять им. […] Политические институты
общества являются ключевым фактором, определяющим исход игры» [9, p. 93–
94]. Инклюзивные экономические институты постепенно обеспечивают доступ
206
всё большей части населения к генерированию национального богатства. Они
охраняют права собственности, создают равные условия для всех участников
экономической деятельности, стимулируют свободные игры экономического
обмена и поощряют технологические нововведения. Напротив, экстрактивные
экономические институты ориентированы на концентрацию экономических ресурсов в руках элитарных общественных групп и на отчуждение в их пользу результатов труда остальной части населения. Поэтому они не защищают права
собственности широких масс и не создают действенных стимулов экономической активности. Они также подавляют эффективную конкуренцию, тяготеют к
консервации способов производства и тормозят или попросту блокируют их
замену на более продуктивные формы ведения хозяйства. «Центральное место
в нашей теории – это связь между инклюзивными экономическими и политическими институтами и процветанием. Инклюзивные экономические институты,
укрепляющие права собственности, создающие равное пространство действий
и поощряющие инвестиции в новые технологии и умения, в большей степени
способствуют экономическому росту, чем экстрактивные экономические институты, которые являются структурой для извлечения ресурсов из многих для
нескольких и которые не защищают права собственности и не создают стимулов для экономической деятельности. Инклюзивные экономические институты
поддерживают и поддерживаются инклюзивными политическими институтами,
то есть теми, которые реализуют политическую власть в плюралистической манере и способны достичь некоторого объема политической централизации с
тем, чтобы установить закон и порядок – основу защиты прав собственности, а
так же создать и инклюзивную рыночную экономику. Подобным же образом
экстрактивные экономические институты синергетически связаны с экстрактивными политическими институтами, которые концентрируют власть в руках
немногих, которые будут стремиться сохранять и развивать экстрактивные экономические институты для своей выгоды и использовать имеющиеся ресурсы
чтобы сохранить политическую власть в своих руках» [9, p. 470–471].
Все названные условия демократизации взаимозависимы и, по мнению
Д. Асемоглу и Дж. Робинсона, отсутствие одного или нескольких не приведет
процесс перехода к демократии к положительному результату.
Демократизация как экономический и социально-политический процесс
окакзалась незавершенной, неуспешной. Какие из признаков недемократии есть
в России? Пожалуй, почти все. Конечно, Россия – не аграрная страна. По данным Федеральной службы государственной статистики количество занятых в
сельском хозяйстве работников уступает занятым в промышленности и сфере
услуг [7], доля промышленности и сферы слуг в ВВП значительно больше доли
сельского хозяйства [8]. Но это сырьевая экономика, что отнюдь не благоприятствует демократии. Получаемая высокая рента, распределяемая неконкурентным путем, только консервирует неконкурентный политический режим.
Официальные статистические данные так же показывают, что коэффициент Джини в 1995 г. составлял 0,387 и, постоянно повышаясь, дошел в 2014 г.
до 0,416, подобный рост демонстрировал и децильный коэффициент: 1995 г. –
13,5, а в 2014 – 16,0 [4]. Все это свидетельствует о наличии высокого экономи207
ческого неравенства между гражданами, препятствующего их консолидации.
Последующее политическое развитее страны, начиная с 1996 г. и особенно первая половина 2000-х, проявившееся в постепенном сокращении политических
прав и свобод, политических фальсификациях и манипуляциях, не встретила и
не могла встретить адекватной реакции граждан в силу именно высокого экономического неравенства. Неравенство не позволяет объединять усилия чтобы
отстаивать свои интересы. Высокая степень неравенства, с одной стороны, не
позволяет гражданам консолидироваться для эффективного противодействия
правящему классу, а с другой, делает для этого правящего класса чрезмерно
высокой стоимость шагов в направлении демократизации [1, с. 62–65].
Так же в России в 1990-ене было среднего класса как значительной социальной группы, которая могла бы взять на себя ответственность за перемены.
По данным института социологии РАН средний класс на 2008 г. составлял
треть населения страны, и около 40 % экономически активного городского
населения [6, с. 93]. При этом «роль среднего класса в развертывании процессов политической модернизации России сравнительно невелика. Это обусловлено и отсутствием у него понимания своих классовых интересов, и отсутствием на политическом небосклоне тех политических сил, которые российский
средний класс мог бы воспринимать как их выразителей. Все это приводит к
его политической пассивности» [6, с. 285]. К тому же средний класс в значительной степени представлен бюджетными и государственными служащими,
«основную массу структурных позиций среднего класса в России обеспечивают
рабочие места профессионалов и полупрофессионалов, сосредоточенные в системе управления и отраслях социальной сферы, что характерно именно для
госсектора» [6, с. 147]. Ввиду этого серьезной, значимой роли этого сегмента
общества в демократически процессах ждать не приходится, он слишком зависим от государства. А сейчас ввиду кризисных экономических условий экономически активная часть среднего класса размывается и вымывается из страны.
В то же время «не входящее в средний класс население России и жило, и продолжает жить с точки зрения его жизненных шансов и уровня доходов достаточно плохо, хотя доходы его представителей в «тучные» 2000-е годы действительно повысились даже в реальном выражении. Средний класс страны, оказавшийся по итогам 2000-х годов в весьма благополучном положении, постепенно утрачивает свои привилегированные позиции, хотя и сохраняет пока значительный отрыв от остальных россиян в данном отношении. При этом каждый
следующий кризис все больше ухудшает положение российского среднего
класса относительно остальных россиян» [5, с. 17]. Поэтому группы населения,
которая могла бы представить взвешенную конструктивную оппозиционную
программу программе (если таковая есть) действующей власти, нет.
А указывать на наличие включенности в глобальное международное пространство и отношения как полноценной характеристики не приходится: наличие и продление режима санкций, приостановка членства как санкция в отношении РФ в ряде международных структур тому яркое доказательство.
В современной России нет открытых (инклюзивных) институтов как преобладающей характеристики политической (и в целом общественной) системы.
208
Напротив, преобладают клиентелистские отношения [2]; последние нововведения в избирательное законодательство (2012–16 гг.) позволяют прийти к выводу, что и выборы – один из основных инструментов легитимации режима – безвозвратно утрачивает базовые характеристики, обеспечивающие открытость,
конкурентность, прозрачность, честное соперничество за выборные должности
(например, если посмотреть отчеты о выборах «Голоса» или «Комитета гражданских инициатив»). Один из основных принципов подобных систем – боязнь
потерять доступ к ограниченным ресурсам, и, поэтому, пока он есть, нужно
пользоваться им с максимальной выгодой для себя.
Поэтому существующий политический режим вполне закономерен и будет
сохраняться при наличии всех вышеперечисленных условий.
Литература
1. Асемоглу Д., Робинсон Дж. А. Экономические истоки диктатуры и демократии. М.,
2015.
2. Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность: Исследование клиентарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. М., 2000.
3. Обратный транзит в России: недоразвитый нео-тоталитаризм или авторитарный
пост-модернизм? // Либеральная миссия. URL: http://www.liberal.ru/articles/6850.
4. Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации
денежных доходов населения // Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/#.
5. Российский средний класс в условиях стабильности и кризисов. М., 2016.
6. Тихонова Н.Е. Средний класс: теория и реальность. М., 2009.
7. Трудовые ресурсы // Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#.
8. TheWorldFactbook. Economy: RUSSIA overview // ЦРУ. URL: https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html.
9. Acemoglu D., Robinson J. Why Nations Fail. New York, 2012. Freedom in the world 2016
// Freedom House. URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/FITW_World_Map_nolabels_
GF2016_FINAL.pdf.
209
ЛЕГИТИМНОСТЬ ДЕМОКРАТИИ И АРХАИКА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПОСТСОВЕТСКИХ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ
И АФРИКАНСКИХ РЕЖИМОВ)
С.Н. Федорченко
канд. полит. наук, доцент кафедры политологии и права
Московского государственного областного университета
1
Легитимность демократии подразумевает согласие граждан и власти по
поводу понимания необходимости базовых, демократических ценностей в политическом процессе [2]. Однако существуют традиционные препятствия для
легитимации демократической аксиологии, корни которых, как правило, исследователи стараются выявить на уровне политической культуры стран [3]. С целью лучшего понимания проблем демократического транзита в данной статье
будет предпринята попытка проанализировать в компаративистском ключе основные признаки политических культур постсоветских государств Средней
Азии, а также африканских стран. Эти регионы были выбраны неслучайно. Вопервых, данные страны сравнительно недавно вступили на путь демократического развития, во-вторых, во многих из них сохранились архаичные черты политической культуры и политических ценностей.
Начнём с постсоветских республик Средней Азии. Политическая культура
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении имеет свои
нюансы. На неё влияло не только коллективистское идеологическое прошлое
советского общества, но и исламский фактор. Местный учёный К. Смагулов
отмечает, что изначально, до вхождения в состав Российской империи, а затем
в СССР, казахстанская политическая культура характеризовалась патриархальностью. Она развивалась под влиянием такой архаичной традиции восточного
общества как коллективизм, мимикрирующий в новые формы советской демократии. Самагулов подчёркивает, что традициям патриархальности способствовало и сохранение в Казахстане ислама, который отдавал предпочтение не правам личности и плюрализму позиций, а политической стабильности, интересам
общины, семьи и коллектива. Отсутствие длительного демократического опыта
с прочной либеральной идеологией привело к тому, что западные политические
институты не находили однозначной поддержки стороны граждан [1].
По мнению Самагулова, несмотря на официальную демократическую риторику, политическая культура Казахстана сэволюционировала обратно к своим архаичным корням. Неслучайно президент воспринимается гражданами как
национальный лидер, руководящий развитием страны, избегая крупных социальных потрясений. Это своеобразная отсылка к традициям казахстанской патриархальной политической культуры, когда исламский правитель восточного
общества являлся божественным ставленником. Такая политика рассчитана на
© Федорченко С.Н., 2016
210
сакральную легитимацию политического режима с помощью архаичных, а не
демократических ценностей. Параллельно в казахстанской политической культуре превалирует важная составляющая, как и в африканских странах – трайбализм, характеризующий формирование государственных органов по клановому
родоплеменному признаку. Особая роль принадлежит институту президента –
именно он является регулятором этноклановых отношений между представителями Старшего, Младшего и Среднего жузов во власти. Как видно из результатов исследования, проведённого Евразийским монитором в 2012–2013 гг., казахстанская политическая культура в этом плане схожа с кыргызстанской [1].
Исследователь Р. Абазов пишет, что кыргызстанскому социуму характерны признаки традиционного общества и клановость – они настолько углубились, что даже советские органы власти не могли уничтожить их полностью.
Абазов отмечает, что в Киргизии представители различных областей традиционно соревновались друг с другом за власть и влияние на национальном уровне.
Он полагает, что попытка разрушить архаичные патрон-клиентские отношения
в республике и заменить их демократическими ценностями провалилась. При
этом эксперты часто фиксировали в парламенте ЖогоркуКенеш формирование
парламентских коалиций по региональной принадлежности [4]. Вот почему нет
ничего удивительного в том, что, несмотря на волну демократизации в 1990-х
гг., в настоящий период экономической нестабильности и социальной неопределенности всё больше и больше кыргызстанцев обращаются к традиционным
институтам и архаичным формам социальной деятельности. Кстати, о том, что
патриархальный трайбализм присущ кыргызстанской политической культуре,
также как и африканским странам и другим среднеазиатским государствам
постсоветского ареала, пишет и британский антрополог Д. Гуллетт [1]. Демократия не сплотила разрозненные кланы, тогда как ренессанс архаичных ценностей политической культуры на деле показал свою эффективность в легитимации политического режима, т.к. был понятенвсем слоям местного общества.
Узбекистанская политическая культура также отличается серьёзным влиянием ислама и патриархальных традиций. Политическая привлекательность ислама происходит от общей его распространённости среди здешних граждан.
Местные чиновники и работники государственных учреждений участвуют в
мусульманских обрядах. Но не совсем верно будет говорить, что правительство
Узбекистана лишь привносит религию в политику.На деле государство пытается удерживать ислам в рамках национальных приоритетов. Работает та же формула – «политико-культурная архаика легитимирует режим». Американский
исследователь Д. Абрамсон пишет, что, хотя Ташкенти подавляет некоторые
формы мусульманской активности и религиозного выражения, выходящие за
конституционные границы, власть в то же время активно поддерживают свои
грандиозные проекты по восстановлению и реконструкции исламских святынь,
которые функционируют как места массового паломничества. Между тем,
красноречивым свидетельством того, что легитимация политического режима
через возрождение и закрепление политико-культурной архаики имеет свою деструктивную цену, служит определённый факт. Например, представители многих иностранных некоммерческих организаций, работающих в Узбекистане,
211
признают, что самым большим препятствием для их развития является несовершенство нормативно-правовой базы и стандартов для обеспечения стабильности и гражданской ответственности [5].
Туркменистанская политическая культура отличается не только исламскими и советскими условиями своего формирования, но и архаичной традицией
культа главы государства. С. Горакуверен, что идеология президента С. Ниязова (Туркменбаши)заложиламощную матрицуместной политической культуры –
появилась колоссальная персонификация президентской должности. Позже, с
приходом во власть нового лидера Г.М. Бердымухамедова, с одной стороны,
начался постепенный демонтаж культа личности Туркменбаши, что проявилось
с середины 2007 г., когда начали исчезать статуи и портреты Ниязова и членов
его семьи[1]. Также с телевизионных экранов исчез золотой силуэт бывшего
лидера. Тем не менее, признаки персоналистского режима остались, развиваясь
в рамках возрождения патриархальной политической культуры. К примеру, в
современной Туркмении делается упор на преемственность идеологии с целью
сохранения спокойствия в обществе. Курс нового президента стал называться
«Великое возрождение».
Особенности политической культуры некоторых стран Африки согласно
модели Г. Алмонда и С. Вербы можно отнести к патриархальному поведению.
Но не стоит забывать, что большинство африканских и исламских стран долгое
время были колониальными владениями европейских держав. Поэтому и здесь
есть своя уникальная специфика.
В 2012 г. вышла научная статья «Слова как оружие» американского политолога С. Бенеш из Института мировой политики, финансируемого Институтом
мира США. Одним из условий, провоцирующих ксенофобское политическое
поведение африканцев по отношению к потомкам европейцев в ЮАР, политолог называет крушение апартеида в ходе реформаторской деятельности президента Н. Манделы. Учёный пишет, что иногда крушение авторитарных режимов может привести к увеличению коммуникации между различными культурными, этническими и религиозными группами, а, следовательно – к появлению
новых противоречий. При этом приходится признать, что конец прежнего режима ЮАР и формирование нового привело к ренессансу политико-культурной
архаики со всеми вытекающими из этого последствиями нового социального
размежевания. Другими причинами усиления ксенофобского поведения граждан африканских стран Бенеш называет миграционные процессы и технологическое развитие Африки – распространение Интернета и социальных сетей [7].
Важной причиной всплеска нетерпимого поведения африканцев американский
политолог считает применение политических технологий. Подобные явления
Бенеш фиксирует на примере разжигания межплеменной розни политиками в
Кении в 2007 г. через телевизионную манипуляцию. Похожие вспышки ксенофобского политического поведения есть и в Руанде.
Режим апартеида в ЮАР сформировал условия для культивирования и
воспроизводства паттерна нетерпимого политического поведения разных категорий населения по расовому признаку. Апартеид вызвал рост мобилизации и
радикализации чёрного населения в сельских и городских общинах [11]. По
212
этой причине до сих пор фиксируется модель агрессивного политического поведения. Тогда как национальная самоидентификация южноафриканцев в период с 1995 по 2004 гг. неуклонно снижалась с 90% до 82% [12].
Крах апартеида, конечно, облегчил процесс политической либерализации в
ЮАР, Намибии, Мозамбике и других государствах [10]. Приживаются принципы демократии, защиты прав человека, суверенитета, ответственности и подотчетности государства [8]. Так что же препятствует распространению демократических ценностей и демократической легитимации режимов в Африке?
Лесотийский политолог К. Матлоса и некоторые другие африканские учёные выделяют следующие причины медленного прогресса демократических
ценностей в регионе. Во-первых, остаётся сильное стремление к национальному единству и политической стабильности. Во-вторых, весьма распространена
парадигма девелопментализма, при которой африканские страны стараются
больше сосредоточиться на скорейшем экономическом развитии, а не на разногласиях многопартийной системы западного образца. В-третьих, специфика африканской демократии глубоко коренится в доколониальныхпатриархальных
традициях [10]. Кроме того, в-четвёртых, среди африканских политиков широко распространенно мнение о том, что западная многопартийная система основывается на либеральной демократии, завещанной от колониальной администрации – чуждой к африканской политической обстановке. И, наконец, впятых, у африканцев бытует мнение, что различия и расхождения в политических убеждениях недолговечны и быстро сменяютсяпатерналистской политикой покровительства и репрессиями [16]. Такие «штрихи к портрету» африканской политической культуры напоминает ситуацию в постсоветской Средней
Азии, где не демократия, а именно традиционная архаика стала мощным легитимирующим фактором политических режимов.
К. Аке метко подметил по поводу африканских стран: «хотя политическая
независимость принесла некоторые изменения в составе государственных руководителей, характерсамого государства остался, как и в колониальную эпоху» [6]. Исследователь пытается объяснить африканскую культуру политического насилияи нестабильности с точки зрения структурных особенностей экономики региона. По мнению К. Аке, захват государственной власти стал восприниматься африканской политической элитой как самоцель. Политическая
власть рассматривается как гарантия или лицензия на экономическиересурсы,
поэтому действия африканской элиты направлены не надемократию и устойчивое национальное развитие, а насобственное усиление. Это отчасти объясняет
живучесть авторитарных и военных режимов в Африке.
Большинство африканских конфликтов на самом имеют корни во внутригосударственных противоречиях с затяжной динамикой (Ангола и Демократическая Республика Конго, длительное существование однопартийного государства в Танзании и т.п.). Традиция эгалитаризма и государственного влияния,
как и в случае постсоветского региона, приводит к тому, что политическая либерализация способствует ослаблению потенциалагосударства осуществлять
основные социально-экономические функции. Что, несомненно, дискредитиру213
ет демократические ценности в обществе, уравнивая их с романической иллюзией, ложным путём, политической и экономической нестабильностью власти.
Учитывая слабость гражданского общества и низкий уровень политического участия граждан африканских стран, можно констатировать серьёзные
препятствия для развития легитимации местных режимов с помощью демократии. Интересно, что некоторые учёные (Т. Лумумба-Касонго, К. Аке) ставят
под сомнение актуальность и полезность либеральной модели демократии в
Африке и решительно выступают за принятие социал-демократической идеологии как более подходящей системы для региона, которая могла бы спровоцировать нужные демократические трансформации [9]. Эти учёные, в основном, исходят из того постулата, что социал-демократия зиждется на тесном сотрудничестве между государством, капиталом и трудом в процессе управления. Подобные предположения подтверждают и другие исследования, согласно которым стало понятно, что либеральная модель демократии не приживается в регионе отчасти и потому, что многие африканские оппозиционные политические
партии практически не получают государственного финансирования. Часть исследователей установила, что государственное финансирование в африканских
странах в значительной степени благоприятствует правящей партии и усиливает позиции доминирующей партийной системы. Не стоит забывать, что на многие политические системы африканских стран повлияло британское колониальное наследие, способствующее в основном созданию благоприятных условий
для феномена так называемой господствующей партии.
По данным учёных Африканского барометра, поддержка в регионе демократии является низкой. К примеру, лишь менее половины жителей Мадагаскара говорят, что демократия предпочтительнее любой другой политической системы. Хотя такие политические институты, как свободные и честные выборы,
многопартийная система, пользуются относительно твёрдой поддержкой демократических институтов, всего 47% малагасийцев поддерживает ограничения
срока для своего президента[14]. Многие жители Мадагаскара считают, что
масс-медиа должны играть важную роль в мониторинге правительства, но
меньше половины респондентов считают, что парламент или оппозиция должны играть подобную роль. Аналогичные явления отмечаются в Нигерии. Так,
если уважение к многопартийной системе медленно растёт, поддержка выборов
как механизма отбора лидеров понизилась, также уменьшилось количество нигерийских граждан, которые желали бы ограничения срока деятельности главы
государства [15], что схоже с архаичными трендами персонализма в постсоветской Средней Азии. В Кении же спрос на демократические институты в целом
остаётся довольно высоким, но поддержка многопартийности неуклонно снижается [13].
Политолог К. Матлоса резюмирует, что, несмотря на успехи демократизации, в африканской политической культуре сохраняется архаичный тренд к
централизации власти. Оппозиционные партии, не представленные в парламентах, обычно чувствуют себя исключенными из политической системы, поэтому
прибегают к протестным акциям, что ещё больше дестабилизирует ситуацию в
регионе и подрывает процессы, направленные на демократизацию [10]. Для Ни214
герии, по мнению местного исследователя ЧинедуОния Ене, нехарактерна целостность политической культуры. Он пишет, что нигерийская политическая
культура в городах трансформируется от подданнической к активистской (партисипаторной) и подданническо-провинциалистской в сёлах. Правда, учёный
оговаривается, что у нигерийцев сохраняются и патриархальные традиции с этно-конфессиональными элементами. Явка на выборы бывает невысокой – в
1999 г. на президентских выборах приняло участи немногим больше 50 %. В
политике доминируют народности хауса, ибо и йоруба. Патриархальные черты
политической культуры этнической природы усматриваются и в Эфиопии.
Местный учёный ТесфайеХуэньяуАсеге считает, что в Эфиопии большую роль
играют политические силы с ярко выраженным регионально-этническим характером. Так, составляя 10% населения страны, представители народности тыграев занимают руководящие посты в государстве. Иными словами, во многих африканских странах присутствует яркая черта патриархальной культуры – трайбализм, выражающийся в практике формирования государственных органов на
основе клановых родоплеменных связей. Корреляция политики с регионализмом роднит африканские режимы с некоторыми постсоветскими среднеазиатскими государствами (Киргизия, Казахстан).
Подводя итоги краткому анализу, следует подчеркнуть, что незавершённость демократического транзита во многих современных государствах происходит по причине серьёзной подмены ценностей демократии матрицей архаичной политической культуры. Этот феномен хорошо виден на примере политических режимов Африки и постсоветских республик Средней Азии. Местные
элиты, после определённых попыток политической модернизации и экспериментов, постепенно осознали, что демократия ассоциируется их гражданами со
слабостью власти и экономической нестабильностью, поэтому они обратились
к тому, что могло консолидировать государство и общество – архаичным традициям политической культуры, понятным всем и каждому. Более того, в африканских государствах это отторжение демократических ценностей имеет ещё
более глубокие причины – в ассоциации элементов политической системы западного образца с чуждой традицией бывших колонизаторов. Архаика взяла
реванш у демократии.
Литература
1. Егоров В.Г., Абрамов А.В., Федорченко С.Н. Сравнительная политология постсоветского пространства. М.: КНОРУС, 2015. 416 с.
2. Федорченко С.Н. Сетевые технологии и легитимность политического режима //
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2015. № 4. С. 129–137.
3. Федорченко С.Н., Федорченко Л.В. Политическая культура России и латиноамериканских стран через призму научных исследований // Развитие политических институтов и
процессов: зарубежный и отечественный опыт: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / отв. ред. И.А. Ветренко. Омск: Изд-во Ом.
гос. ун-та, 2015. С. 193–203.
4. Ake C. Democracy and Development in Africa. Washington D.C.: The Brookings Institution, 1996. 173 p.
215
5. Abazov R. The Political Culture of Central Asia: A Case of Kyrgyzstan // Political Culture
Case Studies / ed. by E. Akerman. UK: Conflict Studies Research Center, 2003. P. 43–55.
6. Abramson D. The Political Culture of Islam, Gender and Development in Uzbekistan.
Washington, D.C.: Brown University, The National Council for Eurasian and East European Research, 2000. 19 p.
7. Benesch S.Words as Weapons // World Policy Journal. 2012. Vol. 29. № 1. P. 7–12.
8. Geldenhuys D. Political Culture in South African Foreign Policy // International Journal of
Humanities and Social Science. 2012. Vol. 2. № 18. P. 29–38.
9. Lumumba-Kasongo T. Reconceptualizing the State as the Leading Agent of Development
in the Context of Globalization in Africa //African Journal of Political Science, 2002. № 7(1).
P. 79–108.
10. Matlosa K. Political Culture and Democratic Governance in Southern Africa // African
Association of Political Science. 2003. Vol. 8. № 1. P. 87–112.
11. Molamu L., Fako T.T. Violence in the Political Culture of Contemporary South Africa //
PULA: Botswana Journal of African Studies. 1994. Vol. 8. № 2. P. 46–67.
12. Political Culture in the New South Africa. Seminar report. Johannesburg: KonradAdenauer-Stiftung, 2006. № 16. 152 p.
13. Popular Attitudes toward Democracy in Kenya: A Summary of Afrobarometer Indicators,
2003–2008, 26 June 2009. 13 p.
14. Popular Attitudes toward Democracy in Madagascar: A Summary of Afrobarometer Indicators, 2005–2008. 17 p.
15. Popular Attitudes toward Democracy in Nigeria: A Summary of Afrobarometer Indicators, 2000–2008. 6 May 2009. 14 p.
16. Webb T.J. Verbal Poison – Criminalizing Hate Speech: A Comparative Analysis and a
Proposal for the American System // Washburn Law Journal. 2011. Vol. 50. P. 445–481.
216
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРСОНАЛИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УКРАИНЫ1
Д.А. Филимонов
канд. социол. наук, доцент
Государственного университета управления (Москва)
Для определения технологий формирования идентичности в современной
Украине и анализа ее исторического генезиса, прежде всего, следует разобраться с ключевым понятием идентичности, выступающей объектом формирования.
Под идентичностью будем понимать свойство психики человека в концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным социальным, экономическим, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим группам
или иным общностям, или отождествление себя с тем или иным человеком, как
воплощением присущих этим группам или общностям свойств. Отсюда государственно-гражданская идентичность – чувство принадлежности к общности
граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективного субъекта. Формирование идентичности в
каждый конкретный исторический момент определяется сформированной к
этому моменту исторической памятью людей. Под исторической памятью следует понимать не столько реально произошедшие события и их значимость,
сколько те события и их интерпретации, которые определяются как значимые
общественным сознанием в данный момент. Ключевую роль в исторической
памяти играют два основных компонента: актуализации, восприятия и трактовки: исторических событий и исторических персоналий. При этом значимость
персоналий, возможно, даже выше, поскольку именно они выступают в качестве эталонов патриотического (или иного одобряемого) поведения на которые
следует равняться в современных условиях. События же при этом выступают в
качестве обстоятельств места и времени [10].
Обратимся к конкретике Украины. В существующих границах в ее составе
выделяют достаточно обширную мозаику исторических регионов: Новороссия,
Слобожанщина (Слободская Украина), Левобережная Украина, Правобережная
Украина, Волынь, Буковина, Закарпатье и Галиция (Галичина). Иногда в качестве самостоятельных регионов еще отличают Подолию, Полесье и Буджак, однако, по мнению автора, в современных условиях в этом нет смысла. Данная
мозаичность обусловлена различием в исторических судьбах этих регионов и,
соответственно, различием их исторического и политического сознания. Не
вдаваясь в анализ каждого из регионов, следует сосредоточить на одном из них,
сыгравшим ключевую роль в формировании идентичности современной Украины, Галиции. Историческая Галиция включает в себя следующие области:
Львовскую, Ивано-Франковскую, Южную часть Тернопольской (с городом
© Филимонов Д.А., 2016
217
Тернополь, но без Почаева, которой следует отнести к Волыни), а также сопредельную часть Польши с городами Пшемысль (Перемышль) и Жешув (Ряшев).
Сложившимся центром региона является город Львов. В составе Киевской Руси
Галиция была Галицким (Галицко-Волынским) окраинным княжеством (Червенские земли). В XIII веке княжество возглавлялось одним из наиболее ярких
политических деятелей того времени князем-королем Даниилом Галицким, сумевшим организовать успешное сопротивление ордынцам и проявившем себя
блистательным европейским дипломатом. Однако в после ордынский период
Галиция довольно быстро потеряла самостоятельность и была захвачена Польшей, в отличие от многих других территорий современной Украины, вошедших
в состав Великого княжества литовского и присоединившихся к Польше позднее вместе с ним. В составе Польши Галиция пробыла до конца XVIII века, когда произошли разделы Польши. Вследствие первого раздела Польши в 1772
году в состав владений Габсбургов (Австрийской империи) отошли Затор и Освенцим, часть Малой Польши, включающая южную часть Краковского и Сандомирского воеводств, а части Бельского воеводства и Русское воеводство (Галиция). В общей сложности австрийские приобретения составили 83 тыс. км² и
2 млн. 600 тыс. человек. Столицей новой австрийской провинции, названной
Королевством Галиции и Лодомерии, был назначен город Львов. В 1786 году к
королевству была присоединена Буковина, сделавшаяся австрийской с 1777 года. По третьему разделу Польши (1795) Австрии досталась северная часть Галиции до реки Западный Буг, названная Западной Галицией, в отличие от
прежде приобретенной Восточной [2; 10].
Именно присоединение Галиции к Австрии явилось отправным событием
формирования украинской идентичности в нынешнем виде. Получив территорию, населенную этническими украинцами (западноруссами) под свой суверенитет, австрийское правительство и его германские союзники, получили возможность создания на идейном уровне антироссийской Руси. Этот процесс
продолжался весь период пребывания Галиции в Австрии, затем АвстроВенгрии до ее распада в 1918 году. Это процесс наблюдался в России, однако,
возможности воздействия на него были ограничены. В частности, в записке по
польскому вопросу чиновник российского МИД Олферев в 1908 г. писал, что в
результате политики австро-венгерских властей в Галиции «украинцы сольются
в единый самостоятельный народ и тогда борьба с сепаратизмом станет невозможной. Пока в Галиции живёт ещё русский дух, для России украинство не так
ещё опасно, но коль скоро австро-польскому правительству удастся осуществить свою мечту, уничтожив всё русское в Галиции и заставить на веки забыть о некогда существовавшей Червонной Православной Руси, тогда будет
поздно и России с врагом не справиться». В феврале 1914 г. бывший российский министр внутренних дел П.Н. Дурново в своей аналитической записке писал про Галицию: «Нам явно невыгодно, во имя идеи национального сентиментализма, присоединять к нашему отечеству область, потерявшую с ним всякую
живую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по духу галичан, сколько мы
получим поляков, евреев, украинизированных униатов? Так называемое украинское или мазепинское движение сейчас у нас не страшно, но не следует да218
вать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов,
так как в этом движении несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего достигнуть совершенно неожиданных размеров». Мы видим адекватные оценки ситуации со
стороны российского чиновничества того времени, однако, оказать воздействие
на процесс, способный уже развиваться самостоятельно, времени и возможности уже, практически, не было. Именно персоналии из Галиции либо выращенные в галицийской традиции стали определять политическое видение украинцев [10].
Теоретическая основа антироссийской украинской идентичности в начале
XX века была заложена Михаилом Грушевским. Грушевский – один из лидеров
украинского национального движения, председатель Украинской Центральной
Рады, профессор Львовского университета (1894–1914), наиболее известен как
автор «Истории Украины-Руси» – монографии, ставшей основополагающим
трудом в истории украинистики и повлекшей острые научные споры, где он
попытался создать новую историографию украинства. Отстаивал тезис об
обособленности славянского населения на территории нынешней Украины,
начиная с середины I тыс. н.э., постулируя концепцию неразрывного этнокультурного развития в регионе, которое, по его мнению, в конечном итоге привело
к формированию особого этноса, отличного от других восточных славян. Таким
образом, согласно концепции Грушевского Русь рассматривалась как форма
украинской государственности, т.е. как «Украина-Русь». Опираясь на данное
историографическое допущение, Грушевский, с одной стороны, провозглашал
этногенетическое различие украинского и русского народов и принципиальное
расхождение векторов их развития, а с другой стороны, постулировал государственную преемственность украинцев как гегемона в отношении Киевской Руси. При этом политика собирания русских земель, предпринятая Великим княжеством Московским в XIV–XVII веках, рассматривалась Грушевским как сугубо негативное явление. Эти положения становятся ключевой отправной точкой дальнейших политико-философских построений, подбора персоналий и событий, формирующих идентичность и их интерпретации.
Какие же персоналии из истории оказались наиболее востребованы для построения исторической памяти, лежащей в основе украинской идентичности?
Кто те герои из истории страны, которые служат «путеводными звездами»? Невозможно обойти тему казачества. Образ казака для украинцев – олицетворение
собственного народа. Но казачество близко и русским. Следовательно, должны
быть выбраны в качестве образцов те казаки, которые в своей деятельности занимали антироссийские позиции постоянно или на протяжении длительных
промежутков времени [7–9].
Наиболее выигрышна здесь фигура Пётра Кононовича Конашевича-Сагайда́чного (ок. 1577–1622). Православный шляхтич герба Побог из Перемышльской земли. Гетман Войска Запорожского, кошевой атаман Запорожской Сечи,
воевавший на стороне Речи Посполитой. Организатор успешных походов запорожских казаков против Крымского ханства, Османской империи и Русского
царства. Перед Польшей стояла цель посадить на Московский престол польско219
го королевича Владислава для чего потребовалась поддержка запорожских казаков для интервенции в Московское царство. Летом 1618 года 20000 запорожцев во главе с Сагайдачным двинулись через Ливны на Москву, захватив по пути Путивль, Рыльск, Курск, Валуйки, Елец, Лебедянь, Данков, Скопин, Ряжск,
разрезая пространство между Курском и Кромами. 20 сентября Владислав подошел к Тушино, а Сагайдачный – к Донскому монастырю в пригороде Москвы. 1 октября Москву атаковали с двух сторон. Во главе московских войск стоял Д. М. Пожарский. В уличном сражении обе армии понесли тяжёлые потери,
однако нападавшие не смогли взять внутренние городские стены. В итоге в деревне Деулино возле Троицкого монастыря 24 декабря 1618 года (3 января 1619
года) было заключено перемирие сроком на четырнадцать с половиной лет. 10
апреля 1622 года гетман скончался от ран, полученных в битве с турками под
Хотином. Фигура казачьего атамана, воевавшего с Москвой, стала наиболее
востребованной. Ему установлены памятники в Киеве и Севастополе (после
воссоединения города с Россией демонтирован), назван флагманский корабль
военно-морских сил Украины, улицы в ряде городов и сел. Очевидно, что в глазах россиян это фигура с негативной репутацией [1].
Кроме того, невозможно обойти вниманием фигуру Богдана Хмельницкого
(1595–1657). Человек слишком яркий и известный, причем известен с негативной для идеологов украинства стороны. В 1648 и 1653 годах он отправлял
письма царю Алексею Михайловичу с просьбой о принятии Украины под
власть России. После решения русского правительства о воссоединении Украины с Россией Хмельницкий возглавил Переяславскую раду 1654 году, торжественно подтвердившую этот акт. Однако здесь эти идеологи смещают оценки:
борьба гетмана на несколько фронтов, возможность тактических союзов, девальвирующая историческую значимость Переяславской рады. Кроме того,
московскую сторону традиционно обвиняют в нарушении условий договоров.
Яркой эпохой, давшей следующих героев стали Первая мировая и последовавшая за ней Гражданская война. Помимо уже упомянутого Михаила Грушевского мы здесь видим целый спектр фигур: Симон Петлюра, Владимир
Винниченко, Николай Михновский и ряд других. Среди этого ряда наиболее
заметен и востребован Симон Васильевич Петлюра (1879–1926). После провозглашения Украинской Народной Республики Петлюра занял в её правительстве
пост генерального секретаря военных дел. В условиях, когда единственной реальной силой стала армия, пост главы военного ведомства УНР стал ключевым.
В ноябре 1918 года стал одним из организаторов восстания против Скоропадского и вошёл в состав так называемой Директории. Петлюра вёл активные переговоры с представительством Антанты о возможности совместных действий
против большевистской армии, с установлением на Украине французского протектората, однако успехов не достиг. В январе-апреле 1919 года основные вооружённые силы Директории были разгромлены украинскими советскими войсками (Украинский фронт) и повстанцами. Члены Директории бежали из Киева.
21 апреля 1920 года Симон Петлюра от лица УНР заключил договор с Польшей
о совместных действиях против советских войск. В соответствии с достигнутым соглашением, правительство Петлюры обязывалось взамен на признание
220
оказывать помощь полякам в борьбе с большевиками. Условия договора оказались крайне тяжёлыми – УНР согласилась на установление границы между
Польшей и Украиной по реке Збруч, тем самым признав вхождение Галиции и
Волыни в состав Польши. Союз с Петлюрой позволил полякам значительно
улучшить свои стратегические позиции, развернуть наступление на Украине.
7 мая поляки заняли Киев, затем плацдармы на левом берегу Днепра. Однако в
результате успешных операций Красной армии во второй половине мая – июле
польские войска были вынуждены отступить. В марте 1921 года РСФСР, УССР
и Польша подписали Рижский мирный договор, завершивший советскопольскую войну (1919-1921). Петлюра эмигрировал в Польшу. В 1923 году
СССР потребовал от польских властей выдачи Петлюры, поэтому он переехал в
Венгрию, затем в Австрию, Швейцарию и в октябре 1924 года – во Францию.
Петлюра был убит 25 мая 1926 года в Париже. В настоящее время Петлюра
востребован как борец с советской властью, навязанной из Москвы. В условиях
отождествления общей с Россией истории с советским и царским прошлым (с
их точки зрения, разумеется, мрачным, тоталитарным, нецивилизованным, лишенным гуманистических начал) такая фигура очень значима [4].
Примерно в том же качестве привлечены фигуры более поздней эпохи:
Великой Отечественной войны. Эти фигуры ныне известны даже людям далеким от политики: Степан Бандера (1909–1959), Роман Шухевич (1907–1950),
Евгений Коновалец (1891 (1892?)–1938), Андрей Мельник (1890–1964). Личности этих фашистских пособников вызывают резкое отторжение всех, кто чтит
память погибших в великой войне. Но для современных идеологов украинства
именно это отторжение и высокий уровень его эмоциональности представляют
особую ценность: возведение их в ранг героев наиболее радикально решает задачу духовного и идентичностного отторжения украинцев от россиян [3; 5].
Можем заключить, что спектр персоналий, выбираемый для построения
украинской идентичности, обладает очевидной полнотой. Он охватывает все
исторические периоды от Киевской Руси до наших дней, наиболее значимые
для решения поставленной задачи или уже задолго до ее постановки вошедшие
в историческую память. Позитивные модели поведения исторических персоналий связаны с противостоянием России. Набор персоналий берется таким образом, чтобы подтвердить заложенную Грушевским идею о вечном украинороссийском противостоянии, и сформировать украинскую историческую память и идентичность как антироссийскую. Эта задача как была актуальна для
австрийцев и немцев в конце XVIII – начале XX веков, так и для недругов России сегодня. Следовательно, нам следует осознать это как постоянный вызов, в
отношении которого должна вестись систематическая работа на высоком качественном уровне [6].
Литература
1. Брехуненко Віктор Війни українських козаків з Росією до часів Богдана Хмельницького. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН
України, 2007. 287 с.
2. Галушко К. Украинские пределы: Украина и украинцы в европейской картографии
от Античности до ХХ века: научно-популярное издание. К., 2014. 143 с.
221
3. Кук, Василь. Життя і діяльність Степана Бандери: документи й матеріали / редактор і
упорядник – Микола Посівнич. Тернопіль : Астон, 2008. С. 52–57.
4. Кульчицький С. Закономірності формування української політичної нації // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць / ред.
кол.: Я. Верменич, В. Даниленко, Т. Євсєєва (заст. відп. ред.), Г. Єфіменко, С. Кульчицький
(відп. ред.), В. Марочко, А. Морозов, О. Удод, Л. Якубова. НАН України. Інститут історії
України. Вип. 23. К.: Інститут історії України, 2015. С. 22–68.
5. Иванов В.К. Особенности политического PR-менеджмента в России // Вестник Московского государственного областного гуманитарного института. Серия: История, философия, политология, право. 2015. Т. 2. № 2–2 (2015). 6 с.
6. Соколов Н.Н. Глобализация как социально-инновационный процесс трансформации
общества // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2009. № 25.
С. 212–215.
7. Туровский А.А. Стратегия в системе управления // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2007. № 3 (29). С. 227–235.
8. Туровский А.А, Левчугова Н.А. Теоретико-методологическая основа стратегии власти // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2009. № 25. С.
158–163.
9. Туровский А.А., Ефремов Р.Ю. Стратегия модернизации государственного управления // Вестник университета (Государственный университет управления). 2014. № 7. С. 85–
88.
10. Филимонов Д.А. Украина XX–XXI вв.: персоналии и идентичности // Университетские субботы в ГУУ: цикл лекций / Минобрнауки РФ, Департамент образования города
Москвы, Государственный университет управления. М.: Издательский дом ГУУ, 2015.
С. 284–302.
222
ЗАПАДНЫЕ ИДЕИ ФОРМИРОВАНИЯ
НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ1
А.Н. Харин
канд. ист. наук, доцент
Кировского филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Процессы глобализации, сопровождаемые регионализацией с одной стороны, а с другой – нарастание глобальных проблем, содействуют большей интеграции отдельных групп наций-государств. Не случайно некоторые исследователи поднимают вопрос о создании более эффективных наднациональных органов власти, способных осуществлять глобальные управленческие функции.
Указанное обстоятельство находит выражение в разного рода глобалистских
теориях и концепциях глобального управления, имеющих не только определённый политический контекст, но также философские предпосылки и, отчасти,
потребности практики.
В данной статье нас будут интересовать существующие на Западе концепции формирования всемирных органов управления. Взгляды отечественных авторов отчасти нами были проанализированы раньше [1].
Говоря о западных авторах, следует отметить, что чаще в их работах речь
идёт о глобальном управлении, что является совершенно иным феноменом,
нежели об идеологии глобализма. Однако отчасти подобные дискурсы пересекаются. Даже говоря о глобальном управлении, западные авторы предполагают
вероятность создания наднациональных органов власти, мирового правительства, что близко к тематике данного исследования. Как правило, данный тезис
обосновывается «кризисом Вестфалии» или размыванием государственного суверенитета. Нация-государство переживает кризис, что и является одним из аргументов по созданию наднациональных органов власти.
Д. Капорассо и М. Мадейра пишут о том, что крайним вариантом формирующейся глобальной системы будет мировое правительство, централизованное государство, которое в своей самой демократической версии начнёт представлять все народы мира. Среди опасных тенденций глобального управления
авторы усматривают возможности установления всемирной тирании, разрушения местных традиционных ценностей [2, p. 81, 98–99].
Оксфордский профессор Энтони Макгрю разрабатывает идею космополитической демократии [3, p. 37]. Суть проекта – создание основы для объединения таких тенденций как демократизация глобального управления и стремление
к глобальной социальной справедливости. По мнению Макгрю, обозначенная
тенденция ведёт к развитию и институционализации отдельных ценностей социальной демократии: главенства закона, политического равенства, демократического управления, социальной справедливости, социальной солидарности и
экономической эффективности в условиях глобальных систем.
© Харин А.Н., 2016
223
Э. Макгрю в этом плане приводит мнения сторонников космополитичной
демократии, полагающих, что такой феномен коренится в реально существующих условиях глобальной политики:
1) изменении поствестфальского порядка;
2) сочетании, хотя и очень нестабильном, таких элементов, как демократические принципы и реальная политика;
3) наличие в мире широкой политической дискуссии о демократических
полномочиях существующего глобального комплекса управления.
Таким образом, может выстроиться глобальная гуманная политика, мировое гражданское общество, оказывающее влияние на государства, и, скорее всего, хотя автор об этом и не говорит, на другие глобальные политические институты.
Если Э. Макгрю пишет в основном об идее космополитической демократии, то Р. Фальк выделяет два типа эскапистских, по его мнению, прогнозов.
Во-первых, ностальгическое обращение к идее небольших местных общин, основывающихся на высокой степени интеграции. Такие образы питаются идеями
самоопределения и социальной сплочённости традиционных народов. Вовторых, эволюция в сторону функциональных общин, которые должны стать
предпосылками появления планетарной формы правления [4, p. 14].
Рассматривая кризис «Вестфалии» в контексте глобализации, Фальк понимает под последней преобладающую тенденцию к экономической интеграции,
или более фундаментально, как сигнал о рождении планетарной структуры, в
которой доминируют рыночные силы [4, p. 18]. Сам автор признаёт условность
данного понятия. В целом он выделяет два вида глобализации:
1) глобализация сверху – деятельность транснациональных корпораций;
2) глобализация снизу – функционирование международных неправительственных организаций, формирование глобального гражданского общества.
Старый Вестфальский, «государствоцентричный» порядок, по мысли автора, не должен сохраниться. Несомненно, роль государств остаётся решающей и
не следует предполагать его исчезновение. Но поствестфальские государства
станут всё более подвержены внешним и внутренним стандартам отчётности,
верховенство закона должно распространиться на внешнюю политику правительств, которая будет корректироваться с демократической практикой. Одновременно региональные учреждения станут жизненно важными субъектами,
придерживающимися рамок, обеспечивающих конституционализм и коллективное благосостояние в пределах региональных границ. Также они будут
участвовать в усилиях по повышению качества и количества глобальных общественных благ [4, p. 27–28].
Регионализм таким образом будет содействовать распространению «положительного глобализма» (в терминологии Фалька). Последний рассматривает
структуры управления в мире как желательные. Подобные институты поддерживают права человека, справедливость, социальное развитие подотчетность
руководителей, верховенство закона, демилитаризацию. Учитывая опасения в
мире по поводу гомогенизации идентичностей, культурного разнообразия и
чрезмерной централизации, поощрение сильных региональных учреждений
224
может работать в качестве дополнения положительного глобализма, предлагая
тем самым, народам желаемый для них глобальный порядок [4, p. 54].
Учёный признаёт и наличие негативного или отрицательного глобализма,
являющегося неблагоприятным последствием экономической, политической и
культурной интеграции на глобальном уровне.
В целом же Р. Фальк, с одной стороны, как и некоторые его коллеги, связывает глобальный миропорядок с распространением по всему миру демократии. С другой стороны, указывает на формирование регионов, как одну из важнейших предпосылок создания нового мирового порядка.
Американский политолог Д. Най-младший трактует глобализм не столько
как совокупность идей, взглядов, а скорее как процесс (что характерно для части представителей политологического сообщества). Но как же тогда быть с
глобализацией? Най, подобно ряду авторов разграничивает понятия «глобализм» и «глобализация». Если первый – система связей, взаимодействий современного мира, то под последней понимается увеличение или снижение степени
глобализма. Другими словами, глобализм – основная сеть взаимодействий, а
глобализация – динамическое сокращение расстояния в больших масштабах [5].
Глобализм явление древнее и более адекватно оно описывается в категориях «тонкий» и «толстый». В качестве примера «тонкого глобализма» можно
привести Великий Шёлковый путь, связывающий в древности Европу и Азию.
Переход от «тонкого» к «толстому» глобализму, по мысли Д. Ная, содействует
ускорению глобализации.
Так, по Великому Шёлковому пути передвигались преимущественно небольшие группы торговцев, и он оказывал непосредственное воздействие только на регионы, находящиеся вдоль пути. Но современные финансовые операции оказывают большее воздействие и на более далёкие расстояния. В результате при глобализации происходит «утолщение» глобализма.
Однако американский политолог оговаривается: глобализм не подразумевает универсальности и более сильно он может ощущаться в одних регионах
мира, по сравнению с другими. Например: на рубеже XXI века четверть американцев использовала «Всемирную паутину», одновременно из жителей Южной
Азии к ней имели доступ только одна сотая процента.
Словно отвечая оппонентам, связывающим процессы глобализации либо с
опасностью гомогенизации мира, либо с несправедливостью, Джозеф Най констатирует, что эти процессы никак не связаны с глобализацией.
Исследователь также выделяет четыре различных измерения глобализма:
1) экономическое;
2) экологическое;
3) военное;
4) социальное и культурное.
Д. Най полагает, что данное деление условно, однако помогает при анализе
феномена глобализма. При этом Най указывает на его непредсказуемость,
наличие нескольких вариантов данного явления.
Свой вариант глобализма разрабатывает американский политолог АннаМари Слотер. По её мнению, народам и их правительствам по всему миру нуж225
ны институты глобального характера, способные решить нарастающие проблемы, актуальные для всего человечества [6, p. 8]. Это обусловлено ослаблением
эффективности прежних институтов, созданных после Второй мировой войны.
Но парадокс ситуации, по мнению А.М. Слотер, в том, что, с другой стороны часть мировой общественности опасается возможности создания мирового правительства, полагая, что это несёт угрозу свободе личности.
Выход – в создании мирового порядка на основе правительственных сетей,
работающих совместно, и даже вместо более традиционных международных
институтов. Правительственные субъекты, входящие в глобальные политические сети, должны взаимодействовать с широким спектром неправительственных организаций (НПО). Вместе с тем, их роль в управлении носит самостоятельный характер и отличается наличием разнообразных обязанностей. Такой
порядок имеет большой потенциал. Данные сети существовали и раньше. Новым является масштаб, объём и тип межправительственных связей. Сети выполняют более широкий спектр функций, нежели в прошлом: от сбора и извлечения информации до рекомендаций бедным и менее опытным членам.
Таким образом, строящийся порядок будет миром глобальных сетевых
взаимодействий самых разнообразных организаций (правительственных и неправительственных). Именно такой сетевой мир лучше сможет решать многие
проблемы глобального управления [6, p. 10–11].
Затрагивает А.-М. Слотер и судьбы нации-государства. Американский политолог считает, что будет происходить определённая децентрализация, связанная с ростом потребности государственных учреждений к участию в мероприятиях за пределами своих границ, часто с их зарубежными коллегами.
Складывающееся взаимодействие вертикальных и горизонтальных государственных сетей образует новый мировой порядок, отнюдь не заменит существующую инфраструктуру международных институтов, а дополнит и укрепит
её. Государства могут быть разбиты для многих целей, и во многих контекстах,
но одновременно всё ещё являться полностью унитарными акторами в случае
необходимости, например, при решении вопросов, связанных с войной [6,
p. 18–19].
Немецкий социолог У. Бек размышляя о возникающих конфликтах обозначает два варианта политики глобальной безопасности. Оба они основываются на принципе глобальной ответственности и стремятся к преодолению прежнего международно-правового порядка, базирующегося на суверенных национальных государствах [7, с. 196]. Однако при этом обе эти тенденции противостоят друг другу.
Первый вариант – это т.н. «Pax Americana». Главный принцип данной модели – иерархичность. Система «Pax Americana» функционирует отталкиваясь
от тезиса о наличии существенного рубежа между государствами: «мы» и
«они». Первые – сообщество миролюбивых демократических государств Запада, вторые – «страны-изгои», несостоявшиеся государства и диктатуры.
Данный подход к мировой политике отвергает какое-либо равенство. Тем
более, что и сами американцы уверены в своей исключительности, военном и
моральном превосходстве, даже по отношению к европейцам. Более того, мо226
дель «Pax Americana» не только выстраивает вертикаль отношений с другими
странами, но и подменяет собой ООН.
Данной милитаризованной модели противостоит иная – своеобразный всемирный космополис. Второй вариант подразумевает структурирование федеративной системы государств, имеющей глобальный масштаб. Эта система будет
состоять из региональных и континентальных образований, блоков, альянсов,
способствующих централизации власти, с одной стороны, а с другой – являющихся для неё противовесом. Главный принцип функционирования всемирного
космополиса – равенство и сотрудничество. Глобальное право здесь важнее и
становится выше мирового гегемона который, несмотря на свою мощь, всего
лишь «первые среди равных» в данной системе. Для реализации указанной модели необходимо реформировать международное право и организации, основываясь на признании специфики других и множественности вариантов модернити. Из этого вытекает принятие глобального закона, предусматривающего согласованность действий региональных объединений [7, c. 199].
Суть противоречия обоих принципов У. Бек усматривает в столкновении
двух принципов – горизонтального и вертикального, американской глобальной
односторонности и многосторонности, тенденций ослабления и разрушения глобального права. Обе модели являются слабыми, что осложняет отношения между
ними, но при этом Бек отмечает, что непримиримый антагонизм между ними исключён. В то же время в самом конфликте немецкий социолог не видит ничего
катастрофического, а наоборот, усматривает продуктивные моменты. Подобное
противоречие является необходимой предпосылкой глобального либерализма и
открытого космополитического общества. Такой конфликт – это своеобразное
противостояние идей, помогающее дальнейшему развитию общества.
Примерно в то же время, что и У. Бек (середина «нулевых»), со своей идеей выступил американский социолог А. Этциони. Главная цель его концепции –
помочь «трансформировать американскую квазиимперию в иную – легитимную
– глобальную конструкцию, столь необходимую человечеству» [8, p. 4].
Как и другие авторы, А. Этциони указывает на то, что в мире возникает
потребность в формировании глобальных институтов, тем более, что старая
«государствоцентричная» модель устаревает [8, p. 19]. При том Этциони отвергает идеи, согласно которым мир должен брать и заимствовать только западные
институты. Вполне возможно построение глобального сообщества, сочетающего как западные так и восточные ценности: это будет содействовать возникновению новой культуры и морали, основанных на творческом заимствовании,
переработке.
Уже на глобальном уровне вырастает нормативный синтез, что способствует формированию мирового сообщества. Поэтому и основной тенденцией
современности будет создание глобальной модели справедливого общества,
привлекательной для многих стран, однако при этом сохранятся и вариации
этого проекта на местах.
Этциони наиболее оптимальным считает формирование монофункциональных наднациональных государственных структур – глобальных агентств
безопасности, здравоохранения и т.п.). Все они будут отвечать за отдельные
227
направления и тем самым участвовать в формировании новой глобальной власти. Такие органы, по мысли А. Этциони, могут столкнуться с самыми разнообразными проблемами: несогласие в ценностях, нарушение координации действий. Но главный аргумент автора – и наднациональные структуры в наше
время сталкиваются с подобными сложностями [8, с. 236–237]. Поэтому нужны
институты, в рамках которых могло бы осуществляться широкомасштабное согласование интересов.
Также необходимо создание наднациональных структур, способных осуществлять решения глобальной власти (например, Международный трибунал
по правам человека). Формирующиеся региональные блоки также должны сыграть свою позитивную роль в глобальной архитектуре мира.
Несколько лет назад американский политолог П. Ханна выступил со своей
теорией глобального управления. Развивая концепцию нового Средневековья,
он отмечает, что происходит не только ослабление государственной власти, но
и распыление самого процесса управления. Это требует и появление дипломатии нового типа. Всевозможные неправительственные организации, ТНК всё
чаще выступают в роли активных субъектов геополитики. В этом плане правительственные ведомства, например американское, не всегда поспевают за политическим процессом [9, с. 59]. Нации-государству в такой ситуации необходимо использовать новые субъекты международных отношений, а не стараться
подавлять их.
Одновременно в мире формируются регионы со своими нормами и лидерами, следящими за безопасностью у себя. Мир всё более структурируется регионами. И в этом плане, полагает П. Ханна, региональные организации должны быть сильнее мировых [9, c. 101].
В связи с нарастающими конфликтами, ростом преступности и т.п. П. Хана
выступает с идеей нового колониализма, предполагающего активное применение силы в несостоявшихся государствах, вплоть до ввода войск, организации
антиправительственных заговоров и убийств [9, c. 137]. Можно констатировать,
что автор считает допустимым вмешательство в дела других стран.
Существуют на Западе и концепции, отрицающие возможность создания
единого глобального миропорядка. Так американский исследователь В. Сиджесвари, рассматривая процессы глобализации, замечает, что данная тенденция означает диверсификацию, и, следовательно, она создает множественный
мир. Это не простое сосуществование разных человеческих миров, или сообщество, в котором множество является лишь кажущимся, поскольку одно конкретное мировоззрение и образ жизни простирает свою гегемонию на всей планете. Нет, всё-таки глобализацию необходимо понимать как новую основу
дифференциации [10, p. 33]. Плюрализм означает множество разных путей
жизни, а также и цивилизационный плюрализм. По мнению автора, в отличие
от настоящей гегемонистской мировой системы, в мире цивилизационного
плюрализма не будет общезначимых демократических политических форм, ни
рыночных механизмов в качестве основы для экономической деятельности, ни
общеобязательных форм структурирования общественной жизни.
228
В целом, если сопоставить концепции западных авторов, то можно увидеть
следующие моменты. Во-первых, представители многих концепций указывают
на кризис нации-государства и Вестфальской системы в целом, с чем отчасти
можно согласиться.
Во-вторых, западные авторы, как правило, оптимистично рассматривают
процессы глобализации. В их работах доминирует оптимистический настрой,
уверенность, что формирующееся мировое сообщество сможет преодолеть возникающие глобальные проблемы совместно.
В-третьих, несмотря на определённые различия, для большинства из этих
подходов характерно признание, что над нацией-государством в будущем вырастет надстройка в виде транснациональных политических институтов. В случае становления такого «глобального космополиса» суверенитет нацийгосударств претерпел бы изменения.
Но данный подход малореализуем по ряду причин, отчасти в силу своей
идеологической заострённости, что вызывает отторжение. Другим фактором
служит слабая концептуальная проработанность глобалистских концепий. Следует также учитывать сложность и многообразие мира: если возникают серьёзные проблемы внутри своеобразных локальных прообразов глобального государства (например, Евросоюза), то, что говорить о самом мировом мегагосударстве?
Скорее всего, речь может идти именно о региональных организациях,
структурах, блоках. В этом плане боле адекватны мнения тех западных политологов, кто полагает, что наднациональные органы должны создаваться на основе региональных объединений.
Литература
1. Харин А.Н. Модели государственного устройства в условиях глобализации: сценарии для России. М.: ИД «Наука», 2013. 208 с.
2. Caporaso J.A., Madeira M.A. Globalization, institutionis and governance. Los Angeles:
CAGE, 2012. 190 p.
3. The Globalization of World politics. An introduction to international relations / Edited by J.
Baulis, S. Smitch and P. Owens. Oxford University Press. 2005. 812 p.
4. Falk A. Richard. The Declining World Order. Americas imperial geopolitics. New York
and London: Routledge, 2004. 260 p.
5. Nye J. Globalism Versus Globalization. What are the different spheres of globalism – and
how are they affected by globalization? / [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.theglobalist.com/globalism-versus-globalization/, свободный (дата обращения:
29.03.2015).
6. Slouter A.-M. A New World Order. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2004. – 341 p.
7. Бек У. Космополитическое мировоззрение. М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2008. – 336 с.
8. Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. М.: Ладомир, 2004. – 384 с.
9. Ханна П. Как управлять миром. М.: Астрель, 2012. – 319 с.
10. Segesvary V. World state, nation states, or non-centralized institutions. A vision of the
Future in Politics. Oxford: University Press of America, 2003. – 232 p.
229
ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ (ТРАНСГРАНИЧНЫХ) ОТНОШЕНИЙ1
О.В. Цветкова
канд. полит. наук, доцент
Ульяновского государственного университета
Современные межрегиональные (трансграничные) отношения основаны на
сотрудничестве между приграничными субъектами и их властями. Четкое понимание адекватного и эффективного механизма межрегиональных (трансграничных) отношений позволит систематизировать внутристрановой опыт в политико-территориальной структуре современного общества и выявить уникальный инструмент решения локальных проблем пограничья.
Прежде чем приступить к рассмотрению главного предмета данной статьи
– развитию современных межрегиональных (трансграничных) отношений, мы
считаем необходимым коснуться ряда вопросов методологического плана. В
последнее время заметен рост интереса исследователей к новой предметной области междисциплинарного знания – трансграничным отношениям. Категория
«трансграничные отношения» на сегодня действительно широко вошла в профессиональный обиход представителей социальных и экономических наук.
Анализируя состояние и динамику трансграничных отношений, необходимо, на наш взгляд, проанализировать феномен трансграничья в различных контекстах.
Термин «трансграничный» состоит из значений слов «транс» и «граница»,
здесь же рассматриваются смысловые признаки трансграничных территорий с
географической точки зрения (трансграничные геосистемы юга Дальнего Востока России) [1, с. 17].
В политической науке трансграничные отношения исследуются не так
давно, в основном это период относится к концу 90-х годов XX. В политическом употреблении используются понятия приграничный («cross-border») и
трансграничный («transborder»). Термин «cross-border» применяется для характеристики прямых контактов приграничных регионов, «transborder» для широкого круга вариантов трансграничного сотрудничества на всех территориальных уровнях.
Трансграничность с точки зрения политической науки рассматривает теоретические основы исследования трансграничных территорий, географические
границы как один из элементов контакта властных структур. Для изучения этих
феноменов применяется в основном геополитический подход.
С точки зрения системного подхода представляется возможным проанализировать трансграничье как сложную динамическую систему, включающую в
себя единство условно позитивных и негативных, т.е. противоположных, процессов (миграция населения, терроризм).
© Цветкова О.В., 2016
230
Трансграничные отношения развиваются в трансграничных регионах. Под
трансграничным регионом понимается охватывающая части территорий двух
или нескольких соседних государств социально-экономическая система, характеризующаяся определенным единством природной первоосновы и расселения,
трудовых и культурно-бытовых связей населения, хозяйства инфраструктуры, а
также нередко исторических, этнических и культурных традиций [2, с. 359].
Термин «трансграничный регион» содержит три компонента: более или
менее ограниченное пространство; сообщества или группы населения и взаимоотношения, возникающие между ними. Все это в целом может повлиять на
существование самой границы. Понятие «пространство», применительно к приграничным регионам, которое в свою очередь, объединяет три вида приграничных территорий: зоны, «полюса» и политические и административные единицы
[3, с. 243–244].
В пограничных регионах общественные отношения дифференцируются на
трансграничные и интраграничные. Если первые связаны с необходимостью
пересечения границы субъектами или объектами, принадлежащими к разным
обществам (национальным общественным системам), то вторые в полной мере
осуществляются в пределах контура границ отдельного государства и соответствующей общественной системы [4, с. 8].
Большинство субъектов Российской Федерации являются пограничными.
В основном особое желание в сотрудничестве исходит от пограничных регионов. Ведь, несмотря на то, что два государства разделены границей, они зачастую имеют одни и те же проблемы, требующие решения. Именно поэтому региональные сообщества стремятся к сотрудничеству.
В основном трансграничные соглашения заключаются между странами
СНГ, основными партнерами российских регионов выступают Украина, Казахстан и Беларусь. Из стран «дальнего зарубежья» наибольшее число соглашений
подписано с КНР, Венгрией, Германией, Польшей, Словакией.
Прежде всего, следует отметить, что развитие моделей трансграничных
отношений напрямую зависит от федеративного устройства России, так как
распределение полномочий происходит исходя из приоритета территорий.
Отметим, международная и внешнеэкономическая деятельность регионов
в отношении трансграничного сотрудничества регионов, отвечая их интересам,
не должна вступать в противоречие с интересами федерации в целом.
Основной интерес представляет выявление оптимальных международных
моделей трансграничных отношений, описание основных принципов работы и
составляющих компонентов.
На межгосударственном уровне сочетаются звенья, состоящие из функций
охраны границы (контактной, барьерной и фильтрующей) и функции межгосударственных связей (таможенные и транспортные структуры). Сочетание всех
этих звеньев составляет приграничную инфраструктуру, обеспечивающей развитие трансграничной сети в международной модели трансграничных отношений.
Трансграничные отношения влияют на экономическое, социальное и культурное развитие пограничных регионов, где складываются четыре типа пограничных территориальных систем:
231
1) открытый приграничный регион при высокой пропускной способности
и открытом характере границы с широким спектром интенсивных внешних однонаправленных связей в рамках региона;
2) закрытый централизованный регион с закрытой непроницаемой (барьерной) границей с ориентацией связей в региональный центр, что ведет к оттоку ресурсов с периферии и усиливает уровень поляризации;
3) приграничный «регион − мост» с частично открытой границей, где
складываются «пункты – переходы» обмена товаров, с сохранением частичной
изоляции соседних регионов;
4) приграничный регион – «контактная зона» с открытыми границами, развитыми связями приграничных сообществ, экономическим и интеграционным
сотрудничеством, превалированием трансграничных связей над внутрирегиональными взаимодействующими территориальными системами [5, с. 47].
Закрытая модель. Закрытая модель характеризуется централизованной системой с непроницаемой границей. В ней доминирует барьерный приграничный эффект, формирующий однонаправленные связи к региональному центру,
усиливающие эффект периферийности приграничных территории и рост диспропорций на линии «центр – периферия». Ресурсы в центральных районах
черпаются за счет периферийных территорий.
Закрытая модель связана с общественными представлениями о безопасности. Регионы с закрытой и непроницаемой границей имеют строгий военный
режим. Эта тенденция часто приводит к социальной и экономической «разрухе» территории. Наблюдается тенденция считать границы с Афганистаном и
Пакистаном источником национальной и региональной безопасности (наркотики, терроризм, нелегальная миграция и т.п.), что усиливает барьерные функции
границы.
Следует отметить, что барьерные функции границы могут меняться на
фильтрующие. Это связано с тенденцией урегулирования и разрешения пограничных конфликтов, когда противоречия преодолеваются в результате экономических и идеологических интересов регионов. Полный контроль любых трансграничных потоков усиливает барьерные функции границ и тем самым негативно влияет на экономику и общество, так как развитие должно происходить при
сотрудничестве, товарообороте и обмене информации между регионами.
Коэкзистенциональная модель характеризуется узким спектром контактов
в отдельных областях. Фильтрующая функция создает неблагоприятные условия для распространения какого-либо явления или процесса в приграничной
полосе. Фильтрующая функция границы пропускает потоки одного вида и препятствует прохождению потоков другого вида. Препятствия проявляются в
случае, если граница района совпадает с каким-либо существенным физическим или экологическим барьером. С помощью фильтрующей функции границ
страна проводит отбор товаров, людей, культурных ценностей, товаров, информации, регулируя их потоки на свою территорию и во внешний мир. Граница-фильтр не отличается большой прозрачностью, через нее осуществляется
взаимодействие, стороны развивают сотрудничество, но устанавливают на сво232
их границах определенный контроль для минимизации нежелательного внешнего воздействия.
В этой модели формируется фильтрационный пограничный эффект в пограничных зонах, а в случае снижения пропускной способности усиливается
эффект концентрации на пограничных переходах, что имеет как положительное, так и отрицательное влияние.
Трансграничные отношения, складывающиеся в рамках коэкзистенциональной модели, не развиты, поскольку посещения некоторых территорий в регионах ограничено в интересах безопасности государства. Фильтрующие функции появляются у регионов, где отмечается этнополитическая нестабильность,
когда вводится особый режим допуска на эту территорию.
Сегодня непростые процессы, такие как нерешенность проблемы разделенных народов, активная этническая миграция наблюдаются на границах регионов Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край).
Кооперационная модель. В этой модели усиливается контактный приграничный эффект, снижается уровень диспропорций центра и периферии, зарождается новый иерархический уклад региональной социально-экономической системы, происходит широкий взаимодополняющий обмен услугами разного вида
(коммуникационные, финансовые, сервисные). На сегодняшний день границы
между Литвой и Латвией, Латвией и Эстонией характеризуются как контактные
с высокой перспективой интеграции и коммуникационной сферой.
Интеграционная модель формирует потребности во внешней коммуникации. Интеграционная модель строится на развитие этнических, конфессиональных, гуманитарных и экономических связей, усиливает интерес государств к
участию в глобальных процессах, преодолевая препятствия между связями границ.
Как показывает анализ, сложившийся практики, региональное сотрудничество, особенно в форме трансграничной кооперации («еврорегионов»), призвано стимулировать, не только экономический рост и жизненный уровень сообщностей, расположенных в периферийных зонах государств, но и превратиться в
инструмент защиты и развития национальных меньшинств по обе стороны границы.
Интерес к трансграничным связям для государственной политики может
выражаться в стремлении к интеграции с государством, особенно в экономической сфере. Интеграционная модель характеризуется формированием единого
экономического пространства. Примером интеграционной модели выступают
еврорегионы: «Неман», «Балтика» (с 1998 года), «Саул» (с 1999 года), «Карелия», учрежденный Республикой Карелия и рядом прилегающих финских губерний в 2000 году, «Псков-Ливония», учрежденный Псковской областью и соседними районами Эстонии и Латвии в 2004 году.
Модель носит интеграционный характер, в связи, с чем при восходящем
развитии интеграционных группировок границы из защитных рубежей превращаются в линии широкого международного взаимодействия, а приграничные
районы все сильнее выступают как мосты сотрудничества. В сентябре 2011 го233
да была принята Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2012-2017 годы. Программа определила важнейшие направления взаимодействия сторон по
вопросам развития межрегионального и приграничного сотрудничества, а также приоритетные сферы сотрудничества субъектов Российской Федерации и
административно-территориальных образований Республики Казахстан, в том
числе с целью оказания системной поддержки на государственном, региональном и местном уровнях[6].
В сентябре 2011 года была принята Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2012-2017 годы. Программа определила важнейшие направления
взаимодействия сторон по вопросам развития межрегионального и приграничного сотрудничества, а также приоритетные сферы сотрудничества субъектов
Российской Федерации и административно-территориальных образований Республики Казахстан, в том числе с целью оказания системной поддержки на государственном, региональном и местном уровнях.
Технологии моделирования трансграничных отношений включают в себя
приемы и процедуры, которые вырабатывают алгоритмы действий акторов, ответственных за региональное развитие и трансграничные отношения.
Технологии развития трансграничных отношений включают три основных
компонента: 1) специфику знаний о регионе, 2) приемы, процедуры и методики
действия, проводимые региональными властями; 3) ресурсы (экономические,
технические) данного субъекта.
Технологии формирования межрегиональных программ по развитию
трансграничных отношений.
Технология формирования межрегиональных программ по развитию
трансграничных отношений включает в себя ряд параметров региона: продукция (ассортиментный ряд и качество выпускаемой продукции); экономические
показатели (налоги, капитальные вложения, доходы и расходы бюджета, финансовые ресурсы и затраты, валовый региональный продукт, для предприятий
– прибыль, для бюджетов администраций – объем совокупной экономии бюджетных средств).
Отметим, что региональные власти и предприятия региона пытаются найти
возможность для увеличения объемов продаж и доходов от трансграничного
сотрудничества. Повышается конкуренция между субъектами.
Перечислим основные этапы технологии формирования межрегиональных
программ по развитию трансграничных отношений.
1. Формирование целей и критериев развития региона.
2. Формирование списка потенциальных партнеров (регионов международного и внутристранового измерения).
3. Формирование перечня предприятий данного субъекта, участвующих в
трансграничном сотрудничестве и выпускающих товар для экспорта.
4. Разработка и реализация программ по взаимовыгодному сотрудничеству.
234
Существенным является этап разработки взаимосвязанной стратегии развития между субъектами. В каждой административно-территориальной единице разрабатывается программа реформирования, где согласуются интересы
предприятия и административных структур власти данного региона.
Технологии трансграничной коммуникации регионов
Трансграничная коммуникация посредством других видов связи, по-прежнему, в значительно большей степени ограничена национальными государственными границами. На внутристрановом уровне процессы межрегиональной
(трансграничной) коммуникации происходят более интенсивно и связано это с
отсутствием барьерной функции границ между регионами. Во второй половине
XX в. связи с научно-техническим прогрессом значительную роль в развитие
технологии стали играть новые виды связи (сотовая телефонная связь, глобальные компьютерные сети, системы спутниковой связи, ряд других средств передачи информации), что принципиально активизировало трансграничный информационный обмен между регионами.
Системы связи развиваются в направлении от возможностей передачи информации в одностороннем направлении к взаимному обмену сообщениями
(коммуникации между участниками системы связи).
Основные принципы, которые закладывают основу технологии трансграничной коммуникации регионов:
• партнерство (детальные консультации, общие решения);
• общая выгода для стран-партнеров (общие программы, общее руководство, совместные проекты, равный статус партнеров по программе);
• комплементарность (поддержка реализации стратегического партнерства
ЕС-Россия: дополнение к национальным программам)
• совместное финансирование (каждый из партнеров задействует собственные ресурсы).
Технология трансграничной коммуникации регионов направлена на развитие трансграничного сотрудничества между регионами. На международном
уровне технология предполагает реализацию между регионами разных стран
трансграничных проектов в различных сферах (экономических, социальных,
экологических, культурных), результат налаживание взаимосвязей между
участниками проекта. Формирование сетевой формы трансграничного сотрудничества развивает взаимодействие между акторами различных уровней по обе
стороны границы, на этой стадии формируются трансграничные регионы (мегарегионы – ЕС, СНГ; международные макрорегионы – союз России и Беларуси, Балтийский регион, Бенелюкс, страны Балтии; трансграничные мезорегионы – Еврорегионы). Например, прорамма приграничного сотрудничества
TACIS, которая была разработана Европейским союзом для стран СНГ и Монголии (1991), в целях содействия экономических и политических связей между
ЕС и странами-партнерами, далее трансформировалась в программу «Партнерство и соседство».
На Саммите России – ЕС, проходившем в Стокгольме 18 ноября 2009 г.
было подписано Соглашение о финансировании пяти программ приграничного
сотрудничества. Эти Соглашения о финансировании являются важными для ре235
ализации программ сотрудничества между регионами по разные стороны сухопутных границ Европейского Союза и России. Общий бюджет программ составлял примерно 437 млн. евро. Технология коммуникации предполагала совместное финансирование программ регионального (трансграничного) сотрудничества. Данные программы финансировались из разных источников: Европейской Комиссией (267 млн. евро), странами-членами ЕС (67 млн евро) и российской Федерацией (103.7 млн евро). Финансовый вклад Российской Федерации подтверждает дух партнерства, что является сердцевиной Европейского
инструмента соседства и партнерства (ЕИСП).
Опыт реализации проектов приграничного сотрудничества и проектов программ соседства был взят за основу при разработке пяти партнерских программ
приграничного сотрудничества, в которых принимала участие Россия.
В 2015 году Евросоюз обвинил Россию в эскалации конфликта на Украине
и с начала украинского кризиса ЕС предпринял действия, приостанавливающие
трансграничное сотрудничество российских регионов-участников и европейских регионов-участников. Поскольку ЕС не признает аннексию Крыма и Севастополя, в настоящее время происходит переоценка программы сотрудничества
ЕС-Россия в целях приостановки внедрения Евросоюзом программы двухстороннего регионального трансграничного сотрудничества. В отношении России
приняты дипломатические и ограничительные меры (замораживание активов,
визовые запреты, ограничения для Крыма и Севастополя.). Ужесточаются антироссийские санкции из-за обвинения стран ЕС (Германия) в не соблюдение
договоренностей по имплементации минских соглашений. Проекты, имеющие
дело исключительно с международным сотрудничеством и гражданским обществом, сохраняются. В настоящее время продлены санкции в связи с активизацией России в Сирии.
Очевидно, что санкции западных стран наносят ущерб российской экономике и трансграничному сотрудничеству, российская сторона подвергается
прямому политическому и экономическому давлению. Решение конфликта
возможно в рамках мирного политического диалога с учетом интересов обеих
сторон, что должно способствовать дальнейшему сотрудничеству и развитию
трансграничных отношений, внедрению новых технологий трансграничной
коммуникации регионов.
На внутристрановом уровне технологии коммуникации применяются во
взаимодействии регионов по вопросам социально-экономического сотрудничества. Например, трансграничное взаимодействие Северного Кавказа с республиками Абхазия и Южная Осетия.
Технологии прогнозирования и планирования межрегиональных (трансграничных) отношений
Технология прогнозирования и планирования межрегиональных (трансграничных) отношений позволяет проводить прогнозирование социальноэкономической деятельности региона в отношении трансграничных связей и
одновременно по всем показателям с учетом отношений между субъектами РФ.
Данная технология основана на составлении общего списка прогнозируемых
параметров, выписывании отношений и причинно-следственных связей между
236
ними [7, с. 68]. Причинно-следственные связи предполагают введения субъектов региона как действующих агентов и описание стратегий их поведения в
рамках межрегионального (трансграничного) развития. Главное преимущество
такого подхода к прогнозированию состоит в том, что основное внимание уделяется не анализу основных экономических и социальных показателей, характеризующих состояние региона, а оценке параметров стратегий поведения его
субъектов, которые привели к определенному состоянию.
Технология планирования применяется для осуществления хозяйственноорганизаторской функции государства и развития экономической политики регионов. Технология планирования выстраивается на прогнозных разработках и основывается на составлении проектов целевых комплексных программ в сфере
трансграничных отношений (развитие Дальнего Востока и Байкальского региона).
Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1450 предусмотрено образование Центра федеральных программ по развитию регионов
при Правительстве РФ. На него возлагаются функции единого заказчика федеральных программ развития регионов. Кроме того, образована Правительственная комиссия по государственной поддержке развития регионов РФ. Комиссия
призвана координировать деятельность федеральных и региональных органов
власти по стимулированию инвестиционной активности в регионах, эффективности использования выделяемых им бюджетных средств, мобилизации собственных ресурсов организаций всех форм собственности для решения первоочередных задач проблем экономического и социального развития. Комиссия
готовит предложения по определению приоритетных направлений развития регионов, совершенствованию мониторинга социально-экономического развития,
оказанию помощи в реализации целевых программ развития территорий. С учетом предложений государство может выделять региональные квоты по кредитам на инвестиционные программы. Эта квота определяется суммой доли участия региона в производстве продукции и в кредитных ресурсах страны.
Региональное целевое программирование позволяет федеральному центру
активно влиять на проблемные регионы, успешно решать как текущие, так и
стратегические задачи, направленные на уменьшение различий в уровне социально-экономического развития регионов. В настоящий период разработаны
федеральные целевые программы и федеральные программы развития регионов, как Программа «Социально-экономическое развитие Чеченской республики на 2008–2014», Программа «Юг России (2008–2013 годы), Программа «Социально-экономическое развитие курильских островов (Сахалинская область)
2007–2015 годы», Программа «Социально-экономическое и этнокультурное
развитие российских немцев на 2008–2012 годы», Программа «Социальноэкономическое развитие республики Ингушетия на 2010–2016», Программа
развития Калининградской области до 2020 года.
Литература
1. Трансграничный регион: понятие, сущность, форма: монография / под ред. П.Я. Бакланова, М. Ю. Шинковского. Владивосток: Дальнаука. 2010. 276 с.
2. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М.: АспектПресс. – 2001. – 359 с.
237
3. Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации:
учебное пособие / под ред. А.Г. Гранберга. М., 2001. С. 243–244.
4. Киреев А.А. Регулирование трансграничных отношений российского Дальнего Востока в 1988–2011 гг. // Ойкумена. 2011. № 3. С. 7–19.
5. Dokoupil J. Hranice a hranicni efekt // Ceske Pohranici – bariera nebo proctor
zprostredkovani? Praha: Academia, 2004. С. 47–58.
6. Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан на 2012-2017 годы (принята в г. Астрахани 15.09.2011)
// Право.ру. URL: http://docs.pravo.ru/document/view/21097138/ (дата обращения: 02.04.2016).
7. Хасаев Г.Р., Цыбатов В.А. Технология прогнозирования регионального развития,
опыт разработки и использования // Проблемы прогнозирования. 2002. № 3. С. 64–82.
238
Секция 4
МОЛОДЕЖНАЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ АСПЕКТ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ОМСКОЙ И ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ1
Д.Н. Айтжанова
аспирант
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Политологический анализ молодежного аспекта приграничного сотрудничества между Омской областью Российской Федерации и Павлодарской областью Республики Казахстан обусловлен несколькими факторами. Во-первых,
добрососедские отношения, сложившиеся за сотни лет совместного проживания. Во-вторых, итогом совместного существования в составе СССР, явилось
формирование единого образовательного, культурного, научного пространства,
которое не утратило своего значения до настоящего времени. В-третьих, именно Россия и Казахстан после распада единого государства, выступают инициаторами и активными участниками новых интеграционных образований на постсоветском пространстве. В-четвертых, объективная реальность потребовала от
регионов развивать совместное сотрудничество, что и было реализовано путем
заключения различных договоров, соглашений и меморандумов. В соответствии с соглашением об основных принципах приграничного сотрудничества
государств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарных областях от 29 марта 1996 года, в политическую терминологию
были введены понятия: приграничный регион – регион в пределах административных или иных государственных территориальных образований, административно-территориальные границы которых совпадают с линией государственной, население приграничных регионов – граждане государств Сторон, постоянно проживающие на территории приграничных регионов, сотрудничество
приграничных регионов – согласованные действия органов государственного
управления, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и населения Сторон, направленные на укрепление и развитие отношений между приграничными регионами [1]. В-пятых, казахстано-российская граница является
самой протяженной в мире, растянута на 7591 км, причем Омскую и Павлодарскую области объединяет 265-километровая граница, которую ежедневно пере© Айтжанова Д.Н., 2016
239
секают в пропускных пограничных пунктах до нескольких сотен граждан двух
государств. Приграничные Павлодарский и Омский регионы, кроме общей границы, объединены схожими факторами: полиэтничностью, поликонфессиональностью, широким спектром экономических связей, активными миграционными процессами, авиационным и автомобильным интенсивным сообщением,
дружественными и семейными связями населения по обе стороны границы.
Следует отметить, что акцент на молодежном сотрудничестве между РФ и
РК сделан в контексте протекающей активно евразийской интеграции, в рамках
деятельности ЕАЭС. В случае рассматриваемого приграничного сотрудничества это процесс оживился и еще в связи с тем, что следующий Саммит ЕАЭС
пройдет в Омске в октябре 2016 г.
Дальнейшее сотрудничество в ближайшие десятилетия будет определяться
нынешними молодыми гражданами обеих стран, их интересами, мотивацией,
пониманием объективности интеграционного процесса. Именно молодежь в
условиях нынешних реалий должна четко понимать свое предназначение и
быть неотъемлемой частью жизненных процессов страны, занимать активную
гражданскую позицию.
Началом правового регулирования вопросов приграничного сотрудничества стало подписание в январе 1995 года Соглашения о сотрудничестве приграничных областей Российской Федерации и Республики Казахстан, в последующем наиболее актуальные аспекты сотрудничества нашли отражение в таких документах, как Программы приграничного сотрудничества на 1999-2007,
2008-2011 годы; Программа сотрудничества России и Казахстан в гуманитарной сфере на 2007-2010 годы. Кроме того, политическую основу сотрудничества заложили президенты двух государств на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана пошедшем в Павлодаре осенью 2012 года.
На региональном уровне главами двух областей К. Бозумбаевым и В.
Назаровым в 2014 году был подписан Протокол намерений о сотрудничестве
между Правительством Омской области и Акиматом Павлодарской области.
Политические лидеры обеих областей отметили достаточно высокие темпы
развития экономических, торговых отношений, эффективности культурнообразовательных, научных, спортивных связей, позитивность обмена опытом
работы с одаренными детьми и т.д. Однако, главы областей подтвердили, что
потенциал совместного сотрудничества между регионами далеко не исчерпан.
Было заявлено, что, например, большие перспективы открываются в сфере государственной молодежной политики регионов [2].
Молодежное сотрудничество является важной составляющей гуманитарной сферы, основные направления которого были определены в Стратегии
международного молодежного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (утверждена решением Совета глав государств СНГ от 10 декабря 2010 года) [3].
В данном документе утверждается, что молодежное сотрудничество является важнейшим фактором обеспечения устойчивого, эффективного социальноэкономического развития и научно-технического прогресса государствучастников СНГ в целом, сохранения и углубления дружественных отношений
240
между государствами, повышения их конкурентоспособности в условиях глобализации, одной из наиболее перспективных форм интеграционного партнерства [4].
И Российская Федерация, и Республика Казахстан, как государства-участники Содружества Независимых Государств, априори рассматривают молодежь, как стратегический ресурс страны и целенаправленно проводят политику
по созданию условий для всесторонней социализации молодых граждан, формированию у неё активной жизненной позиции, вовлечению в общественную,
политическую, социальную и экономическую жизнь своих стран и межгосударственное сотрудничество.
В Российской Федерации основу государственной политики в молодежной
среде, составляют такие программы, как «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации». В Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации,
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года, российской молодежи определена стратегическая роль движущей силы,
обеспечивающей переход экономики России на инновационный путь развития.
Эти программы регулируют общефедеральный уровень политического руководства молодежной сферы. Далее идет процесс реализации данной политики
на региональном уровне, в том числе в таком крупном и важном, как Омский
регион.
В Омской области, одной из первых в России, уже в 1996 году был принят
региональный Закон «О молодежной политике на территории Омской области»,
где были определены цели, задачи, принципы молодежной политики, а также
полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах организации работы с молодежью.
Кроме того, на региональном уровне до 2010 года действовала Концепция
государственной молодежной политики в Омской области на 2006–2010 годы,
утвержденная Указом губернатора Омской области от 28 ноября 2005 года
№ 142. В 2009 году была принята целевая программа Омской области «Новое
Поколение», которая достаточно эффективно действовала до 2013 года. В 2013
году в Омской области была принята Стратегия социально-экономического
развития до 2025 года, где в которой четко определены направления и приоритеты региональной молодежной политики на перспективу. Разработка стратегии молодёжной политики была выработана не случайно, молодежь Омского
региона – это почти четверть населения области. Согласно статистическим
данным, численность молодежи Омской области на 1 января 2014 года составляла 462,8 тыс. человек, это примерно 23,5 % от общей численности населения
Омской области [5].
В регионе, как показывает анализ реализуемой молодежной политики, для
решения молодежных проблем применяется программно-целевой метод, который позволяет максимально эффективно управлять государственными финансами, выделяемыми на работу с молодёжью и осуществлять оценку эффектив241
ности с использованием целевых индикаторов в соответствии с приоритетами
государственной молодежной политики в регионе.
В настоящее время на территории Омской области удалось создать единую
систему управления процессом разработки и реализации молодежной политики. Организация работы с молодежью является предметом совместного ведения
региональных и муниципальных органов исполнительной власти. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» осуществление региональных и муниципальных программ и
мероприятий по работе с детьми и молодежью является полномочиями субъектов Российской Федерации. Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях, отнесены к вопросам местного значения.
Региональным отраслевым органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия в сфере молодежной политики, является Министерство по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. В соответствии с законом Омской области № 46-оз «О реализации государственной молодежной политики на территории Омской области» реализация государственной молодежной политики в Омской области носит межотраслевой характер,
поскольку в решении молодежных проблем принимают участие ведомства системы образования, занятости, социальной политики и предпринимательства.
В муниципальных районах Омской области и муниципальном образовании
– городе Омск, действуют органы по делам молодежи (секторы, отделы, комитеты, управления, департаменты).
Во всех районах действуют казенные учреждения – центры по работе с
детьми и молодежью. На сегодняшний день в них работает более 800 специалистов, в том числе 607 – в муниципальных районах, 225 – в городе Омске [6].
Центры по работе с детьми и молодежью реализуют основные направления молодежной политики на муниципальном уровне, проводят районные и поселенческие мероприятия, организуют работу по месту жительства. На территории Омской области действует 64 детских и молодежных общественных организаций, зарегистрированных в органах юстиции, функционирует значительное число незарегистрированных общественных формирований. Участие в их
деятельности принимает более 80 тысяч молодых людей [7].
Достаточно активно организована работа с молодежью в Республике Казахстан, унитарном государстве, административно-территориальными единицами которого являются области. Форма государственного устройства Казахстана подразумевает единые на всей территории республики высшие органы
власти, единую правовую систему, единую конституцию. Именно поэтому государственная молодежная политика Павлодарской области осуществляется на
основе тех документов, которые действуют на территории всей республики.
Первый закон «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» №581-II был принят 7 июля 2004 года, затем в 2013 году была принята
«Концепция государственной молодежной политики до 2020 года» (постанов242
ление правительства РК от 27 февраля 2013 года № 191) и был разработан соответствующий план мероприятий по ее реализации. В феврале 2015 года в Республике был принят закон «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан», в котором законодатели усовершенствовали направления
развития молодежной политики, разграничили компетенции государственных
органов по всем уровням, разработали эффективную модель взаимодействия с
молодежными неправительственными организациями. Кроме этого, необходимо отметить, что в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до
2020 года, утвержденном Указом Президента Республики Казахстан от 01 февраля 2010 года № 922 обозначено, что государственная молодежная политика
Республики Казахстан направлена на формирование конкурентоспособной молодежи, которая примет активное участие в общественно-политических и социально-экономических преобразованиях страны [8].
Действенным механизмом участия молодежи в государственной молодежной политике в общереспубликанском формате является Совет по молодежной
политике при Президенте Республики Казахстан, который функционирует с
2008 года.
В 2012 год, в целях реализации поручений Главы государства Н.А. Назарбаева, данных на ХIХ сессии Ассамблеи народа Казахстана от 27 апреля 2012
года «Казахстанский путь: стабильность, единство, модернизация» Постановлением Правительства Республики Казахстан № 874 был создан Комитет по делам молодежи в структуре Министерства образования и науки Республики Казахстан, а в регионах – соответствующие управления. Основными функциями
Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики
Казахстан являются выработка методологии молодежной политики, ее планирования, нормативное обеспечение, координация ее реализаций, мониторинг и
оценка деятельности госорганов, а также контроль в этой сфере [9].
В Павлодарской области было создано Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской области, миссией которого является реализация
государственной политики в сфере молодежной политики, направленной на
поддержку инициативы молодежи и молодежных организаций, развитие творческих, духовных и физических возможностей молодежи, формирование прочных навыков здорового образа жизни и воспитание гражданско-правовой и
нравственной культуры среди молодежи [10].
По данным Управления по вопросам молодежной политики в Павлодарской области на 1 января 2014 года насчитывалось 172367 молодых людей в
возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 22,7 % от общего количества населения
области [11].
Согласно Постановлению правительства РК за № 874, Государственное
учреждение «Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской
области» не имеет ведомств, это означает, что в городах и районах области отсутствуют государственные органы, наделенные полномочиями в сфере молодежной политики.
С целью обеспечения взаимодействия общественных объединений,
направленных на работу с молодежью, учреждений образования и молодежных
243
активов трудовых коллективов, организаций и предприятий Павлодарской области Постановлением акимата Павлодарской области было создано Коммунальное государственное учреждение «Центр развития молодежных инициатив» Павлодарской области. Уже к началу января 2015 года центры развития
молодежных инициатив были созданы во всех городах и районных центрах
Павлодарской области.
Серьезное внимание Управление по вопросам молодежной политики уделяет взаимоотношениям с молодежью через молодежные общественные объединения, которых в Павлодарской области на начало 2014 года насчитывалось
63 [12]. На уровне государственной власти существует несколько видов диалоговых площадок с участием молодежи. Под председательством акимов областного, городских и районных уровней действуют Советы по делам молодежи. В
состав советов входят руководящий состав государственных органов, депутаты
маслихатов, представители молодежных организаций, предприятий области,
СМИ. При управлении по вопросам молодежной политики Павлодарской области действуют Совет молодых государственных служащих, Совет молодых
ученых и Совет рабочей молодежи области. По представлению управления
представители молодежных организаций включены во многие консультативносовещательные органы, советы, комиссии на уровне главы области.
Кроме того, Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской
области, ежегодно при формировании плана работы на предстоящий год, привлекает к участию представителей молодежных организаций области, включая
их предложения по решению актуальных проблем молодежи и поддержке молодежных инициатив в план мероприятий. Партнерство с молодежными организациями строятся на основе государственного социального заказа. Государственный социальный заказ – это форма реализации социальных программ,
проектов, а также отдельных мероприятий, направленных на решение социальных задач республиканского, отраслевого и регионального уровней, обеспеченных за счет бюджетных средств, посредством заключения договора на осуществление государственного социального заказа, где поставщиком выступает
неправительственная организация [13]. В настоящее время, государственный
социальный заказ является одним из эффективных инструментов взаимодействия государства и гражданского общества.
Выполненный анализ функционирования государственной молодежной
политики в Омской и Павлодарской областях позволяет сделать вывод о том,
что платформа для установления дружественных отношений, обмена опытом,
развития социального партнерства между представителями уполномоченных
государственных органов, молодежных организаций этих регионов существует.
Необходимо отметить, что шаги по установлению партнерского взаимодействия в сфере государственной молодежной политики уже предприняты.
Так в марте 2015 года был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве
между ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской области» и Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области. В меморандуме обозначены следующие задачи:
– сотрудничество в реализации государственной молодежной политики;
244
– взаимодействие и обмен опытом в сфере реализации молодежной политики и поддержки молодежных инициатив;
– содействие в продвижении общественно значимых молодежных инициатив;
– информирование сторон о состоянии реализации государственной молодежной политики на международном, республиканском и региональном уровнях;
– проведение совместных организационно-практических мероприятий
(конференции, круглые столы, семинары), направленных на расширение участия молодежи в решении молодежных проблем и повышении эффективности
реализации государственной молодежной политики;
– формирование механизма повышения правовой и политической культуры молодежи;
– стимулирование гражданской самореализации молодежи;
– разработку совместных методических и иных материалов;
– проведение совместных научных исследований по актуальным вопросам
реализации молодежной политики;
– мониторинг молодежных проблем посредством проведения совместных
социологических исследований;
– выработку предложений по совершенствованию государственной молодежной политики в странах [14].
Наряду с использованием традиционных форм сотрудничества, внедряются новые механизмы и формируются инновационные модели взаимодействий. Эффективной формой сотрудничества можно назвать молодежный Форум приграничного сотрудничества «Бірлік. Единство.kz». Форум проводится
ежегодно в городе Павлодар, начиная с 2011 года, его целью является расширение молодежного сотрудничества и укрепление дружественных связей с приграничными регионами Российской Федерации, воспитание уважения к духовным, историческим и культурным ценностям других народов. В работе Форума
принимают участие делегации молодежи из приграничных с Казахстаном регионов Российской Федерации, активисты казахстанских молодежных организаций, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители государственных органов, национально-культурных центров Ассамблеи Народа Казахстана,
средств массовой информации.
Таким образом, необходимо отметить, что сотрудничество между Омской
и Павлодарской областью наиболее динамично развивается в торговоэкономической и научно-образовательной сферах. Существенный вклад в дальнейшее сближение приграничных территорий вносят неформальные контакты
населения близко расположенных регионов. В последнее время более эффективными стали политические контакты между молодежными объединениями
областей. Естественно, что важнейшим фактором развития и сближения Омской и Павлодарской областей выступает заинтересованность в данном процессе высших органов государственной власти, в том числе в рамках дальнейшего
партнерства между молодежными объединениями приграничных областей.
245
Литература
1. Соглашение об основных принципах приграничного сотрудничества государствучастников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарных областях
от 29 марта 1996 года, ст. 1.
2. Павлодарские и омские бизнесмены заключили меморандумы более чем на 3,2 млрд
тенге. URL: http://pavon.kz/post/view/35927 (дата обращения: 02.01.2016).
3. Концепция Межгосударственной выставки, посвященной 25-летию Содружества Независимых Государств «25 лет СНГ: Новые возможности интеграции и партнерства». URL:
http://www.e-cis.info/page.php?id=24842 (дата обращения: 02.01.2016).
4. Решение о Стратегии международного молодежного сотрудничества государствучастников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. URL: http://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=30925335 (дата обращения: 07.01.2016)
5. Доклад «Молодежь Омской области – 2014» (подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 1 ноября 2006 года № 131-п «Об утверждении
Положения о системе мониторинга процессов, происходящих в молодежной среде», 2015 год
6. Анализ результатов экспертного опроса. Интервью Заместителя министра по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области Руденок Т.М., 2015 год
7. Анализ результатов экспертного опроса. Интервью Руководителя Управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области Трофимова И.Е., 2015 год
8. Трудовой кодекс республики Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/
U100000922 (дата обращения: 05.01.2016)
9. Анализ результатов экспертного опроса. URL: http://www.bolashak.gov.kz/ru/
stipendiatu/dogovora/255-ta-ylymdama.html (дата обращения: 05.01.2016).
10. Положение о государственном учреждении «Управление по вопросам молодежной
политики Павлодарской области» (Утверждено постановлением акимата Павлодарской области от 29 сентября 2015 года № 280/10).
11. Аналитическая справка о деятельности управления по вопросам молодежной политики Павлодарской области за 2014 год (подготовлена Управлением по вопросам молодежной политики Павлодарской области), 2015 год.
12. Национальный доклад «Молодежь Казахстана 2014» (подготовлен Научно-исследовательским центром «Молодежь», стр.162.
13. Национальный доклад о состоянии и перспективах развития неправительственного
сектора в Казахстане, 2012 год.
14. Меморандум о взаимном сотрудничестве между ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской области» и Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 31 марта 2015 года.
246
АНАЛИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ1
В.Ю. Аникин
магистрант кафедры политологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
В настоящей статье предполагается рассмотреть механизмы формирования
денежно-кредитной политики в США, Европе и Сингапуре, инструменты, используемые национальными Центральными Банками, поскольку именно эти
страны являются локомотивами роста мировой экономики в целом, развития
механизмов и инструментов денежно-кредитной политики в частности.
Цель статьи – обзор международного опыта и практики Центральных Банков, анализ механизмов формирования и инструментов осуществления денежно-кредитной политики.
Экономическая нестабильность, геополитическая неопределенность, завышенная корреляция курса рубля и стоимости нефти, зависимость экономики
России в целом от стоимости барреля нефти – это лишь немногие вызовы и
проблемы, которые стоят перед нами. Одной из главных целей государства является повышение благосостояния населения, экономический рост страны. А
денежно-кредитная политика – неотъемлемый элемент экономической политики государства. В процессе реализации денежно-кредитной политики достигаются такие задачи, как снижение инфляции, укрепление национальной валюты,
достижение уровня производства, характеризующегося минимальной безработицей, стимулирование экономической и инвестиционной активности в стране,
а также создание устойчивых и благоприятных условий для экономического
роста страны в целом.
Особенно сильно возрастает значение проблем денежного обращения в
кризисное время – в переломные моменты исторического развития. Об этом
наглядно свидетельствует опыт современной России, осуществляющей политику адаптации к постоянно меняющимся экономическим условиям. Стабилизация денежного обращения, устойчивый курс рубля являются важными предпосылками нормализации экономического положения, обеспечения равновесия на
рынке и создания условий для хозяйственного развития. В то же время для экономики далеко не безразличны способы борьбы с инфляцией, издержки и потери связанные с ней. Поскольку на сегодняшний день мы находимся в ситуации
высоких темпов инфляции, при низких, порой даже отрицательных темпах роста экономики страны, при достаточно высоких процентных ставках, что
осложняет кредитование и развитие малого и среднего бизнеса в стране. Последнее осложняется еще и временным отсутствием финансирования из-за рубежа ввиду санкций, наложенных Западом. И все это в купе со слабым рублем,
© Аникин В.Ю., 2016
247
который находится под давлением не только цен на нефть, но и валютных спекулянтов. Изучение особенностей данных процессов представляет особую актуальность для экономики сегодняшней России, находящейся в состоянии галопирующей инфляции. Поэтому важно изучить особенности современной
кредитно-денежной политики, объективно играющей значительную роль в экономическом развитии.
Исследование зарубежного опыта регулирования денежного обращения,
проведения денежно-кредитной политики особенно важно ввиду многообразия
ее вариантов и методов осуществления. Здесь особое внимание следует уделить
характеристике конкретных инструментов регулирования, которые применяются в практической работе Центральных банков, как главных институтов реализации денежно-кредитной политики.
Денежно-кредитная политика – это совокупность мероприятий центрального банка и правительства, направленных на изменение денежной массы в обращении, объёма кредитов, процентных ставок и других показателей денежного
обращения с целью снижения уровня инфляции, устойчивого роста денежной
массы и создания предпосылок для стабильного экономического роста [2,
с. 115–116]. Основные цели денежно-кредитной политики государства меняются в зависимости от уровня социально-экономического развития, на котором
находится это государство. Приоритет целей денежно-кредитной политики
определяется состоянием государственных финансов, стабильностью экономики государства или ее отсутствием, наличием сбалансированности доходов и
расходов государственного бюджета или его дисбалансом.
Денежно-кредитная политика в большинстве развитых стран проводится
центральным банком, который контролирует денежную массу, уровень процентной ставки, объем кредитов, валютный курс и другие важнейшие макроэкономические параметры. Одним из необходимых условий устойчивого равновесного развития экономики является формирование четкого механизма денежно-кредитной политики.
Инструменты денежно-кредитной политики не обязательно используются
по отдельности, а наоборот, обычно используется сразу два инструмента и более, чтобы их эффекты взаимно усиливали друг друга.
Имеющиеся в распоряжении ЦБ инструменты различаются:
1. По непосредственным объектам воздействия. В зависимости от конкретных целей денежно-кредитная политика направлена либо на стимулирование
кредитной эмиссии (кредитная экспансия), либо на ее ограничение (кредитная
рестрикция). Кредитная экспансия проводится для увеличения занятости и
подъема производства, а кредитная рестрикция, чтобы предотвратить «перегрев» экономики или чтобы понизить темпы инфляции.
2. По форме инструменты денежно-кредитной политики разделяются на
прямые (административные), которые имеют вид директив, предписаний, инструкций, исходящих от ЦБ и рыночные (косвенные), под которыми подразумеваются способы воздействия ЦБ на денежно-кредитную сферу посредством
формирования определенных условий на денежном рынке.
248
3. По характеру параметров инструменты денежно-кредитного регулирования делятся на количественные, с помощью которых оказывается влияние на
состояние кредитных возможностей коммерческих банков, и качественные, которые представляют собой вариант прямого регулирования стоимости банковских кредитов.
4. По срокам воздействия инструменты денежно-кредитной политики разделяются на долгосрочные и краткосрочные. Под долгосрочными (конечными)
целями подразумеваются те задачи, реализация которых может осуществляться
от года до нескольких десятилетий (например, финансовая стабилизация, экономический рост). К краткосрочным относятся инструменты воздействия, с помощью которых достигаются промежуточные цели денежно-кредитной политики (например, преодоление финансового кризиса в стране) [4, с. 203-207].
Основными общими инструментами кредитно-денежной политики являются:
• процентные ставки;
• нормативы обязательных резервов;
• операции на открытом рынке;
• рефинансирование кредитных организаций;
• валютные интервенции;
• установление ориентиров роста денежной массы;
• прямые количественные ограничения;
• эмиссия облигаций от своего имени;
• уникальные антикризисные меры.
Для исследования денежно-кредитной политики зарубежных стран в современных условиях были взяты США, страны Еврозоны и Сингапур. Именно
эти страны являются драйверами роста мировой экономики и развития денежно-кредитной системы государств. Каждая из которых имеет уникальную историю становления институтов и инструментов в исследуемой теме и уникальную
конъюнктуру.
В современных условиях Соединённые Штаты Америки – это локомотив
мировой экономики, и их политика в области денежного регулирования и кредита оказывает серьёзное воздействие не только на макроэкономическую обстановку в других странах, но и на мировую экономику.
Центральный Банк США, как и большинство ЦБ других развитых стран,
имеет достаточно интересный и двоякий статус: притом, что денежно-кредитная политика является государственной, Федеральная Резервная Система (Центральный Банк США) не является государственной структурой. Федеральная
резервная система США формально не подчиняется правительству и является
независимым институтом, основанным на принципах государственно-частного
партнёрства. Тем не менее, Белый дом имеет решающее влияние на работу центрального банка благодаря тому, что президент США (с согласия сената) назначает членов руководящего органа ФРС – совета директоров, включая председателя и вице-председателя.
Согласно закону о ФРС центробанк должен обеспечивать в США максимальную занятость, ценовую стабильность и умеренные долгосрочные ставки
249
по кредитам. Конкретные цифры в законодательстве не прописаны и отданы на
усмотрение его руководства. Подобный комплексный мандат отличает ФРС от
центробанков других развитых стран, задачей которых обычно является поддержание стабильных цен, т.е. таргетирование инфляции. Миссия ФРС осложняется необходимостью заботиться ещё и об экономическом росте, который ассоциируется с низким уровнем безработицы и низкими кредитными ставками.
На внутреннем рынке ФРС проводит денежно-кредитное регулирование
при помощи широкого перечня инструментов, включающего в себя операции
на открытом рынке, регулирование норм обязательного резервирования
средств, изменение учётных ставок процента, а также дополнительных мер в
экстренных случаях. Особое место в комплексе направлений денежнокредитной политики США занимает валютная политика, что связано, в первую
очередь, с функционированием доллара, как ведущей мировой валюты, несмотря на конкуренцию со стороны евро.
Кризисные времена требуют нетривиальных мер. Так, в период ипотечного
кризиса 2007 года ФРС была вынуждена прибегнуть к ряду новых, «агрессивных и творческих мер политики», как назвал их Б. Бернанке [10]. В специальной литературе данные меры принято называть нетрадиционными. Они бывают
количественными и качественными. Количественные меры, называемые «количественным смягчением», подразумевают расширение баланса центрального
банка за счёт покупки больших объёмов ценных бумаг. Качественные меры
(иногда называемые «качественным смягчением») подразумевают изменение
структуры активов, находящихся на балансе центробанка, в пользу новых финансовых инструментов.
Такие программы количественно смягчения названные QE, во-первых,
продлевались несколько раз, а во-вторых, стали использоваться и другими государствами (Например ЕЦБ и ЦБ Японии). По сути дела это программа сводилась к прямому финансированию ФРС дефицита бюджета, через покупку государственных облигаций, а также к поддержке банковской системы через покупку ипотечных или других корпоративных облигаций, объединение проблемных
банков с более крупными и успешными, вместе с прямым кредитованием банков, брокеров и других институтов финансового рынка.
Помимо программ, предназначенных широкому кругу участников рынка,
ФРС США в разгар кризиса учредила ряд «точечных» кредитных линий, предназначенных для поддержки отдельных крупных, системо-образующих финансовых институтов, называемых в США too big to fail (слишком большие, чтобы
обанкротиться).
В результате реализации своей политики ФРС имеет три несомненных достижения, сыгравших ключевую роль в восстановлении американской экономики. Первое – это стабилизация финансовых рынков и возобновление нормальной работы банковской системы США. Произошло резкое снижение системных рисков. Второе – удалось не допустить дефляции, характерной для Великой депрессии и грозившей катастрофическими последствиями для перегруженной долгами американской экономики. Политика ФРС обеспечила стабильный уровень цен и поддержание инфляции на уровне, который ФРС считает
250
наиболее комфортным для экономики, – около 2 %. И третье достижение ФРС –
радикальное снижение процентных ставок. Оно касается в первую очередь американской экономики, и позволяет кредитовать реальный бизнес на очень выгодных для него условиях, что в свою очередь является одним из главных двигателей американской экономики.
С 1 января 1999 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) проводит единую денежно-кредитную политику на территории Еврозоны. По Договору о
Европейском Союзе, на Евросистему возлагается главная задача по поддержанию ценовой стабильности. Это отражает широкий консенсус в обществе в
пользу того, что именно через поддержание стабильных цен денежно-кредитная
политика может наилучшим образом способствовать экономическому росту,
созданию рабочих мест и обеспечению социальной сплоченности в странах ЕС.
Какие бы крупные потрясения ни переживала мировая экономика, ЕЦБ удавалось удерживать инфляцию на низком уровне, а показатели долгосрочных инфляционных ожиданий оставались в пределах, определенных ЕЦБ для ценовой
стабильности [11].
Ситуация с Еврозоной и Европейским Центральным Банком является
единственной в своем роде, поскольку он становится Банком наднациональным
при сохранении внутренних, государственных Центральных Банков. ЕЦБ представляет уникальную организационную структуру, не имеющую аналога в мировой практике. Уникальность заключается в том, что в одной системе сочетаются качественно разные структуры: централизованные и децентрализованные.
Система центральных банков состоит из двенадцати национальных центральных банков, в том числе Банк Франции, Банк Италии, Банк Испании, Нидерландский банк, Национальный банк Бельгии, Австрийский национальный банк,
Банк Греции, Банк Португалии, Банк Финляндии, Центральный банк Ирландии,
Центральный банк Люксембурга, Бундесбанк Германии, а также Европейский
Центральный Банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте-на-Майне. К 2012
году в Евросистему вошли ещё 5 государств.
Главной целью деятельности Европейского Центрального Банка является
поддержание ценовой стабильности в зоне евро. Важнейшей функцией ЕЦБ является разработка и реализация единой и независимой денежно-кредитной политики для стран Еврозоны. Денежно-кредитная политика осуществляется в
Евросоюзе на двух уровнях: первый уровень –это, безусловно, единая независимая ДКП, которая разрабатывается и реализуется ЕЦБ; второй уровень – это
уровень национальных государств, членов Евросоюза, на котором их же национальные центральные банки совместно со своими правительствами проводят
ДКП в жизнь. Между двумя уровнями существует тесная координация и согласованность, главными ориентирами при этом являются критерии соответствия
той или иной страны валютному союзу.
Стратегия денежно-кредитной политики ЕЦБ держится на двух столпах,
по существу на двух подходах. Первый подход исходит из ведущей роли денег
в виде всей денежной массы, которая определяется агрегатом М3. Второй подход основан на широкой оценке перспектив изменения ценовой динамики и
рисков ценовой стабильности в Еврозоне. В целом комбинация двух подходов
251
денежно-кредитной политики ЕЦБ доказывает, что денежные, финансовые и
экономические процессы находятся под постоянным контролем и регулярно
анализируются. Подобный подход позволяет ЕЦБ устанавливать свои процентные ставки на таком уровне, который наилучшим образом обеспечивает ценовую стабильность. Защищая, таким образом, покупательную способность евро,
ЕЦБ в то же время поддерживает курс евро по отношению к другим мировым
валютам [1, с. 312–318].
Основные операции по рефинансированию кредитных организаций главным образом направлены на обеспечение банковской системы ЕС достаточной
ликвидностью. В этих целях используются следующие инструменты:
• основные операции по рефинансированию сроком до 14 дней;
• долгосрочные операции рефинансирования от одного до трех месяцев;
• залоговые кредиты (операции класса РЕПО);
• кредиты «овернайт» (однодневные кредиты) и др. Операции на открытом
рынке (в понимании и практике ЕЦБ) – это операции, совершаемые по инициативе центрального банка на финансовых рынках.
Также, отличительной чертой ЕЦБ является то факт, что Бундесбанк занимает основную долю в балансе Банка, играет ведущую роль в принятии решений. Так, на долю Бундесбанка приходится более 30 % совокупного баланса
всех ЦБ зоны евро (включая ЕЦБ); более 30% всего объема краткосрочного
кредитования ЦБ и коммерческих банков еврозоны; примерно 25% объема
банкнот, выпущенных ЦБ в обращение.
Несмотря на большое количество проблем в Еврозоне, денежно-кредитную
политику ЕЦБ нельзя считать неуспешной. За последние несколько лет курс
евро укрепился относительно остальных валют практически вдвое, ЕЦБ поддерживает такие страны, как Греция, которая находится в преддефолтном состоянии уже не один год, а инфляцию снизили на столько, что в данный момент
Европейский Центральный Банк пытается ее максимально увеличить (выйти из
зоны дефляции), стимулируя рост экономики (включая методы количественного смягчения, которые использовали США в кризис 2007-2009 гг.).
Противоположным по масштабам, но не менее уникальным является Сингапур. Там, с 1 января 1971 года Денежно-кредитное управление начало свою
деятельность в сфере регулирования денежно-кредитных вопросов городагосударства.
Денежно-кредитное управление Сингапура имеет право представлять интересы Сингапура в качестве банкира и финансового агента Правительства
Сингапура. На Управление возложены функции по поддержанию финансовой
стабильности, кредитного и валютного регулирования в стране, способствующие развитию экономики страны. Кроме того, возложены обязанности по регулированию страховой деятельности в стране. Также ЦБ Сингапура занимается
регулированием рынка ценных и выпуском сингапурских долларов. Т.е. по сути
дела Денежно-кредитное управление Сингапура является мегарегулятором.
Миссия Управления заключается в содействии устойчивому неинфляционному экономическому росту, а также развитие Сингапура как прогрессивного
финансового центра.
252
Основные функции Денежно-кредитного управления Сингапура:
1) осуществлять деятельность как центральный банк Сингапура, включая
осуществление денежно-кредитной политики, эмиссию денежных знаков,
надзор за платежными системами и обслуживание Правительства Сингапура в
качестве банкира и финансового агента
2) осуществление надзора за финансовыми услугами и мониторинг финансовой стабильности
3) управление валютными резервами Сингапура
4) развивать Сингапур как международный финансовый центр [5, с. 780–
782].
Процентные ставки являются одним из инструментов денежно-кредитной
политики Сингапура. Денежно-кредитное управление Сингапура последние 8
лет проводит снижение ставок рефинансирования. В 2007 году ставка снизилась с 3,5 до 0,9 %. На конец 2012 года ставка достигла минимального значения
в 0,03 % и не изменилась до сих пор. Это является крайне привлекательным не
только для бизнеса внутри страны, но и для внешних, зарубежных инвесторов.
Другим, не менее важным инструментом денежно-кредитной политики
Сингапура – являются валютные интервенции. Основным вопросом в экономической повестке дня Сингапура становится не стимулирование роста, а борьба с
инфляцией. Таким образом, Денежно-кредитное управление Сингапура проводит политику ревальвации с целью снижения инфляции.
Денежно-кредитное управление Сингапура манипулирует курсом сингапурского доллара путем валютных интервенций. Несмотря на развитую промышленность, страна импортирует большое количество иностранных товаров,
цены на которые устанавливаются в иных валютах, преимущественно в американских долларах. Поэтому укрепление собственной валюты, сингапурского
доллара, автоматически удешевляет импортные товары, цены на них падают и
инфляция остается в целевых рамках.
Подводя итоги анализа механизмов и инструментов денежно-кредитной
политики, можно сказать, что благодаря своим последовательным действиям
Сингапур является одним из ведущих финансовых центров мира и главным
распределительным узлом финансов в Юго-Восточной Азии. В цифрах: за последние 3 десятилетия золотовалютные резервы выросли в несколько раз до 244
млрд. долларов по состоянию на февраль 2016 года [12] и, не смотря на крайне
малые размера государства, Сингапур входит в десятку крупнейших в мире по
размеру этого показателя; Сингапур занимает первое место в мире по инвестиционной привлекательности по разным показателям [12]; в стране один из самых высоких в мире показателей валового национального дохода на душу
населения; а сингапурским долларом пользуется все большее количество зарубежных компаний.
Таким образом, проанализированные механизмы формирования денежнокредитной политики и реализуемые инструменты показали, что в каждом государстве, в своих уникальных и ни на что не похожих условиях могут работать и
быть эффективными совершенно разные методы достижения целей экономического роста страны. Будь то количественное смягчение в США или Европе,
253
операции на открытом рынке для поддержания ликвидности финансовой системы страны или уменьшения дефицита бюджета страны, будь то валютные
интервенции в Сингапуре – все политики, все инструменты имеют место быть и
являются лучшими практиками в мире на сегодняшний день. Поэтому представляется очень актуальной интерпретация рассмотренных выше механизмов,
инструментов и методов, их адаптация к Российским условиям высокой инфляции, сильной зависимости рубля и экономики в целом от нефти, низких темпов
экономического роста и других вызовов, стоящих сегодня перед нами.
Литература
1. Ануреев С.В. Денежно-кредитная политика, диспропорции и кризисы. М.: Кнорус,
2012. 625 с.
2. Мишкин М., Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, 7-е изд.: пер. с англ. М.: Вильямс, 2013. 880 с.
3. Улюкаев А.В. Современная денежно-кредитная политика. Проблемы и перспективы.
М.: Дело, 2009. 357 с.
4. Лаврушина О.И. Деньги, кредит, банки: учебник. М. : КНОРУС, 2012. 580 с.
5. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. М.: ИНФРА-М,
2009. 824 с.
6. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: учебное пособие. М.:
Московская финансово-промышленная академия, 2011. 784 с.
7. Смирнов С. Режимы валютного курса и стабильность экономики // Вопросы экономики. 2015. № 1. С. 29–44.
8. Симановский А.Ю. О регулятивных требованиях к устойчивости банков (развернутые тезисы) // Деньги и кредит. 2009. № 9. С. 12–20.
9. Глазьев С.Ю. О таргетировании инфляции // Вопросы экономики. 2015. № 9. С. 1–12.
10. The Federal Reserve’s Balance Sheet : Chairman Ben S. Bernanke at the Federal Reserve
Bank of Richmond 2009 Credit Markets Symposium. URL: http://www.federalreserve.gov/
newsevents.htm (дата обращения: 27.03.2016).
11. Денежно-кредитная политика ЕЦБ. Интервью. URL: http://ru.euronews.com/2013/
05/23/trichet-call-it-austerity-or-danger-control (дата обращения: 30.03.2016).
12. Инвестиционная привлекательность стран. URL: http://www.euroline.by/world/6949opublikovan-mirovoy-reyting-investicionnoy-privlekatelnosti-2015-goda.html (дата обращения:
22.03.2016).
254
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИИ И КАЗАХСТАНА1
Г.Т. Артыкбаева
старший преподаватель
Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова
Развитие системы общественно-политических партий и движений является
актуальным в становлении гражданского общества. Эти объединения носят
публичный характер, выражая общественные интересы граждан. По инициативе общественных движений и неправительственных организаций реализуются
социально значимые программы, дается общественная оценка законопроектам,
программам, обеспечиваются гражданские права.
Система общественных движений, партий и неправительственных организаций как основные институты гражданского общества выполняет функцию
связующего звена между государством и обществом.
Среди общественных и политических движений, партий и неправительственных организаций особое место занимают организации экологической
направленности.
В странах Запада движения «зеленых» имеют большой опыт политической
борьбы, что со временем превратило негативное восприятие экологических
движений в позитивную и популярную идеологию – многие политические партии сегодня имеют в своих программах экологическую направленность. Такая
тенденция наблюдается и в странах постсоветского пространства, в частности в
России и Казахстане.
Исследование процессов становления и развития экологических движений
имеет большую значимость для разработки и реализации научно-обоснованной
экологической политики государства, определяет научное направление изучения современного общества с точки зрения влияния на его социально-политическую сферу экологического фактора.
Экологические движения – массовые действия, направленные на сохранение и защиту природной среды, против чрезмерного истощения природных ресурсов. Эти движения выступают против решений, приносящих ущерб для
природы, помогают решать экологические проблемы политическими методами
и законодательными актами [1, с. 255].
Главной целью деятельности экологических партий является защита природной среды, предотвращение экологической катастрофы.
В России движение за создание партии зеленых появилось в декабре 1988
года на учредительной конференции Социально-экологического союза, где представители Самарского, Хмельницкого и Брянского союза зеленых объединились
с целью создания партии. В апреле 1989 года на конференции «Экономика, Экология, Политика» в Куйбышеве, движение объявило о своем создании.
© Артыкбаева Г.Т., 2016
255
Партия Зеленых была провозглашена на Учредительном съезде в Москве
24–25 марта 1990 года. Летом того же года Партия Зеленых принимала участие
в акции против развития Балаковской АЭС.
Второй съезд партии состоялся 9–11 мая 1991 года, где она выступала против строительства атомной станции в Нижнем Новгороде. Съезд принял решение о переименовании Партии Зеленых в Лигу Зеленых Партий. Были приняты
Устав и Политическая программа.
В 1992 году была провозглашена Экологическая партия России (с оргкомитетом в Туле).
В 1993 году незадолго до выборов была зарегистрирована Российская Партия Зеленых. В это же время на основе ряда государственных экологических
структур возникло Конструктивное экологическое движение России «Кедр». На
выборах в федеральные органы власти «Кедр» не смог преодолеть пятипроцентный барьер, а Российская партия зеленых не смогла собрать необходимого
количества подписей и не была допущена к выборам.
В ноябре 1994 года на съезде в Екатеринбурге движение «Кедр» было преобразовано в партию.
В России действует множество региональных и локальных экологических
партий. Некоторые из них состоят в Лиге Зеленых партий или в Российской
партии Зеленых, другие действуют автономно. Наиболее значительными среди
них являются Демократическая Партия Зеленых (Челябинская область), Партия
Зеленых Чувашии, Партия Зеленых Прикамья, Партия Зеленых СанктПетербурга. Можно отметить Партию Зеленых Нижегородского Края, выступающую помимо экологических лозунгов за выход Нижегородской области из
состава России [2].
С.Р. Фомичев классифицирует экологическое движение следующим образом:
1. Природоохранные инициативы – Дружины по охране природы и экологические клубы, объединившиеся в Движение, Центр охраны дикой природы
Социально-экологического Союза, Общество содействия национальным паркам
«Парквей» и другие.
2. Образовательные инициативы – Обнинский негосударственный экологический колледж.
3. Юридические и правовые инициативы – Петербургский правовой
центр»Юристы за Экологию» и московский «Экоюрис».
4. Движения и группы протеста – «Битца», «Тушино», «Братеево»,
Greenpeace, «Хранителей радуги».
5. Пропагандистские информационные инициативы – «Эконорд» или
«ЭКОС», «Ecodefense!» или «Парквей», телерадиокомпания «Катунь» и т.д.
6. Теоретические и глобалистские организации.
7. Политические организации, экологические и зеленые партии.
8. Научно-практические организации.
По формам организации экологические группы делятся на свободные объединения и профессиональные объединения.
256
По сферам деятельности российских зеленых можно разделить на следующие группы:
1. Локальные группы – действующие на территории своего населенного
пункта или района.
2. Региональные группы и объединения – действующие в рамках региона,
определенного либо административно-территориальным делением (область,
край, республика), либо географическими факторами (например, бассейн реки
или горная система).
3. Межрегиональные объединения – действующие в различных и необязательно соседних регионах, объединенных общими проблемами (например, Союз «За Химическую Безопасность»).
4. Общероссийские объединения – действующие на всей территории России.
5. Бывшие общесоюзные объединения.
6. Международные объединения – имеют национальные отделения в России, которые действуют автономно.
В современной России экологическое движение разнообразно и дифференцировано, поэтому эта область гражданского общества существует в виде
множества неправительственных организаций. Одной из крупных экологических организаций является «Зеленое содружество» – сообщество общественных
экологических организаций России.
Целью «Зеленого содружества» является организация согласованных действий «зеленой» общественности.
В «Зеленое содружество» входят следующие общероссийские организации:
• Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;
• Конструктивно-экологическое движение России « Кедр»;
• Общероссийская общественная организация «Женское экологическое содружество»;
• Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зеленая планета»;
• Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль»;
• Общероссийская общественная организация «Российское общество защиты животных «Фауна»;
• Общероссийская общественная организация «Российская экологическая
независимая экспертиза» (РЭНЭ).
Кроме перечисленных, в состав «Зеленого содружества» вошли более 120
региональных общественных организаций экологической направленности [3].
«Зеленое содружество» ставит перед собой решение следующих задач:
– развитие нормативно-правовой базы в области уменьшения негативного
воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности
населения для реализации концепции устойчивого развития и экологической
доктрины России;
257
– изменение системы налогообложения в сторону усиления акцента на
введение природно-ресурсной ренты с целевым использованием средств на
экологические нужды;
– экологизация бизнеса, в том числе через реализацию положений Киотского протокола;
– осуществление процедур общественной экологической экспертизы и сертификации;
– оказание экспертной и консультативной помощи государственным органам природопользования и охраны окружающей среды для повышения эффективности их деятельности;
– проведение общественных мероприятий в поддержку социальноэкологических инициатив законодательной и исполнительной ветвей власти и
общественности;
– привлечение молодежи к овладению экологическими знаниями;
– международная кооперация общественных экологических организаций
для решения глобальных проблем;
– создание системы экологического образования и просвещения, в том
числе усиление внимания средств массовой информации к экологическим аспектам здоровья граждан России и создание на центральном телевидении и радио специализированных программ, отражающих способы решения экологических проблем на положительных примерах и т. д. [3].
Российская экологическая партия «Зеленые» – официально зарегистрированная политическая партия России экологической направленности, имеющая
общероссийский статус.
В период с 1993 по 2002 и с 2008 по 2012 существовавшая как общественное движение. В структуре партии действуют три автономные организации
«Зелёный патруль», детское движение «Зелёная планета» и Конструктивноэкологическое движение «Кедр», которое выпускает благотворительную лотерею «Природа». 6 июня 2012 год партия вновь официально зарегистрирована
[5].
Партия активно участвует в решении проблем охраны окружающей среды
и здоровья населения страны: от реализации локальных программ по улучшению экологического состояния малых городов России – до международных
проектов по предотвращению глобального изменения климата в рамках Киотского протокола. Главная текущая задача партии, впрочем, как и любой политической организации, увеличение численности членов и продвижение своих
представителей в региональные и местные законодательные и исполнительные
органы власти всех уровней, создание «зеленой» фракции депутатов в Государственной Думе РФ [4].
Конструктивно-экологическое движение России «Кедр» –неполитическая
общественная организация, которая объединила граждан России для решения
экологических проблем страны. Движение было создано и официально зарегистрировано в 1993 году.
В число основных коллективных членов движения «Кедр» входят:
• Всероссийское общество охраны природы;
258
• Совет главных государственных санитарных врачей России;
• Общероссийское движение «Солдатские матери России»;
• представители других экологических и гуманистических организаций.
Целевые устремления движения «Кедр» направлены на конструктивное
сотрудничество государственных и политических организаций, официальных и
частных лиц для обеспечения решения экологических проблем и создания в
России условий, обеспечивающих охрану здоровья населения и природной
окружающей среды.
В 2002 году в Москве при участии движения «Кедр» учреждена Общероссийская общественная организация «Российская экологическая независимая
экспертиза» (РЭНЭ).
В ноябре 2003 года в Москве по инициативе движения «Кедр» прошел
первый Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета», давший начало организации одноименного детского экологического движения [4].
Общероссийское детское экологическое движение «Зеленая планета» является общественной организацией, не имеет основной своей целью извлечение
прибыли и не распределяет прибыль между учредителями (или) участниками,
является добровольным самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов на принципах добровольности, равноправия всех его участников, самоуправления и законности [5].
Целями Общероссийского детского экологического движения «Зеленая
планета» является объединение юных граждан России, которые принимают
участие в решении экологических проблем и природоохранной деятельности, а
также детских экологических организаций, активно участвующих в устойчивом
развитии нашей страны, занимающихся:
– экологическим образованием, просвещением и воспитанием;
– вовлечением подрастающего поколения в природоохранную деятельность;
– формированием здорового образа жизни.
Участниками детского экологического движения «Зеленая планета» могут
быть граждане, достигшие 8 лет, а также юридические лица – общественные
объединения, признающие Устав движения, выразившие поддержку целям
движения и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности. Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами Российской Федерации также могут быть участниками движения [5].
«Союз зелёных России» (другое название – «Зелёная Россия») – российская зелёная политическая партия, созданная на учредительном съезде 5 июня
2005 года в подмосковном городе Королёве. Инициатива по регистрации партии в министерстве юстиции РФ была прекращена 30 ноября 2005 года, когда
Федеральный политсовет партии принял решение о её самороспуске. 16 апреля
2006 года на съезде сторонников партии, прошедшем в Подмосковье, было
принято решение войти в партию «Яблоко» с образованием в ней «зелёной»
фракции [6].
259
Альянс зелёных – российская зелёная политическая партия, официально
зарегистрированная 23 мая 2012 года.
Идея создания зелёной партии европейского типа на базе экологического
движения «Зелёная альтернатива», созданной в 2009 году, принадлежит бывшему замглавы Росприроднадзора, экс-префекту Северного административного
округа Москвы Олегу Митволю. Движение «Зелёная альтернатива» вошло в
Европейскую партию Зелёных (зелёный интернационал).
Учредительный съезд новой экологической партии «Альянс зеленых –
Народная партия» состоялся 24 апреля 2012 года в центральном Дворце культуры подмосковного города Можайска. Съезд принял программу партии, среди
положений которой:
• восстановление единых независимых федеральных органов по охране
окружающей среды и лесов;
• экологическая сертификация продукции;
• полное прекращение выращивания и импорта продукции ГМО;
• переход к стопроцентному обеспечению страны энергией за счет возобновляемых источников в течение 40 лет.
25 января 2014 года в Москве было принято решение о реорганизации
«Альянса зелёных – Народной партии» и переименовании партии в «Альянс зелёных и социал-демократов». На объединительном съезде было принято решение о слиянии «Альянса зелёных» с партиями «Социал-демократы России»,
«Свобода и справедливость», «Партия свободных граждан» и «Колокол». Делегаты съезда партии утвердили программу и избрали двоих сопредседателей –
Глеба Фетисова и Геннадия Гудкова [7].
Международная независимая неправительственная экологическая организация «Гринпис». Первое представительство появилось еще в Советском Союзе
в конце 80-х годов XX столетия. Национальная организация России была зарегистрирована в 1992 году.
С 2000 г. в «Гринпис» России проводится несколько проектов:
1. Энергетический проект (за отказ от ядерной энергетики)
2. Лесной проект
3. Токсический проект (против химического загрязнения)
4. Проект по раздельному сбору мусора
5. Волонтерский проект
6. Проект «Всемирное наследие»
7. Байкальский проект
8. Генетический проект
9. Проект «Экодом»
10. Проект «Чистая Нева»
Направления деятельности «Гринпис» России и Greenpeace International и
совпадают, и могут различаться. Так, национальные отделения не обязаны активно участвовать во всех международных программах «Гринпис». Каждое отделение самостоятельно решает, какие направления в его регионе наиболее
важны, на каких необходимо в первую очередь сосредоточить усилия и ресурсы, а в каких участвовать лишь по мере возможности.
260
Одним из важных результатов работы «Гринпис» в России является его
участие в подготовке пакета документов для включения озера Байкал в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Данное озеро является уникальным природным созданием, подобного которому в мире нет. Оно было взято под международную охрану.
«Гринпис» России и сейчас продолжает информировать Центр Всемирного
наследия ЮНЕСКО о проблемах, существующих в Байкальском регионе [8].
Экологические движения Казахстана появились с 1987 года как ответ на
пассивность властей в достижении качественных изменений в решении глобальных, региональных и национальных экологических проблем. Демократические преобразования в Казахстане позволили взглянуть на реальную экологическую обстановку в стране, выявить истинные причины их ухудшения. Исследования казахстанских историков сводятся к тому, что «неформальные организации 80-ых годов приобретали форму экологических движений как наиболее легальную для выражения своих позиции. Протестный характер общественного
движения эпохи перестройки наглядно характеризует общую динамику политической жизни. Появление экологических движений является свидетельством
политической активизации народов Казахстана» [9].
Общественные экологические движения активно развивались на международном, национальном и региональном уровнях.
Основными участниками современных экологических движений Казахстана являются неправительственные экологические организации, которые превращаются в реальную политическую силу, влияющую на принятии государственно важных решений. Активисты экологических движений осознают, что
для решения экологических проблем необходимо политическое участие. Экологические движения постепенно политизируются, а некоторые из них трансформируются в политические партии [9].
В 1988–1989 годах началось объединение и политизация экологических
движений в Казахстане. Политические партии Казахстана этого периода – Социалистическая партия Казахстана, партия Народного конгресса Казахстана,
Союза «Народное единство Казахстана», Республиканская партия Казахстана,
национальная партия «Алаш», Социал-демократическая партия Казахстана,
Партия демократического прогресса Казахстана, национально-демократическая
партия «Желтоксан» включали в свои программы экологическую проблематику
[10].
В 1989–1990 годах в республике насчитывалось около 1000 зарегистрированных и незарегистрированных организаций, среди которых организации с
экологической направленностью. В деятельности природоохранных организаций можно выделить два основных направления:
1. Охрана и восстановление природной среды:
– общественный комитет по проблемам Арала, Балхаша и экологии Казахстана. Создан в 1987 году, по инициативе Мухтара Шаханова. Основные задачи
– пропаганда экологических знаний, рациональное использование природных
ресурсов, социальная помощь жителям районов экологического бедствия.
261
– общество «Саун «Южно-Казахстанской области. Задачи – возрождение
обычаев и традиций, очистка и озеленение поселков, родников.
– общественный комитет в защиту Иртыша в Восточно-Казахстанской области (1989).
– экологическая группа «Нура» в г. Темиртау, изучавшая проблемы
р. Нура.
– группа «Кызыл-Балык» в Гурьевской области, выступавшая за сохранение и рациональное использование, и воспроизводство природных ресурсов течения Урала и Прикаспийского бассейна.
– общество «Боровое» в Кокшетауской области, занимавшееся охраной
экосистемы Боровской курортной зоны.
2. «Протестное» движение по закрытию военных полигонов, выплате компенсаций, возмещению населению материальных и экологических потерь:
– Международное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск», организованное в феврале 1989 г. и выступавшее за прекращение испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне и во всем мире.
– общественное объединение «Нарын» в Западно-Казахстанской области, в
городе Уральск, боровшееся за раскрытие правды о ядерных испытаниях и за
выплату компенсаций населению.
– движение «Улытау» в Джезказганской области, выступавшее против
строительства военных полигонов и других военных объектов, за закрытие
«Байконура».
Основными направлениями деятельности экологических НПО Казахстана
начала 1990-х годов являлись: экологическое просвещение, борьба с ядерными
техногенным загрязнением, экологическое право, утилизация накопленных
твердых бытовых отходов, водные проблемы и качество питьевой воды, экология мегаполиса [10].
В Казахстане в разное время существовали, а некоторые из них существуют по сей день, различные международные, республиканские и региональные
экологические движения и организации:
1) Комитет Арал–Азия–Казахстан. Основан в ноябре 1987 г. по инициативе
поэта Мухтара Шаханова при Союзе писателей Казахстана как Комитет по
проблемам Арала. В 1988 г. преобразован в Общественный комитет по проблемам Арала, Балхаша и экологии Казахстана. С середины 1989 г. носит название:
Общественный комитет Арала, Балхаша и экологии Казахстана. Официально
зарегистрирован 14 апреля 1989г.
2) Зеленое движение Казахстана. Входит в состав Зеленого движения, действующего на территории бывшего СССР. Среди членов Координационного
Совета –М.Х. Елеусизов, впоследствии лидер экологического Союза Казахстана «Табигат».
3) Зеленый фронт Казахстана. Самодеятельная ассоциация. Зарегистрирована 24 августа 1989 г. как республиканская организация при Обществе охраны
природы. Среди учредителей – социально-экологическое объединение «Инициатива», МЖК «Отрар», Ноосферный центр, кооператив-коммуна «Созидание»,
экологический центр ЦКЛКСМ Казахстанаидр.
262
4) Казахское общество охраны природы. Республиканская организация.
Зарегистрирована 19ноября 1991 г. Сотрудничает с обществами охраны природы других республик. Организует экологическое просвещение, изучение общественного мнения, участвует в решении проблем промышленного и сельскохозяйственного загрязнения.
5) «Невада–Семипалатинск». Антиядерное движение Казахстана. Цель –
демонтировать все полигоны ядерных испытаний на территории Казахстана,
установить общественный контроль над промышленными отходами, создать
экологическую карту региона. «Невада» означает, что движение выступает одновременно и за прекращение ядерных испытаний в США. Филиалы движения
созданы в 15 областях Казахстана и в Москве. Образован научный центр. Отличительная черта движения – его интернациональный состав.
26 февраля первый секретарь Союза писателей Казахстана Олжас Сулейменов в своем выступлении по республиканскому телевидению предложил организовать движение [10].
Движение получило широкий общественный резонанс. По своим масштабам оно было беспрецедентно: под Антиядерным воззванием поставили подписи два миллиона казахстанцев, принявших участиев демонстрациях, маршах
протеста, маршах мира в Казахстане, России, Америке, Японии. Деятельность
движения уже в 1989 году привела к снижению количества взрывов на полигоне: из 18 запланированных было произведено всего 7. Указом Президента
Республики Казахстан 29 августа 1991 года Семипалатинский полигон был
официально закрыт, а в декабре 1993 года расформирован.
На базе движения «Невада-Семипалатинск» была создана партия Народный конгресс Казахстана, которая интегрировала политические и социальные
идеи движения, участвуя в процессе реформирования государства [9].
6) «Табигат» («Природа»). Партия «зеленых» Казахстана. Создана в декабре 1989 г. как экологический союз ассоциаций и предприятий Казахстана, в
марте 1992 г. союз преобразован в партию.
Председатель союза, впоследствии лидер партии – М.Х. Елеусизов.
7) Союз «Чернобыль» Казахстана. Входит в Союз «Чернобыль», действующий на территории бывшего СССР. Имеет областные отделения. Зарегистрирован Минюстом Казахстана 25 декабря 1991 г. Изучает проблему влияния
ядерного загрязнения на состояние окружающей среды и здоровье населения.
Оказывает помощь участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
8) Фонд поддержки экологического образования. Действует на территории
Казахстана. Зарегистрирован 25 декабря 1991 г.
9) Экологический фонд Казахстана. Связан с социально-экологическим
объединением «Инициатива». Цель: финансирование экологических программ.
10) «Зеленое спасение». Городское экологическое общество (г.Алматы). В
мае 1990 г. выделилось из группы «Инициатива».
11) «Инициатива» социально-экологическое объединение (клуб, г. Алматы). Первая независимая городская организация. Возникла в апреле 1987 г. В
ноябре 1988 г. клуб зарегистрирован.
263
12) «Ноосферный центр». Создан в марте 1988 г. в г. Алматы. Объявил себя филиалом международной организации «За безъядерный мир и выживание
человечества».
13) «Биосфера», экоклуб. Участвует в решении проблем, связанных с промышленными радиационным загрязнением. Проводит дискуссии на философские и экологические темы.
14) Временный гражданский комитет. Городская организация. Комитет
образован в Усть-Каменогорске в сентябре 1989 г. Проводил работу по спасению экологии Рудного Алтая, выступал за прекращение ядерных испытаний на
полигоне около Семипалатинска.
15) Координационный центр движения в защиту Иртыша. Основан в 1990
г. Сотрудничает с экологическими организациями Усть-Каменогорска, Семипалатинска и других населенных пунктов, расположенных в пойме р.Иртыш. Выступает против промышленных и сельскохозяйственных загрязнений реки.
16) «Спасение Каспийского моря». Занимается экологическим просвещением. Сотрудничает с другими организациями республики за ее пределами,
преследующими цель спасения Каспия.
17) «Экология и общественное мнение» (ЭКОМ). Инициативная группа.
Основана в июле 1987 г. Задача – наблюдение за экологической обстановкой в
Павлодаре и «достижение экологической гармонии».
Группа выступала против строительства в городе завода по производству
БВК, собирала подписи местных жителей в поддержку своего требования. Решение о строительстве предприятия было отменено. В 1989-1990 гг. выступали
против строительства жилых домов в пойме р.Усолка, провели опрос общественного мнения, предложили создать экологическую комиссию.
18) «Врачи против ядерной войны». Семипалатинское городское общество.
Возникло в мае 1989 г. Цель – прекращение ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, медицинская помощь людям, пострадавшим от ядерных
взрывов.
19) «Союз пострадавших от ядерных испытаний». Создан 29 августа
1990 г. Учредители – региональные отделения движения «Невада-Семипалатинск». Цель – помощь пострадавшим от ядерных испытаний и создание банка
данных об ущербе здоровью, экономике и экологии.
Проанализировав развитие разнообразных и множественных экологических движений и партий Российской Федерации и Республики Казахстан можно сделать следующие выводы:
– как в России, так и в Казахстане деятельность экологических движений в
достижении своих целей наиболее эффективна, чем достижения экологических
партий на политической арене, также экологические движения наиболее активны;
– политические партии стран не имеют достаточной политических ресурсов для организации политической борьбы и зачастую не достигают цели полноценного участия в политической жизни государства;
– как в России, так и в Казахстане экологическая составляющая присутствуют лишь в структуре отдельных политических партий;
264
– в целом общество и политические силы, как нам, кажется, недостаточно
осознает всю важность и необходимость экологических реформ и программ,
что определяет пассивное участие граждан в деятельности партий и движений
экологической направленности.
В последние годы в обеих странах со стороны государства проводятся
стратегии в сторону развития экологически чистого производства, зеленой экономики, обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития. Это
– большая победа в направлении охраны окружающей среды. Подобные тенденции показывают централизованный подход к экологическим проблемам со
стороны государственных властей, что возможно, и определяет пассивность
экологических партий и движений двух стран.
Литература
1. Бабосов Е.М. практикум по социологии: учебное пособие для студентов вузов.
Минск: «тетраСистемс», 2003. 416 с.
2. Фомичев С.Р. Разноцветные зеленые: стратегия и действие: учебное пособие. М.;
Н. Новгород: ЦОДП СоЭС, Третийпуть, 1997.
3. Российское экологическое движение «Зеленые». URL: http://greentula.ru/content/
about/greenunion.html (дата обращения: 28.03.2016).
4. Конструктивно-экологическоедвижениеРоссии. URL: http://www.dkedr.ru/history.php
(дата обращения^ 28.03.2016).
5. Детское экологическое движение «Зеленая планета». URL: http://greenplaneta.ru/ (дата
обращения: 28.03.2016).
6. Википедия – свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_
%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%
81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%C
2%AB%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5%C2%BB (дата обращения: 02.04.2016).
7. Википедия – свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%
D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%
85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 02.04.2016).
8. Википедия – свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%
D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D1%81#.D0.93.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.BF.D0.
B8.D1.81_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8 (дата обращения: 02.04.2016).
9. Аманбаев А.С. История экологического движения Казахстана (вторая половина ХХ –
начало ХХI вв.): автореф. канд. ист. наук. Уральск, 2010.
10. Кирков И.С. Общественное экологическое движение Казахстана в конце 1980-х –
начале 1990-х гг. Сибирский Государственный Индустриальный Университет, Новокузнецк.
URL: http://pandia.ru/text/79/195/12610.php (дата обращения: 28.03.2016).
265
«ПАРАГРАЖДАНСКИЕ ИНСТИТУТЫ»
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ1
А.М. Балацкий
аспирант кафедры политологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Для определения политического режима, сложившегося в Российской Федерации с начала 2000-х годов, в литературе и публицистике используют множество разнообразных названий: «управляемая демократия», «электоральная
демократия», «имитационная демократия», «гибридный режим», «мягкий авторитаризм» и т.д. Не касаясь сущности данных терминов и различий между ними, ограничимся констатацией факта, что точка зрения о недостаточной демократичности российского политического режима является широко распространенной и, более того, имеет под собой определенные рациональные основания,
становящиеся очевидными при анализе государственных институтов, практики
их функционирования и механизмов взаимодействия общества и власти [1; 2].
Одной из существенных характеристик российского политического режима является функционирование так называемых «параконституционных институтов» или «субститутов», т. е. институтов в системе государственного управления, которые исполняют функции, формально закрепленные за другими институтами [3; 4]. Так, например, государственно-правовое управление Администрации Президента (далее – АП) РФ в значительной степени выполняет законотворческую функцию, разрабатывая и вынося законопроекты (особенно связанные со сферой политики) через депутатов различных фракций ГД РФ (в зависимости от характера предлагаемой инициативы) на обсуждение и, как правило, последующее принятие [2]. Часть функций ГД РФ берет на себя и Общественная палата. Ранее функции губернаторов в определенной степени выполняли полномочные представители президента в федеральных округах, которые
в свою очередь «подменяли» формальное территориально-административное
деление [4, с. 4]. В целом, подобная практика с точки зрения властвующих элит
показала себя достаточно эффективной: повысилась управляемость и предсказуемость политического процесса, снизилась конфликтность. С другой стороны, как отмечает Кузнецов И.И., появление и развитие новых институтов привело к усилению бюрократизации и «размыванию» ответственности конкретных ведомств и должностных лиц [3, с. 90].
Данные проблемы, безусловно, оказывали значительное влияние на эффективность проводимого в стране курса на развитие и диверсификацию экономики и осознавались руководством страны. Однако реальная практика функционирования политической системы (недостаточная эффективность контролирующих органов и судебной системы, отсутствие де-факто разделения властей,
© Балацкий А.М., 2016
266
недостатки в системе законодательства, снижение качества кадрового обеспечения органов власти и т.д.) сделала невозможным противодействие негативным трендам в управлении с использованием уже имеющихся в распоряжении
инструментов. На наш взгляд, новым инструментом такого противодействия
стало создание властью институтов гражданского общества, которые на самом
деле являлись логическим продолжением и развитием существующих тенденций в системе государственного управления – «политического аутсорсинга» [3,
с. 91]. Самым крупным и известным из подобных институтов является Общероссийский народный фронт (далее – ОНФ). Далее мы постараемся показать,
что ОНФ, позиционирующийся как общественное объединение, нельзя считать
реальным институтом гражданского общества ни с точки зрения его организации, ни с точки зрения его деятельности.
Решение о создании Общероссийского народного фронта, который по замыслу своих создателей (инициатива была впервые озвучена лично Президентом РФ В.В. Путиным) должен был выполнить задачу консолидации «конструктивных» с точки зрения руководства страны политических сил, было принято в 2011 году.Кроме этого, постулировалась и иная цель – позволить беспартийным кандидатам участвовать в выборах в ГД по спискам «Единой России»,
что позволило некоторым исследователям рассматривать ОНФ лишь как электоральное объединение [5; 6]. Озвучивались предположения о том, что ОНФ
представляет собой замену партии «Единая Россия», в отношении электоральных перспектив которой существовали определенные опасения: ее результаты
по итогам голосования 13 марта снизились на 10–15 % в зависимости от региона [7]. Более того, в СМИ озвучивалась информация о том, что на выборах президента РФ в 2012 году ОНФ может выдвинуть своего кандидата в случае
успешного участия в думских выборах 2011 года [8].
Выборы в ГД РФ в 2011 году закончились для «Единой России» победой, а
для действующей власти – массовыми акциями протеста по всей стране, участники которых считали, что результаты голосования сфальсифицированы. После
этого в РФ была проведена определенная либерализация партийного законодательства (снижены требования, предъявляемые политическим партиям при регистрации), что привело к увеличению количества политических партий в
стране до более чем 70. Однако в рамках данной статьи более важным представляетсято, что уже после президентских выборов в марте 2012 года проект
ОНФ начал трансформацию из сугубо электорального политического проекта в
проект с более широким спектром задач. На него были возложены функции
контроля над исполнением «майских указов» В.В. Путина, «кадровой скамейки» органов государственной власти, разработки проектов законов и – что самое главное, на наш взгляд – обратной связи с населением. После выборов и
последовавших акций протеста стал очевидным дефицит каналов связи власти
и граждан, считавших существующие каналы недостаточными и контролируемыми. В условиях, когда ключевой элемент демократии – выборы – с точки
зрения некоторой части населения перестал работать должным образом и обеспечивать социальную ответственность (socialaccountability) избираемых перед
избирателями, трансформация ОНФ должна была предложить гражданскому
267
обществу способ влияния и контроля над властью или хотя бы создать их видимость. Однако специфика функционирования государства наложила на это
общественное объединение свой отпечаток: с одной стороны, не желая оставить
протестные настроения без надзора и, с другой стороны, не будучи способной
предоставить недовольным свободу действий в сфере гражданского контроля,
властвующая элита прибегла к созданию в рамках существующей параконституционной системы институтов и по ее же логике еще одного – института парагражданского общества.
Краткий экскурс в историю и направления деятельности ОНФ достаточно
ярко иллюстрирует «квази-» или «парагражданский» (по аналогии с «параконституционным») характер этой организации. Во-первых, под общественным
объединением (ОНФ в 2013 году был зарегистрирован Министерством юстиции в качестве общественного движения – разновидности общественного объединения) понимается «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей <…>» [9]. ОНФ же был создан по инициативе действующего политика – В.В. Путина, тогда занимавшего
пост премьер-министра РФ, который хоть и является гражданином РФ, но занимал руководящую должность в органе исполнительной власти. Фактически
же Путин стал участвовать в деятельности координационного совета ОНФ уже
в июне 2011 года, хотя на тот момент юридически ОНФ не имел регистрации и,
таким образом, не подпадал ни под какие ограничения, накладываемые на общественные объединения законом. Впрочем, в рамках данной статьи имеет
большее значение тот факт, что ОНФ был создан не «снизу», а «сверху», причем очевидно в качестве политического проекта (сначала электорального, а затем и «парагражданского»).
Во-вторых, важной чертой ОНФ, характерной для него на всем протяжении его существования, является участие в его управлении действующих представителей органов власти (как исполнительной, так и законодательной). Так,
на момент написания статьи в ее руководстве из 53 человек было два губернатора (А.В. Богомаз, А.И.Бочаров), один министр (А.С.Галушка), 12 депутатов
ГД и 1 депутат регионального парламента (Башкирия), один руководитель федерального агентства (Роскосмос), что составляет в целом чуть меньше трети
центрального штаба Фронта. Кроме того, в его состав входят члены ОП РФ (4),
партийные функционеры (один из которых также является депутатом ГД) и
бывшие чиновники (например, А.Н. Шохин). Соседство с данными фигурами
таких «фронтовиков», как заведующая детским садом, капитан теплохода, фермер, безусловно, призвано придать организации «всенародный» характер, однако таких людей в руководстве меньшинство. Исполкомом ОНФ руководит
А.В. Анисимов – бывший заместитель главы Управления президента РФ по
внутренней политике. Кадровый состав центральной ревизионной комиссии во
многом похож на состав штаба – депутаты ГД, члены профессиональных ассоциаций (РСПП, торгово-промышленная палата) и общественных объединений.
Если вновь обратиться к функциям, которые заявлены ОНФ как ключевые
в его деятельности (например, контроль над исполнением поручений президен268
та, обратная связь с населением), то можно отметить частичное наложение
субъекта, на которого возложено исполнение данных задач, на объект, являющийся их целью. Иными словами, исполнение «майских указов» контролируется людьми, которые должны их исполнять или обеспечивать их исполнение
(так, депутаты ГД в определенной степени влияют на возможность исполнения
указов через принятие федерального бюджета; губернаторы и чиновники дефакто занимаются воплощением указов в жизнь). С другой стороны, ФЗ «Об
Общественной палате РФ» закрепляет за Палатой задачи согласования интересов граждан, общественных объединений и органов государственной власти,
общественной экспертизы законопроектов разных уровней [10], которые также
являются и функциями ОНФ (примечательно, что эти задачи в рамках обеих
организаций выполняют одни и те же люди). В этой связи можно говорить об
ОНФ даже как о параконституционной организации второго уровня, поскольку
он ведет деятельность, которая подменяет деятельность другого института, который в свою очередь также имеет параконституционный характер. Таким образом, с точки зрения своего структурного и функционального характера ОНФ
едва ли может считаться институтом гражданского общества: он создан по
инициативе представителя действующей власти, в значительной степени состоит из членов властвующей элиты, тесно связан с государством и частично выполняет функции государственных институтов.
Что касается конкретной деятельности ОНФ, то она также позволяет характеризовать его как парагражданский институт. Например, в значительной
степени ОНФ известен тем, что после его резкой критики в отношении некоторых представителей действующей власти к ним применяют различные меры
воздействия вплоть до отставки, как это было с несколькими губернаторами
(например, бывшими губернаторами Сахалинской и Брянской областей А. Хорошавиным и Н. Дениным соответственно). Характерно то, что эти же чиновники могут подвергаться критике со стороны различных общественных организаций и граждан, однако меры предпринимаются лишь после того, как на эту
критику обратит свое внимание ОНФ и фактически продублирует ее, как бы
проецируя на нее образ своего лидера В.Путина и, как следствие, делая ее более
заметной для объектов критики.
Помимо этого активисты ОНФ занимаются мониторингом госзакупок, чем
еще раньше начал заниматься А.Навальный в рамках проекта «РосПил». Его
[проекта] работа привела к ряду громких скандалов: например, после махинаций с квартирами для сирот был арестован заместитель мэра Читы. Борьба с
коррупцией в госзакупках привела к значительному увеличению популярности
А.Навального, что ввиду его оппозиционной активности с неизбежностью привело к поискам способов системной (в смысле – находящихся в рамках системы
власти) борьбы с подобными злоупотреблениями в госзакупках. Инструментом
такой борьбы стал ОНФ, который не только занимается мониторингом государственных закупок, но и готовит материалы об обнаруженных нарушениях (собственно, во многом повторяя методику РосПила – привлечение активных граждан к контролю, своеобразный вид краудсорсинга).
269
Еще одним направлением работы ОНФ является экспертиза. Эксперты ОНФ
работают в различных сферах, среди которых законотворчество, экология, ЖКХ,
качество дорог, социальное обеспечение и так далее. В целом, многие общественные объединения занимаются тем же самым, однако принципиальное отличие ОНФ от них заключается не столько в том, что органы власти по этим вопросам взаимодействуют с ним более плотно, а в том, что фактически в организации
выстроена целая «гражданская вертикаль»: активисты ОНФ занимаются работой
на местах, эксперты готовят проекты законов или вносят предложения органам
власти (напрямую или врамках рабочих групп), члены ОНФ, обладающие депутатским мандатом, вносят инициативы ОНФ на рассмотрение в ГД, после чего
они могут быть законодательно утверждены. Фактически в ОНФ искусственно
выстроена централизованная система совместной работы и взаимодействия
представительных органов власти и общественных организаций, какой она теоретически должна быть в демократическом государстве.
Немаловажным элементом ОНФ является партия «Единая Россия», обладающая большинством в Государственной Думе. Если раньше ее можно было
определить как «партию власти», «партию поддержки действующей власти»
(аналогичным зарубежным проектом, например, является казахстанская партия
«НурОтан»), то теперь она еще и играет ведущую роль в деятельности ОНФ,
таким образом фактически представляя интересы и властвующей элиты, и
гражданского общества одновременно, что весьма сложно (если вообще возможно), поскольку в России эти интересы часто вступают в конфликт. Более
того, интенсификация деятельности «ЕР» над партийными праймериз свидетельствует о том, что акцент в электоральной работе и, соответственно, центр
ответственности за нее сместился с ОНФ на «ЕР», что позволяет сделать прогноз о приоритетном развитии других направлений деятельности Фронта.
Можно предположить, что исход предстоящих выборов предопределит будущее ОНФ: в случае уверенной победы «ЕР» по спискам и округам он, вероятно,
будет использован в рамках электоральной кампании по выборам президента
РФ как своеобразный «think-tank», агрегирующий запросы к власти «снизу» и
перерабатывающий их в предвыборную программу своего лидера В.В. Путина
(параллельно с работой экспертных групп или же для легитимации их выводов
и рекомендаций), а также как скамейка доверенных лиц действующего президента. Вместе с тем, судьба некоторых политических проектов, таких как разнообразные молодежные движения («Наши» и их многочисленные последователи, клоны и сателлиты, «СтопХам», которые были переформатированы в
«более системные» организации или же вообще распущены), показывает, что
можно ожидать структурного развития и расширения ОНФ как общественного
мегадвижения, объединяющего многочисленные и разнообразные группы
гражданских активистов с разными интересами и консолидирующего конструктивные силы общества вокруг фигуры своего лидера, что все так же имеет особенную важность в связи с продолжающимся сложным экономическим положением и внешнеполитическими проблемами. В случае же поражения (весьма
маловероятного в отсутствие каких-то серьезных потрясений и на фоне стремления власти минимизировать всяческие риски обострения ситуации) вполне
270
вероятно поглощение «Единой России» ОНФ и ожидаемое с самого его появления превращение в новую партию власти.
Таким образом, можно сделать вывод о специфическом дуалистическом характере организации ОНФ (и в определенной степени – партии «Единая Россия»
как ее важном элементе), для описания которого мы предлагаем использовать
термин «парагражданский институт», т. е. «созданный искусственно «сверху» и
управляемый институт социальной ответственности государства перед гражданами, на который возложено выполнение функций гражданского общества».
Анализ функционирования «гражданской вертикали» власти и сравнение ее
страновой специфики с опорой на политические практики стран постсоветского
пространства могут представлять значительный исследовательский интерес.
Литература
1. Сурначева Е. Центр управления демократией // Коммерсантъ-Власть. 2013. № 15.
2. Сурначева Е., Никольская П. Законодательная рецептура // Коммерсантъ-Власть.
2015. № 3.
3. Кузнецов И.И. Новые институты в системе государственной власти РФ: тенденции и
противоречия развития // Известия Саратовского университета. 2009. Т. 9. Сер. Социология.
Политология, вып. 1. С. 86–91.
4. Устименко С., Иванов А. Дуалистический характер российского государственного
устройства // Власть. 2007. № 7. С. 3–8.
5. Стеблецова Н.Н. Новые институты гражданского общества в избирательном процессе современной России // Научные ведомости Белгородского государственного университета.
Серия: История. Политология. 2013. №1 (144). С. 163–166.
6. Кошкин А.П., Мельков С.А. Завершается ли электоральный процесс созданием Общероссийского народного фронта? // Власть. 2011. №10. С. 19–23.
7. Социологи «Левада-центра» зафиксировали падение рейтинга «Единой России» в
марте. URL: http://uraldaily.ru/politika/4643.html (дата обращения: 27.03.2016).
8. Общероссийский народный фронт. Политическое объединение на базе «Единой России». URL: https://lenta.ru/lib/14211400/ (дата обращения: 27.03.2016).
9. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от
31.01.2016). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193154
(дата обращения: 27.03.2016).
10. Об Общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 04.04.2005
№32-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // КонсультантПлюс. URL: http://bit.ly/1N3K5qJ (дата обращения: 02.04.2016).
271
ПАРТИЯ «ФЛАМАНДСКИЙ ИНТЕРЕС»:
ГЕНЕЗИС И ДИНАМИКА ПОПУЛЯРНОСТИ1
К.А. Васильева
магистрант
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Конец 19 – начало 20 столетия были отмечены ростом популярности
крайне правых популистских партий по всей Европе (Национальный фронт во
Франции, бельгийский Фламандский интерес, Австрийская партия свободы,
партия «За лучшую Венгрию» и т.д.) Однако если одни партии продолжают
привлекать электорат, то другие получают на выборах все меньше и меньше
голосов. «Фламандский интерес» относится к партиям второй категории: согласно результатам парламентских выборов, с 2003 по 2014 годы его поддержка
снизилась более чем в 3 раза. В данной статье мы рассмотрим причины такого
падения популярности.
«Фламандский интерес» является бельгийской крайне правой популисткой
партией. Он представляет собой правое крыло движения за независимость
Фландрии. Во Фландрии сепаратистские тенденции сильны уже на протяжении
нескольких столетий, чему способствует как лингвистическое разнообразие, так
и неравномерное экономическое развитие двух бельгийских регионов – Фландрии и Валлонии.
«Фламандский интерес» был сформирован на основе правого крыла партии «Народный союз», которая появилась в 1954 году и выступала за увеличение самостоятельности Фландрии. С этого же года «Народный союз» присутствовал в парламенте, но находился в оппозиции. После того, как партия подписала «пакт Эгмонта», в котором выразила согласие с проводимой политикой
федерализации страны и пошла на компромисс с правительством, из нее вышла
часть членов, требующих полной независимости Фландрии. Ими было сформировано 2 новых объединения: «Фламандская национальная партия» и «Фламандская народная партия», которые позже стали выступать единым фронтом,
объединившись под названием «Фламандский блок» (далее – ФБ). Позже они
объединились в одну партию с аналогичным названием [1, с. 11–23].
Изначально деятельность данной партии была направлена только против
«пакта Эгмонта», а также за предоставление Фландрии независимости. Однако
со временем круг вопросов, к которым она обращалась, стал расширяться, и
центральное место в риторике заняла критика иммиграции и исламизации, которые связывались с экономическими проблемами страны и региона, а также
проблемой преступности. Сегодня ключевую роль в программе партии занимает ее позиция по вопросу иммиграции, а не независимости Фландрии.
Как и другие праворадикальные партии, ФИ часто апеллирует к демократическим ценностям и выступает с критикой национального истеблишмента,
© Васильева К.А., 2016
272
ратует за внедрение практики референдумов. В своей риторике партия также
уделяет много внимания проблеме преступности, закона и порядка, семейных
ценностей, а экономическая составляющая ее программы на сегодняшний день
является либеральной [2, с. 127–138].
Сначала партия не демонстрировала выдающихся результатов на выборах,
а своих членов набирала в основном из фламандских националистических
группировок, таких, как Voorpost, Were Di или VMO. Значительным успехом
партии стали выборы 1991 года, на которых она набрала более 10 % голосов
фламандских избирателей. Примечательно, что усиление партии происходило
за счет не только перехода к ней членов местных националистических групп,
но и левого электората: согласно опросам, почти 19 % процентов электората
партии на этих выборах раньше были членами Социалистической партии. При
этом 16 % электората перешли от Христианских Демократов, а 12 % – от либералов [3, с. 179-195].
Однако увеличение популярности партии сопровождалось усилением
негативного отношения к ней со стороны бельгийских политиков и общественных движений, которые рассматривали партию как “возрождение фашизма». В
итоге, в 1992 г. правительство запретило любые тактические союзы с блоком,
образовав так называемый «санитарный кордон», опасаясь, что лидеры ФБ смогут попасть в правительство страны. Причиной ограничений был не сепаратизм
партии, а ее крайняя антииммигрантская направленность, поддержка апартеида
в Южной Африке и предложения по насильственной репартриации неевропейских меньшинств [4, с. 141–157].
После победы партии на выборах 2000 года борьба правительства за признание ФБ расистской организацией вновь активизировалась. Судебные процессы сопровождались продолжением роста популярности партии: на региональных выборах 2003 года она получила 19 % голосов, фактически став 3
крупнейшей партией страны. По мере того, как проходили судебные процессы,
популярность партии только возрастала: о ней все чаще говорили СМИ, а сама
партия получила возможность играть роль жертвы, противостоящей другим
партиям, ставшим частью местного истеблишмента. В результате на выборах
2004 года ФБ показал свой лучший результат: на региональных и европейских
выборах за партию проголосовало 24 % избирателей, и она стала второй политической силой Фландрии.
Несмотря на это, в 2004 году 3 некоммерческие организации, от финансирования которых напрямую зависел ФБ, были приговорены к выплате штрафов
за нарушение антирасистского законодательства; позже сама партия была признана расистской. После этого она была распущена, однако вскоре – 14 ноября
2004 была сформирована новая партия – «Фламандский интерес» (далее – ФИ).
Программа партии, в целом, не претерпела существенных изменений, однако
антимиграционная часть программы была смягчена. Согласно партийной программе, покинуть страну теперь должны были не все мигранты, а только те, кто
отрицает европейские ценности или выступает против фламандской культуры
[5, с. 68–85].
273
Начиная с 2007 года, партия ухудшает свои позиции в Парламенте: если в
2003 году ФБ завоевал 18 мест, то в 2014 году партии удалось получить только
3 места в палате представителей. Снижение её популярности сложно объяснить
внешними факторами: уровень безработицы в стране остается высоким, несмотря на некоторое улучшение ситуации в 2007–2009 годах, кроме того, продолжает расти и количество иммигрантов.
В качестве главной причины резкого снижения популярности партии можно выделить именно «санитарный кордон», установленный против нее. Несмотря на то, что он был установлен в 1992 году, все партии выполняют взятые
на себя обязательства, и не вступают с ФИ в союзы. Этому способствовала политическая система Бельгии, которую определяют как картельную [6, с. 1237–
1266], акцентируя внимание на зависимости партий от государства и низком
уровне соревновательности между ними. Благодаря этому все партии могли
быть уверены, что ни одна политическая организация не будет сотрудничать с
ФИ для нанесения вреда другим.
Так как «кордон» действует уже на протяжении более 14 лет, избиратели
начали осознавать, что, несмотря на их голоса, ФБ так и не получает доступа к
власти, кроме того, появились другие партии со сходной повесткой, способные
вступать в тактические союзы и эффективней отстаивать интересы избирателей.
Предположения об эффективности «кордона» подтверждает статистика:
согласно одному из опросов, проводившемуся среди избирателей, которые голосовали в 2007 за ФИ, а в 2009 – за другую партию, 38,1 % объяснили это отсутствием у партии доступа к власти, 33,3 % – наличием лучших альтернатив,
23,8 % – чрезмерной радикальностью партии, а 7,1 % – ее низкой узнаваемостью [7, с. 60–82].
Стоит согласиться, что за время своего существования партия не снизила
существенно степень радикальности своих лозунгов, что может отталкивать
часть электората. Кроме того, падение популярности ФИ не случайно совпало с
усилением партии «Новый фламандский альянс» (далее – НФА), созданной в
2001 году. Основными принципами этой партии стали сепаратизм, европеизм,
гражданский национализм и экологизм, а также демократическое обновление,
заключающееся в более частом проведении референдумов и увеличении роли
гражданских инициатив (однако позже данная идея исчезла из манифеста партии). Она также является составной частью движения за независимость Фландрии. НФА появился в результате роспуска партии Народный союз, судьба которой показательна для европейских праворадикальных партий: по мере реализации своей политической программы, партия получала все меньше поддержки
населения, так как все больше ассоциировалась с истеблишментом, против которого выступала. Если по мере ослабления Народного союза ФБ получал все
больше поддержки от его разочарованного электората, то после роспуска партии голоса ее бывших избирателей начал завоевывать уже недавно созданный
НФА. В 2014 году эта партия выиграла парламентские выборы, заняв в палате
представителей 33 места из 150. Своему электоральному успеху партия обязана
электорату не только ФИ, но и других фламандских партий, за исключением
274
зеленых: согласно проведенному опросу, 24 % новых избирателей НФА ранее
голосовали за христианских демократов, 28 % – за либеральных Open VLD,
22 % – за ФИ, а 13 % – за социалистическую партию sp.a. [8, с. 448–452].
НФА удалось предложить избирателям ФИ альтернативу: на партию не
распространяется «санитарный кордон», и в то же время она является достаточно антииммигрантской. В 2004 она предлагала ограничить для мигрантов
доступ к гражданству и уменьшить их социальные права, а также обязать иммигрантов оплачивать интеграционные курсы и ужесточить наказание за их непрохождение. Позднее партия также предлагала усложнить порядок миграции
по воссоединению семьи. Таким образом, она являлась достаточно притягательной для бывших избирателей ФИ.
Однако если раньше НФА не была активным борцом с дискриминацией, то
в 2014 году ситуация изменилась, и в новом манифесте партия выдвигает предложения, которые должны способствовать большему участию в социальной и
культурной жизни недостаточно представленных групп. Важное место здесь занимают лингвистические и другие курсы, упрощающие интеграцию [9, С. 1–14].
Со временем также изменились и требования партии, касающиеся независимости Фландрии: изначально она требовала полного отделения региона, что
могло привлечь электорат, раньше голосовавший за ФИ из-за его сепаратизма.
Однако и здесь требования партии вновь смягчаются: сейчас НФА уже согласен
на предоставление региону больших полномочий в области социальной, налоговой политики, сферы внутренних дел и создание конфедерации. Впоследствии это может привести к разочарованию части наиболее радикального электората [10, с. 91–102].
Таким образом, мы видим, что изначально партия занимала более жесткие
позиции (однако при этом избегая экстремистких высказываний; сама партия
определяет себя как умеренно-правая), привлекая избирателей ФИ, то теперь
она приближается к голосам более умеренных избирателей.
Помимо программы, избирателей может привлекать фигура лидера партии
Bart De Wever, который уже стал мэром Антверпена – города, который раньше
считался оплотом ФИ – и является харизматическим лидером, в то время как в
ФИ такого лидера нет. Чем больше ослабевает партия, тем сильнее растут разногласия внутри нее. В результате, многие респектабельные члены выходят из
ФИ (такие, как Verstrepen, Van Hecke или Karim Van Overmeire).
Еще одна партия, которой удалось привлечь голоса бывших избирателей
ФИ – партия Libertarian, Direct, Democratic (Либертарианская партия за прямую
демократию/ Lijst Dedecker, далее – LDD), появившаяся в 2007 году. Партия
также является популистской, выступает за прямую демократию, больший контроль за преступностью и независимость Фландрии, а также является неолиберальной и стоит на позициях евроскептицизма. Сейчас мы также можем наблюдать ослабление и этой партии и постепенное обращение и ее избирателей к
НФА.
275
25,00%
20,00%
Народный союз
Фламандский
блок/интерес
Новый Фламандский
Альянс
LDD
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1978 1981 1985 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2010 2014
Процент голосов, полученный партиями на парламентских выборах (палата представителей)
Еще одна причина ослабления ФИ – это проблемы с финансированием
партии: потеряв свои места в представительных органах, ФИ все сложнее вернуть их назад, так как в Бельгии размер государственных средств, предоставляемых партиям, напрямую зависит от их успеха на прошлых выборах.
ФИ стал партией, которой удалось объединить в себе антииммигрансткую
риторику и требования о независимости Фландрии. Актуализировав проблему
иммиграции и сделав ее предметом политических споров, ФИ заставил и другие партии обращаться к этой проблеме, перемещая политический центр
Фландрии вправо. Однако при этом партия потеряла монополию на антииммигранскую и популистскую риторику, появились новые партии, также включающие антииммигрантские лозунги в свои программы, противопоставляющие
себя другим партиям и использующие популистские приемы. Если изначально
«санитарный кордон» помогал ФБ противопоставлять себя другим бельгийским
партиям и играть роль жертвы, позже он все же возымел эффект: избиратели
начали понимать, что несмотря на их голоса, партия так и не получила доступа
к власти и многие из них проголосовали за новую альтернативу – НФА, который, как и ФИ, выступает за ужесточение миграционного законодательства, а
также за независимую Фландрию, но не является радикальной партией.
Литература
1. Бычков М.А. Эволюция фламандского национализма // Предотвращение межэтнических и межконфессиональных столкновений как одна из важнейших задач современной цивилизации: материалы международной научно-практической конференции 1–2 февраля 2011
года / Научно-издательский центр «Социосфера». Пенза; Семипалатинск, 2011. 109 с.
2. Гаджиев К.С. О новой правой альтернативе // Свободная мысль. 2015. № 5. С. 127–
138.
3. Coffé H. Social Democratic parties as buffers against the extreme right: the case of Belgium // Contemporary Politics. 2008. Vol. 14 (2). Р. 179–195.
276
4. Bale T. Are Bans on Political Parties Bound to Turn Out Badly? A Comparative Investigation of Three ‘Intolerant’ Democracies: Turkey, Spain, and Belgium // Comparative European Politics. 2007. Vol. 5 (2). P. 141–157.
5. Иванова Е. А. Формирование крайне правого движения в Бельгии на примере партии
«Влаамс Беланг» // Политэкс. 2008. Т. 4. № 1. С. 68–85.
6. Sandri G., Pauwels T. Party Membership Role and Party Cartelization in Belgium and Italy: Two Facesof the Same Medal? // Politics & Policy. 2010. Vol. 38(6). P. 1237–1266.
7. Pauwels T. Explaining the strange decline of the populist radical right Vlaams Belang in
Belgium: The impact of permanent opposition // Acta Politica. 2011. Vol. 46. P. 60–82.
8. Abts K., Poznyak D., Swyngedouw M. The federal elections in Belgium // Electoral Studies. 2010. Vol. 31(2). P. 448–452.
9. Ilke A., Deschouwer K. Nationalist Parties and Immigration in Flanders: From Volksunie
to Spirit and N-VA // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2015. Vol. 11(2). P. 1–14.
10. Baudewyns P., Dandoy R., Reuchamps M. The Success of the Regionalist Parties in the
2014 Elections in Belgium // Regional & Federal Studies. 2015. Vol. 25 (1). P. 91–102.
277
СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИМИДЖА РОССИИ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 1
М.В. Ведерникова
аспирант
Института Европы РАН (Москва)
Сложившаяся международная структура отношений России со странами
Запада свидетельствует о необходимости использования достижений современной науки в области имиджелогии, брендинга и политической психологии для
нейтрализации отрицательного отношения к нашей стране. Одновременно с
этим необходима разработка теоретической базы обоснования конструктивного
образа России в странах ЕС.
Имидж страны и её руководителей является динамичной конструкцией,
хоть и имеет в своей основе трудноизменяемые установки. Именно поэтому,
несмотря на множество работ по теме имиджа России в мире, и, в частности, в
ЕС, необходимо постоянно изучать информацию и анализировать произошедшие изменения. Формирование образа страны и политического лидера – это
определённая технология, и, как и любая технология, она имеет в своей основе
социально-психологические свойства, законы, тенденции. Определённый образ
транслируется с помощью СМИ и Интернет, и именно глобальная сеть позволяет получить ответную реакцию населения.
Международная политическая обстановка последних лет привела к резкому противостоянию между Россией и большинством стран ЕС в тех областях,
которые составляют объективную основу имиджа страны. Нарастание претензий со стороны европейских государств и США достигло своего апогея после
воссоединения Крыма с Россией, а также в связи с событиями в Донбассе. Политическое противостояние привело к санкциям и ограничениям в торговле, в
экономических, финансовых и производственных связях. Сложившиеся обстоятельства актуализируют проблемы восстановления имиджа России в ЕС и требуют научного обоснования оптимальных путей их решения.
Для формирования негативного имиджа руководства России, в особенности В.В. Путина, используется методы социально-психологического воздействия на общественное сознание в том числе: «канализация настроения» (недовольство народа целенаправленно переводится на некий объект, событие или
личность) и «дискредитация лидера» [9, с. 431–434] (демонстрируется несостоятельность лидера в решении конкретных задач и отстаивании интересов различных групп).
После выступления В.В. Путина на Давоском форуме в 2007 году, где он
выдвинул идею многополюсного мира, в западных СМИ вновь получили распространение публикации типа «Hu-iz-mister-Putin», «Who-is-Mr.-Putin», впервые прозвучавшие в 2000 году. А после ответных военных действий России в
© Ведерникова М.В., 2016
278
связи с нападением Грузии на Южную Осетию ожесточённая критика в адрес
России и В.В. Путина усилились во сто крат. Причём, критика была направлена
не на президента Д.А. Медведева, принимавшего решение о начале военных
действий по принуждению Грузии к миру, а именно на В.В. Путина, который в
то время был руководителем правительства.
Канализация настроения жителей стран ЕС была направлена на переориентацию восприятия России и её руководства с демократического режима на авторитарный. С 2007 года и по настоящее время России и В.В. Путину предписывается роль непредсказуемых авторитарных противников западных ценностей, которых надо поставить на место путём различного рода санкций.
Чтобы нейтрализовать информационные атаки западных правительств и
СМИ, руководством России развёрнута активная дипломатическая деятельность по всем направлениям, создан ряд международных организаций с участием России, успешно функционирует телевизионный канал Russia Today. Однако
этого недостаточно. Перед наукой стоит задача выработки основных параметров конструктивного образа России, и его адаптация к информационному пространству. Следующим шагом могла бы стать выработка методов внедрения
конструктивного образа России и её руководства в индивидуальное и общественное сознание населения стран Запада.
Для этого, на наш взгляд, необходимо исследовать комплекс взаимосвязанных проблем, в том числе:
– имидж России и её лидера в целом;
– стереотипизация негативных элементов имиджа и формирование конструктивных стереотипов;
– когнитивная и эмпирическая категоризация при восприятии имиджа;
– использование механизмов идентификации и атрибуции при формировании имиджа России.
Исследование представленного выше комплекса взаимосвязанных проблем
обусловлено не только теоретическим интересом, но и современной политической практикой. В настоящее время теоретики и руководители различных
структур ЕС, Европарламент критикуют руководство России за методы принятия государственных решений и управления без длительного обсуждения и
дискуссий в различных инстанциях, без привлечения широкой общественности.
Они называют их авторитарными и присвоили им термин «стиль Путина».
Особое опасение в правящих кругах ЕС вызывает то, что имидж нашей
страны среди жителей европейских стран не только не снижается, но и растёт, а
«стиль Путина» пользуется пониманием в руководстве ряда европейских стран.
Так на заседаниях Еврокомиссии в адрес руководителей Польши, Венгрии, Чехии и других европейских стран нередко звучат обвинения в путинизации методов государственного управления. В связи с этим Польша, стремясь сохранить свой статус принципиального оппонента России, даже потребовала создания специальной комиссии для анализа ситуации и снятия обвинений в адрес
руководства страны.
Статусные конфликты всегда являлись довольно серьёзной проблемой для
России. Т. Форсберг в статье «Статусные конфликты между Россией и Западом:
279
восприятие и эмоциональные предубеждения» рассматривает конфликты такого вида между Россией и Западом и ставит вопрос о том, почему они существуют, несмотря на попытки их избежать [18, с. 323–331]. Автор отмечает, что
стремление к статусу может рассматриваться как типичное для России и её
внешней политики в течение длительного времени. В этом отношении она ничем не отличается от других стран по следующим причинам:
1) государства с высоким статусом сложно игнорировать в международных переговорах;
2) интересы государства с высоким статусом рассматриваются как более
легитимные;
3) высокий статус является основой для использования государством
«мягкой силы» как во внешней, так и во внутренней политике;
4) с помощью высокого статуса государство поддерживает высокую самооценку и уровень самоуважения;
5) высокий международный статус государства является важным аспектом
идентичности граждан.
На формирование и восприятие имиджа России в ЕС влияют как объективные факторы, так и субъективные (стереотипы, механизмы восприятия, такие, как атрибуция и категоризация и др.). К объективным факторам, на которые мы уже обращали внимание, относится, в частности, уровень развития российской экономики, её политических, властных и социальных институтов. Заметна предвзятость европейских СМИ в выборе и освещении событий, происходящих в России. К примеру, «немецкие средства массовой информации пользуются каждым информационным поводом, который связан с подтверждением
негативных тенденций и/или наличием негатива в российской экономической
действительности» [3].
Формирование конструктивного образа страны и её лидера требует глубокого переосмысления современного механизма социального восприятия, поскольку он выступает как чувственная форма отражения действительности в
виде целостных образов. Разрушить этот образ или «социальную перцепцию»,
согласно Джону Брунеру [6], в одночасье нельзя, т.к. политическое восприятие
имеет свои специфические особенности [13]:
– направлено не столько на отражение объективной действительности,
сколько на смысловые и оценочные интерпретации политической власти и лидеров (правящая хунта Чили; республиканская партия США и др.);
– характеризуется большей слитностью когнитивных и эмоциональных
компонентов перцепции (авторитарные методы правления в Саудовской Аравии; Семибанкирщина в России);
– является опосредованным (в основном через СМИ);
– восприятие происходит на уровне массового сознания под влиянием
ценностей, стереотипов, установок (Россия – матрёшка; Франция – Эйфелева
башня).
При построении образа страны и политического лидера и их восприятии
важную роль играет механизм стереотипизации. Это происходит потому, что
сложившийся образ – это уже определённый вид стереотипа. К такому выводу
280
пришли ещё советские учёные [1]. Например, О. А. Феофанов писал о том, что
имидж стандартизуется, превращается в стереотип [14, с.89-100]».
Механизм стереотипизации требует пристального внимания в связи с тем,
что стереотипы постоянно навязываются через СМИ и Интернет. Его изучали
многие исследователи в области политологии, социологии и психологии, в том
числе автор понятия стереотипа У. Липпманн [21], а так же А. Бергсон [5],
М. Вебер [7, с. 602–643] и Э. Дюркгейм [8, с. 242], М. Мид [10], Ж. Пиаже [12],
С. Московичи [11], К. Юнг [15] и другие. В советской науке существенных результатов в изучении стереотипов достиг М.М. Бахтин [2]. Новые информационные возможности создают видимость прямого непосредственного общения с
политиком высокого ранга, образ как бы заменяет живого человека и воспринимается именно образ.
Для стереотипа характерно деление на знакомое и незнакомое, что своеобразно эволюционирует в дихотомическое разделение «свой-чужой». У. Липпманн отмечал тот факт, что стереотипы тесно связаны с культурной и исторической традицией местности, где действует стереотип. Что касается контекста
России, то в ней сильно выражена персонификация власти, которая оказывает
огромное влияние на восприятие образов. Эти образы опираются на культурнодеятельностный подход, разработанный А.Н. Леонтьевым в работе «Образ мира». Стереотипизация начинается с того момента, когда мы рассматриваем индивида как представителя группы, затем мы сравниваем его образ с типичным
представителем данной страны. Затем следует оценочная стадия. Однако всегда
нужно иметь в виду, что стереотипы не всегда соответствуют реальному положению дел и являются, своего рода, упрощением картины мира. В ЕС, используя стереотипы, В.В. Путина изображают в облике Сталина, на фоне устрашающей военной армады, а Россию в образе медведя и т.д.
Стереотипизация нередко выступает в качестве способа подгонки индивида или страны к существующему клише. Он чаще всего востребован в пропаганде и художественной литературе. Для политического анализа более важен,
на наш взгляд, категориальный подход. В нём представлены две группы факторов. Первая группа выделена по социальному или психологическому фактору, к
которому относится представление о социальном статусе. Второй фактор – физиологический, определяется по физическими параметрам человека, в том числе по полу и возрасту.
Категоризация, как упорядочение политических стереотипов, целесообразно, на наш взгляд, исследовать по двум направлениям. Когнитивное направление (Д. Гамильтон [19, с. 133]) обращает внимание на вопросы восприятия,
хранения информации с помощью когнитивных структур. Второе направление
разработало программу (Г. Тэшфэл), которая «предоставила эмпирические документы, подтверждающие фундаментальное влияние процесса категоризации
на социальное восприятие и поведение [4, с. 40]».
Под мотивационной оболочкой механизма категоризации скрывается
стремление выглядеть позитивно. Индивид, страна подчеркивает хорошие черты своей группы и плохие черты не своей. На этом строится антироссийская
пропаганда, приписывающая россиянам и руководителям страны такие каче281
ства как непредсказуемость поступков и действий, несоблюдение норм, привычных для западного обывателя. В действительности же, как показали события в связи с переселением в Европу большого числа беженцев, именно Россия
являет собой пример сотрудничества различных этносов и конфессий, в то время как страны ЕС захлестнула волна грабежей и насилий на этнической и конфессиональной почве.
Наряду со стереотипизацией и категоризацией при формировании конструктивного образа России важен феномен самоидентификации и идентификации. Немецкий социолог Н. Элиас [16] говорит о том, что идентичность складывается совместно с конструированием отношений по поводу власти. Кризис
идентичности проявляется в противопоставлении «мы-они», идентичность
формируется за счет образа «другого», образа врага. Граждане страны идентифицируют себя как народ – «мы», а представителей властных и правительственных структур – как чужих, в данной теории здесь власть выступает как
«они». Недопонимание и негативное отношение может возникать только из-за
идентификации себя по разные стороны властных отношений. На этом строится, к примеру, деятельность спецслужб Великобритании и ряда других европейских стран, финансирующих НПО в России и других странах мира.
При формировании негативного облика России политтехнологами используется атрибуция – приписывание ей негативных качеств и свойств. Каналы
массовой коммуникации размещают нужную информацию, ненавязчиво сопровождая её различными стереотипами. Они обеспечивали канализацию настроения во время цветных революций и кровавых событий арабской весны Францией, Англией и другими европейскими странами, входящими в НАТО. Атрибуция как механизм восприятия получила наиболее полное воплощение и обоснование в теории каузальной атрибуции, разработанной Г. Келли [20] и рядом
других учёных.
Одним из интересных атрибутивных принципов является фундаментальная
ошибка атрибуции. Речь идет о том, что индивид собственные неудачи объясняет факторами обстоятельств (ситуационно), а собственные успехи – как личная заслуга индивида (диспозиционно). Наоборот, неудачи других людей объясняются их собственными просчетами, а успехи сложившимися условиями и
совокупностью обстоятельств. Как пример, некоторые представители русского
народа успехи В.В. Путина считают результатом удачно сложившихся обстоятельств, а ухудшение экономической ситуации в стране, ставшее результатом
мирового финансового кризиса (во всяком случае, это может быть одной из
главных причин), виной деятельности президента.
Таким образом, события последних лет свидетельствуют о необходимости
создания теоретической базы для формирования конструктивного имиджа России. Стремление западных стран навязать свои ценности и стереотипы встречает приводит к намеренному искажению имиджа России в политической и научной среде и выливается в «чёрный пиар» западных СМИ. В основе теоретического конструкта находится задача выявления ключевых проблем противостояния для выработки конструктивной концепции имиджа России и создания собственной модели её анализа. Необходимость реализации этой модели в дея282
тельности различных органов и структур России требует разработки и внедрения соответствующих механизмов.
Кроме того, для более тонкого распространения конструктивного имиджа
России его необходимо дополнить психологической моделью, учитывающей
особенности образа мышления жителей стран ЕС. Создание облагороженного
образа России не только повысит её значимость в международных отношениях,
но и будет способствовать росту политической культуры населения нашей
страны.
Литература
1. Артемов В.Л. Правда о неправде: критические очерки по современной империалистической антисоветской пропаганде. 3-е изд., перераб. и доп. Минск: Университетское издво, 1985.
2. Бахтин М. М. Философия и социология гуманитарных наук. М., 1989.
3. Белов В.Б., Максимычев И.Ф. Образ современной России в Германии / под ред.
В.Б. Белова. М.: Ин-т Европы РАН: Рус. Сувенир, 2010.
4. Белоконев С. Ю. Формирование имиджа конкурента в региональных избирательных
кампаниях: дис. … канд. полит. наук / МГУ им. М.В. Ломоносова. Фак. политологии. М.,
2004.
5. Бергсон А. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. М., 1992.
6. Брунер Дж. Психология познания. М., 1977.
7. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения.
М.: Просвещение, 1990.
8. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / пер. с фр., сост., послесл. и прим. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995.
9. Кабаченко А.П., Кабаченко Т.С. Методы социально-психологического воздействия.
М.: МГИУ, 2015.
10. Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988.
11. Московичи С. Век толп: исторический трактат по психологии масс. М., 1996.
12. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1969.
13. Психология политического восприятия / под ред. Е.Б. Шестопал. М., 2002.
14. Феофанов О.А. Стереотип и «имидж» в буржуазной пропаганде // Вопросы философии. 1980. № 6.
15. Юнг К. Психологические типы. СПб.: «Ювента»; М.: Издательская фирма «Прогресс-Универс», 1995.
16. Elias N.S., Scotson J.L.The Established and the Outsiders. L., 1965.; Mennell S.J., Elias
N.S. Civilization and the Human Sciences. Oxford, 1990.
17. Forsberg T. Status conflicts between Russia and the West: Perceptions and emotional biases // Communist and Post-Communist Studies. 2014. Vol. 47. № 3–4.
18. Hamilton D., Trolier T. Stereotypes and stereotyping: An overview of the cognitive approach. // Prejudice, discrimination, and racism / Ed. by F. Dovidio, S. Gaertner. Orlando, FL:
AcademicPress, 1986.
19. Kelley H.H. Attribution in Social Interaction. Morristown, N. J., 1971.
20. Lippmann, W. Public opinion. New York: Harcourt, Brace, Jovanovitch, 1922.
283
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ РЕГИОНАЛИЗМА
НА БОЛЬШОМ БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ1
В.Э. Гладкая
магистрант департамента международных отношений
Уральского федерального университета (Екатеринбург)
В современный период система международных отношений отличается
крайней нестабильностью. Одним из центров политической турбулентности является Ближний Восток. Процессы, происходящие в Ближневосточном регионе,
вызывают беспокойство всего мирового сообщества и несут в себе серьезную
угрозу безопасности, миру и стабильности. Большинство конфликтов в регионе
имеет глобальное измерение: арабо-израильское противостояние, деятельность
террористических организаций, «Арабская весна» и распространение радикального политического ислама, ядерная программа Ирана; положение в Сирии,
Ираке, Афганистане. Ближний Восток имеет важнейшее мировое значение как
наиболее конфликтный и при этом наиболее милитаризованный регион мира.
Изучение данного региона, происходящих в нем процессов необходимо для
урегулирования многочисленных конфликтов и для устранения угроз глобальной безопасности. При этом автору доклада представляется эффективным анализ Ближнего Востока через призму теории регионализма. Данная теоретическая парадигма уделяет особое внимание региональным подсистемам международных отношений и развитию их собственной региональной идентичности в
противовес основополагающей тенденции современного мирового развития –
глобализации. В первой части статьи будут рассмотрены общие особенности
процессов регионализма на Ближнем Востоке, затем автор проанализирует рассматриваемый регион на основе матрицы анализа, включающей в себя определенный набор критериев.
Теория регионализма изучает совокупность различных форм социальной,
культурной, политической самоидентификации территориальных сообществ.
Регионализм как процесс отличается тремя особенностями: направляется сверху вниз; как правило, касается регионов, границы и членство в которых зафиксированы межправительственными соглашениями; предполагает наличие
структур, основными участниками которых являются правительства или их
представители. Регионализм во многом связан с процессом создания институтов, хотя при этом не существует концепции, устанавливающей определённую
планку по форме или уровню институционализации, для того, чтобы считаться
«истинным» регионом. Скорее, исследовательский интерес нацелен на выявление факторов, объясняющих широкий разброс уровней институционализации
сотрудничества, характерный для различных регионов мира [1]. Таким образом,
регионализм представляет собой государственную идеологию, реализуемую в
рамках регионального проекта широкой группой правительственных и непра© Гладкая В.Э., 2016
284
вительственных акторов. Теория регионализма рассматривает регион как особую подсистему международных отношений, которая может выступать самостоятельным актором на международной арене при достижении ею определенного уровня региональной сплоченности. Один из основоположников нового
регионализма Б. Хеттне сформулировал основные признаки, которыми должен
обладать регион, чтобы достичь уровня региональной сплоченности, позволяющего ему стать эффективным актором и значимым субъектом международных отношений. Хеттне выделяет пять степеней региональной сплоченности
(«regionness»): территориальное оформление особого регионального пространства; возникновение регионального сознания, присущего его жителям; формирование культурной идентичности региона; складывание регионального сообщества; политическая институционализация региона. Изначально регион возникает как географическая единица, ограниченная естественными границами,
затем он формируется как социальная система, предполагающая транслокальные отношения социального, политического, культурного и экономического
порядка. Взятые в комплексе, эти отношения формируют «региональный комплекс». На третьей стадии регион характеризуется организованным сотрудничеством в культурной, экономической, политической и военной областях. Без
существования формальных организаций нельзя говорить о регионализме как
сколько-нибудь значимом явлении, независимо от его формы. На четвертой
стадии регион характеризуется региональным гражданским обществом, появляющимся тогда, когда организационная структура содействует развитию процессов социальной коммуникации и конвергенции ценностей в рамках всего региона в целом. Культурная идентичность составляет потенциальный базис регионального гражданского общества. Наконец, на пятой стадии регион представляет собой историческое образование с особой идентичностью и потенциалом его участников, с определенным уровнем легитимности и более сложным
уровнем институциональной организации – это регион-государство, который
отличает высшая степень региональной сплоченности. Б. Хеттне и Ф. Зёдербаум определяют региональную сплоченность как степень способности региона
артикулировать свои интересы. По Б. Хеттне и Ф. Зёдербауму, региональная
сплоченность – процесс регионального развития, который включает в себя три
стадии: пре-региональную стадию, на которой потенциальный регион образовывает географическую и социальную общность; стадию регионализации, на
которой создаются формальные и неформальные каналы для регионального сотрудничества; стадию завершения процесса регионализации, когда регион формирует региональную идентичность, систему институтов, которые превращают
регион в отдельную политическую единицу [2].
Следует отметить, что в рамках рассматриваемого теоретического среза существует множество подходов даже к определению сущности понятия «регион»,
а также к непосредственному анализу региона. Несмотря на этот факт, а также на
то, что Ближний Восток является чрезвычайно сложным и спорным предметом
анализа, можно выделить некоторые общие особенности региона, относительно
которых мнения исследователей сходятся. Однако, сначала необходимо обозначить географические границы региона, на которые автор ориентируется в своем
285
исследовании. Помимо «традиционных» государств Ближнего Востока автор
включает в регион ещё и Афганистан, Пакистан, Марокко и всю северную Африку, в том числе Сомали и Эфиопию в соответствии с американской геополитической стратегией, которая оказала значительное влияние на регион [3].
Итак, Ближний Восток имеет ряд особенностей. Во-первых, на протяжении
длительного времени он подвергался вмешательству внерегиональных акторов,
что послужило причиной политической, экономической, культурной и религиозной фрагментарности Ближнего Востока, его нестабильности и конфликтности. Вторая особенность – это отсутствие регионального гегемона. Так, регион
отличают быстрые перемены в различных союзах, глубокая связь государств
региона с великими державами, а также агрессивность политики и преобладание концепции игры с нулевой суммой. Результатом взаимодействия этих факторов является стагнация и взаимное сдерживание государств в регионе, так как
ни один актор не обладает достаточной силой, чтобы превзойти других [4].
Третья особенность – отсутствие единой региональной идентичности и, соответственно, региональной сплоченности. По мнению Харрелла, достижение
участниками региональной идентичности и общего взгляда на ключевые вопросы является важнейшим фактором для успеха регионального проекта в целом и
характеризуют то, что называется «региональная целостность» или «сплочённость». Её наличие позволяет региону играть определяющую роль во взаимоотношениях между входящими в него государствами и остальным миром; а также
стать базой для координации политики внутри самого региона [5]. Идентичность основана на таких категориях, как социальная сплоченность этнических,
расовых и языковых групп, проживающих совместно; совместимость общих
ценностей, связанных с культурой, религией, историческими традициями; политическая солидарность [6]. Однако, региональная идентичность может складываться и по принципу совместной оппозиции «другому» или «чужому»,
например, общей угрозе безопасности или навязываемым ценностям и нормам.
Именно этот вариант является верным в отношении Ближнего Востока. В данный момент в регионе идет острая борьба за лидерство между региональными
державами, между радикальными и умеренными течениями ислама, между различными политическими силами и идеологиями. Регион находится в фазе формирования собственной региональной идентичности. Конфликт между Израилем и арабскими государствами, арабо-иранское противостояние, разное отношение к Западу – все это препятствует регионализму на Ближнем Востоке.
Проблема состоит в том, что не только региональные акторы имеют разные видения регионального порядка, но и внерегиональные акторы, такие как США,
Евросоюз, Россия. Фрагментарность, в свою очередь, обуславливает конфликтность. Так, в теории Бузана и Уэвера Ближний Восток классифицируется как
конфликтное образование, что обозначает региональный комплекс, в котором
войны и применение насилия в политических отношениях имеют существенную степень вероятности [7]. С предыдущей особенностью связано и развитие
институциональной структуры в регионе, которое отражает отсутствие консенсуса между государствами региона по ключевым вопросам. Так, Барнетт говорит о нормативной фрагментации арабской политики, которая обусловлена раз286
ноплановой политикой арабских государств в отношении Израиля и США [8].
Тем не менее, в настоящее время в связи с триумфом Исламского государства в
регионе возросла роль региональных организаций: Лиги арабских государств,
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Организации
исламского сотрудничества. В целом, регион обладает достаточно развитой институциональной структурой, однако, практически все организации являются
неэффективными.
Анализ процессов, происходящих сегодня на Ближнем Востоке, стоит
осуществлять на основе рассмотрения переменных, оказывающих решающее
влияние на развитие региона. Такими переменными, по мнению автора доклада,
являются: влияние внерегиональных акторов, социально-экономические условия в государствах региона, тип политического режима, идентичность, отношения между государствами региона.
По мнению Бузана, военно-политическое вмешательство Америки в два
ключевых подкомплекса Ближнего Востока обуславливает ее доминирующее
положение в нем [9]. Последняя военная интервенция США и их союзников,
которая длится с июня 2014 года, подтверждает, что Америка не намерена отказываться от своего присутствия в регионе. Однако, изменившийся внешнеполитический курс США, направленный на сокращение их военного присутствия на
Ближнем Востоке, и внутренний кризис в ЕС, наряду с общей непредсказуемостью ситуации в регионе приводят к нежеланию глобальных игроков брать на
себя всю ответственность за будущее арабского мира. В то же время настойчивое стремление Запада вместе с Турцией, Саудовской Аравией и Катаром любой ценой свергнуть сирийский режим находится в явном противоречии с базовыми интересами США, других западных стран и Израиля, угрозой для которых был бы легко прогнозируемый приход к власти в Дамаске в случае падения
светского режима радикальных исламистских группировок [10].Определенную
роль играет в регионе и Россия, и ее авторитет в последнее время весьма возрос
в связи с военным вмешательством в регион, хотя геополитические позиции все
же слабее, чем у США и ЕС. Присутствие в регионе России необходимо для
уравновешивания геополитического соотношения сил в регионе, для поддержания стабильности и продолжения борьбы с терроризмом. В целом, внешнее
вмешательство, которое в основном сводится к активной политике США в регионе, сыграло крайне негативную роль в его развитии. Однако, окончательный
уход Америки и других внешних акторов из региона в данный момент лишь
усугубит ситуацию.
Следующий фактор – социально-экономические условия в государствах региона. Проблема безработицы и бедности широких слоев населения в некоторых
государствах региона остается одной из самых острых. Улучшение условий послужит первым шагом для достижения внутриполитической стабильности, которая является фундаментальным условием для активизации региональной интеграции [11]. Этот фактор тесно связан с другой переменной анализа – типом политического режима. Протестные движения 2011–2012 годов привели к смене
лидеров и режимов в ряде государств, к политическому триумфу исламистских
сил в Египте и Тунисе [12]. Были проведены реформы в Кувейте, Иордании,
287
Омане, Катаре, Алжире. «Арабское возрождение» продемонстрировало необходимостьрасширения политического участия и распространения электоральной
демократии, демократизации режимов в странах региона. Тем не менее, на данный момент подавляющее большинство режимов в государствах региона являются авторитарными, далекими от демократии. В связи с нестабильностью ситуации в регионе авторитаризм сохраняет свою устойчивость, так как новые политические силы, не имеющие опыта пребывания во власти, неспособны нормализовать обстановку в государстве и выполнить требования его граждан. Авторитарные лидеры, опирающиеся на обширную систему институтов, на военных,
интересы и выгоды которых зачастую связаны с сохранением режима, обладают
большими возможностями для изменения обстановки в стране.
Следующий фактор – идентичность. Следует выделять региональную и
национальные идентичности государств региона. Как было указано выше, единая региональная идентичность, под которой понимается некая концепция, разделяемая всеми государствами региона, отсутствует. В регионе осуществляется
несколько региональных проектов, экзогенных и эндогенных. Сейчас на лидерство в регионе претендуют две страны: суннитская Саудовская Аравия и шиитский Иран. В этой связи нельзя не упомянуть об Исламском государстве, которое предлагает свой проект государственности и регионального развития, основанный на шариате и создании исламского халифата. К экзогенным проектам
относятся военное вмешательство США и РФ, а также «мягкая сила» Евросоюза. Особое значение в данном контексте имеют ситуация в Сирии и операция
стран Залива против хуситов в Йемене, которые демонстрирует столкновение
региональных проектов, предлагаемых Ираном при поддержке Сирии, Ирака,
России и Саудовской Аравией при поддержке монархий Залива и США. Арабоизраильский конфликт, конфликт между суннитами и шиитами, радикальный
ислам, антиамериканские и антизападные настроения препятствуют региональному сотрудничеству государств региона. На межконфессиональные и внутриконфессиональные конфликты накладывается вмешательство США: расцвет
ИГИЛ является прямым последствием борьбы с терроризмом, навязывания западных ценностей и попыток «демократизировать» Ближний Восток, результатом использования исламистских группировок в борьбе с режимом Асада [13].
В связи с «успехами» ИГИЛ вокруг него происходит консолидация террористических сетевых структур и образований: «Исламское движение Узбекистана», «Боко харам» и другие организации присягнули на верность лидеру ИГИЛ.
В целом, идентичность региона имеет решающее значение для его дальнейшего
развития. Важнейшее значение при этом будут иметь отношения между различными течениями ислама. Сохраняется противоборство двух тенденций политического ислама. Одна из них – модернизация ислама, адаптация его к современным реалиям, усиление его приверженности демократическим нормам.
Другая – тенденция на «замыкание в себе», попытку выстроить собственную
систему ценностей и норм, отличную от таковых в большинстве стран мира.
Последний фактор – характер взаимоотношений между государствами –
прямо вытекает из предыдущего пункта. Нестабильность обстановки способствует крайней напряженности в отношениях государств региона. Руководите288
ли стран региона стремятся быть готовыми к самому худшему варианту развития событий, наращивая свой военный потенциал. В связи с этим обостряется
проблема нераспространения ядерного оружия в регионе, связанная с необходимостью удержания Ирана у «ядерной черты»; а также угроза захвата ядерных
материалов террористическими группировками. На фоне «арабской весны»
возрос вес региональных держав. Соперничая за статус регионального лидера,
они стремятся повлиять на страны, ставшие ареной противостояний. В частности, Кувейт, Катар и Саудовская Аравия не единожды обвинялись в финансировании ИГИЛ. Баланс сил в регионе, видимо, будет и в дальнейшем меняться.
Пока можно говорить о «блоковой» консолидации стран региона, о его раздробленности на анклавы регионализма.
Таким образом, проанализировав регион на основе выбранных факторов,
можно сделать вывод о том, что условия не способствуют усилению региональной сплоченности и успешному регионализму. Регион не достиг максимальной степени региональной сплоченности, но находится в стадии формирования своей региональной идентичности. Новейшим этапом развития региона
стал 2015 год, когда вооруженное вмешательство в регион осуществила и Российская Федерация. В результате, в настоящее время регион отличают политическая фрагментарность и раздробленность на анклавы регионализма. При
этом, регионализм носит преимущественно внешний, экзогенный характер: на
Ближнем Востоке осуществляется ряд проектов внерегиональнымиакторами,
каждый из которых пользуется поддержкой определенных государств или их
групп на территории региона. В числе этих акторов США, Евросоюз и Россия.
Вовлеченность США и РФ носит военно-политический характер, присутствие
Евросоюза же обусловлено в основном использованием инструментов «мягкой
силы». Режимы подавляющего большинства стран региона относятся к авторитарным, и «Арабская весна» уже показала необходимость демократизации либо
смены режимов и расширения политического участия населения стран региона.
Однако, в странах региона население стоит перед нелегким выбором: авторитарные лидеры, легитимность власти которых под сомнением, либо политические группы, не имеющие опыта пребывания во власти и часто неспособные
справиться со сложной ситуацией в государстве. Если же оценивать качество
управления в странах Ближнего Востока, можно заключить, что в целом оно
является низким, доказательством чему служат ситуации в Афганистане, Ираке,
Сирии, Ливии и других странах региона. Государства региона отличает также
агрессивность политики, а отношения между ними определяются преимущественно как враждебные. Государства региона и в дальнейшем будут образовывать интеграционные блоки и использовать преимущественно двусторонний
формат сотрудничества в качестве альтернативы коллективному институту в
сфере обеспечения безопасности.
Литература
1. Севастьянов С.В. Межправительственные организации Восточной Азии: эволюция,
эффективность, перспективы развития и российского участия: монография. Владивосток:
Издательство ВГУЭС. 2008. 301 с.
289
2. Hettne B., Söderbaum F. Theorising the Rise of Regionness // Taylor&Francis Online:
web-site.
URL:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713687778#.VXFIevntmko
(accessed: 15.04.2015).
3. Иванов С.М. Арабская весна: год спустя. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/07-0212b.htm (дата обращения: 20.04.2015).
4. Bilgin P. Regional Security in the Middle East: A Critical Perspective. URL:
https://www.academia.edu/393305/Regional_Security_in_The_Middle_East_a_Critical_Perspective
(accessed: 15.04.2015).
5. Hurrell A. Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics // Cambridge University Press: web-site. 2009. URL: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage
=online&aid=6300988&fulltextType=RA&fileId=S0260210500117954 (accessed: 01.03.2015).
6. Fawcett L., Gandois H. Regionalism in Africa and the Middle East: Implications for EU
Studies // Taylor&Francis Online: web-site. URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/
10.1080/07036337.2010.518719#.VXFI2_ntmko (accessed: 15.04.2015).
7. Михайленко Е. Б. «Старый» и «новый» регионализм: теоретический дискурс. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2014. 114 с.
8. Gause F. Systemic Approaches to Middle East International Relations // Wiley Online Library: web-site. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1521-9488.00139/abstract (accessed: 15.04.2015).
9. Buzan B., Wæver O. Regions and Powers: The Structure of International Security // Cambridge
University Press:
web-site.
URL:
http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=
CBO9780511491252 (accessed: 15.03.2015).
10. Доклад Российского совета по международным делам «Россия и Большой Ближний
Восток». URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/russia_middle_east.pdf (дата обращения:
15.05.2015).
11. Calculli M., Legrenzi M. Regionalism and Regionalization in the Middle East // The International Relations and Security Network. URL: http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/
Articles/Detail/?lng=en&id=167930 (accessed: 20.03.2015).
12. Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке. URL: http://www.iimes.ru/?p=24391 (дата обращения: 15.05.2015).
13. Акимов А. Е. Перспективы развития ситуации в странах Ближнего Востока до 2020
года. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1777#top-content (дата обращения: 03.05.2015).
290
СПЕЦИФИКА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА1
С.С. Гордя
магистрант кафедры политологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Институт местного самоуправления занимает особое положение в политической системе России. С одной стороны, является одной из форм осуществления народовластия в Российской Федерации, с другой стороны, представляет
собой независимую от государства, признаваемую и гарантируемую Конституцией Российской Федерации систему власти, для самостоятельного и под свою
ответственность решения населением муниципальных образований соответствующих вопросов местного значения. Принято считать, что уровень развития
местного самоуправления является значительным признаком демократичности
социума, свидетельством инициативности граждан и их вовлеченности в процессы общественной самоорганизации, важным параметром реального распределения власти в обществе.
Актуальность исследовательского интереса к местному самоуправлению
обуславливается тем, что местное самоуправление является одной из важнейших основ современной российской государственности, главное предназначение которого заключается в решении социальных и политических проблем, как
отдельно взятого человека, так и сообщества в целом. Местное самоуправление
признано одной из фундаментальных составляющих российской системы народовластия и отражает роль местной власти в удовлетворении потребностей
населения муниципальных образований. Местное самоуправление имеет особое
значение в построении демократического, правового, социального государства,
его институтов, формировании гражданского общества. Именно так определяет
социально-политический строй России действующая Конституция Российской
Федерации.
В рамках статьи рассмотрим местное самоуправление как особый политический институт, сочетающий в институтах самоуправления гражданской самоорганизации и властное начало.
Цель работы – выявить особенности местного самоуправления как социально-политического института.
Для определения специфики местного самоуправления как социальнополитического института особое значение имеет определение понятия «самоуправление» и интерпретация природы этого феномена.
Этимология словосочетания «самоуправление» означает, что люди непосредственно управляют своими делами и социальными отношениями на основе
само-бытия, само-жизни. В качестве термина, обозначающего одно из явлений
общественно-политического бытия, самоуправление впервые было осуществ© Гордя С.С., 2016
291
лено в Англии после Великой английской буржуазной революции в конце 17
века. Этим термином стали обозначать «состояние английского народа, самоуправляющегося с помощью парламента и местных представительных органов,
не знающих административной опеки со стороны правительственного аппарата
и его чиновников» [8, с. 12]. В толковом словаре С.И. Ожегова приводятся такие трактовки самоуправления: право на внутреннее управление своими местными силами; право решать дела внутреннего управления по собственным законам в пределах национально-территориальной единицы или автономии [7,
с. 685].
Самоуправление, преобразовывающее социальные общности из пассивных
участников-объектов управления в его первичные социально-активные субъекты, является одновременно общественным образованием, составляющим основу либеральных демократических институтов, и организаций их политической
жизнедеятельности. К тому же, оно выступает конечной целью развития демократии.
Природа самоуправления заключается в самоорганизации народа, от которого прямым образом исходит политическая власть по принципу «снизувверх». Это подлинная власть народа посредством самого народа и в интересах
народа, так как выражает действительные потребности местных сообществ и
осуществляется при помощи прямой, непосредственной демократии, через фактическое народное представительство. Собственно говоря, на локальном уровне
выявляются более широкие возможности, чем на федеральном или региональном, для использования прямой демократии. Именно в ее рамках каждый член
местного сообщества принимает участие в организации своей жизни, сочетающейся с деятельностью всего местного сообщества [6, с. 71].
А.Д. Градовский еще в 19 веке отмечал, что местность уже сама по себе –
это формальное подразделение, основанное для удобства управления. А единство интересов населения, проживающего на предоставленной территории, является причиной для появления самоуправления [4].
Сущность самоуправления раскрывается в Европейской Хартии о местном
самоуправлении. Особенно, к компетенции местного самоуправления относится «совокупность мероприятий, методов и средств, ориентированных на упорядочивание деятельности местного сообщества по решению стоящих перед ним
задач на основе принципов самоорганизации, самофинансирования, самостоятельности с целью улучшения качества жизни населения и увеличения его
вклада в развитие всего общества» [1].
Местное самоуправление как вид народовластия можно рассмотреть в двух
направлениях: исследование местного самоуправления с позиций политической
власти и изучение местного самоуправления как гражданской самоорганизации.
В обоих случаях местное самоуправление является институтом демократического участия граждан в управлении общими делами, а значит, социальнополитическим управлением.
Местное самоуправление играет важную роль в демократическом механизме управления обществом и государством. Специфика местного самоуправления как элемента политической системы заключается в его государственно292
общественной природе. Местное самоуправление наделено признаками института государственной власти, несмотря на то, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Обособленность
дает возможность говорить о сформированной автономии местного самоуправления в системе органов публичной власти, а не об исключении его из структуры государства.
Содной стороны, местное самоуправление как одна из форм самоорганизации граждан имеет признаки общественного института: население муниципальных образований имеет право на правотворческую инициативу, населению
предоставлено право участвовать в осуществлении местного самоуправления в
любых формах, не противоречащих Конституции РФ и законодательству, так
же структура органов местного самоуправления и разделение полномочий
между органами определяются населением самостоятельно, а не устанавливаются законодательством.
С другой стороны, местное самоуправление как одна из форм самоорганизации граждан обладает чертами государственного института, а именно: право
введения местных налогов и сборов, право создавать муниципальные органы
охраны общественного порядка, законодательно установленную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение правовых актов местного
самоуправления.
Анализ Конституции Российской Федерации и Федерального закона № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» позволяет выявить основные особенности местного самоуправления в Российской Федерации.
Во-первых, правом на осуществление местного самоуправления наделяются граждане Российской Федерации. Субъектом местного самоуправления является совокупность граждан Российской Федерации, постоянно или временно
проживающих на определенной территории и составляющих ее население. Но
стоит не забывать, что в первую очередь граждане – это жители, а лишь потом
участники политических и правовых отношений.
Во-вторых, местное самоуправление имеет особый объект управления –
вопросы местного значения, перечень которых отражен в главе 3 федерального
закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» [3]. Прежде всего, это вопросы, касающиеся непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.
В-третьих, местное самоуправление реализуется в рамках муниципальной
деятельности – специфической управленческой деятельности по решению вопросов местного значения или исполнению отдельных государственных полномочий, которая может принимать как правовую, так и не правовую форму.
Характерной чертой муниципальной деятельности является определенное
сближение ее исполнительных и распорядительных функций.
В-четвертых, значимымпризнаком местного самоуправления, отражающим
его специфику как форму осуществления власти, является собственная ответственность муниципальных образований.Прежде всего, это проявляется в га293
рантируемом государством праве и возможности населения самостоятельно
решать вопросы местного значения.
В-пятых, ключевое понятие, которое характеризует местное самоуправление как форму осуществления и организации власти – самостоятельность, которая гарантируется государством. Государство признает местное самоуправление в качестве самостоятельной формы осуществления народом принадлежащей ему власти. Так, в Конституции Российской Федерации (ст. 130 и 132) отмечено, что органы местного самоуправления обладают принципом самостоятельного владения, пользования, распоряжения и управления муниципальной
собственностью, что является важной спецификой муниципальной собственности, отличающейся от собственности государственной [2].
В политическом смысле понятие «социально-политическое управление»
предполагает управление социума самим собой через социально-политические
практики. Общество в целом является и субъектом, и объектом управления.
Сочетание государственного и общественного в самоуправлении есть проявление сущности социального управления.
Таким образом, можно сделать вывод, что местное самоуправление представляет собой ту специфическую «ветвь власти», которая, с одной стороны,
участвует в осуществлении воли государства, а с другой – наиболее полно учитывает интересы местного сообщества. В эффективном управлении и в развитии демократии, местное самоуправление создается не только с целью лучшей
управляемости или приближения общественных услуг к населению, но и для
гарантии свободы личности, развития гражданской самостоятельности и ответственности. Оно способствует развитию саморегулирования, которое является
основой устойчивости общества и государства. Органы местного самоуправления укрепляют публичную власть, делая ее более гибкой и эффективной. Ониболее доступны для людей, максимально приспособлены к использованию
имеющихся ресурсов для удовлетворения потребностей населения.
Литература
1. Европейская хартия о местном самоуправлении // Социологические исследования.
1997. № 1. С. 101.
2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 (дата
обращения 29.03.2016).
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // КонсультантПлюс.
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194039 (дата обращения: 29.03.2016).
4. Абрамов В.Ф. Теория местного самоуправления на отечественной почве // ПОЛИС.
1998. № 4.
5. Градовский А.Д. Сочинения. СПб.: Наука, 2003. 512 с.
6. Кальной И.И., Шрейдер В.Ф. Самоуправление как фактор гражданского согласия:
научная монография. Симферополь; Омск: Таврический национальный университет
им. В.И. Вернадского, 2006. 274 с.
7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и Образование, Оникс, 2011. 736 с.
8. Таболин В.В. Право муниципального управления. М.: ЭЛИГ, 1997. 151 c.
294
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ НОВЫХ И СТАРЫХ ПАРТИЙ
В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ РФ 2014–2015 гг.1
К.Е. Губерт
магистрант кафедры политологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления [1, с. 1]. Выборы являются характерным признаком демократической политической системы, это
реальный механизм для прямого участия народа во власти, а периодическая
выборность и сменяемость органов государственной власти, их подотчетность
являются формами контроля и ответственности перед избирателями.
Выборы – это такой циклический процесс, который происходит постоянно:
подготовка к выборам, проведение, обсуждение итогов. Это обусловлено проведением на нескольких уровнях: федеральный, региональный и местном, а также
постоянными довыборами, досрочными выборы. Именно политическая активность граждан, пришедших на избирательный участок и отдавших своё предпочтение за определенную политическую партию, кандидата от партии или кандидата самовыдвиженца, определяет будущий состав власти, то, какой она будет.
Вопрос выбора всегда остается актуальным, так как предпочтения избирателей зависят и от текущего состояния общества, и от предлагаемого им спектра кандидатов. Результаты на уровне регионов являются показателем для выборов федерального уровня, ведь рассматривая расстановку сил в регионах,
имеется возможность оценить шансы на попадание в состав представителей
различных политических сил, исходя из их преобладания в субъектах РФ. Анализ результатов прошедших выборов это всегда реальная возможность для проведения аналитики грядущих выборов. Эмпирическую основу исследования составили интернет источники: официальный сайт Центральной избирательной
комиссии РФ, сайт Минюста РФ [2] и сайты региональных парламентов субъектов РФ.
Политические партии, являющиеся неотъемлемой частью любого органа
власти всех уровней, представлены широким спектром. Если до вступления в
силу изменений 2012 года [3] зарегистрировано было лишь 7 политических
партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, «Патриоты России», Яблоко, Правое дело), то позднее с каждым годом их количество стремительно росло.
Для нашего исследования интерес представляет временной отрезок 20142015 гг., так как прошедшие выборы в парламентах субъектов РФ этого периода могут наиболее четко отразить примерную картину на предстоящих выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года.
© Губерт К.Е., 2016
295
Таблица 1
Число политических партий зарегистрированных
Министерством юстиции РФ с 2011 года [4]
Число партий
7
49
68
73
77
77
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
70
50 8
2
8
50
37 5
2
3
30
26 1
1
2
75
70
5
52
46 4
2
100
82 3
32
31
36
50
60
38
56
30
42
54
30
51
3
3
4
3
3
3
2
2
1
1
2
1
40
31 2
4
3
36
34
21
27 3
28 2
17 1
1
2
1
2
2
2
74
51 15 4
5
36
38
31 2
33 2
1
2
1
60
49 3
2
5
296
1
2
3
1
1
ГС
3
Родина
2
ГП
30 3
ПР
СР
41
Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай
Парламент Кабардино-Балкарской Рес2
публики
Народное Собрание (Парламент) Кара3
чаево-Черкесской Республики
4 Государственный Совет Республики Коми
Государственный Совет Республики
5
Крым
Государственное Собрание Республики
6
Марий Эл
Государственный Совет Республики Та7
тарстан
Верховный Хурал (парламент) Респуб8
лики Тыва
9 Законодательная дума Хабаровского края
10 Белгородская областная дума
11 Брянская областная Дума
12 Волгоградская областная Дума
13 Воронежская областная дума
Законодательное собрание Калужской
14
области
15 Костромская областная Дума
16 Курганская областная Дума
17 Магаданская областная дума
Законодательное Собрание Новосибир18
ской области
19 Рязанская областная дума
20 Тульская областная Дума
Законодательное Собрание Челябинской
21
области
1
Зеленые
Кол-во
депутатов
ЛДПР
Наименование
законодательного органа
КПРФ
№
ЕР
Таблица 2
Законодательные органы субъектов РФ, в которых проводились выборы
в период 2014–2015 гг.
2
45
28 5
1
24
22
2
24 Московская городская Дума
Законодательное собрание города Сева25
стополя
ГС
18 1
Родина
22
ГП
1
ПР
13 3
Зеленые
19
Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
Законодательное собрание Ямало23 Ненецкого автономного округа
22
СР
Кол-во
депутатов
ЛДПР
Наименование
законодательного органа
КПРФ
№
ЕР
Окончание табл. 2
1
1
1
В 2014 году выборы были проведены в 14 региональных парламентах, в
2015 году 11 законодательных органов, таким образом, с 2014 по 2015 гг. из 85
субъектов выборы проводились в 25-ти. Из зарегистрированных на момент
2015 года 75 политических партий имеющих право участвовать в выборах,
прошли представители девяти партий. Очевидным и не удивительным является
тот факт, что преимущество среди избирателей имела политическая партия
«Единая Россия». Во всех без исключения вновь избираемых созывах законодательных органов субъектов, представители «Единой России» получили абсолютное большинство голосов, тем самым получая значимую часть мандатов
парламентов. Народные представители данной политической партии заняли
81,39 % мест в региональных парламентах, это абсолютная победа «Единой
России».
На втором месте партия КПРФ, имеющая в сравнении с «Единой Россией»
не столь весомую долю, однако в сравнении с другими партиями, красные преобладают, получив почти 7 % мест для своих представителей.
Замыкает тройку лидеров по числу своих представителей политическая
партия ЛДПР с 4,04 % представителей в региональных парламентах. Как и
КПРФ, ЛДПР имеет своих представителей в 23 из 25 парламентов, где проводились выборы, что считается хорошим показателем.
Немного уступает партия «Справедливая Россия». Представительство данной партии составляет 3,77 %, это всего на три депутата меньше, чем ЛДПР,
тем самым конкуренция за первенство между данными партиями остается открытым и следующие выборы покажут, представители какой партии являются
для граждан более приоритетными.
Заметно уступая другим, и получив всего 4 мандата для своих представителей, партия Патриоты России занимает пятую строчку. Четыре представителя
политической партии из возможных 1139 не является показателем востребованности и значимости политической силы среди избирателей.
Новые партии, такие как «Родина», «Зеленые», «Гражданская Сила» и
«Гражданская Платформа» представлены крайне мало. Такой результат у партий, зарегистрированных после 2012 года можно объяснить тем, что не все политические силы нацелены исключительно на победу и получение мандатов.
297
Как новым политическим игрокам им необходимо зарекомендовать себя, разрекламировать, для реализации задуманных планов избирательная кампания и
участие в выборах являются оптимальными инструментами для достижения поставленной цели. Не стоит забывать, что и «Москва не сразу стоилась», поэтому первые попытки участия новых партий могут быть безрезультатными. Однако, и отрицательный результат это толчок для поиска «больных точек» в выдвигаемой политической программе и разработке наиболее эффективной тактике кампании.
Таблица 3
Процентное соотношение представителей политических партий
в законодательных (представительных) органах власти субъектов РФ
избранных в период 2014–2015 гг.
Название политической партии
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
Справедливая Россия
Патриоты России
Зеленые
Гражданская платформа
Родина
Гражданская Сила
Беспартийные
Процент полученных мест
81,39
6,93
4,04
3,77
0,35
0,17
0,09
0,09
0,09
3,08
Выборы, прошедшие в региональных парламентах в период 2014-2015 г.г.
назвать «генеральной репетицией» к выборам в Государственную Думу 2016
года некорректно, так как набор участвующих политических сил, возможно, не
будет идентичным, но смело можно заявить, что была проведена первая фаза
политических и агитационных кампаний.
Здесь как нельзя кстати, подходит высказывание политолога Александра
Кынева: «…Ведущие партии пытались сломать негативные тренды для себя и
доказать своим избирателям, спонсорам и власти, что имеют возможности и
право претендовать и на места в Госдуме, а власть показывала, кого она видеть
там не хочет, как она будет обеспечивать себе большинство и какое именно»
[6].
Таким образом, мы прогнозируем дальнейшее присутствие в Государственной Думе ведущих «старых» партий (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР) за счёт имеющегося твердого электората политических сил. Вполне реальными являются
шансы на увеличение представителей «Единой России» за счёт получения
большинства мандатов по одномандатным избирательным округам и мандатов
согласно полученным процентам партией по партийным спискам. Представителям же «новых партий» будет сложнее получить места, для них работает правило: чем ниже уровень выборов, тем выше шансы на успех.
298
Литература
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 (дата
обращения: 29.03.2016).
2. Сайт Министерства Юстиции Российской Федерации. URL: http://minjust.ru/activity/
politicheskie-partii-1 (дата обращения: 01.04.2016).
3. Для создания и регистрации политической партии сократили необходимое число
членов с 40 000 до 500 человек // О политических партиях: Федеральный закон от 17
июля 2001 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 29, (16 июля). Ст. 2950.
4. Центральная Избирательная Комиссия Российской Федерации: официальный сайт.
URL: http://www.cikrf.ru (дата обращения: 01.04.2016).
5. Кынев А.В. Выборы-2015: не репетиция, а первая часть кампании 2016 года. URL:
http://carnegie.ru/2015/09/23/ru-61378/ii2b (дата обращения: 29.03.2016).
299
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ДИСКУРС-АНАЛИЗ:
ОБЗОР ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ1
И.С. Есафьева
выпускник аспирантуры
Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград)
Понятие дискурса вызывает все больший интерес у исследователей как в
России, так и на Западе. Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных изучению дискурса, в общем виде он является одним из наиболее
сложных и неопределенных понятий. До сих пор нет единого мнения относительно сущности и содержания понятия дискурс, а также методов его исследования. Как заметил Т. Ван Дейк, «понятие дискурса так же расплывчато, как и
понятие языка, общества, идеологии, и зачастую наиболее расплывчатые и с
трудом поддающиеся определению понятия становятся наиболее популярными» [18, с. 42–46].
В нашей работе мы уделим внимание исследованию политического дискурса.
Многие ученые придерживаются мнения, что политическое действие,
мышление и языковая форма неразрывно связаны друг с другом. Отсюда следует, что политический дискурс – объект междисциплинарного исследования. С
его изучением связаны такие науки и направления как лингвистика, философия,
политология, семиотика и т.д. [14, с. 16].
Несомненно, высокий интерес к этой теме подтверждает важность данной
области исследования для развития политологии.
Несмотря на многочисленные противоречия, все ученые сходятся во мнении, что именно посредством политического дискурса все политические явления находят отражение в современном информационном обществе.
Для того чтобы провести исследование проблематики данного феномена,
необходимо изучить имеющиеся трактовки дискурса и основные теоретикометодологические подходы.
Итак, в широком понимании дискурс – язык, «погруженный» в жизнь, некую ситуацию общения или контекст, и организованный согласно определенным структурам, присущим высказываниям в различных сферах социальной
жизни. Исходя из категорий философии, дискурс – форма объективизации содержания сознания, артикулируемого вербально, и регулируемого тем типом
рациональности, который является доминирующим в данной социокультурной
традиции [5, с. 238].
По нашему мнению, к числу наиболее важных характеристик дискурса
можно отнести следующие:
Дискурс – «связный текст в совокупности с экстралингвистическими –
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами;
речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие» [2, с. 26].
© Есафьева И.С., 2016
300
Дискурс – сложное коммуникативное явление, включающее в себя как характеристики участников коммуникации, так и непосредственно социальный
контекст, в котором они находятся, а также процессы производства и восприятия сообщений [6, с. 113].
Дискурс – сложное единство языковой формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия
коммуникативного события или коммуникативного акта [2, с. 26].
Дискурс – явление когнитивное, т.е. имеющее дело с передачей знаний, с
оперированием знаниями особого рода и, главное, с созданием новых знаний
[11, с. 23].
Теория дискурса имеет глубокие корни в философской традиции, однако, в
политическую науку вошла сравнительно недавно. В ХХ веке понятие «дискурс» стало использоваться лингвистами. Во второй половине пятидесятых годов термин находит широкое применение исследователями общественных
наук, в том числе и политических.
Большую роль в становлении теории политического дискурса сыграли работы представителей кембриджской и оксфордской философских школ 50х годов XX века, посвященные анализу лингвистического контекста общественной
мысли [32, c. 113]. К числу первых работ, посвященных исследованию политического дискурса можно отнести издания П. Ласле «Философия, политика и
общество» 1956 года. В 70е годы термин «дискурс» стали широко использовать
при анализе политических процессов. В 80е годы был создан центр семиотических исследований, представители которого занимались изучением дискурсов,
уделяя внимание как содержательному аспекту, так и технике анализа политического дискурса [20, с. 184].
Итак, значительную роль в становлении теории политического дискурса
сыграли исследования в области семиотики, социологии, политической коммуникации и дискуссии П. Бурдье, Т. Ван Дейка, Д. Говарда, Г. Лассуэлла, М. Маклюэна, Ф. Уэбстера, Ю. Хабермаса, М. Фуко. Среди отечественных исследователей отметим М.В. Ильина, Е.И. Шейгал и др.
В современной научной литературе можно выделить ряд подходов, раскрывающих сущность понятия дискурс. К основным подходам отнесем лингвистический, философский и коммуникативный подходы.
Сторонниками лингвистического подхода являются З. Хэррис, Ф. де Соссюр, Э. Бенвенист и Э. Бюиссанс. Его суть заключается в том, что дискурс рассматривается в одном терминологическом ряду с такими понятиями как язык,
текст и речь. Однако в отличие от речи, дискурс диалогичен, и для него характерен обмен мнениями, что придает ему больший социальный характер. От текста, который является статическим речевым образованием, дискурс, в свою
очередь, отличается своей динамичностью и гибкостью.
Согласно философскому подходу, дискурс –способ познания, основанный
на рациональном постижении истины. Истоки подобной трактовки дискурса
можно найти в работе Р. Декарта «Рассуждение о методе», являющейся основополагающей для европейского рационализма. В данном смысле под дискурсом понимается любое рациональное рассуждение в рамках гносеологического
301
и онтологического постижения реальности. В узком смысле употребление дискурса связано с утверждением в середине XX века философских течений структурализма и постструктурализма. Сторонники этих направлений (Л. Альтюссер,
К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Деррида, А. Греймас, Р. Барт, М. Пеше) рассматривали дискурс как речевую деятельность, равноценную социальной практике.
В трудах структуралистов вместо термина «дискурс» встречается понятие
«дискурсивные практики», который включает непрерывный процесс коммуникации, в ходе которого образуются речевые и смысловые конструкции и их воплощения в виде текста.
Под внимание структуралистов попадает не дискурс как таковой, а скорее
его характеристики. Дискурс невозможно представить не только вне социальной практики, но и вне временной. Концепция «архива» Фуко способствует
темпоральному исследованию дискурса. Он понимает под дискурсом «фрагмент истории, ставящий свои собственные ограничения, предлагающий деления и трансформации, специфические способы выражения своей принадлежности к определенному времени» [21, с. 125]. В рамках его концепции в поле дискурса попадают массивы сказанных слов и написанных текстов. Таким образом,
дискурс – это не простое ситуативное использование языка, он представляет
собой большую концептуальную и культурную базу, являющуюся основой любого нового дискурса.
Что касается коммуникативного подхода, в теории дискурса он представлен трудами немецкого ученого Ю. Хабермаса. В широком смысле под дискурсом понимают фрагменты действительности, обладающие определенной логикой и некой временной протяженностью и представляющие законченное произведение, сформированное на основе организации смыслов с применением
смыслового кода. Ю. Хабермас понимает под дискурсом как способ получения
научного знания, так и аргументированный способ достижения согласия, коммуникативное действие [22, с. 83].
В рамках данного подхода дискурс в широком смысле является видом философского структуралистского подхода, но в то же время обладает рядом важных отличительных черт. Дискурс мыслится как идеальный вид коммуникации,
отстраненный от социальной реальности и направленный на критическое обсуждение и обоснование взглядов участников дискуссии [23, с. 34].
В узком плане дискурс рассматривается как коммуникативное событие,
которое происходит между говорящими и слушающими в процессе коммуникативного действия в определенном пространственном и временном контексте.
Применяя данный подход к анализу социальных и политических явлений, можно определить дискурс как «социальный диалог, происходящий посредством и
через общественные институты между индивидами, группами, а также между
самими социальными институтами, задействованными в этом диалоге» [6,
с. 129]. Приверженцем данного подхода является голландский лингвист Т. Ван
Дейк, который полагает, что дискурс можно считать политическим в том случае, когда он сопровождает политический акт в политической обстановке в
процессе политической коммуникации [27, с. 269].
302
На сегодняшний день под политическим дискурсом в узком плане понимают использование языка в социально-политической сфере общения, а шире –
в публичной сфере общения. Широкий подход к исследованию политического
дискурса учитывает растущую власть СМИ, а также развитие современных
технологий коммуникации и расширение процессов глобализации.
Исходя из того факта, что дискурс возникает в определенной ситуации
общения, участники которой обладают различными социальными установками
и ролями, исследователи выделяют два типа дискурса – персональный (личностно-ориентированный) и институциональный (статусно-ориентированный)
[10, с. 113; 8, с. 25–33].
В персональном дискурсе ключевым является личность говорящего, а его
принадлежность к социальной группе уходит на второй план [9, с. 191]. «Институциональный дискурс – общение в заданных рамках статусно-ролевых отношений, выделяющееся на основании двух признаков: цель и участники общения» [7, с. 15].
В социологическом аспекте политический дискурс принято относить к институциональным типам социально-ориентированного дискурса, под которым
понимают дискурс общественных институтов, в которых общение – составная
часть их организации [24, с. 42]. Данный подход позволяет рассматривать политический дискурс как часть общественного опыта. Более того, политический
дискурс признан наиболее значимым типом институционального дискурса, поскольку в нем принимают участие многочисленные социальные субъекты, обсуждающие наиболее актуальные общественные проблемы.
Далее рассмотрим основные функции политического дискурса как разновидности институционального типа дискурса. Отечественный лингвист
Р.О. Якобсон к основной функции политического дискурса относит аппелятивную (регулятивную) функцию, суть которой заключается в том, что язык регулирует поведение адресата путем побуждения к действию или запрета действия
[25, с. 33–42]. Профессор И.И. Брудный выделяет следующие виды регуляции:
активация (побуждение к действию), интердикция (запрет действия) и дестабилизация (нарушение деятельности) [3, с. 381].
Благодаря политическому дискурсу гражданам внушается необходимость
политически выгодных и «правильных» оценок и действий. Следовательно, целью политического дискурса является убеждение населения. Степень эффективности политического дискурса можно определить именно исходя из этой
цели. Как правило, речь политика включает символы, и ее успех зависит от того, как эти символы созвучны массовому сознанию: политику необходимо
научиться «затрагивать нужные струны» в сознании адресатов политического
дискурса [33, c. 211].
Другой отечественный исследователь вопросов дискурса Е.И. Шейгал выделяет две основные функции политического дискурса – информативную и инструментальную.
Благодаря информативной функции массовая аудитория получает представление о политическом мире. Суть инструментальной функции заключается
в использовании политического дискурса в качестве инструмента политической
303
власти (манипуляция общественным сознанием, формирование политической
картины мира и тд.).
Н. Фэркло и Р. Водак отмечают увеличение контактов политических деятелей с массовой аудиторией посредством СМИ [30, c. 268]. В современном
обществе на смену прямого контакта между представителями власти и массовой аудиторией приходит контакт посредством использования информационных ресурсов.
В информационных обществах для политического дискурса особое значение приобретает публичность, т.к. распространение массовых коммуникаций
расширяет число ееучастников и становится стимулом коммуникации между
политическими субъектами. «Политический дискурс транслируется в публичную сферу через пространство массмедиа». На современном этапе характерным
является медиатизация политического дискурса, причем массмедиа – это не
только канал трансляции сообщений, но и полноправный участник политической коммуникации.
Таким образом, в политическом медиадискурсе в качестве посредников
между политиками и массовой аудиторией выступают журналисты, которые
участвуют в формировании общественного мнения. Можно сделать вывод, что
средства массовой коммуникации являются практически единственным способом общения политиков и населения.
В публичном политическом дискурсе затрагиваются общественные интересы, выходящие за рамки прямого взаимодействия субъектов власти и имеющие непосредственное влияние на жизни граждан. Повестка дня публичного
политического дискурса отражает наиболее острые актуальные вопросы.
Для глубокого понимания дискурса был разработан междисциплинарный
комплексный метод – метод дискурс-анализа.
Дискурс-анализ – относительно новый подход анализа явлений социальной
жизни. Несмотря на это, он получил широкое распространение в общественных
науках, в том числе и в политологии, благодаря тому, что посредством него появляется возможность провести более глубокое качественное исследование,
нежели при проведении контент-анализа [1, с. 5]. Как отмечает О.А. Толпыгина: «Дискурс-анализ вскрывает логику и структуру конструирования явлений
различных уровней реальности: от анализа способов формирования индивидуальной идентичности до рассмотрения глобальных процессов с использованием
сходных методов» [19, с. 86].
Дискурс-анализ занимается исследованием текстов, созданных в рамках
ежедневной коммуникативной деятельности во многих сферах социальной
жизни: политический дискурс, научный дискурс, дискурс массмедиа и т.д.
Разрабатывая методику дискурс-анализа, исследователи столкнулись с
проблемой поиска единицы анализа дискурса. Необходимо было выделить сообщение, которое, с одной стороны, обладало бы высокой информативностью,
а с другой,которое можно было бы истолковать в различных семантических системах. Следует отметить, что «в рамках теории коммуникации под сообщением понимают комплекс знаковых средств, построенных на базе одного или бо304
лее кодов с целью передачи определенных смыслов и поддающихся интерпретации и интерпретируемых на основе этих же или других кодов» [28, с. 116].
Исследовав имеющиеся направления в рамках дискурс-анализа, исходя из
сферы их прикладного применения, выделим три основных, представляющих,
на наш взгляд, особый интерес: дискурсная теория Э. Лаклау и Ш. Муфф, дискурсивная психология Ж. Лакана и критический дискурс-анализ.
Дискурсная теория Ш. Муфф и Э. Лаклау своими корнями уходит в работы
Л. Альтюссера, полагающего, что идеология играет большое влияние в отношении трансформации реальности. Автор рассматривает идеологию как область социальных практик, способную подчинить сознание индивида путем задействования бессознательных механизмов. По такому подходу исследуются
дискурсивные стратегии, которые формируют социальные представления индивидов. Основываясь на идеях Л. Альтюссера, Ш. Муфф и Э. Лаклау рассматривают постструктуралистскую концепцию языка, согласно которой, значения
признаются неустойчивыми, а концепция идеологии рассматривает социальный
порядок как конструкцию, построенную на основе дискурсивной практики господствующих политических сил [31, c. 197]. Ученые отмечают, что идеология
формируется в рамках политического дискурса посредством изменения структуры языка. Следовательно, политика является сферой, благодаря которой происходит конструирование и трансформация социальной реальности.
Общество представляет собой открытую и часто изменяющуюся систему,
внутри которой есть большое количество значений. Ш. Муфф и Э. Лаклау делали попытку объяснить, как осуществляется присвоение значений социальному феномену, т.е. как осуществляется процесс трансформация дискурса. Они
отмечали, что исследователь, являющийся участником общественно-политических процессов, является носителем политического языка и идеологии, и по этой
причине вся социальная практика по своему характеру дискурсивна, что, в
свою очередь, не отрицает наличия объективного социального устройства [16,
с. 60–67].
Дискурсивная психология исходит из того, что познание является набором
символических инструментов и объединением символов. Из этого следует, чтопосредством языкавозможно исследование человеческой психики. Видный исследователь дискурсивной психологии Ж. Лаканотмечает, что индивида с социумом связывает принятиенабора символов, включенного в язык. В результате, индивид»принимает участие в социальном процессе за счет разделения языка, взамен, подчиняясь его властным ресурсам» [12, с. 58].
Далее рассмотрим критическое направление дискурс-анализа.
Н. Фэркло в своей работе «Язык и власть» отмечает, что целью критического дискурс-анализа является установление связи между использованием
языка и отношением власти [29, c. 259]. Согласно критическому дискурс-анализу, дискурс–властный ресурс, используемый правящей элитой для сохранения
своего превосходства, отношений подчинения и субординации. Это происходит
по той причине, что политический дискурс создает некие идентичности, производит определенную категоризацию и относит группы к определенным социальным классам, что дает возможность увеличить социальное неравенство.
305
Кроме того, власть обладает значительными коммуникативными ресурсами, ей
удается выстроить свою коммуникативную стратегию так, чтобы социальные
процессы протекали в рамках имеющегося политического дискурса.
Кроме того, представители критического дискурс-анализа отмечают, что
дискурс необходимо рассматривать в контексте заданной ситуации, господствующей идеологии и имеющейся культурной традиции. Т. Ван Дейк отводит
контексту основополагающую роль в своей теории политического дискурса,
считая его ментальной моделью, под влиянием которой участник политического процесса воспринимает информацию. Таким образом, дискурсивные практики не могут существовать без неких знаний, стереотипов и коллективных установок. Индивид воспринимает происходящие вокруг процессы сквозь призму
закрепленных ментальных моделей [4, с. 22–31].
Критический дискурс-анализ отмечает влияние дискурса на формирование
социально-политической реальности. Категория дискурса тесно связана с социологией знаний, включая формирование социальных знаний [26, с. 21]. Однако ряд исследователей, в том числе М.В. Йоргенсен и Л. Дж. Филлипс, сходятся во мнении, что данное влияние может нести и обратный характер, приводя к взаимодействию дискурса и социальной практики.
Р. Водак и Н. Фэркло являются одними из самых известных представителей критического дискурс-анализа, авторы полагают, что социокультурная реальность и дискурс обуславливают друг друга: дискурс формирует общество и
культуру таким же образом, как и сам ими формируется, их взаимосвязь диалектична. Суть заключается в том, что каждое применение языка вносит свой
вклад в процесс воспроизводства или трансформации общества и культуры, в
том числе и властных отношений» [17, с. 177].
К основному понятию критического дискурс-анализа отнесем феномен
«коммуникативное событие», трактующийся как «соединение логики дискурсивной практики с объективной логикой социального и экономического порядка» [15, с. 26–43]. Следовательно, объективный мир и дискурсивная практика
находятся в ситуации взаимодействия и взаимовлияния, что обеспечивает взаимное проникновение и развитие. Однако представители критического дискурс-анализа отрицают тот факт, что социальное полностью конструируется
посредством дискурса.
Ряд исследователей (в том числе: Е. Переверзев, П. Чилтон) подвергают
критический дискурс-анализ критике из-за идеи, что любой текст несет на себе
идеологическую нагрузку и является инструментом установления отношений
субординации и доминирования [13, с. 1–10].
Ряд ученых придерживается мнения, что политический дискурс можно
рассматривать в качестве источника построения социальной практики, другие
исследователи отрицают столь преувеличенную роль.
Наличие богатого теоретического фундамента, посвященного исследованию
политического дискурса доказывает, что политический дискурс занимает стабильное место среди важнейших научных категорий политологии. Однако исследователи не пришли к единому мнению относительно его влияния на социально-политические процессы, что дает почву для дальнейшего научного поиска.
306
Литературы
1. Алтунян А.Г. От Булгарина до Жириновского. Идейно-стилистический анализ политических текстов. М.: РГГУ, 1999. 263 с.
2. Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в
зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1985. Вып. 16: Лингвистическая прагматика. С. 3–42.
3. Брудный А.А. Психологическая герменевтика: уч. пос. М., 1998. 336 с.
4. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Методологические грани политической метафорфологии
// Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2007. № 1 (21). С. 22–31. URL: http://philology.
ru/linguistics1/budaev-chudinov-07.htm (дата обращения: 15.11.2015).
5. Грицанов А.А. Новейший философский словарь. – 3-е изд. исправл. – М.: Книжный
Дом, 2003. 1280 с.
6. Дейк Т. А. Ван Язык. Познание. Коммуникация: пер. с англ. М.: Прогресс, 1989.
312 с.
7. Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000 (а). С. 5–20.
8. Карасик В.И. Структура институционального дискурса // Проблемы речевой коммуникации. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000 (б). С. 25–33.
9. Карасик В.И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс: монография. 2-е изд. М.:
Гнозис, 2004. 390 с.
10. Красных В.В. Свой среди чужих: Миф или реальность? М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.
379 с.
11. Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты: сб.
обзоров / РАН ИНИОН Центр гуманитарных научно-информационных исследований, Отд.
языкознания / отв. ред. Ромашко С.А. и др. М., 2000. С. 7–25.
12. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе: пер. А. Черноглазова. М.:
Гнозис, 1995. 192 с.
13. Левшенко Ю.И. Источник Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики // Политический
дискурс: аналитический обзор теоретико-методологических подходов. Тамбов: Грамота,
2012. № 7 (21): в 3 ч. Ч. II. C. 100–108. URL: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2012
_7-2_25.pdf (дата обращения: 25.10.2015).
14. Михалёва О.Л. Политический дискурс: Специфика манипулятивного воздействия.
М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 256 с.
15. Русакова О.Ф. Современные теории дискурса. Опыт классификаций // Журнал «Политэкс». URL: http://www.politex.info/content/view/267/40 (дата обращения: 01.11.2015).
16. Слободяник Н.Б. Конструирование идентичности в политическом дискурсе: к вопросу о роли социального антагонизма (о концепции политического дискурса Лактау и
Муфф) // Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2007. № 2 (22). С. 60–68.
17. Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ. Екатеринбург: Дискурс-Пи, 2006. С. 10–28.
18. Сычева Е.В. К проблемам понимания термина «дискурс» // Молодой ученый. 2011.
Т. 2/3. № 3.
19. Толпыгина О.А. Специфика политического дискурса // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования сб.науч.тр. // РАН ИНИОН. 2002.
№ 3.
20. Толпыгина О.А. Дискурс и дискурс-анализ в политической науке // Политическая
наука. 2002. № 3.
21. Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996. 208 с.
22. Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия. Т. 1. Рациональность действия и
общественная рационализация. М., 1981.
307
23. Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия // Вестник МГУ. Серия 7. «Философия». 1993. 34 c.
24. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис, 2003. 289 с.
25. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2004. 326 с.
26. Филинский А.А. Критический анализ политического дискурса предвыборных кампаний 1999–2000 гг.: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2002.
27. DijkT. A. van. Discourse as Social Interaction. A multidisciplinary introduction. Vol. 2.
SAGEPublication, London, 1996. Р. 325.
28. Eco U. Towards a Semiotic Inquiry into the Television Message. Working Papers in Cultural Studies. 1972. № 2. Р. 103–121.
29. Fairclough N. Language and Power. L.: Longmann, 1989. Р. 259.
30. Fairclough N., Wodak R. Critical Discourse Analysis // Discourse as Social Interaction /
ed. T. van Dijk. L.: SAGE Publications. 2007. Р. 258–284.
31. Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy. L.: Verso, 1985. Р. 197.
32. Pocock J.G.A. Virtue and History: essays on political thought and history, chiefly in the
eighteen century. Cambridge etc. 1985. Р. 332.
33. Rathmayr R. Neue Elemente im russichen politischen Diskurs seit Gorbatschow // Totalitäre Sprache – languageofdictatorship / eds. R. Wodak, F.P. Kirsch. – Wien: Passagen. – 1995. –
S. 211.
308
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННОЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ:
ПОЛИТИКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ИЛИ МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ ПОЛИТИКИ1
Д.О. Катаман
аспирант кафедры всеобщей истории
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Современный подход правительства Великобритании к управлению в сфере политической социализации молодежи наиболее полно находит свое отражение в концепции молодежной политики, разработанной в соответствии с новым видением стратегии «Positive for Youth» и опубликованной 19 декабря
2011 года [1]. Данная стратегия предполагает, что молодые люди должны находиться в самом центре формирования и проведения политики государства, а
также в самом центре ее реализации на местах.
На сегодняшний день государственной политике Великобритании в сфере
социализации молодежи свойственна каскадная структура ее реализации, состоящая из трех уровней:
Первый уровень – разработка центральным правительством законодательной базы и общих направлений реализации политики;
Второй уровень – делегирование правительством возможностей осуществления политики региональным и муниципальным администрациям;
Третий уровень – деятельность молодежных организаций, являющихся основным инструментом участия молодых людей в политике.
Согласно стратегии «Positive for Youth» главным условием эффективности
механизма политической социализации молодежи является тесное взаимодействие субъектов всех трех уровней каскадной структуры. Одновременно подчеркивается ключевая роль местных руководителей при формировании и реализации услуг, необходимых для удовлетворения потребностей молодых людей. Национальное правительство, устанавливая определенные сроки реализации проводимой политики, не навязывает специальные системы и решения из
центра, которые не в состоянии изменить ситуацию на местах. Постепенное
смещение акцентов и снятие барьеров по вопросам финансирования позволяет
местным органам власти совместно с местными молодежными советами ощутить на себе при реализации рассматриваемой политики ведущую роль.
По данным Британского молодежного совета до 19, 8 тыс. молодых людей
в большинстве своем в возрасте от 11 до 17 лет, в свободное от учебы время
представляют своих сверстников в местных молодежных советах, численность
которых с 1940 года по сегодняшний день возросла до 620. [3, с. 18]. Они оказывают влияние на принятие решений местными органами власти и формирование деятельности местных служб, что в свою очередь делает предоставляемые услуги более эффективными. Наблюдается увеличение вовлечения моло© Катаман Д.О., 2016
309
дых людей в деятельность молодежных советов, расширение представительства
молодых людей в руководящих и административных комитетах, а также в деятельности инспекционных служб, рост вовлеченности молодежи в совершенствование и осуществление тщательной проверки реализуемой политики.
К числу распространенных форм, позволяющим молодым людям находиться в центре принятия политических решений следует отнести молодежные
дебаты. Среди наиболее крупных можно отметить дебаты в городе МилтонКинс 2012 года, в которых приняли участие 70 молодых людей и официальные
представители, принимающие решения на местном уровне, включая главного
руководителя и исполнительного директора детских служб, главного инспектора полиции, а также местных членов парламента и представителей политических партий. Дебаты затронули такие проблемы, как жилье, молодежная служба, охрана правопорядка, образование, сокращения на производстве и транспорт. В конце каждых дебатов, каждый официальный представитель, принимающий решения на местном уровне, в обязательном порядке давал обещание,
именуемое SMART. Это было специальное, подлежащее количественной оценке, достижимое, относящееся к делу и ограниченное определенными сроками
обещание, на выполнение которого давалось 3 месяца [2, с. 10].
В числе самых активных агентов политической социализации молодежи
выступают Британский молодежный совет (BYC) и Молодежный парламент
Соединенного Королевства (UKYP).
В рамках подготовки к Всемирной Ассамблеи Молодежи еще в 1948 году
началось объединение молодежи по всей стране, происходившее на фоне
напряженных международных отношений после Второй мировой войны. В итоге по инициативе министерства иностранных дел Великобритании был образован Британский молодежный совет. Возможно, что истинная цель его создания
британским правительством, действительно заключалась в объединении молодых людей Великобритании для борьбы против коммунистических сил. Но постепенно, через 15 лет, Британский молодежный совет вышел из-под опеки
правительства.
С 1963 года Совет получает статус общественной организации и начинает
заниматься благотворительной и культурно-просветительской деятельностью.
На протяжении более чем полувека он предоставляет также молодым людям
возможность на протяжении более чем полувека выражать собственное мнение
и быть услышанными со стороны государственной власти. На сегодняшний
день Программным документом Британского молодежного совета охвачен широкий спектр тем, которые касаются непосредственно молодых людей, – от вопросов, связанных с общественным транспортом, и до вопросов, затрагивающих повседневное образование, что лишний раз доказывает, что современная
молодежь не равнодушна к миру, в котором она живет [4].
Британский молодежный совет традиционно становится для самых активных его членов стартовой площадкой в большую политику. Так, бывший его
член Джон Денхэм в 2007–2009 гг. занимал пост министра инноваций и образования, а в 2009–2010 гг. – пост министра по делам самоуправления. Председатель BYC в конце 1970-х гг., Дэвид Хант, стал членом палаты Лордов. Дженет
310
Параскева в 2006 году была назначена Первым комиссаром, возглавляющим
офис комиссаров Государственной службы. Питер Мандельсон в 2009 году занимал пост Министра по делам бизнеса и инноваций.
Мощной политической платформой для молодых людей является и созданный в 2001 году Молодежный парламент Соединенного Королевства. Отцом-основателем данной организации является представитель консервативной
партии Эндрю Роу, который всегда был сторонником того, что молодые люди в
Великобритании должны иметь право голоса по всем непосредственно затрагивающих их проблемам. Цель, которая сформулирована в программном документе Молодежного парламента состоит в том, чтобы донести закрепленные в
нем положения до людей, принимающих ключевые решения на национальном
и местном уровнях, и особенно до тех, кто разрабатывает программные документы своих политических партий [5]. Ежегодно для Молодежного парламента
открываются двери законодательного органа страны. В 2008 году этот парламент впервые принял участие в заседании Палаты лордов по вопросу согласования основных национальных приоритетов, а в 2010 году Британским парламентом принято решение, чтобы члены Молодежного парламента могли полностью обеспечивать работу Палаты общин в рамках функционирования действующего парламента в течение одного дня в году.
Эффективность работы механизма политической социализации молодежи
напрямую зависит от того насколько полно молодые люди будут вовлечены в
демократический процесс еще до достижения возраста, дающего им права принимать участие в общегосударственных выборах. Поэтому к числу предлагаемых программным документом Молодежного парламента мер, относятся:
– взаимодействие местных членов британского парламента и его советников с местными школами, чтобы молодые люди чувствовали себя вовлеченными в политическую жизнь, постигая суть политического процесса с самого раннего возраста;
– участие в молодежных выборах и референдумах, в молодежных комитетах, конференциях и других мероприятиях, организуемых для молодых людей
по политическим вопросам;
– обеспечение права молодых людей получать консультации в местных
молодежных советах и от избранных ими членов Молодежного парламента;
– законодательное закрепление обязанности со стороны членов Британского парламента и местных органов власти вовлекать молодых людей в процесс
принятия важных решений [5, с. 7].
Такие меры способствуют росту информированности и образованности
молодого поколения и получению им практических навыков в политической
сфере. Кроме того, взаимодействие взрослых людей, принимающих ключевые
решения на местном и национальном уровнях, с молодыми людьми и молодежными советами является гарантом уверенности всей молодежи вообще в том,
что в этих решениях будут учтены и ее взгляды. Вовлечение молодых людей в
процесс принятия важных решений – наилучший способ дать почувствовать им
себя в качестве важной составляющей в обществе.
311
Чтобы обеспечить предоставление равных возможностей всем молодым
людям в деле приобщения к процессу принятия важных решений, необходимо
наличие минимальных определенных стандартов обязательного их вовлечения в
политическую жизнь. Для этого нужно финансирование, и такое финансирование должно быть гарантировано и поддержано для того, чтобы продолжать оказывать необходимую помощь молодежным службам. Финансируемые должным
образом общественные и молодежные службы Британии содействуют активному
вовлечению молодых людей в жизнь общества и обеспечивают рост взаимоуважения между его членами. В период повсеместного сокращения денежных ресурсов во всем государственном аппарате особо остро нехватку финансовых
средств ощущают молодежные службы, которым становится все труднее противостоять антисоциальному поведению молодых людей, что не может не вызывать беспокойство со стороны представителей молодежи [5, с. 3–4].
Правительство Великобритании старается на личном примере продемонстрировать способы сотрудничества и развития партнерских связей, креативные подходы в вопросе оказания помощи и различных услуг, пути вовлечения
молодых людей в процесс принятия решений.
Так, министерства образования, здравоохранения и транспорта активно
взаимодействуют с молодыми людьми через Молодежный Парламент Великобритании, Молодежный Парламентский Комитет и основанную в 2012 году
Национальную группу молодежи, которая получила возможность контролировать правительственную политику. Представители министерства предпринимательства, инноваций и ремесел, министерства труда и пенсий, министерства
внутренних дел и министерства образования являются членами Молодежной
инициативной группы. Они обсуждают молодежную безработицу и другие молодежные проблемы с руководителями волонтерских, коммерческих организаций и социальных предприятий и предоставляют министрам и чиновникам консультации по вопросам улучшения и реализации проводимого политического
курса.
Таким образом, в современном подходе правительства Великобритании к
управлению в сфере политической социализации молодежи просматривается
следующая тенденция. Правительство и местные органы власти все чаще начинают смотреть на проводимую политику и деятельность своих служб в сфере
социализации молодежи сквозь призму потребностей самих молодых людей.
Сегодня «голос молодежи» это не односторонний монолог, а диалог между молодыми людьми, молодежными работниками, организациями и законодателями. Поддержка этого диалога на всех трех уровнях каскадной структуры реализации рассматриваемой политики внушает молодым людям уверенность в том,
что их мнение действительно слышат и учитывают при принятии решений на
национальном и местном уровнях. Меняется отношение к молодежи. Она постепенно перестает быть средством манипуляции политиков. Механизм политической социализации молодежи в современной Великобритании становится
политикой для молодежи.
312
Литература
1. Positive for Youth. A new approach to cross-government policy for young people aged 13
to 19. Department for education, 19 December 2011 // Government UK. URL: https://
www.cyp1.org.uk/userfiles/file/Positive%20for%20youth.pdf] (дата обращения: 01.03.2016).
2. Positive for Youth – Progress since December 2011. Cabinet Office, 2 July 2013 // Government UK. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atachment_data/
life/210383/Positive-for-Youth-progress-update.pdf (дата обращения: 01.03.2016).
3. Annual Review 2009/2010 // British Youth Council. URL: http://www.byc.uk/media/
16607/byc_annual_review_2009-2010_for_web.pdf (дата обращения: 29.02.2016).
4. British Youth Council Manifesto 2014–2015 // British Youth Council. URL: http://www.
byc.org.uk/media/267968/byc_manifesto_2014-2015.pdf (дата обращения: 28.02.2016).
5. UK Youth Parliament Manifesto 2015–2016 // UK Youth Parliament. URL: http://www.
ukyouthparliament.org.uk/wp-content/uploads/Manifesto-2015-2016.pdf
(дата
обращения:
28.02.2016).
313
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА:
ГРУЗИНСКИЙ БИЛЕТ ИЗ НИОТКУДА1
К.В. Коновалов
аспирант
Омского государственного педагогического университета
Какой порядок не затей,
Но если он в руках бессовестных людей,
Они всегда найдут уловку,
Чтоб сделать там, где им захочется, сноровку.
И.А. Крылов
После распада Советского Союза многие, некогда союзные республики,
добившиеся долгожданной свободы и независимости, начали активно искать
себя в новом геополитическом пространстве, большинство смотрели в сторону
Европы, исключением, разве что, была Грузия. Обретя суверенитет, Грузия и ее
руководство во главе с Эдуардом Шеварднадзе, вышедшее из советской партийной номенклатуры, не спешили с преобразованиями и реформированием
молодого государства и решили идти тем же курсом, что и ранее, который на
тот момент имел уже ряд серьезных проблем, мешавших успешному развитию
государства.
Во времена СССР Грузия считалась одной из самых коррумпированных
республик, поэтому тогда часто говорили о том, что в Грузии нет Советской
власти. Но и в постсоветский период – до 2003 года – Грузия по всем показателям занимала одно из первых мест в мире по уровню взяточничества и бюрократизма в органах власти.
Расцвет коррупции и тяжелые экономические условия в период экономических трудностей 90-х годов стали причиной, приведшей к массовому отъезду
из Грузии сотен тысяч жителей в Россию, Украину, Грецию, Израиль, Германию, США и ряд других стран.
К концу 90-х годов необходимость смены руководства страны стала очевидной, к этому времени в Грузию стали возвращаться молодые специалисты,
получившие образование в США и Европе, люди с новыми взглядами, желающие изменить жизнь своего государства и жизнь своих соотечественников к
лучшему, среди них был будущий президент Михаил Саакашвили.
Добившись определенных успехов в органах законодательной, исполнительной, судебной власти и управлении бизнесом, молодые реформаторы стремились к более высоким результатам, но государственная власть и «власти предержащие» были настолько коррумпированы и не хотели расставаться с преференциями, что прикладывали немало усилий для удержания полноты власти в
своих руках и старались всячески дискредитировать реформаторов, заручившихся поддержкой населения. Все эти процессы происходили на фоне ухудше© Коновалов К.В., 2016
314
ния уровня жизни населения, тяжелого экономического положения и пр., одной
из главных причин этому была повсеместная коррупция. Рано или поздно это
должно было сначала привести к социальному напряжению, а потом и взрыву –
революции. Политический, социальный и экономический кризис в Грузии достиг своего пика накануне президентских выборов 2 ноября 2003 года.
Рост коррупции в Грузии обуславливался не только слабостью государственных институтов, которые достались Грузии как не самое лучшее советское
наследие, но и ориентацией экономики на «монокультуры» – чай, вино, цитрусовые.
После распада СССР уровень коррупции в Грузии был одним из самых высоких не только в СНГ, но и в мире, поэтому одним из пунктов борьбы в ходе
«революции роз» во главе с Михаилом Саакашвили был «борьба с коррупцией». В 2003 году до избрания нового президента, Грузия находилась на 127 месте, из 133 стран, которые были в списке стран с высоким уровнем коррупции,
то есть стран-аутсайдеров. По инициативе Саакашвили были приняты жесткие
законы, осуществлены институциональные изменения, сужающие полномочия
бюрократии. Одновременно по инициативе президента в стране были отменены
почти все разрешения и лицензии, которые до того можно было получить за
взятку. Результатом этих и других эффективных антикоррупционных мероприятий стало резкое снижение уровня этого вида преступлений. В рейтинге организации Transparency International за 2010 год Грузия достаточно высоко
поднялась, заняв 68-е место среди 178. По восприятию коррупции она сравнялась с такими европейскими государствами, как Италия, Румыния и Болгария.
Таких высоких результатов команда реформаторов смогла добиться с помощью следующих жёстких мер и методов:
1. Принцип одного окна – любую справку, документ можно получить в одном месте.
2. Обновление личного состава МВД на 85 %, увеличение эффективности
полиции – было сокращено количество, но улучшено качество. Создание имиджа полиции, сделать профессию престижной была основная задача.
3. Снижение регулирований во многих сферах. Например были отменены
медосмотры на получение прав, прохождение техосмотра автомобиля. Согласитесь, что эти процедуры являются формальностью и на самом деле это просто
способ обогащения для отдельных лиц.
4. Отменены службы пожарной инспекции и санэпидемнадзора.
5. Повышение зарплат государственных служащих, чтобы мотивировать
их и привлечь лучшие кадры. Зарплаты повысили в 10–15 раз. Никто не захочет
воровать, если у него и так хорошая зарплата + риск оказаться за решеткой.
6. Упростили процедуру задержания коррупционеров, прописали процедуры конфискации их имущества. Массовые аресты в первые годы реформ показали серьезный настрой руководства страны. 10 лет тюрьмы за взятку более
50$, согласитесь, что это устрашает.
7. Освещение в СМИ всех задержаний и уголовных процессов по факту
коррупции, объяснение народу насколько это большая проблема для государства.
315
Одним из наиболее показательных является метод борьбы с взяточничеством среди полицейских.
В 2004 г. уволили более 32 тыс. полицейских, на их место взяли новых людей, заработная плата была доведена до одной из самых высоких в стране.
Средняя заработная плата в Грузии эквивалентна 200–300 долларов, патрульные полицейские получают от 450 до 1200 долларов.
«Патрульная полиция Грузии пользуется у сограждан доверием. Она приезжает буквально через 2 минуты. И у нее – отнюдь не только карательные
функции. Случись, к примеру, неполадка в машине – помогут исправить, ЧП на
дороге – помогут разобраться», – описывают свой опыт общения с грузинскими
полицейскими ряд экспертов.
Реформы позволили создать профессиональную полицию, ориентированную на оказание услуг гражданам, что существенно повысило доверие населения к стражам порядка. Опросы и исследования, проведенные в Грузии некоторыми международными организациями, показали, что полиции доверяет 87 %
населения страны, и что Грузия является одной из самых безопасных стран в
Европе. Согласно этим исследованиям, по уровню доверия населения к полиции Грузия заняла первое место среди стран Восточной Европы, а среди всех
европейских стран – третье. Оказалось также, что 87 % населения Грузии довольны работой правоохранительных органов и выражают им доверие, по сравнению всего с 5 % в 2003 году, 96,4 % жителей чувствуют себя защищенными
от преступлений, а 60 % готовы сотрудничать с правоохранительными органами, если окажутся свидетелями преступления.
Об эффективности реформирования грузинской полиции свидетельствуют
цифры. Количество тяжелых преступлений сократилось на 35 %, вооруженных
ограблений – на 80 %, убийств – на 50 %. Лишь 2 % грузин отметили, что последнего года они или их родственники имели дело с проявлениями коррупции.
Таким образом, главный принцип борьбы с коррупцией в действии – полное упразднение неработающих институтов. Опыт борьбы с коррупцией в Грузии, также был высоко оценен в новом докладе Всемирного банка «Борьба с
коррупцией в государственных службах: хроника грузинских реформ». Опыт
Грузии в борьбе с коррупцией в государственном секторе уникален и успешен
и многие его аспекты могут быть адаптированы и применены в странах, где
существуют аналогичные проблемы.
«Коррупцию часто рассматривают как продукт традиционной местной
культуры, эндемическое и, следовательно, непреодолимое явление», – заявил
вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Филипп ЛеУэру. Он подчеркнул, что «опыт Грузии показывает, что порочный
цикл эндемической коррупции можно разорвать и, при соответствующих решительных реформаторских действиях, обратить его в благоприятный цикл. Еще в
2003 году коррупция пронизывала практически все сферы жизни Грузии. Взятки требовались для того, чтобы получить большинство государственных услуг
– от получения водительских прав или паспорта до регистрации имущества и
бизнеса, строительства дома или поступления в ВУЗ. С тех пор меры, предпринятые правительством в рамках политики «нулевой толерантности», резко со316
кратили масштабы неофициальных платежей в различных государственных
службах».
Эксперты Всемирного банка отмечают, что сегодня «по большинству показателей Грузия значительно приблизилось к наиболее развитым странам Евросоюза».
Самый простой способ антикоррупционной борьбы, который был реализован в Грузии – «легализация коррупции». Это требует не дополнительных ресурсов, а только лишь признания уже существующих рыночных отношений в
рамках правового поля. Например, чтобы получить государственную справку,
будь то паспорт, регистрация недвижимости и т.п., быстрее положенного срока
или «красивые» номера на автомобиль, достаточно лишь открыто и легально за
это заплатить, согласно установленным тарифам. Во-первых, это истребляет
коррупцию, во-вторых, позволяет собирать пусть и небольшие, но, все же,
деньги в казну, а главное – подобная практика уравнивает граждан в возможностях, предлагая получить нужную услугу за деньги, делая это законным путем.
Эти несколько методов могут быть перенесены в любую другую страну и применимы не только в реформировании полиции. Принципы просты и всеобщи:
убрать неработающие механизмы и избыточные функции; предложить четкие
критерии функционирования новых органов и подбора новых кадров; контролировать соблюдение выполнения закона на всех ступенях; сделать легальным
то, что не наносит вреда; упростить и минимизировать взаимоотношения гражданина с государственными органами. Но главное – борьбу с коррупцией необходимо вести содержательно и по всем фронтам одновременно. За 10 лет активного проведения, зачастую радикальных, реформ Грузия вырвалась далеко
вперед в борьбе с коррупцией, доказав на личном примере всему Миру, что
коррупцию можно победить. Системная борьба с коррупцией позволяет удерживать высокие показатели и перемещаться в списке на более высокий уровень,
так, например, в 2015 году Грузия заняла 48 место из 167 в рейтинге организации Transparency International.
Литература
1. Буракова Л.А. Почему у Грузии получилось. М.: Юнайтед Пресс, 2011. URL:
http://www.liberal.ru/upload/files/Georgia---1-26.pdf (дата обращения: 04.04.2016).
317
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА КНР
В ОТНОШЕНИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В ПЕРИОД НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ ХУ ЦЗИНЬТАО1
К.Г. Муратшина
канд. ист. наук, ассистент
кафедры теории и истории международных отношений
Уральского федерального университета (Екатеринбург)
Е.А. Брусенкова
студент
департамента международных отношений
Уральского федерального университета (Екатеринбург)
Республику Казахстан и Китайскую Народную Республику в настоящее
время связывают отношения всестороннего стратегического партнерства, при
этом подчеркивается, что обе стороны рассматривают «развитие двусторонних
отношений в качестве приоритетного направления внешней политики своего
государства» [1]. Отношения двух стран стабильно развиваются на протяжении
более чем 20 лет. Первым совместным документом после развала СССР и получения Казахстаном независимости стало Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между РК и КНР, подписанное 3 января
1992 г. [2, с. 20]. Совместная декларация об основах дружественных взаимоотношений 1993 г. [2, с. 21] зафиксировала такие принципы взаимодействия двух
стран, как развитие добрососедских отношений на основе устава ООН, невмешательство во внутренние дела и признание государственной целостности, а
также придание особого значения торгово-экономическому сотрудничеству. 23
декабря 2002 г. двумя странами был подписан Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве [3].
Представляется интересным проследить развитие взаимоотношений двух
стран в период практически десятилетнего руководства КНР Ху Цзиньтао.
Именно в тот период сложились основания для нынешнего уровня китайскоказахстанского партнерства и его основные направления и особенности.
Общий курс внешней и внутренней политики КНР с приходом к власти Ху
Цзиньтао 15 марта 2003 г. претерпел определенные изменения. В конце 2004 г.
был выдвинут лозунг строительства «социалистического гармоничного общества». Главной целью объявлялось создание среднезажиточного общества, сокращение разрыва между богатыми и бедными, укрепление социальной базы
государства [4]. Государство воспринимало заботу об экономическом благосостоянии общества как приоритет [5], что, без сомнения, придавало дополнительный импульс необходимости развития торгово-экономического партнерства с соседними странами, особенно в части обеспечения экономики КНР ресурсами.
© Муратшина К.Г., Брусенкова Е.А., 2016
318
Во внешней политике концепцию «мирного возвышения» заменила концепция «гармоничного развития», которая была выдвинута Ху Цзиньтао в сентябре 2005 г. [6]. Она предполагала следование таким принципам, как взаимное
уважение, равноправие в отношениях, а также активное развитие сотрудничества в сфере экономики, использование взаимодополняемости и содействие
экономической глобализации [7].
Летом 2003 г. Ху Цзиньтао посетил Казахстан с официальным визитом.
Стороны подписали Совместную декларацию и утвердили Программу двустороннего сотрудничества на 2003–2008 гг. [8]. Текст декларации перекликается с
текстом Договора 2002 г., однако добавляется обязательство «поддерживать регулярный политический диалог и проводить консультации на высоком уровне,
непрерывно повышать уровень взаимного доверия» (п. 2), солидарность в борьбе против организации «Исламское движение Восточного Туркестана» как
«важная составная часть международной антитеррористической борьбы» (п. 8)
и конкретные экономические задачи, которые решает в сотрудничестве с Казахстаном Китай: «изучение проекта китайско-казахстанского нефтепровода и
соответствующих проектов по освоению нефтяных месторождений, а также вопроса о возможности строительства газопровода из Республики Казахстан в
Китайскую Народную Республику», «участие китайской стороны в разведке и
освоении нефтяных месторождений на шельфе Каспийского моря в Казахстане» (п. 10), «развитие северного коридора Трансазиатской железнодорожной
магистрали» и увеличение пропускной способности пункта пропуска «Алашанькоу-Дружба» (п. 11).
В 2005 г. в Астане была принята Совместная декларация РК и КНР об
установлении и развитии стратегического партнерства [2, с. 61]. Среди стран
Центральной Азии Казахстан стал первой страной, которая получила статус
стратегического партнера Китая. На встрече главы государств подвели итоги 13
лет сотрудничества, которое, по их словам, отличалось углублением политического сотрудничества, а также взаимодействия в торгово-энергетической, энергетической, транспортной сферах, в сфере безопасности и других. На встрече
отмечалось, что взаимная торговля Китая и Казахстана достигла 14,7 млрд
долл. и выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 51,8 % [9].
В последующие годы также имели место регулярные взаимные визиты лидеров двух стран, только с 2003 по 2010 гг. было проведено 7 встреч на высшем
уровне [10], а Китай начал активно инвестировать в инфраструктурные проекты
в Казахстане. В 2006 г. был сдан в эксплуатацию нефтепровод Атасу – Душаньцзы [11]. В апреле 2009 г. Казахстану был выделен кредит в размере 10
млрд долл. Также в 2009 г. был запущен трубопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, а в 2010 г. китайской стороной было профинансировано строительство в Актау завода по производству битума. Стоит отметить,
что уже тогда стороны упоминали о восстановлении Шелкового пути, и предпринятые действия послужили основой для воплощения будущих планов Китая
[12].
Сотрудничество в сфере безопасности также заняло важное место в партнерстве двух стран. Помимо регулярных антитеррористических учений и в це319
лом взаимодействия в рамках ШОС, Казахстан стабильно выражал поддержку
территориальной целостности Китая, а также воздерживался от каких-либо
негативных оценок политики Пекина в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного района. Более того, имели место случаи выдачи Пекину находившихся
на территории РК уйгуров, в отношении которых у китайской стороны были
возбуждены обвинения в ведении террористической деятельности. Также в Казахстан воспрещен въезд тибетскому лидеру в изгнании Далай-ламе [12].
Также стоит отметить, что в КНР в течение всего периода шло бурное развитие научных школ, исследований Казахстана и Центральной Азии в целом, а
также изучение взаимодействия с китайским государством и его отдельными
регионами [13]. В целом, можно говорить о формировании и поступательном
применении китайской стороной в отношении своих казахстанских партнеров
стратегии, нацеленной на получение максимальной экономической выгоды и
политических дивидендов. Наиболее полно приоритеты КНР характеризует заявление Ху Цзиньтао на переговорах во время визита Н. А. Назарбаева в Пекин
в 2011 г.: «Китай готов вывести на новый уровень двусторонние отношения
стратегического партнерства в нижеследующих четырех направлениях: во-первых, продвигать двусторонние политические отношения…, во-вторых, содействовать практическому сотрудничеству. Стороны должны обеспечить безопасную, стабильную и эффективную реализацию китайско-казахстанских нефте- и
газопроводов, ускорить строительство ряда проектов, включая 2-й этап 2-й очереди нефтепровода ''Китай-Казахстан'', 2-й очереди газопровода, проект транспортного сотрудничества и т.д., расширить сотрудничество в несырьевой и финансовой сферах, а также в области чистой энергетики, высоких технологий…
В-третьих, усилить сотрудничество в сфере безопасности… В-четвертых, активизировать международное и региональное сотрудничество». Также председатель КНР отметил «все более важную роль, которую играет Казахстан в международных и региональных делах» [14].
Таким образом, при Ху Цзиньтао сложились основные направления и приоритеты политики КНР в отношении Казахстана, которые основываются на
крайне прагматичном и стратегически выверенном подходе, направленном на
расширение влияния Китая в Центральной Азии и получение доступа к колоссальным объемам ресурсов, которыми располагает Казахстан, – нефти, газу,
урановым месторождениям, рудным полезным ископаемым, плодородным землям и т. д., всему тому, что можно использовать для «практического сотрудничества». В политических и экспертных кругах Казахстана, в свою очередь,
сформировались различные позиции относительно китайской экономической
экспансии, однако правительство РК оказывает поддержку Китаю, отчасти с
учетом значительных размеров капиталовложений КНР в РК, отчасти – в рамках концепции многовекторной дипломатии, сложившейся как основная особенность казахстанской внешней политики после распада СССР.
320
Литература
1. Совместная декларация КНР и РК о дальнейшем углублении всестороннего стратегического партнерства // Посольство КНР в РК. URL: http://kz.china-embassy.org/rus/
zhgx/t1077211.htm (дата обращения: 10.02.2016).
2. Сыроежкин К.Л. Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегическому
партнерству: сборник документов: в 3 т. Алматы, 2010. Т. 3.
3. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РК и КНР // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000420_ (дата обращения: 10.02.2016).
4. 构建社会主义和谐社会 (Гоуцзянь шэхуэй чжуи хэсе шэхуэй) (Построение социалистического гармоничного общества) // Синьхуа. URL: http://news.xinhuanet.com/newscenter/
2004-12/17/content_2346244.htm (дата обращения: 10.02.2016)
5. Борох О. Неосоциализм Ху Цзиньтао и современная идеология КНР. URL:
http://polit.ru/article/2006/04/20/boroh/ (дата обращения: 10.02.2016).
6. Портяков В.Я. Внешняя политика КНР в период 2002–2008 гг. URL: http://www.
synologia.ru/a/%D0%92%D0% (дата обращения: 10.02.2016).
7. Теория гармоничного мира председателя Ху Цзиньтао // Жэньминь жибао онлайн.
URL: http://russian.people.com.cn/95181/6823894.html (дата обращения: 10.02.2016).
8. Совместная декларация Китайской Народной Республики и Республики Казахстан от
3 июня 2003 г. URL: http://sars.china.com.cn/russian/73675.htm (дата обращения: 10.02.2016).
9. Казахстан и КНР намерены увеличить товарооборот к 2015 году до $40 млрд. URL:
http://newskaz.ru/economy/20130406/4952898.html#ixzz40GVYh4xm
(дата
обращения:
10.02.2016).
10. Глава МИД Казахстана: Китай был и остается надежным и предсказуемым партнером Казахстана. URL: http://russian.people.com.cn/31521/6901713.html (дата обращения:
2.01.2016).
11. Объем транспортировки сырой нефти в Китай по китайско-казахстанскому нефтепроводу превысил 20 млн т. URL: http://russian.people.com.cn/31518/6878335.html (дата обращения: 2.01.2016).
12. Тогузбаев К. Ху Цзиньтао все чаще и чаще приезжает в Казахстан. URL:
http://rus.azattyq.org/content/Hu_Jintao_/2066900.html (дата обращения: 10.02.2016).
13. Савкович Е.В. Центрально-азиатские исследования в КНР в 2000-е гг. // Вестник
Томского государственного университета. 2012. № 355. С. 69–5.
14. Ху Цзиньтао провел переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. URL: http://ru.china-embassy.org/rus/zgxw/t801632.htm (дата обращения: 15.02.2016).
321
МНОГООБРАЗИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ РОССИИ В АРКТИКЕ1
А.Н. Пойлов
магистрант
Волгоградского государственного университета
В последние годы Арктика превратилась в регион, в котором сталкиваются
разнообразные интересы многих государств. Свои национально-государственные интересы в Арктическом регионе имеет и Россия. Согласно одобренному в
2008 г. документу «Основы государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», главными интересами России в Арктике являются [1]:
1) использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве
стратегической ресурсной базы России, обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны;
2) сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества;
3) сбережение уникальных экологических систем Арктики;
4) использование Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной коммуникации России в Арктике.
На первом месте стоят экономические интересы государстве в Арктике.
Экономика России сильно зависит от экспорта природных ресурсов, в первую
очередь углеводородов. Уже разработанные месторождения нефтегазовых ресурсов постепенно истощаются. В Арктике же сосредоточены значительные запасы нефти и газа, 60 % которых приходятся на территории, принадлежащие
России или же на которые она претендует. Таким образом, Арктика в будущем
может стать для России основным источником энергоресурсов.
Помимо нефти и газа в Арктическом регионе находится более половины
отечественных запасов других стратегически важных ресурсов: алмазов (99 %),
металлов платиновой группы (98 %), никеля и кобальта (более 80 %), хрома и
марганца (90 %), меди (60 %), сурьмы, олова, вольфрама и редкоземельных металлов (от 50 до 90 %), золота (40 %) и др. [2, с. 11]. Таким образом, значительная часть добываемых в Арктике ресурсов практически не имеет альтернативы
с точки зрения их разработки в других регионах России.
Кроме запасов полезных ископаемых регион обладает огромными биоресурсами. Перспективы разработки возобновляемых биологических ресурсов
связаны с их высокой обеспеченностью и разнообразием. Здесь водится более
150 видов рыб, в том числе важнейшие для российского рыбного промысла:
треска, сельдь, пикша, камбала, горбуша. Арктическая зона РФ «обеспечивает
до 15 % вылова и производства морепродуктов в России» [3, с. 12]. В Арктике
обитает множество уникальных видов рыб и животных.
В Арктическом регионе Россия сохранила значительный промышленный
потенциал. «В течение десятилетий здесь создавалась объекты нефтегазового
© Пойлов А.Н., 2016
322
комплекса, магистральные трубопроводы протяженностью в тысячи километров, электростанции, в том числе Билибинская АЭС, шахты, железные дороги,
аэродромы, морские и речные порты» [4, с. 154]. При населении около 1 % от
общероссийской численности Арктика сегодня производит почти 12 % ВВП
России и порядка 25 % общероссийского экспорта [5, с. 17].
Таким образом, Арктика сегодня является важнейшим для России резервом углеводородных, водных, биологических и других видов стратегически
важных ресурсов, необходимых не только для развития экономики страны, но и
для обеспечения её минерально-сырьевой безопасности.
Большое значение для России имеет Северный морской путь (СМП), который является исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией РФ [6]. «Северный морской путь обеспечивает функционирование
транспортной инфраструктуры государства в особенно труднодоступных районах архипелагов, островов, морей и побережья Крайнего Севера, центральных
районов Восточной и Западной Сибири, связывая в единую систему меридионально расположенные материковые водные пути по великим сибирским
рекам и широтно направленные морские трассы перемещения на запад и восток
страны каботажных и экспортных грузопотоков» [7, с. 14]. То есть СМП связывает в единую транспортную систему европейскую и дальневосточную части
страны и является важной составляющей инфраструктуры экономического и
оборонного комплекса российской Арктики.
В перспективе роль Северного морского пути будет только возрастать. Вопервых, СМП это кратчайшая транспортная артерия, соединяющая порты Европы, Дальнего Востока и Северной Америки, и которая становится всё более
благоприятной для судоходства в условиях таяния арктических льдов. Вовторых, СМП перспективен в качестве транспортной артерии для транспортировки добываемых ресурсов из арктических регионов России. «В качестве значительных клиентов СМП могут оказаться собственники уникального Штокмановского месторождения нефти и газа, Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции с месторождениями (Приразломное), северо-онежских бокситов,
полиметаллов и марганца на архипелаге Новая Земля. В перспективе возможно
вывозить газовый конденсат с полуострова Ямал» [8, с. 6].
Таким образом, развитие и дальнейшее использование Северного морского
пути способно не только принести России значительные доходы от экспорта
услуг и товаров (например, ледокольное сопровождение судов, стоянка в портах и т.д.), но и дать толчок для развития смежных отраслей и стимулировать
модернизацию инфраструктуры регионов России, расположенных вдоль побережья Северного Ледовитого океана.
Следует сказать, что вокруг статуса Северного морского пути наблюдается
конфликт интересов. Так, в отечественных официальных документах акцент
ставится на том, что Северный морской путь находится под российской юрисдикцией, и в этом вопросе Россия занимает принципиальную позицию. Вместе
с тем такой подход противоречит интересам других стран. США и их союзники
по НАТО, а также Азиатские государства заинтересованы в интернационализации СМП и передачи контроля над ним под транснациональное управление.
323
Тесно связанной с вышеперечисленными интересами является экологическая тематика. Экологическое значение Арктической зоны определяется её
уникальными экосистемами, которые «вносят существенный вклад в обеспечение сбалансированности и устойчивости климата планеты» [9, с. 23]. Кроме того Арктика – это резерв чистого воздуха и пресной воды при таянии льдов, а
также заповедные территории живой природы. Сильная восприимчивость арктических экосистем к изменениям климатической системы планеты делает
окружающую среду Арктики чётким индикатором глобальных изменений. Сегодня Арктика обладает относительно (по сравнению с другими регионами) чистой природной средой. Вместе с тем природа Арктики является и наиболее
уязвимой к антропогенному и техногенному воздействия по сравнению с другими регионами мира. Этим обусловливается необходимость соблюдения повышенных экологических требований по охране и защите окружающей среды
при экономическом освоении Арктики.
Для России вопрос экологии особенно актуален, ибо многие арктические
районы Арктической зоны РФ (15 % территории) уже сильно загрязнены в результате интенсивного развития промышленности и военной активности и
представляют угрозу для здоровья человека. Следы загрязнения были обнаружены в воздухе, почве, воде, а также в морских организмах. Отечественными
учёными выявлено 27 районов с высокой степенью загрязнения. «Экологические проблемы особенно остро стоят на территориях, прилегающих к Норильску и районам нефтегазовой добычи в Западной Сибири, а также в Мурманской
и Архангельской областях» [10, с. 33].
Помимо самоочевидной необходимости заботы об экологии, соблюдение
требований по охране и защите окружающей среды со стороны Росси имеет и
другой аспект. Так, А. Ковалёв отмечает, что «тема защиты окружающей среды
традиционно используется для оказания давления на Россию в связи с ее планами по развитию арктической инфраструктуры и строительству объектов
нефтегазового комплекса» [11, с. 118]. Экономическая деятельность России в
Арктике преподносится как удар по местной экологии. Вызывает озабоченность у западных стран и практика утилизации Россией ядерных отходов в арктических водах.
Природоохранительная риторика применяется не только для критики России. Так, наиболее опасными видами антропогенного воздействия на природу
Арктики считаются добыча углеводородов на шельфе и их транспортировка.
Этот факт приводится некоторыми государствами как одно из доказательств
необходимости интернационализации пространств Северного Ледовитого океана и присвоения Арктике статуса охраняемого района и «природного резерва
для мира и науки» [12. с. 17], что противоречит интересам России.
Россия стремится сохранить Арктический регион как зону мира, стабильности, безопасности и сотрудничества. При этом учитывается, что Арктика
имеет важное военно-стратегическое значение для РФ. «Специфика этой территории – прямой доступ к Атлантическому океану и Арктике, относительная
близость потенциальных целей и наличие ряда крупных объектов оборонной
промышленности и объектов инфраструктуры» [13, с. 16]. Государственная
граница РФ на протяжении более 20 тысяч км. проходит по Северному Ледови324
тому океану, а её охрана и защита проводится в сложнейших климатических
условиях. Если же контроль над этой территорией будет потерян, то Россия с
военно-экономической и стратегической точки зрения утратит условия для сохранения суверенитета.
Стоит также учитывать, что «в случае постоянного присутствия ядерного
подводного флота США и размещения систем ПРО морского базирования (которые активно разрабатываются в США) здесь будут созданы возможности для
перехвата пусков баллистических ракет и нанесения превентивного удара по
России» [14, с. 9].
В условиях повышения геополитического статуса Арктики наметилась
опасная тенденция к милитаризации региона. Это проявляется в усилении военного присутствия отдельных государств, наличии в Арктическом регионе
значительного военного потенциала России и НАТО.
Вместе с тем Россия старается проводить политику, ориентированную на
сотрудничество с другими государствами, при этом не упуская из виду военную активность в регионе.
Важная роль по поддержанию в регионе мира и стабильности отводится
деятельности специализированных международных организаций. Россия заинтересована, в первую очередь, в укреплении и развитии сотрудничества в рамках Арктического совета (АС). В рамках АС уже так, «превращение АС из консультативного форума в полноценно значимую международную организацию,
принимающую обязательные для исполнения решения, позволит не допустить
дальнейшей милитаризации Арктики» [15, с. 95]. Стоит сказать, что в рамках
АС уже осуществляется множество взаимовыгодных проектов, связанных с
изучением климата, состояния окружающей среды, ресурсов и т.д. В 80 таких
проектах принимает участие Россия. Развивается экономическое, природоохранное, научное и гуманитарное взаимодействие между государствами и в
рамках других организаций.
Помимо прочего в интересах России «четкое определение российских северных границ, нейтрализация проблемы территориальных притязаний со стороны приграничных государств» [16, с. 103]. Главным образом речь идёт о решении территориальных споров между Россией и Норвегией, Россией и США,
а также установлении границ российской части арктического континентального
шельфа. Неурегулированность этих споров остаётся серьёзным источником
международных конфликтов в регионе и препятствует сотрудничеству между
странами в освоении Арктики.
О возрастающем значении Арктики для России может свидетельствовать и
создание в начале 2015 г. Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики. Основными целями работы этой комиссии «является защита национальных интересов Российской Федерации в Арктике и решение стратегических задач, определенных Основами государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, а
также кардинальное повышение эффективности государственного управления в
Арктической зоне Российской Федерации» [17].
Значимость Арктики для России подчёркивается многими представителями власти, которые занимаются проблемами региона. Так, например, глава Гос325
ударственной комиссия по вопросам развития Арктики вице-премьер Д. Рогозин отмечает, что «Арктика входит в непосредственную зону интересов нашего
государства» [18], «ее освоение остается одной из насущнейших наших задач.
Это огромный и очень значимый макрорегион для нашей страны. Арктика для
нас пока terra incognita, а должна быть исследована и колонизирована – в хорошем смысле этого слова, став нашей перспективнейшей территорией» [19]. Как
отмечают эксперты, Арктический регион интересен России в первую очередь с
экономической точки зрения. Однако подчёркивается, что освоение ресурсов
Арктики – «задача не экономическая, а политическая и геополитическая» [20].
О том, что «Арктика играет огромную роль для геополитического положения
государства» [21] говорит и Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике,
член Государственной комиссия по вопросам развития Арктики А. Чилингаров.
Следует также отметить, что представители российской власти акцентируют
внимание в своих выступлениях на том, что за Арктику идёт активная политическая и дипломатическая борьба. Об этом говорится в выступлениях ответственного секретаря Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации
А. Иванова [22], председателя Совета Федерации РФ В. Матвиенко [23], вицепремьера Д. Рогозина [24] и др.
Таким образом, можно сказать, что в российских политических кругах
сложилось представление об Арктике как важном с экономической, стратегической и геополитической точки зрения регионе. Руководство страны понимает,
что за Арктику ведётся активная борьба и России необходимо принимать меры
по защите своих национально-государственных интересов.
Россия имеет существенные и разнообразные национально-государственные
интересы в Арктическом регионе. Интересы России в Арктике имеют внутри- и
внешнеполитический аспект, они тесно взаимосвязаны и представляют собой
определённую систему. Так, добыча углеводородов на континентальном арктическом шельфе требует развитой морской транспортной инфраструктуры, в свою
очередь дальнейшее развитие Северного морского пути в большой степени связано с деятельностью нефтегазовых компаний. В свою очередь добыча ресурсов
и эксплуатация Северного морского пути должны соответствовать требованиям
по охране и защите окружающей среды, ибо в противном случае не только
ухудшится экология, но и усилится политическое давление на Россию со стороны других государств. Важно международное сотрудничество в природоохранной сфере, в области добычи ресурсов (заимствование Россией более современных и экологически чистых технологий), обеспечения безопасности морских перевозок и т. д. Определение российских арктических границ позволит окончательно установить, на какие объёмы ресурсов гарантированно может претендовать Россия, а также на какие территории простирается её суверенитет. Все вышеперечисленные интересы определяют военно-стратегическое значение Арктики для Росси и в той или иной степени выполняют задачу обеспечения внешней
и внутренней безопасности страны. Стоит также отметить, что национальногосударственные интересы России в Арктике направлены на обеспечение долгосрочных национальных интересов и стратегических национальных приоритетов,
326
утверждённых указом президента РФ «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» от 31 декабря 2015 года.
Литература
1. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу. URL: http://government.ru/info/18359/ (дата обращения:
31.01.2016).
2. Хейнинен Л., Сергунин А., Яровой Г. Политика России в Арктике: как избежать новой. М., 2014. URL: http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/arctic_rus.pdf (дата обращения: 01.02.2016).
3. Арктика в современной системе международных отношений и национальные интересы России // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 5 (26).
4. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Зачем России нужна Арктика? // Политэкс. 2011. № 2.
5. Павленко В.И. Арктическая зона Российской Федерации в системе обеспечения
национальных интересов страны // Арктика: экология и экономика. 2013. № 4 (12).
6. Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути. URL: http://www.rg.ru/2012/07/30/more-dok.html (дата обращения: 02.02.2016).
7. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Национальные интересы России в Арктике: мифы и
реальность // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 29.
8. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Арктика в международной политике: сотрудничество
или соперничество? М.: РИСИ, 2011.
9. Ковалев А.А. Международно-правовой режим Арктики и интересы России // Индекс
безопасности. 2009. № 3–4.
10. Арктика в современной системе международных отношений и национальные интересы России // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 5 (26).
11. Казаков М.А., Лысцев М.С. Национальные интересы России и Финляндии в Арктике: реальность перспектив сотрудничеств // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 3 (59).
12. Певень Л.В. Некоторые выводы из оценки геополитических и геостратегических
аспектов национальной безопасности Российской Федерации в ХХI в. // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2011. № 2.
13. Постановление об утверждении Положения о Государственной комиссии по вопросам развития Арктики // Правительство России. URL: http://government.ru/media/files/
Cozw5FAxCGc.pdf (дата обращения: 21.02.2016).
14. Рогозин рассказал о геополитических интересах России // Госкомиссия по развитию
Арктики. URL: http://arctic.gov.ru/News/305d434a-5b6d-e511-80bf-e14c6e493e30?nodeId=9ce9c
1ed-d94b-e511-825f-10604b797c23&page=1&pageSize=10 (дата обращения: 21.02.2016).
15. Кризисы приходят и уходят, а Арктика – вечна // Арктика-Инфо. URL: http://www.
arctic-info.ru/ExpertOpinion/26-11-2015/krizisi-prihodat-i-yhodat--a-arktika---vecna (дата обращения: 21.02.2016).
16. Дмитрий Рогозин: За Арктику разворачивается целая битва с серьезными игроками
// Фонд Горчакова. URL: http://gorchakovfund.ru/news/9655/ (дата обращения: 21.02.2016).
17. «Роснефть» в Арктике делает больше, чем все остальные компании // Российский
совет по международным делам. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6197#top-content
(дата обращения: 21.02.2016).
18. Идет борьба за доступ к российским арктическим ресурсам // Арктика-Инфо. URL:
http://www.arctic-info.ru/ExpertOpinion/18-02-2016/idet-bor_ba-za-dostyp-k-rossiiskimarkticeskim-resyrsam (дата обращения: 21.02.2016).
19. Закон о развитии Арктики станет надежным правовым фундаментом для реализации экономических интересов России // Арктика-Инфо. URL: http://www.arctic-info.ru/
ExpertOpinion/25-11-2015/zakon-o-razvitii-arktiki-stanet-nadejnim-pravovim-fyndamentom-dlarealizacii-ekonomiceskih-interesov-rossii (дата обращения: 21.02.2016).
327
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННЫХ РЕЙТИНГОВ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ:
НАУЧНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ1
Е.И. Смирнова
аспирант кафедры политологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
За последние десятилетия в связи с формированием конкурентной среды и
появлением на политической арене новых акторов все сильнее в научном и
практическом поле укореняются различные рейтинги. В свете их многочисленности и важности адекватных замеров – и их результатов – для широкого круга
субъектов (политики, общество, эксперты) изучение и анализ рейтинга представляется весьма полезным. Особую актуальность тема рейтингов обретает в
свете приближающихся выборов – уже осенью 2016-го года по итогам выборов
будет сформирована нижняя палата российского парламента – в седьмой раз
будет созвана Государственная Дума, а ряду регионов предстоит проголосовать
за депутатов представительных органов или выбрать руководителей области. В
связи с этим возможен повышенный интерес и спрос на формирование различных рейтингов со стороны кандидатов, а вместе с тем обостряется вопрос влиятельности тех или иных рейтингов на общественность, СМИ, органы власти,
федеральный центр. В то же время для экспертного сообщества интерес представляет методология рейтингов и их научность.
Прежде чем приступить к изучению рейтингов политиков и их методологий, с позиции их практического применения и роли в политическом процессе,
соответствия требованиям и критериям научности, остановимся на некоторых
теоретических положениях. В первую очередь, следует определиться с тем,
что мы будем в рамках настоящей статьи понимать под словом «рейтинг». Для
этого приведем некоторые существующие определения. Так, например, краткий
психологический словарь предлагает определять рейтинг как «субъективную
оценку какого-либо явления по заданной шкале, с помощью которой осуществляется первичная классификация социально-психологических объектов по степени выраженности общего для них свойства (экспертные оценки). В социальных науках рейтинг служит основой для построения многообразных шкал оценок, в частности при оценке различных сторон трудовой деятельности, популярности отдельных лиц, престижности профессий» [3]. Аналогичная трактовка
представлена и в «словаре практического психолога» [1]. Не противоречат таким определениям и те, что занесены в толковые словари иностранных слов
Л. Крысина [5] и Н. Комлева [6]. Звучат они следующим образом: «социальный
индивидуальный числовой показатель уровня оценок личности общественного
деятеля, его относительной популярности и репутации; выводится на основании социологических анкет и опросов». Во всех случаях отмечается оценочный
© Смирнова Е.И., 2016
328
характер рейтинга и наличия у всех, входящих в него объектов некоего одного
и того же признака, который выступает основанием для построения рейтинга.
Что касается именно политического рейтинга, то, как отмечают исследователи Владимир Добреньков и Альберт Кравченко, то идея его принадлежит
А. Брейну, «который установил, что помимо вполне осознанных политических
установок избирателей на рейтинг влияют объективные обстоятельства и даже
наше подсознание» [2, с. 516]. Здесь, вероятно, идет речь о том способе построения рейтинга, при котором участниками его становятся не эксперты, а обычные граждане, которые и выносят свою оценку тому или иному лидеру, что в
совокупности и определяет ранг политика – его место в рейтинге. Сам политический рейтинг исследователи определяют следующим образом: «конкурентная
оценка деятеля, партии или события, полученная путем опроса аудитории целевой группы, хорошо знакомой с тем или иным социально-политическим событием (политическим лидером, партией) в данный момент времени и выраженная в процентах либо в баллах» [2, с. 516–517].
Таким образом, рейтинг политика мы можем определить как упорядоченную и проранжированную совокупность объектов, расположенных на оценочной шкале в зависимости от наличия/степени выраженности определенного
признака. Признаком, служащим критерием и основанием для оценки политика
может выступать, например, степень доверия к нему со стороны электората,
или так называемая «политическая выживаемость», которую регулярно замеряет эксперты под эгидой фонда «Петербургская политика», возглавляемого Михаилом Виноградовым. Впрочем, к этому мы еще вернемся. Рейтинг политика –
это своего рода исследование, мониторинг политической ситуации на основе
устойчивого и неизменного (для одного рейтинга) списка критериев и показателей, которые должны быть четко определены и измеримы. Это могут быть
экономические показатели, весьма поддающиеся измерению и, значит, объективной оценке.
Структура любого рейтинга подразумевает наличие лидеров и аутсайдеров. Если речь идет о регулярном рейтинге (то есть замеры наличия и выраженности признака производятся через определенный временной промежуток),
то здесь можно проследить динамику и выделить тенденции – ведь возможна
смена объектом места в рейтинге на более высокую (/низкую) позицию.
Так произошло, например, с главой Тюменской области Владимиром Якушевым, который возглавил тринадцатый рейтинг эффективности губернаторов,
поднявшись сразу на две строчки. Эксперты рейтинга это объясняют значительным улучшением экономических показателей в регионе [10]. А сам факт
наглядно иллюстрирует отображение в рейтинге динамики развития политической и экономической ситуации.
Политический рейтинг представляет собой инструмент как политического анализа и мониторинга политической ситуации методом ранжирования тех
или иных субъектов (акторов, институтов, регионов), так и политического
управления – рейтинг может стать основой для принятия политического решения, корректировки политического курса, способом повлиять на общественное
мнение и отчасти сформировать нужную повестку в средствах массовой ин329
формации. Для аутсайдеров того или иного рейтинга низкие позиции по тем
или иным показателям – повод и стимул задуматься и провести работу над
ошибками. Что, впрочем, происходит довольно редко.
Можно выделить несколько функций рейтинга политика (партии).
1. Информационная. Рейтинг здесь можно рассматривать как результат
определенного исследования, мониторинга, а значит, как некую полученную
опытным путем информацию. Рейтинг сообщает нам о тех или иных политических субъектах, институтах, явлениях, раскрывает нам их значимые (в контексте построения рейтинга) характеристики и возникающие на этой основе взаимосвязи между рассматриваемыми субъектами.
2. Аналитическая. Построение рейтинга есть в этом смысле не что иное,
как попытка упорядочить информацию о политических субъектах и расположить их на определенной шкале, поместить в некую систему координат на основании соответствия каждого субъекта заданному/выбранному критерию
(комплексу критериев). В результате можно увидеть расстановку сил на политической арене (от местно-локального до глобального масштаба; на данный
момент или в динамике), определить вес интересующих нас политических игроков и место конкретного политика относительно конкурентов. Эта информация может быть полезной как во время предвыборной гонки, так и в межвыборный период. Таким образом, мы подошли к следующей функции рейтинга.
3. Практическая. Полученная субъектом политического управления в результате формирования рейтинга информация в той или иной степени может
оказать влияние на его политический курс, имиджевые решения, риторику,
стратегию взаимодействия с оппонентами и партнерами. Как отмечает в своей
статье «Политический рейтинг и социологический анализ массовых политических настроений» исследователь Д.Стрелков: «Политический рейтинг активно
используется как средство управления предвыборной ситуацией. Между политиками зачастую разворачивается настоящая война за рейтинг как прямое доказательство высокого политического авторитета. Для многочисленной группы
избирателей, которая не определилась со своим выбором или не твердо определилась, но идет на выборы, лидирующие позиции кандидата в рейтинге (рейтинге доверия, рейтинге оценки деятельности, рейтинге предвыборной борьбы)
зачастую является главным мотивом для его поддержки» [7, с. 223]. Таким образом, с помощью рейтинга можно привлечь на свою сторону от 7 до 25% активных, но неопределившихся избирателей, добавляет исследователь. Кроме
того, это следует из той же его статьи, рейтинг политика – показатель его политической дееспособности, наглядное отражение в цифрах (процентах или баллах) потенциала его к политическому успеху и победам.
4. Контролирующая. Причем речь здесь может идти как о контроле, к примеру, со стороны федерального центра, с помощью рейтингов пытающегося отследить положение дел и динамику развития в регионах по ключевым показателям, так и о самоконтроле политика, понимающего по изменениям своего
ранга в регулярных рейтингах о том, какие результаты приносит его деятельность и какие оценки со стороны общества и экспертов получает.
330
Возможно, конечно, также использование рейтинга и менее честными способами. «Широкое распространение получают процедуры фальсификации рейтинговых данных. Этот процесс развивается по нескольким направлениям. Вопервых, политики, претендующие на массовую общественно-политическую
поддержку, используя ресурсы СМИ, распространяют фальсифицированные
данные о своем высоком рейтинге, которые не опираются на данные социологических исследований» [7, с. 224]. Кроме того, добавляет исследователь
Д.Стрелков, политики, сами, зачастую являясь заказчиками того или иного исследования могут распространять отредактированные в свою пользу или неполные данные компетентных социологических групп. Вдобавок ко всему, появляется немало неопытных и некомпетентных исследовательских групп, результатом деятельности которых являются неадекватные рейтинговые данные
[7, с. 224]. Отдельный вопрос – качество формируемых рейтингов. В этой связи
мы решили обратиться к методикам построения современных рейтингов политиков и рассмотреть их с точки зрения соответствия стандартам и требованиям
научного знания. Иными словами: отражают ли рейтинги политиков их действительный политический авторитет и вес, а также реальное отношение к ним
объекта политического управления и шансы на занятие и удержание ключевых
властных должностей? Существует три основных критерия, позволяющих различать научное и ненаучное знание.
1. Принцип верификации, используемый в логике и методологии науки для
определения истинности знания путем его эмпирической проверки. Различают
прямую и косвенную верификацию. Прямая верификация – прямая проверку
утверждений, формулирующих данные наблюдения и эксперимента. Косвенная
верификация предполагает установление логических отношений между косвенно верифицируемыми утверждениями.
2. Принцип фальсификации. Фальсифицируемость (или опровержимость)
еще часто называют критерием Карла Поппера. Суть принципа в том, что научным может считаться только то знание, которое можно опровергнуть путем того или иного эксперимента. Другими словами, утверждение, например, что мир
создал Бог – не может считаться научным, поскольку нет методологической
возможности его подтвердить либо опровергнуть.
3. Принцип рациональности. В рамках рационального стиля мышления
научное знание характеризуют следующие методологические критерии: универсальность, то есть исключение любой конкретики – места, времени, субъекта; непротиворечивость; объяснительный и прогностический потенциал [6].
Рассмотрим теперь некоторые рейтинги, создаваемые современными исследовательскими группами, для того, чтобы оценить их методологию и степень соответствия критериям научного знания.
Рейтинг эффективности губернаторов, разрабатываемый Фондом развития
гражданского общества. Рейтинг обновляется регулярно и является «интегральным исследованием, включающим пять тематических модулей. [9]. Первый – базовый модуль – основан на исследованиях Фонда «Общественное мнение» «Георейтинг» и экспертной оценке. Второй модуль состоит из данных о
соотношении доходов и расходов населения региона. Данные берутся из докла331
да «Социально-экономическое положение России» Федеральной службы государственной статистики РФ. Третий модуль основан на анализе показателей
социального самочувствия регионов России. Четвертый модуль содержит оценку экономического положения регионов, которая частично складывается из
данных «Георейтинга» и результатов опроса. Наконец, пятый модуль оценивает широкий спектр качественных и количественных показателей сообщений в
СМИ о деятельности главы конкретного региона. Данные берутся из Индекса
медиа-эффективности глав регионов Национальной службы мониторинга [9].
Итак, сопоставляем с критериями научности. Рейтинг в целом скорее соответствует принципу верифицируемости – ведь он построен на статистических данных и социологических методах исследования (опрос, метод экспертных оценок с последующей конвертацией ответов респондентов в баллы, количество
которых и является основой для получения политиком того или иного места в
рейтинге). Опровержимы ли данные рейтинга? Мы склонны считать, что нет.
Если проделать все заявленные и описанные в методике построения рейтинга
процедуры, то можно получить – чисто теоретически – либо точно такой же
рейтинг (все позиции будут совпадать) либо отличный по ряду позиций, что и
происходит: рейтинги, как правило, имеют периодичный характер, а политики
от выпуска к выпуску могут «перемещаться» по оценочной шкале. И это абсолютно нормально, так как политика сама по себе сфера динамичная и подвержена каким-либо изменениям. В этом смысле можно ли считать получение нового рейтинга – опровержением предыдущего, при условии, что замеры актуальны для определенного периода? Нет. Следующий критерий – рациональность. Этот принцип требует, чтобы научное знание было объективным, независящим от субъекта исследования, непротиворечивым, обладать объяснительным и прогностическим потенциалом. Тут принцип соблюден, на наш взгляд,
лишь наполовину. Построенный с использованием адекватного научного инструментария рейтинг, точнее, серия рейтингов, построенных через определенные интервалы времени вполне могут отражать некие тенденции в развитии региональных элит (если мы говорим о рейтинге губернаторов, к примеру). И
может являться основой для прогноза или, во всяком случае, помочь в разработке нескольких сценариев. С объяснительным потенциалом дело обстоит несколько сложнее – сам по себе рейтинг (как эффективности губернаторов, так и
многие другие) ничего не объясняет, и даже не имеет такой цели. По сути, рейтинг это просто констатация того или иного положения вещей в рамках выбранного критерия. И это применимо, на наш взгляд, ко многим рейтингам, не
только к рейтингу эффективности губернаторов.
Зависит ли рейтинг эффективности губернаторов от субъекта, выстраивающего рейтинг? На наш взгляд, да. Другая исследовательская группа может
дать свое определение «эффективности» (тут можно отметить, что авторы данного рейтинга своего определения не приводят, а между тем, единого понимания этого термина нет и возможны разночтения), задать свои критерии и разработать свой опросник, предлагаемый населению регионов.
Качество инструментария построения рассматриваемого рейтинга вызывает отдельные сомнения. Вот какие вопросы респондентам (жителям регионов)
332
предлагаются в рамках первого модуля: «Если говорить в целом, Вы довольны
или недовольны положением дел в нашей области (крае, республике, для Москвы и Санкт-Петербурга – городе)?», «Как Вам кажется, в целом ситуация в
нашей области (крае, республике, для Москвы и Санкт-Петербурга – городе)
сейчас улучшается, ухудшается или практически не меняется?», «Как Вы полагаете, нашей области (краю, республике, для Москвы и Санкт-Петербурга – городу) нужен новый глава или будет лучше, чтобы главой оставался нынешний
руководитель?» и «Как Вы считаете, руководитель нашей области (края, республики, для Москвы и Санкт-Петербурга – города) работает на посту главы
региона хорошо или плохо?». При всем уважении к авторам исследования, выше перечисленный опросник, на наш взгляд, не лишен существенных недостатков. Как логично было бы предположить, эти недостатки не могут не сказаться
на качестве и результате исследования в целом. Основной минус – оперирование неконкретными, размытыми и ненаучными понятиями «хорошо», «плохо»,
«улучшается», «ухудшается». И это делает ответы респондентов изначально
неравнозначными. Вопрос «Что такое хорошо, а что такое плохо?» – относится
к разряду не столько научных, а скорее философских и риторических. И каждый на него отвечает по-своему. И тем более едва ли такое комплексное и разностороннее явление как деятельность губернатора может быть однозначно
охарактеризовано одним словом «хорошо» или «плохо». Это же замечание актуально для состояния региональной экономики, которое уже в одном из следующих модулей респондентам также предлагается оценить как «хорошее»,
«среднее» или «плохое».
Этому же фонду принадлежит рейтинг «100 ведущих политиков России».
Он строится целиком на экспертных оценках, которые в итоге конвертируются
в баллы и определяют место политика в рейтинге. Двадцати шести экспертам –
политологам, политтехнологам, медиаэкспертам и представителям партий –
был задан вопрос: «Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ следующих российских политиков?» [8]. Пожалуй, первое, что бросается в глаза при
изучении уже данного рейтинга – то, что в сотне политиков значатся продюсер,
генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и Патриарх Всея
Руси Кирилл. С одной стороны, нельзя отрицать тесной взаимосвязи СМИ и
политики, а также РПЦ и государства. Но едва ли корректно даже в этом свете
помещать продюсера и духовное лицо в рейтинг политиков (ни общественных
деятелей, ни религиозных деятелей, ни просто авторитетных известных личностей, а именно политиков) и сравнивать их влияние с влиянием тех, кто занимает властные должности и для кого политика – основная сфера приложения сил.
И это противоречие не позволяет нам говорить о полном соответствии рейтинга
принципу рациональности.
Что касается критериев научности – нам рейтинг представляется не верифицируемым. Проверить эмпирически наличие прямой взаимосвязи между деятельностью какого-либо политика и решениями Правительства или администрации Президента и утверждать наверняка о наличии либо отсутствии такой
взаимосвязи – едва ли представляется возможным. По той же причине рейтинг
333
нельзя назвать фальсифицируемым: нет практической возможности опровергнуть рейтинг либо оспорить отельные его позиции. Еще один известный регулярный рейтинг – рейтинг политической выживаемости губернаторов, составляемый аналитиками фонда «Петербургская политика» [8]. Выживаемость,
надо понимать, означает степень вероятности сохранения за главой региона его
должности. Эксперты анализируют сильные и слабые стороны российских губернаторов с этой точки зрения: какие условия потенциально способствуют сохранению губернатором позиций, а какие, напротив, могут помешать. Сразу
оговоримся, что анализ рейтинга несколько затруднен тем, что публикация результатов не сопровождается (в отличии, например, от рейтинга эффективности) развернутой и подробной пояснительной запиской, где была бы представлена методология его построения. Соответственно, при рассмотрении данного
рейтинга мы вынуждены опираться на весьма скромные данные, представленные в открытом доступе. Итак, рейтинг политической выживаемости строится
на основе групповой экспертной оценки. Семнадцати экспертам предлагается
по пятибалльной шкале оценить руководителей всех субъектов Российской Федерации на предмет выживаемости и составить прогноз, кто из глав регионов в
ближайшее время сохранит или оставит свой пост. В числе критериев, влияющих на оценку – замешанность губернатора в коррупционных скандалах, срок
окончания полномочий, участие в губернаторских выборах и поддержка федерального центра. И вот если первые три показателя представляются измеримыми, то последний критерий вызывает закономерный вопрос: каким способом и
в каких единицах измерить лояльность федерального центра и способность губернатора повлиять на него? Существует ли у составителей рейтинга четкое
мнение на этот счет, оговоренное перед началом работы? Или, в рамках подготовки рейтинга имел место еще один опрос – уже среди представителей, к примеру, администрации Президента или членов Правительства? Об этом в описании рейтинга умалчивается. Между тем нельзя обойти вниманием и сам список
экспертов. Как известно, для отбора экспертов в любом исследовании существует три критерия: компетенция эксперта (наличие высшего образования или
ученой степени в интересующей нас сфере), его вовлеченность в интересующую нас среду, погруженность в проблематику и, наконец, непредвзятость. И
если первому критерию, эксперты, работающие над рейтингом выживаемости,
в целом соответствуют (почти все они – политологи), то со вторым критерием
не все так просто. Одиннадцать из семнадцати экспертов живут и работают в
столице. Возникает вопрос, насколько компетентны данные эксперты именно в
оценке региональных политиков и что позволяет им делать те или иные выводы, не будучи вовлеченными в непосредственное взаимодействие с оцениваемым объектом. И можно ли доверять рейтингу, построенному без опоры на
экспертов в регионах, которых у фонда попросту нет? Рейтинг, на наш взгляд,
может быть назван верифицируемым и фальсифицируемым. Есть четкий критерий, позволяющий опытным путем проверить, насколько верными оказались
оценки экспертов – собственно, выборы: будет ли повторно избран губернатор,
получивший пять баллов из пяти, и потеряет ли по каким-либо причинам свою
должность глава региона, оцененный экспертами на два балла.
334
Таким образом, даже на примере трех рассмотренных выше рейтингов политиков, мы можем сделать вывод, что все они не лишены методологических
недочетов (как, увы, и многие другие исследования) и даже промахов. Однако
вопрос методологии – вопрос в большей степени интересующий научное сообщество.Что же касается реальной политики, то здесь даже не вполне соответствующий тем или иным научным или методологическим критериям рейтинг
не теряет своей значимости. И даже более того – продолжает оставаться инструментом влияния и даже манипуляции. Так, например, рейтинг Фонда развития гражданского общества при всех отмеченных выше недостатках, имеет
немалый вес на федеральном уровне власти. Это, пожалуй, единственный рейтинг, на который обращает внимание федеральный центр и отталкиваясь от заключений которого принимает решения относительно того или иного региона.
Не стоит забывать и о влиянии на СМИ и общественное мнение. Появление нового рейтинга (нового выпуска рейтинга) и занятие политиком в этом рейтинге
определенного места – это информационный повод для прессы. И не секрет,
что существуют различные варианты освещения темы: от нейтрального упоминания «Вышел новый рейтинг эффективности губернаторов» до ангажированной подачи в пользу того или иного политика «N вошел в ТОП-10 (20, 30, 50 – в
зависимости от реально занимаемой строчки, куда важнее то, насколько выигрышно звучит новость о попадании в ТОП) самых влиятельных/цитируемых/открытых политиков в федеральном округе». Такое тиражирование результатов
даже методологически несовершенного и в чем-то ошибочного рейтинга, в
формате сообщения о некой победе политика формирует вокруг его имени позитивную повестку, сказывается имиджевым плюсом. К слову, при этом не безвыходно и положение аутсайдеров. Низкие позиции в том или ином рейтинге
означает проседание по ряду заданных показателей, список которых не может
видоизменяться от рейтинга к рейтингу. Что порой значительно затрудняет резкий «взлет» аутсайдеров и перемещение их на лидерские позиции. Соответственно, в целях защиты субъект может сформировать собственный рейтинг, но
на основе показателей, которые бы отражали его успехи и преимущества. Таким образом, резюмируя и подводя итог вышесказанному, можно отметить следующее.
Рейтинг политического субъекта – важный и значимый инструмент, способ
оценки. Он представляет собой упорядоченную информацию о политических
акторах, их характеристиках и соотношении сил, на основании которой можно
контролировать политический процесс, корректировать его и делать определенные прогнозы. Очевидно, что в качественно построенных рейтингах заинтересованы все: от рядовых граждан до действующих политиков, органов власти
и ученых. При этом для экспертного сообщества на передний план выходит
методология построения рейтинга и соответствие его критериям научности и
здесь стоит отметить, что многие современные рейтинги вовсе не идеальны.
Однако рейтинг политика, даже в силу тех или иных причин выстроенный не
вполне корректно с точки зрения методологии и научности все равно остается
значимым инструментом политического управления и манипуляции. Так,
например, рейтинг эффективности губернаторов, не лишенный методологиче335
ских недостатков является самым влиятельным и используется федеральным
центром для принятия значимых решений. Политические субъекты (акторы,
институты, регионы) заинтересованы в рейтинге, который бы нес информацию
об конкурентных преимуществах (отсюда – создание заказных рейтингов, основанных на нужных и выгодных показателях) и при правильной подаче и
транслировании в СМИ способствовал формированию положительного имиджа
и наработке политического капитала.
Литература
1. Головин С. Ю. Словарь практического психолога. М.: АСТ, Харвест. 1998. URL:
http://psychology.academic.ru/2124 (дата обращения: 02.04.2016).
2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. М., 2004.
768 с.
3. Карпенко Л.А., Петровский А.В., М. Г. Ярошевский М.Г., Краткий психологический
словарь. 1998. URL: http://psychology.academic.ru/2124 (дата обращения: 30.03.2016).
4. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. М.: Изд-во Московского университета,
1995. 141 с.
5. Кириенко Н.Н., Концепции современного естествознания. Красноярск: Центр дистанционного обучения КрасГАУ, 2004. URL: http://www.kgau.ru/distance/00_cdo_old/
demo_res/kse/01_02.html (дата обращения: 03.04.2016).
6. Крысин Л.П. Толковый словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1998. URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/31607 (дата обращения: 03.04.2016).
7. Стрелков Д.Г. Политический рейтинг и социологический анализ массовых политических настроений // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Серия: социальные науки. 2002. № 1(2)/28. С. 223–233.
8. Фонд «Петербургская политика»: Официальный сайт. URL: http://fpp.spb.ru/rate12.
php (дата обращения: 01.04.2016).
9. Фонд развития гражданского общества: официальный сайт. URL: http://civilfund.
ru/mat/93 (дата обращения: 03.04.2016).
10. Правильно реагируют на форс-мажоры. ФоРГО объяснил рокировки уральских губернаторов в рейтинге. URL: http://uralpolit.ru/news/urfo/23-03-2016/74044 (дата обращения:
01.04.2016).
336
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ
(НА ПРИМЕРАХ УЗБЕКИСТАНА И ЛАТВИИ)1
Р.Ф. Фатихов
аспирант кафедры политологии
Башкирского государственного университета (Уфа)
Проблема становления гражданского общества и его политическое выражение через категорию «правовое государство» издавна занимала политологов,
философов, юристов и социологов. Актуальность данной темы в том, что развитое гражданское общество выступает исторической предпосылкой становления правового государства, которое, в свою очередь выступает современной
основой для формирования, развития и функционирования демократического
государства [1, c. 4].
Власть, государство и общество – структуры, которые существуют, взаимодействуя, а также воздействуя друг на друга. Взаимодействие их проявляется
в том, что государство, а, следовательно, и государственная власть (как легитимная форма власти), появилось именно с оформлением, развитием и усложнением общественных отношений [2, c. 21].
Политико-правовым выражением гражданского общества выступает правовое государство. Правовое государство – форма организации политической
власти в стране, основанная на верховенстве законности, прав и свобод человека и гражданина [3, c. 67].
Рассмотрим, как формировалось правовое государство, и имел ли данный
процесс позитивные результаты на постсоветском пространстве. Особый интерес представляет сложившая специфика этого процесса в странах Азии и Прибалтики, на примерах Узбекистана и Латвии. Такой выбор для изучения процессов политического развития правового государства не случаен и обусловлен
следующими факторами:
1. Начавшиеся перестроечные процессы в СССР стали катализатором для
проявления политических амбиций о национальном суверенитете и потребностях в демократических правах и свободах. В 1988 году в столицах Прибалтийских республик стали возникать первые перестроечные движения, переходящие
в массовые антисоветские выступления. Латвийская Республика, а именно политические настроения зарождающегося гражданского общества и воля политических элит выступали той политической силой, которая изнутри страны
требовала политических трансформаций государственного устройства страны.
2. В азиатском пуле социалистических стран такие политические тенденции не приобретали столь массовый характер (возможно ввиду традиционных
особенностей терпимости и толерантности), хотя общий уровень недовольства
так же наблюдался. Именно августовский путч в 1991 году становится тем фак© Фатихов Р.Ф., 2016
337
тором, который способствовал идеям национального суверенитета в азиатских
странах СССР.В этой связи высший эшелон руководства Узбекистана был вынужден адаптироваться к сложившейся политической ситуации в СССР и, учитывая дезинтеграционные тенденции, заявить о своем государственном суверенитете.
После обретения независимости в 1991 году в Узбекистане были начаты
масштабные преобразования, главной целью которых являлось построение демократического правового государства с социально ориентированной рыночной экономикой и формирование сильного гражданского общества, – такова
официальная позиция руководства страны.
При этом страна избрала собственную «узбекскую модель» развития, основанную на реализации политических, экономических и социальных реформ,
базирующихся на таких принципах, как:
– деидеологизация экономики и ее приоритет над политикой,
– возложение на государство роли главного реформатора,
– обеспечение верховенства закона,
– осуществление сильной социальной политики,
– поэтапность и постепенность проводимых реформ, т.е. отказ от различных моделей шоковой терапии.
В целом, если провести ретроспективный анализ, то пройденный Узбекистаном путь по формированию институтов гражданского общества, по сути, содержанию и значимости необходимо разделить на следующие три этапа:
1) Этап первоочередных реформ с 1991 по 2000 годы – этап преобразований переходного периода и формирования законодательных основ создания и
функционирования различных институтов правового государства и гражданского общества. В первую очередь, это принятие в 1992 году основного закона
Узбекистана – Конституции, в которой высшей ценностью были провозглашены человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые
права.
Конституция закрепила права граждан объединяться в профессиональные
союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать
в массовых движениях. Вместе с этим, статья 58 Конституции Республики Узбекистан гласит о том, что «Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, создает им равные правовые
возможности для участия в общественной жизни». Конституция также закрепила свободу средств массовой информации и запрет цензуры.
В этот период также принят ряд законодательных актов, регулирующих
порядок создания и функционирования общественных объединений, органов
самоуправления граждан, некоммерческих общественных организаций, политических партий и СМИ.В частности, это законы «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан» (1991 г.), «О профессиональных союзах, правах
и гарантиях их деятельности» (1992 г.), «О политических партиях» (1996 г.), «О
средствах массовой информации» (1997 г.), «О защите профессиональной деятельности журналиста» (1997 г.), «О гарантиях и свободе доступа к информации» (1997 г.), «О негосударственных некоммерческих организациях» (1999 г.).
338
Так 1 января 1991 года в Узбекистане было зарегистрировано 291 средств массовой информации, в то время как на 1 января 2000 года их число достигло 562
единиц. При этом доля негосударственных СМИ в общем объеме на тот период
достигла 23 % [4 c. 6]. На 1 января 2000 года в независимом Узбекистане действовало уже четыре официально зарегистрированных политических партий,
представители которых по итогам всенародных выборов были представлены в
национальном парламенте.
Специально принятым законом «Об органах самоуправления граждан»
(1993 г.) была подержана деятельность махалли как эффективного, пользующегося всемерной поддержкой народа органа самоуправления, способного решать
жизненно важные, насущные проблемы людей.
2) Очередной этап с 2000 по 2010 годы – характеризуется процессами активного демократического обновления и модернизации страны, обеспечения
независимого функционирования институтов гражданского общества. Основной задачей этого этапа реформ является последовательный и поэтапный переход от сильного государства, которое было объективно необходимо в условиях
переходного периода и становления национальной государственности, к правовому государству. В частности, в течение указанного периода был принят ряд
нормативно-правовых актов и реализованы общественные инициативы,
направленные на дальнейшее развитие институтов правового государства и
гражданского общества.
Очередным шагом в реализации государственной политики в области развития институтов правового государства стало принятие в 2008 году постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О мерах по усилению поддержки ННО, и других институтов гражданского общества». Следует отметить, что
в течение 2008–2013 годов из Государственного бюджета для реализации различных социально-значимых проектов ННО и других институтов гражданского
общества Общественному фонду выделены средства в размере около 10 млн.
долл. США.
В результате принятых мер в 2005 году в Узбекистане создана и до сегодняшнего дня успешно осуществляют свою деятельность Национальная ассоциация ННО Узбекистана, членами которой являются более 400 общественных
организаций страны. На сегодняшний день ассоциацией создана эффективная
система организационной, финансовой и материальной поддержки своих членов, проводится работа по консолидации усилий ННО в реализации социально
значимых проектов и программ.
3) Период с 2011 по настоящее время характеризуется развитием институтов гражданского общества на фоне реализации системных мер в рамках Концепции дальнейшего развития институтов правового государства и формирования гражданского общества в стране. Концепции, которая в ноябре 2010 года
была выдвинута Президентом Узбекистана И.А. Каримовым на совместном заседании палат национального парламента, с целью определения важнейших
приоритетов дальнейшего развития страны,положила начало новым преобразованиям, в том числе обеспечивающих расширение участия институтов гражданского общества в государственном и общественном строительстве [4, c. 17].
339
На сегодняшний день проделанная работа по дальнейшему развитию и укреплению институтов правового государства и гражданского общества характеризуется следующим:
1. В новой редакции приняты парламентом и подписаны Президентом
страны два Закона – «Об органах самоуправления граждан» и «О выборах
председателя схода граждан и его советников». Первый закон направлен на совершенствование организационных основ функционирования института самоуправления граждан – махалли, превращение ее в центр адресной социальной
поддержки населения, а также расширение функций махалли в системе общественного контроля деятельности государственных органов управления. Закон
«О выборах председателя схода граждан и его советников» нацелен на дальнейшее совершенствование системы выборов в органах самоуправления граждан, обеспечение избрания председателями и их советниками самых достойных, имеющих большой жизненный опыт и пользующихся уважением и доверием населения людей, повышение прозрачности в реализации права граждан
избирать и быть избранным в органы самоуправления граждан.
2. Принят и вступил в силу Закон «Об экологическом контроле», который
направлен на укрепление роли органов самоуправления граждан, ННО и других
общественных организаций в осуществлении экологического контроля, обеспечении соблюдения прав человека на доступ к экологической информации, решении важнейших государственных программ в сфере охраны окружающей
среды и здравоохранения.
3. В апреле 2014 года вступил в силу Закон «Об открытости деятельности
органов государственной власти и управления», предусматривающий организационно-правовые механизмы реализации конституционных прав граждан на
информацию, процедуры информирования общественности о деятельности органов государственной власти и управления, принимаемых ими решениях.
4. В сентябре 2014 года принят и вступил в силу Закон «О социальном
партнерстве», направленный на совершенствование организационно-правовых
механизмов взаимодействия ННО с государственными структурами в реализации программ социально-экономического развития, решение гуманитарных
проблем, защиту прав, свобод и интересов различных слоев населения страны.
5. Также разработан и находится на стадии обсуждения проект Закона «Об
общественном контроле в Республике Узбекистан», предусматривающий создание правового механизма осуществления со стороны общества, гражданских
институтов контроля исполнения актов законодательства государственными
органами, то есть обеспечение эффективной обратной связи общества с государством.
6. Ведется разработка Национальной программы действий в области прав
человека, предусматривающей меры по осуществлению общественного мониторинга за соблюдением законов, прежде всего правоохранительными и контролирующими органами, в сфере обеспечения защиты прав и свобод человека,
формирования культуры прав человека в обществе [5, c. 54].
Отдельного внимания требует вопрос политического становления правового государства в Латвийской Республике.
340
После принятия Верховным Советом Латвийской Республики 15 октября
1991 года постановления «О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации» почти треть населения страны была
лишена права автоматически получить латвийское гражданство. Латвийское
государство в вопросах идеологии и национальной политики оказалось отброшено от демократии к тоталитаризму.
Как уже отмечалось, политические и правовые последствия этого постановления для национальных меньшинств уместно сравнивать с политическими
и правовыми последствиями государственного переворота 15 мая 1934 года.
Оба этих события создали условия для ликвидации или блокирования возможностей демократического решения вопросов, связанных с соблюдением прав
национальных меньшинств и в первую очередь с сохранением и развитием языка и культуры русской лингвистической общины Латвии.
Другими словами, Верховный Совет ЛР, претворяя в жизнь правовую концепцию, заложенную в тексте Декларации о восстановлении независимости от
4 мая 1990 года, совершил 15 октября 1991 года антидемократический и антиконституционный переворот, после которого формирование в Латвии демократического политического режима, правового государства и полноценного гражданского общества оказалось невозможным. В Латвии сформировался этнократический политический режим.
Формирование такого режима предопределило стагнацию экономики и
производства, что в итоге отразилось на суверенитете страны во многих сферах
деятельности. Кроме того, формирование этнократического политического режима предопределило взлет русофобии и ксенофобии, создало условия для возрождения нацизма и фашизма. Наконец, формирование подобного режима создало условия для усиления праворадикальных политических сил в Прибалтике, Европе и мире, а также повлияло на степень доверия населения страны к политическим партиям, парламенту и кабинету министров, то есть на их легитимность [6].
Как отмечает известный российский социолог С.Г. Кара-Мурза: этнократия не только осуществляет демонтаж народа на отдельные его этнические составляющие, но и противопоставляет их друг другу. Этнократия разрывает
«множество связей, скреплявших межэтническое общежитие, культурные и хозяйственные отношения между народами, саму систему информационных каналов, соединявших этносы в нацию» [5, c. 29].
9 декабря 2012 года, накануне Международного дня защиты прав человека,
ежегодно отмечаемого по всему миру 10 декабря, в Риге состоялся круглый
стол на тему «Права соотечественников в странах Балтии. Опыт защиты на
международном уровне». По мнению Центра информации по правам человека
(Эстония) правозащитная ситуация не только в республиках Прибалтики, но и в
целом в Европе год от года становится все хуже. И решение очень и очень многих проблем зависит сегодня не от суда, а от того, что думает по этому поводу
правящая политическая партия. Об этом же говорил Борис Цилевич, заместитель председателя парламентской комиссии по правам человека. По его мнению, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) становится в последнее вре341
мя все более и более зависимым от политической ориентации его членов и, соответственно, все больше его решений начинает нести на себе печать политического давления со стороны той или иной страны. Самый яркий пример такого
политически мотивированного решения ЕСПЧ – вердикт по делу ветерана Великой Отечественной войны В. М. Кононова, которого латвийская Фемида признала виновным в преступлениях против человечности, а ЕСПЧ 17 мая 2010 года с этим решением согласился.
По мнению Л. Семеновой источник правозащитных проблем лежит именно в сфере политической жизни. Не меняя ее направленность, улучшить ситуацию в правозащитной сфере невозможно. Как отмечает генеральный секретарь
международной правозащитной организации «Amnesty International» Айрин
Кан, «приверженность ЕС соблюдению прав человека по-прежнему вызывает
двоякие чувства [6].
После того, как Латвия, Литва и Эстония стали полноправными членами
Европейского союза, правящие элиты этих государств стали заявлять о том, что
национальное законодательство в них полностью отвечает принятым в Европе
стандартам демократии, одновременно игнорируя любые рекомендации учитывать интересы национальных меньшинств.
Сегодня латвийское государство является в известном смысле уникальным. В политическом и военном отношении оно контролируется США. Соответственно, правящие политические элиты Латвии обеспечивает защиту интересов США, а не народа Латвии. Одновременно, если говорить о финансовой
независимости, то Латвия в значительной мере находится на содержании Евросоюза. И в то же время продолжает оставаться в сфере информационного и
культурного влияния России.
В свете сказанного первоочередной и самой главной задачей для национальных меньшинств и представляющих их интересы партий демократической
оппозиции уже давно, с 1991 года, является возврат к всеобщим выборам в
Сейм и местные органы власти. Как первый шаг на пути к возврату к всеобщим
выборам, общественные организации национальных меньшинств и партии демократической оппозиции Латвии, безусловно, должны поддерживать требование о предоставлении негражданам права участвовать в местных выборах. Участие неграждан в местных выборах радикально изменит политическую ситуацию в стране – правящая элита вновь должна будет считаться с мнением нелатышского населения. Но одновременно организации национальных меньшинств и партии демократической оппозиции должны осознавать, что участие
неграждан в выборах местных органов власти не гарантирует соблюдения их
прав в сфере языка и образования, а также других прав. Причины этого следующие.
1. Основные вопросы русской общины – язык, образование, гражданство –
это вопросы, которые рассматривает и решает Сейм, а не местные органы власти.
2. Предоставление негражданам права участвовать в муниципальных выборах, по логике Европы, не должно снять сразу все ограничения для неграждан на местном уровне, поскольку речь идет о наделении неграждан лишь ак342
тивным, а не одновременно активным и пассивным избирательным правом, то
есть неграждане должны выбирать, но не могут быть избранными. Следствием
этого является то, что кандидатами в депутаты могут выступать, как правило,
лишь уже хорошо известные всем лица, новых лиц будет очень мало, и поэтому
ситуация во властных структурах не может измениться радикально, а если и
изменится, то незначительно. Пример участия неграждан Эстонии в муниципальных выборах и одновременно сохранение правящей элитой Эстонии политического курса на ликвидацию русской школы, а также курса на пересмотр
политических и территориальных итогов Второй мировой войны это наглядно
подтверждает.
3. Власть всегда может распустить особо строптивый местный совет и
назначить управление сверху, как это было сделано с Даугавпилсским советом
в 1991–1994 годах [7, c. 54].
В заключение сделаем следующие выводы.
Ставя в качестве цели формирование правового государства, понимаем такоегосударственно-политическое устройство, где верховенствует закон, обеспечивается защита прав, интересов и свобод человека, созданы благоприятные
условия для развития и самореализации личности; в котором функционируют
самостоятельные и устойчивые институты, пользующиеся поддержкой широких слоев населения.
Формирование институтов правового государства– это долгий непрерывный процесс, сопряженный с определенными проблемами и трудностями. Процесс, успех которого зависит как от факторов институционального характера
(политики государства относительно институтов гражданского общества, качественных показателей их деятельности), так и от факторов, связанных с уровнем развития политико-правовой культуры граждан, их вовлеченности в общественную работу, деятельности гражданских институтов.
Приоритетные направления становления и развития правового государства
во всех рассмотренных государствах следующие:
1. В законодательной ветви власти необходим переход от представительной к прямой демократии. Численность законодательной ветви власти в результате должна существенно превзойти численность исполнительной власти, а все
права по принятию любых нормативных актов, вплоть до ведомственных регламентов и выборов поставщиков продукции для государственных нужд, перейти к законодательной власти.
2. Возникает необходимость партий нового типа, отвечающих за принимаемые по их инициативе решения имуществом всех членов партии и имеющих
право на получение бюджетного профицита в случае, если экономический рост,
качество жизни или иной другой целевой показатель политической деятельности превысил плановый.
3. Практическая реализация на государственном уровне суверенитета всех
ветвей власти. Усиление надзорной функции институтов политической системыза действиями и бездействием органов власти.
343
Литература
1. Козлихин И.В. Право и политика. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 193 с.
2. Раянов Ф.М. Введение в правовое государство. Уфа: Гилем, 1994. 120 с.
3. Нерсесянц В.С. История идей правовой государственности. М.: Инфра-М, 1996.
728 с.
4. Гончарова С.Г. Правовая защита человека как социальный инструмент становления и
развития правового государства // Государственная власть и местное самоуправление. 2011.
№ 8.
5. Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. Часть вторая: Курс лекций. М.: Научный эксперт, 2012. – 464 с.
6. Айрин Кан. Дело не только в экономике – это кризис в области прав человека //
Amnesty International. URL: http://thereport.amnesty.org/ru/introduction (дата обращения:
25.03.2016).
7. Мартин Эхала, Анастасия Забродская. Этнолингвистическая витальность этнических
групп стран Балтии // Диаспоры. Независимый научный журнал. 2011. № 1.
344
ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
СУЩНОСТЬ, ТИПОЛОГИЯ1
А.В. Филатов
магистрант кафедры политологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Проблема изучения партийных систем имеет немаловажное научное и
практическое значение. Это определяется огромной ролью партий в функционировании и развитии политических систем, отдельных политических институтов во всей политической динамике на протяжении всего политического процесса. Партии, так или иначе, влияют на принятие решений, выявляя тем самым
свое место в политической жизни. Без учета партийной системы, ее характера,
деятельности правящих и оппозиционных партий невозможен полноценный
анализ политической жизни общества. Определенный тип партийной системы
структурирует и интегрирует интересы определенных социальных групп. Анализ характера партийной системы необходим для понимания жизни всего государства и общества. Достаточно иногда описать тип партийной системы того
или иного общества, и мы уже по этому признаку сможем многое сказать о его
структуре в целом, об избирательном законодательстве, о степени монополизации власти, о социальных и культурных традициях. В политических системах
развитых стран политические партии представляют собой один из основных
каналов вовлечения граждан в политическую деятельность. В ситуации часто
изменяющегося законодательства о политических партиях в современной России обращение к проблеме характера партийной системы является более чем
актуальным. На актуальность исследования Российской партийной системы так
же указывает рост числа политических партий в России и их активизации в связи с грядущими выборами в Государственную Думу.
Объектом данного исследования выступает партийная система Российской
Федерации.
Предметом будет являться типологическое определение партийной системы современной России, типологии партийных систем, а также критерии типологизации, что позволит выявить определенный тип партийной системы России. Таким образом, в статье предлагается рассмотреть партийную систему
Российской Федерации сквозь призму типологий партийных систем.
Целью данной статьи является определение типологической принадлежности партийной системы Российской Федерации.
Говоря о партийной системе Российской Федерации, в первую очередь
необходимо определиться с понятием «партийная система». В истории политической науки существует несколько подходов к определению понятия «партийная система». Понимая под партийной системой «контуры политического пространства, составленного из независимых элементов (партий) и определяемого
© Филатов А.В., 2016
345
их количеством, параметрами (численность избирателей, тип внутренней
структуры), а также коалиционными возможностями» в результате можно получить множественные вариации систем [14].
Существует два основных подхода к определению партийной системы. Вопервых, партийную систему определяют не только как взаимоотношения между
партиями, но и как отношения партий с государством и другими политическими институтами страны. К примеру, Л.Н. Алисова определяет партийную систему как политическую структуру, состоящую «из совокупности политических
партий разного типа с их стойкими связями и взаимоотношениями между собой, с государством и другими институтами власти, характером, условиями деятельности, взглядами на основные ценности политической культуры общества
и степенью согласованности этих взглядов в ходе реализации принятых ими
решений» [1, с. 191]. Соловьев А.И. дает еще одно определение подобного рода, согласно которому партийная система представляет собой совокупность
устойчивых связей и отношений партий различного типа друг с другом, а также
государством и иными институтами [11]. Суть второго подхода заключена в
том, что под партийной системой следует понимать взаимоотношения между
политическими партиями, не включая в понятие «партийная система» налаживание прочных связей между политическими партиями и иными властными и
общественными институтами. В каждой стране политические партии в течение
нескольких электоральных циклов, принимая общие правила игры, институционализируются, принимая институциональные формы, т.е. их размер, идеология, количество альянсов, типы оппозиции стабилизируются. Эта стабильная
совокупность политических партий и образует партийную систему. Сторонником данного подхода является М. Дюверже. Под партийной системой М.
Дюверже понимал все политические партии, которые на протяжении некоторого времени, либо на протяжении нескольких электоральных циклов принимали
участие в выборах [8, с. 187]. Итак, под партийной системой мы будем понимать не только количество партийных организаций, легально действующих в
стране, взаимодействующих друг с другом, электоратом и властными институтами, но и их возможности относительно участия в принятии политических решений. Их степень влияния на властные структуры.
С позиции данного подхода, если ставить вопрос о том, существует ли в
России партийная система, можно сказать, что в России существует определенная партийная система, так как действительно политические партии оформились как структуры, и неким образом как формально, так и неформально осуществляют взаимодействие друг с другом. Пусть и не всегда удачно.
В современной политологии существует множество подходов к типологиям партийных систем, в частности, Дж. Сартори рассматривал партийные системы с точки зрения их коалиционных возможностей. В типологии Сартори
одним из основных критериев типологизации служит качественный критерий,
т.е. возможность политических партий оказывать реальное влияние на принятие политических решений и на весь политический процесс в целом [8, с. 189].
Коалиционным потенциалом в системе обладает такая партия, без союза с которой правящая партия не сможет эффективно управлять. Шантажным потен346
циалом обладает такая партия, которая имеет достаточно влияния, чтобы блокировать эффективное управление страной. На основе данного критерия Дж.
Сартори выделял:
• однопартийная;
• система с партией-гегемоном;
• система с преобладающей партией;
• двухпартийная система;
• система умеренного плюрализма;
• система поляризованного плюрализма;
• атомизированная система.
Для того чтобы понять к какому типу следует относить Российскую партийную систему, нужно немного обратиться к истории.
Применение многочисленных привычных для западных демократии институциональных и политологических концепций сопровождается рядом неточностей и ошибок. Как показывает практика, развитие политических и партийных систем постсоветского пространства и Российской Федерации, в том
числе, институты, формально имеющие одно и то же название в разных странах, могут скрывать за собой совершенно различное содержание. Данные различия могут быть обусловлены различными культурными и историческими
условиями. Во многих странах постсоветского пространства существуют формально демократические институты, также закреплен принцип свободы объединений и союзов. Данный тезис хорошо проиллюстрировала Российская политическая действительность периода 2004–2011 годов. В ситуации, когда
формально на уровне конституции закреплён принцип на свободу объединений,
когда юридически существует многопартийность, реальная ситуация показывала невозможность регистрации и участия в выборах новых политических партий [9]. По сути, в данный период нормативно была закреплена существующая
партийная система без возможности изменения её формата [10, с. 324]. Соответственно, многопартийные выборы представляли собой ничто иное, как политическую декорацию. Подобная ситуация в силу определенных факторов, таких как авторитарный характер власти, отсутствие сильных политических партий, неразвитость и нестабильность партийной системы, стремление власти
консолидировать правящие элиты и т. д. породила такой феномен как «Партия
власти».
В настоящее время нет общепризнанного определения понятия «партия
власти», однако исследователи выделяют ряд признаков, по которым определяются «партии власти». Во-первых, аффилированность с властными структурами. Во-вторых, отражение интереса властвующей элиты. В-третьих, наличие
членов партии в бюрократическом аппарате. В-четвертых, создание «сверху»
властвующими элитами. В-пятых, отсутствие чёткой идеологии [5, с. 4–6].
Таким образом, партию власти можно определить как – созданная под патронажем правящей элиты партийная структура с целью реализации собственных интересов и отражения интересов власти в сфере публичной политики. Ряд
исследователей предприняли попытки объяснения феномена «партия власти»
через призму социально-культурных особенностей российского общества, а
347
также выявили ряд функций, которые осуществляет партия власти. Фурсов А.
И., используя концепцию Русской Власти, выделил 2 функции, которые выполняет партия власти. Первая – это регулирование отношений между элитными
группами. Вторая – воздействие на элиты и общество. И. Глебова, соединив исторический и субстанциональный подход, выделила функцию легитимации и
контроля за региональными элитами. Ещё ряд исследователей указывают на то,
что партия власти не является качественно новым явлением для России, она является лишь формой контроля государства за общественными процессами, соответствующая условиям демократической ситуации [6; 12].
Исходя из данных положений, предложенных отечественными исследователями, на первый взгляд, согласно типологии Сартори, партийную систему
России можно отнести к системе с преобладающей партией. Однако есть ряд
расхождений, который нельзя оставить без внимания. Система с преобладающей партией предполагает однополюсную концентрацию властных ресурсов у
одной партии, сосредоточившей в своем ведении контрольный пакет голосов.
Однако на этом сходство с системой партией-гегемоном исчерпывается. Водораздел между ними – кардинальная разница в подходах к правовой институционализации партий: в рамках системы с преобладающей партией имеет место
формально соблюдение равенства их статуса, а различие в их политическом весе обеспечивается за счет иных факторов (исторически сложившегося расклада
сил, устойчивой политической конъюнктуры). Дополнительными институциональными факторами, обеспечивающими устойчивость такой системы, являются наличие парламента с обширными полномочиями в сочетании с относительной молодостью института политических партий.
Из определения данного типа партийной системы вытекает первое противоречие, у российского парламента нет обширных полномочий, вся власть
сконцентрирована в руках правящей элиты, причем партийная принадлежность
не является показателем принадлежности к властной элите.
Следует также обратиться к мнению известного российского партолог
Владимира Гельмана, который, сравнивая системы с доминирующей партией,
говорит о том, что роль доминантной партии «Единая Россия» исполняет лишь
незначительно. По его словам возможность модернизации России с опорой на
доминирующую партию является несостоятельной. Это связано не только с
российским институциональным дизайном – в условиях сильной президентской
власти доминирующая партия неизбежно обречена на второстепенную роль, но
с институциональным наследием советского периода. В превращении «партии
власти» во влиятельный политический институт в России не заинтересован ни
административный аппарат, ни политическое руководство страны, которому
выгоднее поддержание нынешнего механизма взаимоотношений между государством и партией: аппарат управления в нем играет ведущую роль, а «партия
власти» выступает лишь ведомой. На практике «Единая Россия» не обладает
необходимой для проведения политического курса автономией, лишена сколько-нибудь содержательной идеологии (если под таковой не понимать поддержку статус-кво) и служит лишь электоральным и законодательным придатком
исполнительной власти [4]. Примечательно, например, что «Единая Россия» так
348
и не стала ключевым каналом рекрутирования в административную элиту: сегодня в ее состав попадают скорее по каналам патронажно-клиентельных связей, нежели по партийной линии [3, с. 135–152]. Поэтому, даже если предположить, что Кремль даст указания «Единой России» проводить курс модернизации через партийные структуры, окажется, что собственных рычагов влияния
как на общественность, так и на административный аппарат у «партии власти»
не существует. Реализация такого курса, скорее всего, обернулась бы очередной пропагандистской кампанией и политическим спектаклем, и не более того.
Таким образом, резюмируя все вышеперечисленные факты, можно сделать
следующие выводы. Во-первых, очевидным представляется тот факт, что Российская партийная система, несмотря на формализацию институтов и укоренение как формальных, так и неформальных практик, взаимодействия партийных
организаций друг с другом и с органами власти, показывает, что в России не
произошла в полной мере институционализация партийной системы, ввиду отсутствия значимой роли партии как институтов в политическом процессе. Следовательно, Российскую систему можно назвать многопартийной лишь формально, реально политические партии не имеют рычагов воздействия на административные (властные) институты.
Во-вторых, если рассматривать Российскую партийную систему с позиции
типологии Дж. Сартори, можно предположить, что в России система с доминирующей партией, однако, это не так, ввиду отсутствия сильного парламента и
сосредоточения власти в руках политической элиты. Партия власти, которую
можно определить как доминанту, на деле также не имеет рычагов влияния на
административные (государственные) структуры, а по сути лишь выступает инструментом выражения и легитимации политической воли правящей элиты, не
имея реальных возможностей.
Подытоживая, можно сказать, что исходя из общепринятых типологий, на
мой взгляд, не представляется возможным классифицировать партийную систему Российской Федерации. Получается, что в России партии существуют,
проводятся выборы в соответствии со всеми нормами права, однако, как институты партии не имеют никаких полномочий и возможностей оказывать реальное влияние на политический процесс. Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, говорить о том, что в России существует сложившаяся партийная
система, можно лишь с позиции формально юридического подхода.
Литература
1. Алисова Л.Н. Партийная система // Политическая энциклопедия в 2 т. Т. 2. Национальный общественно-научный фонд, 1999. 191 с.
2. Гельман В.Я. От «бесформенного плюрализма» к «доминирующей власти»? (Трансформация российской партийной системы) // Общественные науки и современность. 2006.
№ 1.
3. Гельман В.Я. Политические партии в России: от конкуренции к иерархии // ПОЛИС.
2008. № 5. С. 135–152.
4. Гельман В.Я. Тупик авторитарной модернизации. URL: http://polit.ru/article/2010/02/
23/gelman (дата обращения: 2.04.2013).
5. Голосов Г.В., Лихтенштейн А.В. «Партия власти» и российский институциональный
дизайн: теоретический анализ // ПОЛИС. 2001. № 1. С. 4–6.
349
6. Глебова И.И. Партия власти // ПОЛИС. 2004. № 2. С. 85–92.
7. Иванова О.В., Федотов А.С. «Партия власти» как выражение «Русской системы» в
современных условиях // Власть. 2006. № 12.
8. Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем. 2008. 464 с.
9. Конституция Российской Федерации 1993 г., с изменениями и дополнениями.
10. Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: Эволюция и деволюция. М.: Фонд «Либеральная миссия», Новое литературное издание, 2011. 792 с.
11. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2004.
12. Фурсов А. И. «Продукт смуты» // Приговоренные к власти. URL: http://www.
politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=67&tek=1584&issue=42
(дата
обращения:
1.04.2016).
13. Хенкин С. М. «Партия власти»: штрихи к портрету // Полития. 1997. № 1.
14. Шмачкова Т.В. Мир политических партий // ПОЛИС. 1992. № 1, 2.
350
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ СТРАН
КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА1
М.О. Хамов
магистрант кафедры политологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Каспийский вопрос является одним из наиболее важных геополитических
проблем на территории стран побережья Каспийского моря. Здесь сосредотачиваются интересы всех самых крупных стран мира. В бассейне Каспийского моря расположены крупные и важные месторождения нефти, проходят основные
нефте- и газопроводы, располагаются большие запасы рыбы.
Каспийский регион представляет собой узел, который порождает международные противоречия. Постепенно, данный регион превратился в важную
стратегическую зону мирового значения с перспективой изменения в очаг международной напряжённости. Вполне вероятно, что данная проблема может быть
связана со значительным запасом углеводородного сырья. Воздействие экономического фактора заставляет большинство стран мирового сообщества вступать в зону конфликта Каспийского региона, главной задачей которых выступает поиск доступа к наиболее перспективным энергетическим ресурсам.
В последние годы определение Каспийского региона получило широкое
распространение. Помимо всего прочего, существует достаточно большое количество исследователей, которые предпринимают попытку определить Каспийский регион с целью поиска ключевых критериев для установления границ
региона [1, с. 45]. Можно выделить несколько подходов к решению этой задачи. Согласно геополитическому подходу, данный регион является частью
евразийского пространства. Каспийское море разделяет его на западную часть,
примыкающую к морю, и восточную – прибрежный субрегион Центральной
Азии. В других источниках мы встречаем, что в Каспийский регион включают
западную часть Центральной Азии, Южную Россию, Северный и Центральный
Кавказ, а также Северный Иран. Например, если рассматривать данный регион
по критерию географический близости к Каспийскому морю, то сюда можно
будет отнести только близлежащие территории. Также многие исследователи
считают, что Каспийский регион может быть выделен на основе нефтяной геологии. Таким образом, Каспийский регион является не только геологическим
понятием, но еще и экономическим и геополитическим. В рамках следующего
подхода, исследователи относят к Каспийскому региону территории стран Кавказа и Центральной Азии или же более широкое геополитическое пространство,
связанное с линиями «востока-запада» и «севера-юга». Таким образом, мы можем сделать вывод, что перспективы установления основных вариантов границ
Каспийского региона, во многом, определяются экономическими или геополитическими соображениями. Как уже отмечалось выше, Каспийский регион
© Хамов М.О., 2016
351
представляет собой узел международных противоречий, поэтому он находится
под пристальным вниманием других стран как со стороны Севера с Югом (Россия, Ближний и Средний Восток, Пакистан, Афганистан), так и со стороны Запада с Востоком (КНР, Япония, Малайзия, Индонезия, США, Канада) [1, с. 21].
Отсюда следует, что Каспийский регион, в рамках геополитического пространства, уникален.
Во-вторых, специфика Каспийского региона явно связана уже с другим обстоятельством, а именно, что основными участниками конфликта в Каспийском
регионе являются государственные образования [2, с. 23].
Каспийский регион является довольно крупной и обширной территорией
на геополитической карте мира, в котором переплетаются национальные интересы многих стран. Специфика Каспийского региона обусловлена государствами, входящими в этот регион. Несмотря на различные подходы к определению
Каспийского региона, многие ученые и исследователи сходятся на том, что к
региону относится часть Южной России, Казахстана и государства Кавказа и
Центральной Азии – Азербайджан, Армения, Грузия, Туркменистан и Иран.
Кавказско-Каспийский регион не имеет каких-то чётких границ, его понятие
весьма абстрактно.
Углеводородные ресурсы, выгодное месторасположение существенно повысили геополитическую значимость Каспийского региона. По этой причине
здесь столкнулись интересы с одной стороны ведущих мировых держав и соседних государств, а с другой – Российской Федерации. Перспективы разработки нефтегазовых и углеводородных ресурсов Каспийского региона и притока
иностранных инвестиций непосредственно связаны с решением вопроса выбора
маршрутов строительства газо- и нефтепроводов для транспортировки ресурсов
на мировые рынки [3, с. 123].
Внешняя политика страны включает в себя большое количество факторов,
таких как: экономическое и политическое развитие, географическое положение,
традиции, обеспечение безопасности и т. д.
Внешнеполитические приоритеты страны включают в себя понятие национального интереса государства. При формировании внешнеполитических приоритетов страны и принятии на их основе тех или иных внешнеполитических
решений учитывают экономические, политические, географические и другие
факторы, политические курсы и т. д.
Объектом исследования в данной статье являются внешнеполитические
приоритеты государств, находящихся в Каспийском регионе.
Предметом исследования является содержание и способы реализации своих приоритетов всех стран Каспийского региона.
Целью исследования данного вопроса в статье является определение содержания, специфики основных внешнеполитических приоритетов государств
Каспия и
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи исследования:
1) изучить внешнеполитические приоритеты стран Каспийского региона;
2) сравнить внешнеполитические приоритеты государств.
352
Поставленная в статье проблема решается на основе разнообразного комплекса источников. При написании данной работы использовались официальные международные нормативно – правовые акты: Конвенция ООН 1982 г. «О
морском мировом праве» [4]; Рамочная Конвенция 2003 г. «О защите морской
среды Каспийского моря» [5]; Конвенция «О территориальном море и прилежащей зоне» [6]; Конвенция ООН «Об открытом море» [7]; Соглашение между
РФ и Республикой Казахстан «О разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование» от 6
июня 1998 г. [8]; Указ Президента РФ от 17.12.1997 г. «Об утверждении концепции национальной безопасности России» [9]; послание Президента РФ – послание Президента РФ Б.Н. Ельцина Федеральному собранию: «Россия, за которую мы с Вами в ответе!» [10]; послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию 2009 [11], 2010 [12], 2011 [13] гг.; документы РФ – Концепция внешней политики РФ [14]; Концепция национальной безопасности РФ
[15]; основные законы государства – Конституция РФ [16], закон «О государственной границе СССР» [17].
С момента распада СССР, значение каспийского региона значительно увеличилось. Обстановка в Каспийском регионе и вокруг него уже давно стала играть главную роль для стран, находящихся на побережье Каспийского моря.
Несмотря на это, даже среди экспертов и ученых по всему миру до сих пор сохраняются очень серьезные противоречия по поводу оценки характера влияния
«каспийского» фактора на другие государства этого региона [18].
Каспийский регион уже превратился в арену конкурентной борьбы с
крайне высокими политическими ставками. Острое соперничество разгорелось
из-за принадлежности нефти и газа, маршрутов трубопроводов, по которым
каспийская нефть пойдет на зарубежные рынки. Эти трубопроводы также определяют новые торговые пути и новую кapту геополитического влияния и интересов ведущих государств [19].
По различным данным, запасы нефти только Каспийского бассейна составляют более 24 млрд тонн [20]. Конкуренция и столкновение национальных
интересов в бассейне Каспийского моря выявили основных участников игры.
Рассмотрим более подробно внешнеполитические приоритеты стран Каспийского региона.
Кавказско-Каспийский регион связан с Россией более тесными историческими, экономическими, политическими и культурными отношениями, нежели
с Западом. С другой стороны, российская геополитика на Северном Кавказе является более пассивной, в то время как США, НАТО и Европейский Союз целенаправленно реализуют здесь свои политические интересы. Таким образом,
Каспийский регион притягивает к себе практически всех ведущих мировых
геополитических игроков.
Как у любого другого взятого нами государства, у России есть свои приоритеты в рамках решения внешнеполитических задач. Основным приоритетом
России в Кавказско-Каспийском регионе является транспортировка нефтяной
добычи, с целью её быстрой и выгодной поставки на мировой рынок через территорию РФ. Как отмечает исследователь Р.С. Мухаметов, создание, так назы353
ваемого, транспортного коридора, с геополитической точки зрения, с востока
на запад, пересекая часть России, по идеи Вашингтона позволит: диверсифицировать маршруты поставок энергоносителей в целях ослабления зависимости
экономики стран от крупнейших мировых поставщиков нефти; установить полный контроль над углеводородным запасом Каспийского региона и не допустить, чтобы этот ресурс попал в пользование государств, которые США и
Брюссель считают своими «врагами» или конкурентами (Россия или Китай); за
счет точечного контроля над энергетическими ресурсами обеспечить установление политического контроля над государствами Каспийского региона; обеспечить геополитический плюрализм, независимость (от России) новых независимых государств [21, с. 15–19.].
«Для России Каспийский регион является одним из внешнеполитических
приоритетов» – так сообщил министр иностранных дел России Игорь Иванов в
своем приветственном послании к участникам открывшейся в Москве международной конференции по правовому статусу Каспийского моря. Глава российского МИД высказался за развитие сотрудничества в рамках «прикаспийской
пятерки», укрепление связей на двусторонней основе, а также за расширение
взаимодействия с внерегиональными государствами. Основной задачей Игорь
Иванов назвал «обеспечение безопасности и стабильности в этом районе». Он
привлек внимание к необходимости защиты уникальной природной среды Каспия [22].
Министр иностранных дел России выразил надежду, что итоги предстоящего саммита прикаспийских государств «внесут интеллектуальный вклад в
решение всех каспийских проблем».
Министр иностранных дел России С.В. Лавров на заседании Специальной
рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря утверждал, что «Каспийская» повестка дня становится все более насыщенной. Очевидно, что этот регион является для всех стран зоной жизненных интересов. От того, как будет развиваться ситуация на Каспии, зависит благосостояние миллионов граждан. С учетом крайне важной роли Каспийского моря для
устойчивого развития стран «пятерка» должна особенно ответственно подходить к задачам совместного эффективного управления этим уникальным водоемом и его сохранения для будущих поколений. В современных условиях
крайне важно сохранить Каспийский регион в качестве зоны мира, дружбы и
добрососедства. Россия намерена и впредь твердо соблюдать имеющиеся договоренности о решении всех принципиальных каспийских вопросов только в
рамках «пятерки», члены которой обладают исключительными суверенными
правами в отношении моря и его ресурсов [23].
Так же Каспийское море является одним из внешнеполитических приоритетов России [24, с. 56], так как оно обеспечивает ей важное стратегическое положение как транзитного государства. В настоящее время основной маршрут
транзита каспийской нефти осуществляется через территорию России, таким
образом, в данном положении она обладает дополнительным рычагом давления
и может влиять на политику других прикаспийских государств.
354
Составляющими национального интереса Азербайджанской Республики
являются такие, как:
1) территориальная целостность;
2) государственный суверенитет;
3) проведение независимого курса внешней политики;
4) оптимальное использование запасов нефти и газа;
5) реализация экономических программ в силу удобного геополитического
расположения (транспортные коридоры);
6) развитие национальной экономики, инфраструктуры, достижение национальной экономической независимости;
7) улучшение отношений со странами СНГ;
8) ведение сбалансированной политики в отношении ведущих держав,
формирующих геополитическую ситуацию в Каспийском регионе;
9) культурное возрождение и т. д. [24, с. 105].
Весь это перечень национальных интересов Азербайджана основан на
главном приоритете как внутренней, так и внешней политики страны: Каспийское море, использование его ресурсов и возможностей.
Еще с осени 1997 г. Казахстан стал склоняться к азербайджанской модели
«нефтяной дипломатии» с присущей ей антироссийской направленностью.
В отличие от Азербайджана, который однозначно склонился в сторону Запада, Казахстан находится в более не простом положении [25, с. 125]. Ему приходится играть с тремя стратегическими игроками: США, КНР и Россия. В данном случае необходимо учитывать не только геополитику на сегодняшний момент, но и геостратегию на 20–30 лет вперед.
В настоящее время Казахстан становится одним из главных субъектов
Каспийского региона, способным активизировать процессы региональной интеграции и формировать ключевые направления сотрудничества в энергетической
сфере, оказывая влияние на глобальные экономические перспективы региона.
Каспийский регион имеет особое значение для Республики Казахстан.
Ввиду значительных нефтегазовых запасов, выгодного геополитического положения, позволяющего развивать международные транспортные коммуникации, а также наличия уникальных биоресурсов и рекреационных зон, прикаспийские территории являются важной составляющей успешного развития республики, главной энергетической базой, обеспечивающей положительную динамику долгосрочного экономического роста Казахстана.
Азербайджан, Казахстан также заинтересованы в дальнейшем развитии
инфраструктурных проектов как транзитные пункты Нового Шелкового пути
из Китая в ЕС и как потенциальные поставщики газа в Европу. Здесь они в первом случае зависят от Турции, которая пока срывает сроки строительства ветки
железной дороги «Баку-Тбилиси-Карс». Во втором – от строительства «Южного газового коридора», который планируется ввести в эксплуатацию только в
конце 2019 года. К «Южному коридору» в качестве крупного поставщика газа
планирует подключаться и Туркменистан, но пока он имеет сложности с организацией доставки газа через Каспийское море. Поэтому Ашхабад активным
образом участвует в процессе согласования правового статуса и разграничения
355
Каспия с другими прикаспийскими странами, чтобы создать условия для строительства газопровода в Азербайджан по дну моря [26].
Туркменистан в свою очередь, являясь страной, которая лишена свободного доступа к мировому рынку, крайне заинтересован в развитии широкой сети
экспортных маршрутов. Для Туркменистана важное значение имеет политика
России. Большая зависимость Туркменистана от поставок природного газа на
экспорт от позиции России достаточно очевидна. Из-за своего геополитического положения Туркменистан при реализации стратегии экспортных маршрутов
газа испытывает достаточно сильное влияние и со стороны Ирана [27].
Иран владеет нефтяными запасами в Персидском заливе и в Каспийском
море. Эта страна твердо отстаивает свои интересы в Каспийском регионе для
того, чтобы обеспечить максимально возможный доступ к каспийским энергоресурсами и в добавок ко всему усилить свои геополитические позиции и возможности в регионе. Внешняя политика Ирана в каспийском регионе определяется обеспечением безопасности своих северных границ и выстраиванием взаимоотношений с государствами региона в рамках общей политики выхода из
международной изоляции. Интерес к Каспийскому региону обусловлен причинами, схожими с российскими. Россия для Ирана в свою очередь является основным поставщиком военной техники [28, с. 36]. Иран пока не разрабатывает
месторождения на Каспии, но проявляет пристальный интерес к этому вопросу,
по какому поводу уже возникли территориальные споры с Азербайджаном и
Туркменией. В 2016 году выход Ирана на рынок усилил конкуренцию среди
игроков и повлиял, в том числе, на текущие переговоры по поставкам газа в
Грузию и Армению, а также нефти в ЕС.
Каспийский регион является не только одним из центров мировой добычи углеводородов, но и важнейшим геополитическим узлом, где сходятся интересы ведущих мировых и региональных держав [29]. Сложившаяся
ситуация на Каспии характеризуется тем, что интересы региональных и
мировых держав тесным образом переплетаются как в энергетической области, так и в геополитической сфере.
На сегодняшний день Каспий – это не только столкновение интересов политических игроков, но и зона с огромным потенциалом сотрудничества, которое зависит, прежде всего, от скоординированности усилий заинтересованных
государств. В первую очередь это должно проявляться в ближайшей перспективе по решению о статусе Каспия и в вопросах безопасности региона.
Борьба вокруг энергетических ресурсов Каспийского моря дала толчок для
формирования военно-политического узла противоречий, создающего одну из
опасных конфликтных зон в мировой политике.
Литература
1. Буров А.А. Специфика Кавказско-Каспийского региона как геополитической конструкции. 2010. № 4.
2. Жильцов С.С., Зонн И.С., Ушков А.М. Геополитика Каспийского региона. М., 2013.
280 с.
3. Эжиев И.Б. Геополитика Каспийского региона, М., 2007. 208 с.
356
4. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. URL: http://www.center-bereg.ru/
o5800.html (дата обращения: 12.04.16).
5. Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Заключена в г. Тегеране 04.11.2003) // КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc;base=INT;n=26067 (дата обращения: 12.04.16).
6. Конвенция «О территориальном море и прилежащей зоне». URL: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/tsea.pdf (дата обращения: 12.04.16).
7. Конвенция ООН «Об открытом море». URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pdf/hsea.pdf (дата обращения: 12.04.16).
8. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на
недропользование. Ратифицировано Федеральным законом РФ от 5 апреля 2003 года № 40ФЗ. URL: http://docs.cntd.ru/document/901889338 (дата обращения: 12.04.16).
9. Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24). URL: www.mid.ru (дата обращения:
12.04.16).
10. Послание Президента РФ Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию: «Россия, за которую мы в ответе» 23 февраля 1996 г. URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=257772&soch=1 (дата обращения: 12.04.16)
11. Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. URL: http://www.ivfrt.ru/download.php?file_id=148 (дата обращения: 12.04.16).
12. Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 г. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99799/ (дата обращения: 12.04.16).
13. Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 22 декабря 2011 г. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70009436/#ixzz3dJj8VF1f (дата
обращения: 12.04.16).
14. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ
12.02.2013) // КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base=LAW;n=142236 (дата обращения: 12.04.16).
15. Концепция национальной безопасности РФ. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/
1.html (дата обращения: 12.04.16).
16. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 (дата
обращения: 12.04.2016).
17. Закон СССР о государственной границе СССР. URL: http://shieldandsword.mozohin.
ru/documents/low_border241182.htm (дата обращения: 12.04.16).
18. Мнимые и реальные приоритеты держав на Каспии. URL: http://www.oil-equip.ru/
ngv/12/illu/illu.html (дата обращения: 12.04.2016).
19. Институт Каспийского сотрудничества. URL: http://www.casfactor.com (дата обращения: 12.04.2016).
20. Журнал Наука и жизнь / Наука. Вести с переднего края. № 4 от 04.04.2016 г.
21. Мухаметов Р.С. Геоэнергетические интересы ЕС, России и Китая в Каспийском регионе. 2011. № 4 (61).
22. Новости Первого канала (дата обращения: 12.04.2016).
23. Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на заседании Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря,
Москва, 21 ноября 2013 года.
24. Кулматов К.Н. Приоритеты внешней политики России и современные международные отношения. М.: Научная книга, 2002. 213 с.
25. Мамедов Х.Б. Взаимоотношения с государствами Каспийского региона как приоритет внешней политики Азербайджанской Республики, Научная библиотека. 2012. 325 с.
357
26. Тастенов А. Геополитика Каспия: ключевые интересы // Журнал KAZENERGY.
2012. №5 (55).
27. Январь в Каспийском регионе прошел под знаком Ирана. URL: http://www.
casfactor.com/ru/processes/245.html (дата обращения: 12.04.2016).
28. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство: монография.
М.: Изд-во РАГС, 2012. 163 с.
29. Гушер А.И. Геостратегическое измерение проблем Каспийского моря. URL:
http://www.analitika.org/article.php?story=20050523042501631 (дата обращения 12.04.2016).
358
ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРИКС:
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ1
И.А. Чернова
магистрант кафедры политологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Данная статья посвящена политологическому анализу феномена стран
БРИКС, историко-политическим аспектам возникновения, а также стремления
к объединению данных стран в начале XXI в.
Актуальность данной статьи связана с тем что, современный мир вступает
в новую эпоху своего развития, он становится более демократичным. На сцену
выходят новые глобальные игроки, меняющие прежние правила международной жизни, создающие новые возможности развития для себя и других. Большую роль в этом мире будут играть не столько интеграционные группировки
регионального уровня, но в большей степени такие структуры трансконтинентального характера, как БРИКС.
В последнее время мы часто слышим и наблюдаем за группой, состоящей
из пяти динамичных развивающихся стран современного мира – БРИКС. Во
многих СМИ очень часто упоминается информация о силе и властности этого
союза. С каждым годом на этот альянс возлагают большие надежды, и многие
экономисты говорят о том, что экономический потенциал Бразилии, России,
Индии и Китая настолько велик, что они могут стать одними из самых доминирующих экономик к 2050 году.
Объектом исследования в контексте нашей статьи являются страны
БРИКС, особенности и перспективы их развития, а предметом выступает характеристика стратегического и политического развития стран БРИКС.
В современном мире происходит перераспределение сил и влияния в пользу развивающихся стран, в том числе стран БРИКС, что приведет мир к подъему и новым экономическим трансформациям. Особое место среди государств
с быстроразвивающимся рынками занимают страны БРИКС.
Сегодня можно четко увидеть, что страны БРИКС стремятся к взаимодействию на международной арене, но, несмотря, на это, споры о том, как следует
относиться к этому явлению и как его квалифицировать, продолжаются. Особенно неоднозначно отношение развитых стран, это связанно с тем, что официально заявленное уже не на одном саммите желание БРИКС ликвидировать либо смягчить сложившиеся в мире так называемые «чрезмерные глобальные
дисбалансы». Следует заметить, что страны не только заявили о своем желании,
но приводят его в действие. Так вынесенный на рассмотрение на четвертом
саммите БРИКС в Дели в 2012 г. вопрос о создании собственного Банка развития БРИКС был согласован. Помимо того, на пятом саммите стран в ЮАР в
конце марта 2013 г. было подписано соглашение по валютным свопам между
© Чернова И.А., 2016
359
соответствующими странами и дано согласие на подготовку к созданию пула
валютных резервов. Данные решения могут стать первыми шагами на пути к
переходу от доллара к собственной резервной валюте и расширению диапазона
управления глобальной экономикой. В этом плане небезынтересно припомнить,
как и с чего начинался БРИКС. Термин-акроним «БРИК» был предложен
Goldman Seach в 2001 г. в документе Building Better Global Economic BRICs,
Global Economics Paper №66, автором которого является лично Джим О’Нил,
руководивший на тот момент отделом глобальных экономических исследований компании. Следует отметить, что сначала были объединены четыре страны
– Бразилия, Россия, Индия и Китай, однако в 2010 г. к данной группе стран
присоединилась Южно-Африканская Республика, в связи с чем появился термин БРИКС.
В 2003 г. Goldman Sachs опубликовал документ Dreaming With BRICs: The
Path to 2050, Global Economics Paper, № 99. Основной идеей данного исследования является прогноз об утрате странами «Большой семерки» экономического
лидерства к 2050 г. В документе представляется концепция, согласно которой
экономики или рынки стран БРИК продолжат свой бурный рост и станут играть
еще более важную роль в глобальной экономике в самом ближайшем будущем.
По мнению Джима О’Нилла, самые быстрые темпы роста ВВП для БРИК
будут наблюдаться в течение ближайших 30 лет, а потом рост замедлится. При
этом наибольшим потенциалом в плане экономического роста обладает Индия,
для которой в течение последующих 30–50 лет ежегодные темпы прироста
ВВП составят около 5%. Это связано с тем, что Индия обладает самым молодым в возрастном отношении населением из всех четырех стран. Поэтому сокращение трудоспособного населения в Индии произойдет позже, чем в других
странах БРИК.
Следующим периодом в истории становления концепции является присоединение к четырем странам Южно-Африканской Республики в 2010 г. Именно
в этом году министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите
Нкоане-Машабане во время визита в Пекин для поддержки заявки своей страны
на принятие в БРИК искусно использовала нюансы английского языка. В данном случае это было сходство произношения слова «brick» («кирпич») и
«BRIC». В частности, она заявила: «If you want to build house, you need more
than one BRIC» («Если вы хотите построить дом, то нужен не один кирпич»),
добавив, что ЮАР «могла бы прибавить энергии группе БРИК» [8].
По словам посла ЮАР в России Мандиси Мпхалвы (бывшего министра
торговли и промышленности, а затем экономического советника президента
ЮАР Джейкоба Зумы), стремление ЮАР присоединиться к четверке стран было обусловлено тем, что с самого начала группа БРИК рассматривалась не
только как потенциальная сила, которая «возникла, чтобы поделить центральную сцену с ведущими экономическими державами», но и как объединение,
стремящееся к созданию справедливого миропорядка, «ценности и чаяния» которого ЮАР разделяла [2, c. 201].
Представляется, что для приема ЮАР в БРИК, помимо высокого показателя ВВП, было еще несколько причин. Одна из них – желание ликвидировать
360
разрыв в географическом смысле. Несомненно, желаемые перемены в мире не
могут быть осуществлены без участия Африки. Дело не только в природных
ресурсах континента, но и в человеческом капитале (1 млрд человек), и в способности к переменам. Еще одно преимущество ЮАР заключалось в том, что
превосходная инфраструктура позволяла ей играть роль «ворот» при продвижении товаров и инвестиций в другие страны африканского континента. И
наконец, что не менее важно, она была страной, которая избавилась от режима
апартеида и создала подлинно демократическое общество, в связи с чем обладала весомым моральным авторитетом во всем мире [2, c. 205].
Следует отметить, что феномен восхождения стран-гигантов исторически
ненов. Достаточно сослаться на прецедент США. Исторический факт заключается в следующем: эффект восхождения одних сопровождается эффектом абсолютного либо относительного нисхождения других. В сложившейся ситуации
мирового экономического кризиса в 2008–2011 гг. можно отметить относительное торможение экономического роста и технологического обновления в старых странах (США и другие страны «Большой семерки») на фоне опережающего развития экономик стран БРИКС. По прогнозам зарубежных и отечественных аналитиков, (сделанным до кризиса 2008 г.), через три десятилетия по абсолютному объему ВВП в лидирующей семерке останутся только США и Япония. Обгон может состояться несколько раньше либо несколько позже (в частности, в зависимости от последствий нынешнего кризиса в мировой экономике). Но дата не настолько важна, как долговременная тенденция и общие ее
пропорции.
В рамках этих рассуждений будет логично ответить на вопрос: «Почему в
так называемых «старых» странах возобладала нисходящая тенденция, а в
странах БРИКС – восходящая?». Во-первых, из-за перегрузки экономики непроизводительными расходами (особенно в случае США), в силу избыточной
сатурации внутреннего рынка, из-за растущего разрыва между «виртуальной» и
«реальной» экономикой, когда «виртуальная» плодит производные производных финансовых инструментов в отсутствие соответствующих институциональных регуляторов [3, c. 9]. Во-вторых, из-за расхождений между мотивациями действий политического руководства и мотивацией поведения бизнеса в
условиях глобализации, приводящей эмиграции производства и соответственно
к утере рабочих мест. Еще одно обстоятельство – изменение структуры издержек производства, которое ведет к понижению уровня конкурентоспособности
в центрах мировой экономики.
Несмотря на огромный потенциал, которым обладают страны БРИКС, следует отметить, что каждое из государств имеет как свои особые преимущества,
так и слабые места. Очевидные слабые места в российском случае – неблагоприятная демографическая обстановка, малая плотность и низкое качество базовой инфраструктуры. В Китае, Индии и Бразилии – массовая бедность и отсталость в распространении образования.
Общий фон пяти стран – большая степень социальной дифференциации и
территориальная диспропорциональность экономического развития. При высоком ресурсном обеспечении и в Китае, и в Индии ограничителем роста остается
361
энергодефицитность экономики. Еще недавно тем же характеризовалась и ситуация в Бразилии. Но недавнее открытие в этой стране крупных месторождений нефти и газа обещает переход к ситуации энергоизбыточности [3, c. 9]. Конечно же, Россия превосходит остальные страны по обеспечению как энергетическим сырьем, так и многими другими природными ресурсами. Другое преимущество Российской Федерации, так же, как и ЮАР, – это достаточно высокий уровень грамотности населения, а также развитие науки.
В Китае и Индии низкий уровень образованности компенсируется наращиванием численности специалистов высшей квалификации, что позволяет решать задачи кадрового обеспечения на перспективных направлениях экономического развития. Также Китай, Индия и Бразилия проявляют в последнее десятилетие способность к преодолению отставания в научно-технической области.
Что касается военно-технической области, то здесь лидирующие позиции занимает Россия. К ней приближается Китай. Также догоняет эти страны Индия, которая де-факто становится ядерной державой. Бразилия, хотя и владеет полным
циклом ядерной технологии, все-таки придерживается сдержанной позиции.
С 2005 г. ежегодно проводятся встречи министров иностранных дел на Генассамблее ООН в формате БРИК (а с 2011 г., после присоединения ЮАР, в
формате БРИКС). Решающим рубежом следует считать совещании министров
иностранных дел Бразилии, России, Индии и Китая, проведенное в мае 2008 г. в
Екатеринбурге. На нем было согласовано проведение скоординированной политики по ключевым глобальным проблемам. В конце 2008 г. в Бразилии прошла встреча министров финансов «четверки». А 16 июня 2009 г. прошел первый официальный саммит БРИК в Екатеринбурге. По итогам саммита главы
государств группы БРИК приняли Совместное заявление, а также отдельный
документ по глобальной продовольственной безопасности.
В марте 2012 г. в Индии состоялся четвертый саммит БРИКС. Его участники обменялись мнениями о состоянии мировой экономики, реформах институтов глобального управления и проблематике международной стабильности и
безопасности. По итогам саммита была обнародована Делийская декларация.
Основным наиболее важным пунктом декларации стало пятистороннее «Генеральное соглашение об общем порядке открытия кредитных линий в национальных валютах БРИКС». Банки пяти государств теперь могут финансировать
друг друга и совместные проекты в национальных валютах, что позволит странам БРИКС продвинуться в укреплении статуса своих валют.
Алгоритм работы выглядит так: банки развития БРИКС будут вкладывать
средства в единый банк, который будет инвестировать их в проекты развития,
давать кредиты малому и среднему бизнесу, реализовывать инфраструктурные
проекты, инвестировать в другие развивающиеся страны [8]. В дальнейшем
движение будет идти от взаимных расчетов к общей экономической политике.
Валютное обособление БРИКС, по мнению участников саммита, не означает
замкнутость внутри только этой группы стран. Наоборот, отказ от доллара и
евро позволит Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР выступать с согласованной независимой позицией по многим международным вопросам, в том
числе и внутри группы G-20. Следует отметить хорошие перспективы: в 2012 г.
362
страны БРИКС добились увеличения своей доли во Всемирном банке с 44 до
47 %. Доля стран БРИКС в МВФ также выросла с 39,5 до 42,25 %.
Проект БРИКС – продукт переходной эпохи, предполагающей постепенный перевод мирового порядка на полицентричную основу. Однако наивно
рассчитывать на прямолинейную смену лидерства, на бесконфликтную «смену
караула». Необходимость минимизации издержек перехода требует рождения
эффективных механизмов глобального регулирования, тем более что «коллективный Запад» не намерен покорно сдавать господствующие позиции. В США
и Евросоюзе вызревают новые стратегические планы соответствующего структурирования планетарного пространства. Речь идет, с одной стороны, о создании своего рода «экономического НАТО» – Евро-Атлантической зоны свободной торговли, а с другой стороны, о тихоокеанском торгово-экономическом
альянсе при лидерстве Вашингтона и отсутствии КНР и России.
Какую внешнюю опору в таком случае будет иметь Российская Федерация,
которую инициаторы не видят ни в составе первого, ни в составе второго объединения? Важно, что наконец-то сдвинулся с мертвой точки процесс евразийской интеграции, выходящий ныне даже за рамки
Таможенного союза. Важно, что уже удалось создать ряд структур регионального значения (ШОС, ОДКБ), которые укрепляют позиции России. Все это
– условия необходимые, но недостаточные. В XXI в. в качестве несущих конструкций мирового порядка станут выступать не только нации-государства, не
только и не столько региональные интеграционные группировки, сколько макроструктуры трансконтинентального действия. Отмеченную тенденцию в полной мере учитывает проект БРИКС. На его основе есть возможность выдерживать геополитический (стратегический) баланс. Но несомненно одно – по мере
созревания политической воли в странах – членах БРИКС должна произойти
внутренняя консолидация объединения на более прочной институциональной
основе.
Литература
1. Круглый стол: БРИК как новая концепция многовекторной дипломатии // Вестник
МГИМО(У). 2010. № 1 (10).
2. Восходящие государства–гиганты БРИКС: роль в мировой политике стратегии модернизации: сборник научных трудов / отв. ред. Л.С. Окунева, А.А. Орлов // МГИМО(У)
МИД России. М.: Изд-во МГИМО (У), 2012.
3. Давыдов В.М. Восходящие страны-гиганты на современной мировой арене // Латинская Америка. 2009. № 7.
4. Хейфец Б. БРИК: миф или реальность? // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 9.
5. Панченко М.Ю. Экономические основы стратегического партнерства России, Индии
и Китая // Проблемы Дальнего Востока. 2010. № 5.
6. Воскресенский А.Д. Китай и Россия в Евразии. Историческая динамика политических взаимовлияний. М.: Муравей, 2006. 608 с.
7. Луков В. БРИКС – фактор глобального значения // Международная жизнь. 2011. № 6.
8. Айвазов А. Итоги Делийского саммита стран БРИКС // Война и мир. URL:
http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/68247/ (дата обращения: 02.04.2016).
363
ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В ОФИЦИАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1
А.А. Шайдуллов
аспирант кафедры истории, философии и политологии
Саратовского социально-экономического института
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Идентичность в переводе с латинского языка означает отождествление человека с какой-либо группой или коллективом, сообществом и определение
своего места в этом обществе. Основой для идентификации могут выступать:
религия, территория, язык, культура, нация, этнос. Чем разнообразнее общество, тем сложнее протекают процессы идентификации.
С точки зрения генерального директора Всероссийского центра изучения
общественного мнения В.Федорова, в современной России идентичность включает в себя ряд наиболее значимых идентификаций в виде религиозной, территориальной, национальной и политической (гражданской) [1].
Национальный аспект понимается как интерпретация с трёх позиций: Россия как «СССР, но без идеологии», Россия – многонациональная страна в современных границах, Россия – государство русских. В данном аспекте гендиректор ВЦИОМ отмечает, что многие респонденты высказывают свою позицию
в пользу многонациональной России, однако есть и те, кто не считает жителей
Кавказа россиянами и для них ближе жители той же Украины или Белоруссии,
хотя они отдельные государства.
Территориальная идентичность выражена в желании и согласии большинства россиян сохранить целостность и суверенитет современной России в тех
границах, которые сегодня есть, включая и Крым.
В религиозном аспекте российской идентичности произошли за последние
20 лет серьёзные изменения. Во-первых, большинство граждан России – православные, однако не многие из них во всем поддерживают РПЦ (Русская православная церковь), которая в свою очередь очень тесно взаимодействует с государством. Во-вторых, растёт количество верующих людей среди других конфессий, в особенности в Исламе. В-третьих, приверженность к религии новообращенных мусульман, протестантов намного превосходит приверженности
прихожан РПЦ.
Что же касается политического аспекта, то большинство россиян тяготеет
к России суверенной, самостоятельной, защищённой от внутренних и внешних
угроз, которые поступают также и от Запада. В данном случае для граждан
важно то, что Россия – это многонациональная страна, с центральным объединяющим ядром в лице русского народа.
Обращение к проблеме гражданской идентичности как важнейшей составляющей государственной национальной политики обусловлено рядом факторов.
© Шайдуллов А.А., 2016
364
Основными внешними факторами, с которыми сталкивается Россия, являются глобальные процессы и вызовы. Немаловажными являются миграционные
потоки, существенно повлиявшие на ситуацию в мире, поставившие под сомнение европейскую идентичностьи принципы национальной политики европейских государств, в первую очередь принцип мультикультурализма. Политика по отношению к мигрантам оказалась неэффективной, в чем неоднократно
признавались премьер министр Великобритании Д. Кэмерон, президент Франции Ф. Олланд, канцлер Германии А. Меркель [2].
Политика мультикультурализма, «плавильный котёл», показали свою слабость в решении национального вопроса и несовершенство миграционной политики. Бездействие европейских властей привело к появлению в европейском
обществе социальной напряжённости, ксенофобии, расовой нетерпимости, которая сегодня выливается в определённые политические действия и последствия этих действий (закон о ношении хиджаба во Франции, митинги и пикеты
против политики мультикультурализма, карикатуры «Charrlieebdo», беспорядки
в Кёльне, террористические акты в Европе).
По мнению В. Путина, «за провалом мультикультурного проекта стоит
кризис самой модели «национального государства» – государства, исторически
строившегося исключительно на основе этнической идентичности. И это – серьезный вызов, с которым придется столкнуться и Европе, и многим другим регионам мира» [3].
Проводя параллели с Россией, которую порой называют «тюрьмой народов», российский президент считает, что в России за века не исчез ни один, даже самый малочисленный народ, потому что основу национальной политики
составляла гражданская идентичность. Все они сохранили не только свою
внутреннюю самостоятельность и культурную идентичность, но и своё историческое пространство. Эта полиэтничность живёт в историческом сознании россиян, в их духе, их историческом коде. На гражданской идентичности многонационального народа строилась тысячелетие российская государственность [4].
Важнейшим фактором внутреннего порядка, обусловившим необходимость
обращения к проблеме формирования гражданской идентичности как основы
национальной политики, является поликультурный состав российского общества.
По убеждению российского президента, национальный вопрос является фундаментальным. Главным условием для его решения является формирование гражданского и межнационального согласия [3]. Существуют риски, которые могут
подорвать существующую стабильность и привести к тяжелым последствиям,
социальной, межнациональной (межэтнической) напряженности. Таковыми рисками являются идеи национализма, религиозной нетерпимости, экстремизма и
терроризма, что является основой для формирования радикальных настроений и
действий в обществе, в результате которых может произойти раскол.
В связи с актуализацией проблемы формирования российской идентичности как основы сохранения гармоничных межэтнических отношений, мира и
согласия в стране, целостности и неделимости государства, суверенитета российского народа, эта проблема широко представлена в официальном дискурсе в
контексте реализации национальной политики.
365
Так, например «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» – важнейший документ, определяющий принципы национальной политики РФ, её понятие и элементы. Стратегия государственной национальной политики представляет собой систему современных приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов реализации государственной национальной политики Российской
Федерации.
Цель Стратегии заключается в координации деятельности органов государственной власти различных уровней, включая и местное самоуправление, в
реализации государственной национальной политики РФ, в формировании
гражданской идентичности, укреплении единства российской нации, упрочении
общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа РФ (российской нации) как основы гражданской идентичности; в сохранении и развитии этнокультурного многообразия народов России; гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; обеспечении прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; в успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов [5].Очевидно
формированию гражданской идентичности в стратегии государственной национальной политики придается существенное значение.
Для исключения дальнейших неудач в реализации Стратегии и своевременного планирования профилактических мер в документе отражены факторы,
возможность которых негативно повлиять на развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений очень велика. Одним из негативных
факторов, влияющих на развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений, которые необходимо преодолевать, является «недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по формированию
российской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества» [5].
Порой Россию называют государством-цивилизацией, которая сформировалась благодаря русскому народу, русскому языку, культуре, традициям. Однако идентифицироваться исключительно через этническую, религиозную составляющую в крупнейшем государстве с полиэтническим и поликонфессиональным составом населения, конечно же, невозможно. Формирование именно
гражданской идентичности на основе общих ценностей, патриотического сознания, гражданской ответственности и солидарности, уважение к закону, сопричастности к судьбе Родины без потери связи со своими этническими, религиозными корнями – необходимое условие сохранения единства страны [4].
Очень важно не упустить детерминанту в формировании гражданской
идентичности в виде языковой политики государства и системы органов власти,
которые принимают во внимание принципы, заложенные в 68 статье Конституции РФ. В ней говорится о статусе русского языка как государственного и о его
роли в межкультурном общении различных народов между собой, общенациональном, объединяющем предназначении. В продолжение языковой политики
366
также в статье 68 упоминается и о статусе языков национальных республик и
праве народов на сохранение и развитие родных языков.
В процессе формирования гражданской идентичности важная роль отведена образованию, которое способствует формированию ценностей, базовых знаний и мировоззрения. «Важная гражданская задача образования состоит в том,
чтобы дать абсолютно обязательный объём гуманитарного знания, который составляет основу самоидентичности народа» [3]. В контексте формирования
гражданской идентичности отводится первостепенное значение отечественной
истории, русскому языку и русской литературе. Президент России, отводя
главную роль образованию, акцентирует внимание на преподавательском сообществе, которое было и остаётся важнейшим хранителем общенациональных
ценностей, идей и установок. Это сообщество говорит на одном языке – языке
науки, знания, воспитания [4]. Оно всегда поддерживалось и будет поддерживаться государством и обществом.
Не меньший вклад в формирование гражданской идентичности вносит
культурная политика. Предлагается начать с «культурной терапии», которая на
всех уровнях «методических, учебных и научных пособий сформировала бы такое понимание исторического единства, в котором каждый представитель этноса видел своё место, ощущал бы себя наследником «одной для всех» – противоречивой, трагической, но великой истории России» [3]. Все это должно происходить с привлечением средств массовой информации (газеты, журналы, телеи радиовещание, Интернет).
Обратимся к одному из важных и актуальных сегодня направлений формирования гражданской идентичности – воспитание российского патриотизма,
где каждый, не зависимо от веры и национальности, прежде всего, должен быть
гражданином России и гордиться этим. Очень серьёзное утверждение, которое
несёт в себе идею о том, что никто не имеет право ставить национальные и религиозные особенности выше законов государства, однако при этом сами законы государства должны учитывать национальные и религиозные особенности.
Здесь же стоит напомнить, что гражданская идентичность многонационального
народа России не должна формироваться только в кабинетах чиновников, в её
формировании должны участвовать национальные и общественные объединения [3]. Также определенная роль отводится традиционным религиям России
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), в основе которых кроме различий и
особенностей ещё лежат базовые, общие моральные, нравственные, духовные
ценности (милосердие, справедливость, правда, взаимопомощь, уважение к
старшим, идеалы семьи и труда). Их естественно необходимо укреплять, государство должно поддерживать работу традиционных религий России, но при
этом должен быть сохранен светский характер государства.
Не следует забывать и о сильных институтах государства и институтах
гражданского общества. Всегда нужно помнить, что существует прямая зависимость между нерешенными социально-экономическими проблемами, пороками правоохранительной системы, неэффективностью власти, коррупцией и
конфликтами на национальной почве [3]. Нельзя допускать создания регио367
нальных партий, в том числе в национальных республиках – это прямой путь к
сепаратизму.
И наконец, нельзя оставить без внимания важную роль местного самоуправления в формировании гражданской идентичности многонационального
народа России. Согласно Конституции местное самоуправление – важный институт власти для волеизъявления местных жителей по определенному кругу
вопросов в рамках компетенций муниципальной власти, в тех формах и способах, принятых на основе исторических и иных местных традиций. Данная форма самоуправления позволяет народам соединить свои исторические формы
взаимодействия с властью с учётом современных демократических форм [6].
Владимир Путин, выступая на «Валдае» говорил об отличительной способности России: её земской традиции. По его мнению, лучшая школа гражданственности – местное самоуправление и самодеятельные организации граждан,
которые ощущают себя ответственными хозяевами своей страны, своего края,
своей малой родины, своего имущества, собственности и своей жизни. Из такой
школы может вырасти настоящее гражданское общество и настоящая национально ориентированная элита [4].
Поэтому сегодня очень важно уделять большее внимание такому замечательному и относительно юному (10 лет) празднику как 4 ноября – День народного единства. Владимир Путин называет его ещё «днём победы над собой»,
добавляя, что «мы по праву можем считать этот праздник днём рождения
нашей гражданской нации» [3].
Несмотря на то, что гражданская идентичность широко используется в
официальных документах, определение в целостном виде «гражданская идентичность» в официальном дискурсе не содержится.
В то же время, мы видим отсутствие прямых ссылок в Конституции по вопросу гражданской идентичности многонационального народа России. Это связано в первую очередь с историческими вызовами, с которыми столкнулась
страна после распада СССР и теми интересами, которые элита преследовала в
те тяжелые для народа и страны времена. В этой связи определенные части
Конституции требуют если не изменений, то более конкретного обозначения
для реализации успешной национальной политики, укрепления единства гражданской идентичности (российской нации) многонационального народа Российской Федерации.
Более широкое понимание многонационального народа, гражданской
идентичности и других элементов национальной политики предлагалось в проекте Стратегии государственной национальной политики [7]. К примеру, разработчики данного Проекта предлагали следующую интерпретацию многонационального народа в виде российской нации, представленной сообществом граждан Российской Федерации разной этнической, религиозной, социальной и
иной принадлежности, осознающих свою гражданскую общность и политикоправовую связь с российским государством (согражданство). В свою очередь
авторы политику согражданства представляли как деятельность органов государственной власти разного уровня, включая и муниципальные органы, тесно
368
взаимодействующие с институтами гражданского общества, по формированию
гражданской идентичности.
В этой связи идея формирования гражданской идентичности – это объединение многонационального народа на основе общезначимых ценностей. Гражданская идентичность многонационального народа России – это единая и сплоченная общность которая включает в своей идентификации несколько уровней:
1) идеологический (общие базовые ценности, установки, российский патриотизм, признание принципов справедливости, добра, любви к Отечеству); 2) историко-географический (общая историческая судьба многонационального
народа, проживающего на одной территории, сохранение и развитие культурных традиций и языка, развитие языка межкультурной коммуникации – русского языка);3) правовой (признание принципов демократии, прав и свобод человека и гражданина, равноправия народов, их право на самоопределение); 4) политический (сохранение целостности государства, гражданского мира и согласия, суверенитета).
В настоящее время не только Президент и члены его Совета по межнациональным отношениям, а также институты гражданского общества (общественные организации и объединения, Общественная палата РФ, региональные палаты) участвуют в формировании гражданской идентичности Российской Федерации, но также и депутаты предлагают необычные инициативы. Например, в
2015 году в Государственную Думу был внесён проект федерального закона,
который позволял бы в установленном порядке каждому желающему гражданину указывать в паспорте свою национальную принадлежность. Однако в
настоящее время данная законодательная инициатива возвращена авторам на
доработку.
В качестве примера позитивного развития межэтнических отношений и
формирования гражданской идентичности на государственном уровне стали
решения об изменении названия руководителей национальных республик (вместо «Президента» республики теперь «Глава»), включение в Указ Президента
РФ от 24.12.2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» блока в области культурного наследия народов Российской
Федерации и в области русского языка, языков народов Российской Федерации,
отечественной литературы.
Проведённый анализ позволяет утверждать, что формированию гражданской идентичности в сфере реализации государственной национальной политики в Российской Федерации уделяется существенное внимание, отводится значительная роль. Гражданская идентичность составляет основу национальной
политики Российской Федерации. Формирование гражданской идентичности
является необходимым условием сплочения поликультурного и многосоставного Российского общества, необходимости сохранения суверенитета и целостности государства, развития многонационального народа Российской Федерации,
сохранения и развития этнокультурного многообразия России, обеспечения
прав и свобод человека и гражданина, успешной социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов.
369
Литература
1. Свой-чужой. Интервью генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова //
ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/index.php?id=238&uid=114519 (дата обращения: 10.03.16).
2. The official site of the Prime Minister’s Office. PM’s speech at Munich Security Conference. URL: http://www.number10.gov.uk/news/speeches-and-transcripts/2011/02/pms-speech-atmunich-security-conference-60293 (дата обращения: 26.02.2016).
3. Владимир Путин. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. URL:
http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 10.03.16).
4. Стенограмма // Российская газета. URL: http://rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html
(дата обращения: 04.03.2016).
5. «Стратегия государственной национальной политики в РФ на период до 2025 года»,
утвержденная Указом президента № 1666 от 19.12.12. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/36512
(дата обращения: 10.03.16).
6. Ст. 130, 131 Конституции Российской Федерации (в ред. от 21.07.2014) // Конституция РФ. URL: www.constitution.ru (дата обращения: 05.01.2016).
7. URL: http://azerros.ru/information/6806-proekt-strategii-gosudarstvennoy-nacionalnoy-politikirossiyskoy-federacii.html (дата обращения: 05.01.2016).
370
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
НА ПРИМЕРЕ АРМЕНИИ И КИРГИЗИИ1
М.А. Янученя
аспирант
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Последние тенденции в международных отношениях России и ближайших
государств указывают на стремительное расширение и совершенствование не
только экономических, но и политических связей. Евразийская интеграция уже
имеет серьёзное институциональное воплощение в виде Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), который стремительно развивается уже не один
год, открывает всё новые перспективы для межгосударственного сотрудничества, и, бесспорно, вызывает особый научный интерес.
К сожалению, в контексте одной статьи невозможно рассмотреть все государства, входящие в ЕАЭС, поэтому мы обращаемся к анализу международного
сотрудничества двух последних вошедших в союз стран и будем рассматривать
их через призму Евразийской интеграции. Основной целью нашей работы является выявление общего и особенного в контексте международного сотрудничества Киргизии и Армении с иными странами. Главными критериями сравнительного анализа будут являться внешняя политика Армении и Киргизии по
отношению к странам НАТО, к странам ЕС, к России, а также будут рассмотрены предпосылки вступления вышеуказанных стран в ЕАЭС и перспективы
такого сотрудничества.
Напомним, что Киргизия официально присоединилась к союзу с 1 января
2015 года. Этому событию предшествовал долгий период переговоров направленный не только на урегулирование вопросов предшествующего таможенного
союза, но и таких направлений как миграционная политика и межгосударственная торговля и др. После Беловежских соглашений бывшая советская республика Киргизия оказалась в непростой экономической и политической ситуации.
С одной стороны мощная промышленность, развитый аграрный сектор пришли
в упадок, торговые отношения серьёзно нарушены, уровень жизни населения
существенно снизился, с другой стороны государство оказалось практически
свободным на международной политической арене. Так в 1991 году были установлены двусторонние дипломатические отношения между Киргизией и США,
которые продолжаются по сей день. Соединённые Штаты не только поддерживают Кыргызстан в развитии демократического общества, но и ведут серьёзные
торговые отношения. Экспортируя некоторые металлы и химическую продукцию, Бишкек импортирует из США промышленное оборудование и сельскохозяйственную продукцию. Особого внимания заслуживает тот факт, что в 2001
году на территории международного аэропорта «Манас» в Бишкеке была орга© Янученя М.А., 2016
371
низована авиабаза антитеррористической коалиции, подконтрольной НАТО,
которая существовала до 2009 года, а позже была переформирована в Центр
транзитных перевозок ВВС США. Военная база прекратила своё существование
в 2014 году по инициативе Бишкека [1]. Заведующий отделом внешней политики Киргизии Сапар Исаков впоследствии отметил, что все обязательства перед
международной антитеррористической коалицией выполнены [2]. Также правительством Кыргызстана был денонсирован ряд межгосударственных соглашений с США, в том числе о сотрудничестве в поставках гуманитарной помощи,
следствием чего, стало закрытие многих проектов США в этой сфере, и соглашение относительно сотрудничества по облегчению оказания содействия [3].
Значит ли это, что Бишкек отвернулся от Вашингтона? Непростыми остаются и
отношения Киргизии с Европейским союзом. Во-первых, европейские политические интересы, прежде всего, устремлены в сторону стран, богатых энергетическими ресурсами, в том числе природным газом. Киргизию к таким странам
отнести нельзя. Во-вторых, Киргизия представляет интерес для некоторых
стран Европы, например Великобритании, лишь в качестве транзитного пункта
военных сил. К сожалению, отношения такого рода с Бишкеком со стороны ЕС,
как правило, ограничиваются согласованием удобных для себя условий.
Последствиями такого сотрудничества по нашему мнению является, достаточно сдержанная политика Киргизии по отношению к глобальным политическим игрокам запада, а также явное перенаправление интересов в сторону
ЕАЭС и России в частности.
Кризисный 2015 год стал серьёзным испытанием не только для Кыргызстана, но и для всего экономического союза, наблюдалось падение товарооборота между самим союзом и третьими странами. По приблизительным оценкам
оно составило около 35 %, а доля взаимной торговли с внешним миром приблизилась к отметке в 15 % [4], что является значительными показателями. Уже в
конце 2015 года, страны-участники начали заявлять об ухудшении экономической ситуации. Так Казахстан, Белоруссия и Армения, представили статистику
о падении доли внешней торговли в среднем на 25–35 %, по сравнению с прошлым годом. По нашему мнению Армения, в отличие от Кыргызстана не отличается явной пророссийской позицией, но ввиду неудачи в установлении зоны
свободной торговли с Евросоюзом в кратчайшие сроки приняла решение присоединиться к ЕАЭС.
Бывшая Армянская ССР в отличие от Кыргызской начала наращивать темпы экономического роста ещё в 1994 году. Уже к 1999 году Армения смогла
поднять уровень внешней торговли до 79,6 % [5], чему способствовали развитые экономические и политические связи со странами Европы и США. Соединенные Штаты Америки являются важнейшим партнером Армении. США признали независимость Республики Армения 25 декабря 1991г., а дипломатические отношения были установлены 7-го января 1992 года. Соединенные Штаты
занимают важное место в политической и экономической жизни Армении, активно участвуют в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского
конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, являясь, наряду с Россией и Францией, ее сопредседателем. Также США является крупнейшим донором гумани372
тарной и технической помощи, предоставляемой Армении. Свидетельством активного развития Армяно-американских торгово-экономических связей является присвоение Армении со стороны США статуса Постоянных Нормальных
Торговых Отношений [6]. Со времени обретения Aрменией независимости сотрудничество с Европейским Союзом во многом содействовало осуществлению
реформ в сферах экономики, государственного управления, становлению демократического общества, укреплению институтов защиты прав человека и фундаментальных свобод, установлению упрощённого визового режима. В рамках
партнёрства существует и ряд торговых соглашений, регулирующих и значительно упрощающих товарооборот между Арменией и ЕС, но зона свободной
торговли с Евросоюзом не установлена до сих пор, что является камнем преткновения в их отношениях.
Если же говорить об отношениях Армении и Киргизии с РФ, необходимо
прежде всего сказать, что Россия является на наш взгляд наиболее перспективным партнёром для сотрудничества по всем направлениям. Это обусловлено,
во-первых, фактором непосредственной географической близости этих государств к РФ. Во-вторых, Россия является одним их крупнейших экспортёров
энергоносителей, в которых нуждается как Киргизия так и Армения. В-третьих,
невзирая на присутствие инвестиций других государств, доля инвестиций и сотрудничества Российской Федерации остаётся на самом высоком уровне. Так,
например, в 2014 году в рамках Евразийской экономической интеграции был
создан Российско-Кыргызский фонд развития, целью которого является содействие модернизации и развитию экономики Кыргызской Республики, а также
экономическое сотрудничество между странами-участницами Фонда. К концу
2015 года, общая сумма траншей Российской Федерации на счет фонда составляла порядка 350 миллионов долларов, что уже позволяет утверждать об некоторой финансовой зависимости Кыргызстана от РФ. По данным Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития, в суммарном объеме
иностранных инвестиций в Армению 44,1 % приходится на долю инвестиций
из РФ, при этом большая часть инвестиций из других стран портфельные, а инвестиции из России преимущественно прямые. Доля вложений из РФ в общем
объеме прямых иностранных инвестиций составляет 57,2 %, что является
огромным показателем. Среди наиболее крупных российских проектов в Армении – строительство нового атомного энергоблока Армянской АЭС компанией
ЗАО «Атомстройэкспорт», создание телемедицинской системы компанией
НПО «Национальное телемедицинское агентство», освоение месторождений
урановой руды в Армении компанией ОАО «Атомредметзолото», завершение
строительства 5-го блока Разданской ТЭС и создание на ее базе единого имущественного и технологического комплекса компаниями ОАО «Силовые машины» и ОАО «Газпром», создание фонда венчурных инвестиций ОАО «РВК».
В будущем Ереван рассчитывает только увеличивать объемы инвестиционного
партнерства с Россией, что, опять же, позволяет говорить о финансовой зависимости. Важным фактором является отсутствие таможенных преград внутри
ЕАЭС, а постоянно увеличивающаяся география союза создаёт благоприятные
условия для каждого участника в отдельности.
373
Рассмотрев все вышеуказанные обстоятельства, можно подвести некоторые итоги. Несомненно, на данный момент мы наблюдаем как разворот России
в сторону Азии, так и наоборот. Два современных независимых государства с
непохожей историей и расположением присоединяются к сильному союзу, получая массу возможностей и перспектив: повышение экономических показателей, повышение экономической стабильности, развитие широких свободных
торговых отношений со странами-соседями, поддержка и развитие стабильных
и продуктивных политических отношений. Присоединение Кыргызской Республики и Республики Армения означает продвижение евразийской интеграции
на юг и на запад, удлинение общей границы ЕАЭС с КНР. Появляется общая
граница между ЕАЭС и Таджикистаном. Интеграция не всегда может быть позитивным процессом. Любое глобальное политическое явление имеет как множество положительных сторон, так и немало недостатков. Мы оцениваем
ЕАЭС, прежде всего, как процесс, способный объединить многие государства
тесными дружественными политическими и экономическими связями.
Литература
1. Американо-киргизские отношения. Государственный департамент США. URL: http://
www.state.gov/ (дата обращения: 29.03.2016).
2. Приоритеты Кыргызстана в сближении с Евразийским экономическим союзом. URL:
http://www.vzglyad.kg/ (дата обращения: 29.03.2016).
3. Кыргызстан денонсировал соглашения с США. URL: http://www.vb.kg/ (дата обращения: 28.03.2016).
4. Доклад председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Виктора Христенко. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-04-2012-2.aspx/ (дата
обращения: 30.03.2016).
5. Основные макроэкономические показатели по Армении по месяцам. URL:
http://www.cisstat.com/ (дата обращения: 30.03.2016).
6. МИД Республики Армения. Двусторонние отношения Армении и США. URL:
http://www.mfa.am/ru/country-by-country/us/ (дата обращения: 31.03.2016).
7. Российская Газета. URL: http://www.rg.ru/2015/04/06/medvedev-site.html/ (дата обращения: 31.03.2016).
374