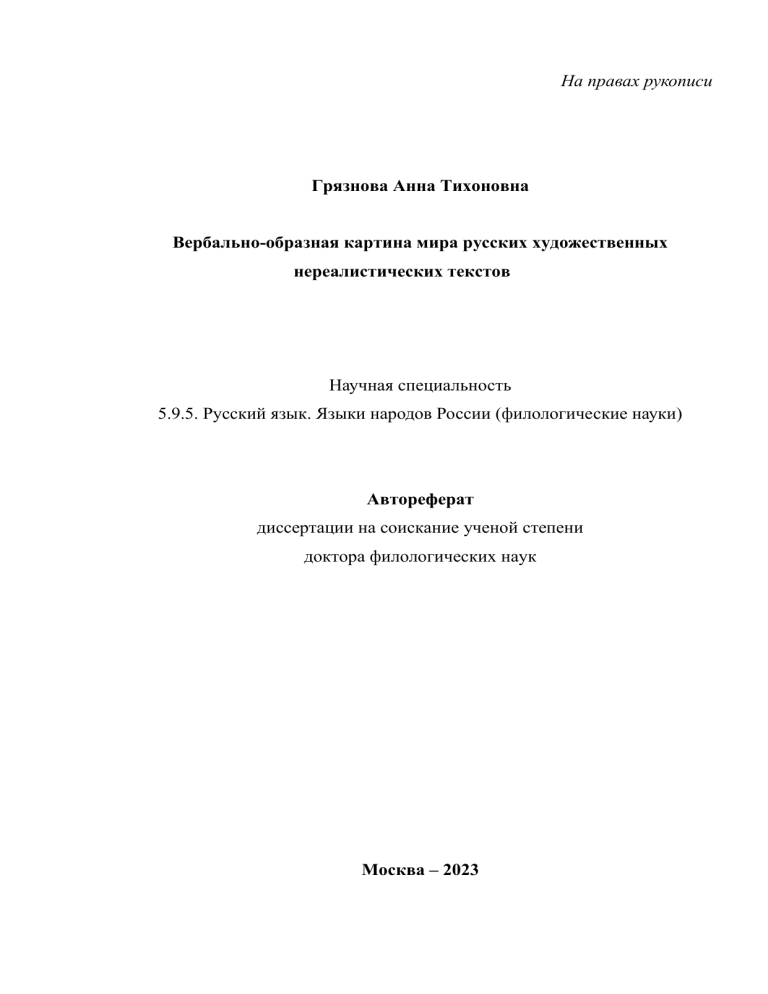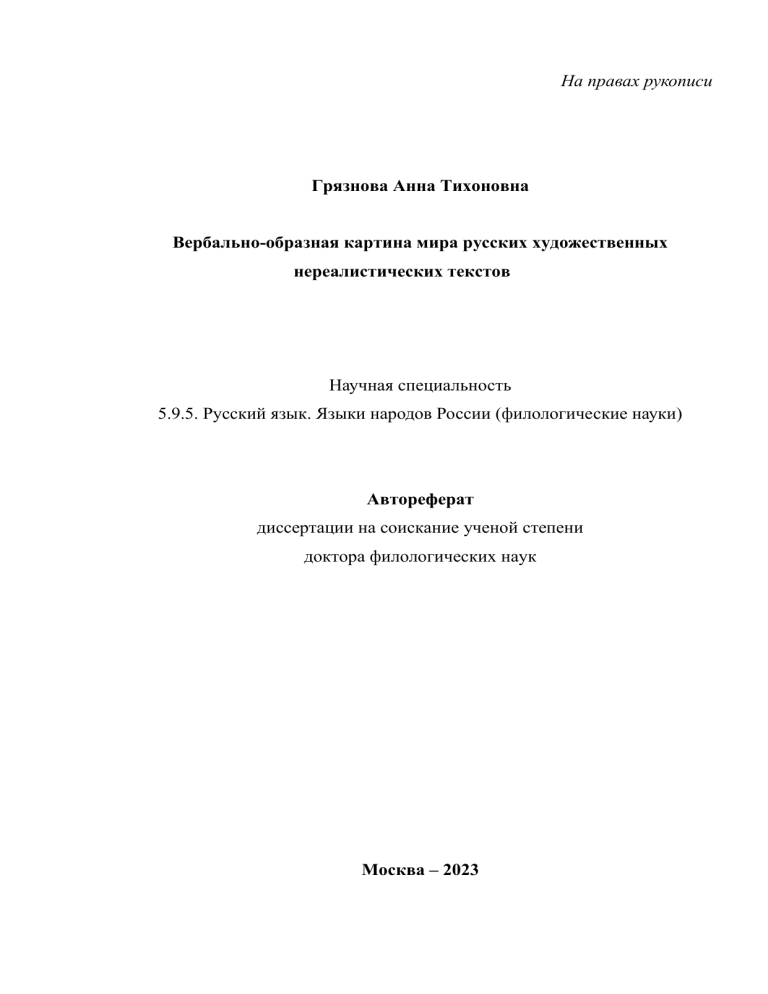
На правах рукописи
Грязнова Анна Тихоновна
Вербально-образная картина мира русских художественных
нереалистических текстов
Научная специальность
5.9.5. Русский язык. Языки народов России (филологические науки)
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
доктора филологических наук
Москва – 2023
Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский педагогический
государственный университет» на кафедре русского языка Института филологии
Научный
консультант:
Официальные
оппоненты:
Ведущая
организация:
доктор филологических наук, профессор
Колесникова Светлана Михайловна
Геймбух Елена Юрьевна,
доктор филологических наук, профессор, Государственное
автономное образовательное учреждение высшего
образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет», институт гуманитарных
наук, департамент филологии, профессор департамента;
Клушина Наталья Ивановна,
доктор филологических наук, профессор, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», Факультет
журналистики, кафедра стилистики русского языка,
профессор кафедры;
Халикова Наталья Владимировна,
доктор филологических наук, профессор, федеральное
государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы «Государственный
университет
просвещения»,
факультет
русской
филологии, кафедра современного русского языка имени
профессора П.А. Леканта, профессор кафедры.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А. С. Пушкина» (г. Москва).
Защита состоится «11» марта 2024 года в 15 часов 00 минут на заседании
диссертационного совета 33.2.013.13, созданного на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский педагогический государственный университет», по
адресу: 119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1, ауд. 209.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский педагогический государственный университет», по
адресу: 119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1 и на официальном
сайте университета по адресу: http://www.mpgu.su.
Автореферат разослан «____» ______________________ 2024 г.
И.о. ученого секретаря
диссертационного совета
Чапаева Любовь Георгиевна
3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Диссертация посвящена лингвопоэтической характеристике вербальнообразной картины мира с использованием когнитивного подхода. Она стала
результатом наблюдений автора над языковым стилем русских
нереалистических художественных произведений, в число которых входят
тексты романтического, символистского и фэнтезийного направлений (первая
треть ХIХ - начало ХХI в.). Стиль текстов русской нереалистической
художественной литературы обнаруживает инвариантность языковой
организации, которая обусловлена генетическим родством стилей романтизма,
символизма и фэнтези. В то же время языку русских нереалистических текстов
присуща динамика, которая обусловлена, с одной стороны, изменениями
языковой системы, а с другой, экстралингвистическими причинами,
породившими ее. К их числу принадлежат развитие техники, культуры и науки,
в том числе появление новых философских концепций, которые повлияли на
изменения в мировидении представителей различных направлений
нереалистической литературы. Изменение картины мира, в свою очередь,
повлияло на принципы миромоделирования в художественных произведениях,
которые должны учитываться при исследовании динамики стилей конкретных
создателей текстов, представителей определенных литературных направлений.
Исследование динамики стилей текстов, относящихся к тому или иному
литературному течению, в языковом аспекте относится к числу актуальных
направлений лингвопоэтики, концептуальной лингвистики, текстологии и
лингвистического миромоделирования.
Актуальность
исследования
определяется
необходимостью
разграничения вербально-образной картины мира как инструмента
лингвопоэтики и формирования критериев отличия от национальной языковой
картины мира как объекта изучения лингвокультурологии, а также
художественной картины мира как объекта исследования литературоведения,
созданием полного представления о языковом миромоделировании в
художественном тексте.
Исследование динамики литературных стилей в языковом аспекте
относится к числу приоритетных направлений лингвопоэтических
исследований, когнитивной лингвистики, текстологии и лингвистического
миромоделирования. Антропоцентрическая парадигма в лингвистике
демонстрирует неугасающий интерес к когнитивному потенциалу картины мира,
которая предстает как значимый объект исследования в текстах русских
нереалистических произведений художественной литературы. Научные труды,
созданные в рамках антропоцентрической парадигмы в лингвистике,
демонстрируют интерес исследователей к когнитивному потенциалу языковой
картины мира, которая изучается преимущественно в обыденной разновидности.
Не менее интересный материал для исследования когнитивных процессов,
отраженных в языке, предоставляет язык художественной литературы.
К настоящему времени накоплен значительный объем лингвопоэтической
информации о языковой организации текстов конкретных литературных
4
направлений: классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма,
модернизма, постмодернизма. Решение этой проблемы осуществлялось
российской лингвопоэтикой с опорой на разные принципы: с учетом хронологии;
с целеустановкой системного описания элементов конкретных стилей; с учетом
генезиса литературных стилей преимущественно в рамках лингвоцентрического,
текстоцентрического, коммуникативного подходов. В то же время недостает
работ, посвященных исследованию стилей генетически родственных
направлений в когнитивном аспекте. Описание особенностей языковой картины
мира как средства воплощения стиля русских нереалистических текстов важно в
силу необходимости реконструкции художественной картины мира, присущей
произведениям этой стилевой разновидности, без чего невозможно правильно
оценить динамику развития языка литературных течений в истории русского
литературного языка, а также объяснить природу языковых приемов,
заимствованных создателями реалистических текстов из произведений
писателей нереалистического направления.
Цель диссертации – динамическое описание вербально-образной картины
мира как элемента языкового стиля русских художественных нереалистических
текстов.
Настоящее исследование вносит вклад в многоаспектное исследование
языковых единиц и категорий современного русского языка с когнитивных
позиций.
Объектом исследования в данной диссертации являются язык и стиль
русских художественных нереалистических текстов периода первой трети ХIХ
в. - начала ХХI в.
Язык художественных текстов представляет систему потенциально
пригодных для выполнения эстетической функции разноуровневых единиц,
характеризующихся, с одной стороны, стабильностью, а с другой –
обнаруживающих тенденцию к варьированию в рамках генетически
родственных литературных направлений.
Стиль художественного текста понимается нами как реализация
парадигматического и синтагматического потенциала этих единиц в речи,
используемая с целью достижения авторской интенции, обнаруживающих
сходство принципов применения в лингвопоэтике представителей одного
литературного направления.
Стили русских нереалистических текстов в настоящее время активно
изучаются с филологических позиций: в круг исследуемых феноменов
включаются тексты российских писателей, которые ранее не становились
предметом филологического изучения: произведения О. И. Сенковского
[Тозыякова, 2007], А. Чаянова [Апалькова, 2023]; поэтика нереалистических
художественных текстов рассматривается под новым углом зрения, с учетом
выделения течений постромантизма и неоромантизма [Кармалова, 1999, 2005;
Липовецкий, 2018], изучается язык создателей нереалистических текстов,
которые раньше находились за пределами внимания филологов: Д. Емец,
[Чугунова, 2017], М. Г. Успенский [Переход, 2016] а также художественных
приемов, представлявших периферию лингвопоэтических наблюдений
5
[Дрошнев, 3013]. Большинство исследований текстов романтической парадигмы
и символизма осуществляются с литературоведческих, культурологических
философских позиций. Фэнтезийные тексты изучаются и с лингвопоэтической
точки зрения, но посвящены преимущественно частным вопросам:
анализируются способы перевода языковых единиц с английского языка на
русский [Мордвинова, 2016; Евстафиади, 2020]; решаются вопросы
терминологии фэнтезийного и околофэнтезийного дискурса [Лекарева, 2020];
выявляются стилистические особенности языка фэнтези [Гусарова, 2021];
рассматривается проблема создания окказионализмов [Кирияченко, 2017]. В
последнее время усилился интерес к изучению языка фэнтези с когнитивных
позиций: анализу подвергается вербализация концептов [Пушкарева, 2020];
характеризуется отражение нереалистической картины мира в толковом словаре
[Ваулина, 2019]; устанавливаются интертекстуальные связи языка фэнтези
[Беренкова, 2019]. Изменение проблематики научного описания обусловлено
динамикой становления стиля нереалистических художественных текстов.
Предмет исследования – вербально-образная картина мира русских
художественных нереалистических текстов.
Новизна диссертационного исследования обусловлена своеобразием
предмета исследования, в роли которого выступает вербально-образная картина
мира русских нереалистических текстов. Данный термин введен нами как
рабочий и использован для характеристики языкового уровня художественной
картины мира (ХКМ).
Проблема динамического описания вербально-образной картины мира
русских нереалистических текстов решается на широком фактическом
материале, в роли которого выступают поэтические и прозаические тексты
произведений
различных
подстилей
нереалистической
парадигмы:
предромантизма (В. К. Кюхельбекер), романтизма (А. А. Бестужев, А. Ф.
Вельтман, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, А. С. Пушкин, А. И. Одоевский,
В. Ф. Одоевский, О. И. Сенковский, А. С. Хомяков), постромантизма
(А. К. Толстой, С. Я. Надсон, К. М. Фофанов, К. К. Случевский), неоромантизма
(А. Грин, М. А. Булгаков) и писателей-реалистов, в чьих текстах
обнаруживаются неоромантические тенденции (А. И. Куприн, А. Н. Толстой),
символизма (А. Блок, В. Я. Брюсов) и представителей символистской парадигмы
(Н. С. Гумилев, В. Ф. Ходасевич) и фэнтези (Т. Авлошенко, А. Гурова, Д. Емец,
М. Завойчинская, В. Е. Иванова, Е. Кинн, Н. Некрасова, А. Пехов Е. Хаецкая,
М. Г. Успенский, А. Уланов и др., которые рассматриваются на фоне языка и
стиля русскоязычных писателей Г. Л. Олди; В. Свержина (Украина),
Д. Трускиновской, Э. Раткевич (Латвия), часть которых ранее не становились
объектами лингвистического рассмотрения.
При отборе текстов мы руководствовались объективными факторами: 1) в
эпоху романтизма творческой лабораторией служили поэтические тексты,
эстетические нормы которых затем использовались в прозе, поэтому для анализа
были отобраны тексты начала ХIХ-ХХI вв. обоих родов; 2) анализировались
разножанровые нереалистические тексты (новеллы, романы, повести) разных
течений (философского, гражданского и др.); 3) важное место в кругу русских
6
нереалистических текстов занимает фэнтези, базирующееся на трудах русских
философов-идеалистов и отражающее русскую языковую картину мира,
вследствие чего на периферии научных наблюдений оказался язык авторов,
которые территориально не принадлежат ни к российскому, ни к постсоветскому
пространству (например Н. Перумов, проживающий в США). При стилевой
верификации текстов, с одной стороны, учитывалась информация,
представленная на сайте «Лаборатория фантастики» [https://fantlab.ru/], где
квалифицированы языковые характеристики нереалистических текстов, а с
другой, на материалы интервью писателей, в которых они определяют
лингвопоэтическое своеобразие собственных произведений. С этой точки зрения
в сферу наших наблюдений не попали писатель-постмодернист В. Пелевин и
фантаст С. Лукьяненко1.
Теоретической базой исследования послужили научные труды
С. А. Аскольдова [Аскольдов, 1997], Н. С. Болотновой, [Болотнова, 2009],
В. В. Виноградова [Виноградов, 1963], Г. О. Винокура [Винокур, 1991],
В. И. Карасика [Карасик, 2004], С. М. Колесниковой [Колесникова, 2023],
Ж. Н. Масловой [Маслова, 2010], Н. А. Николиной [Николина, 2007],
Л. В. Миллер [Миллер, 2004], Г. Г. Слышкина [Слышкин, 2004], И. А. Тарасовой
[Тарасова, 2010, 2011], А. Д. Шмелева [Шмелев, 2005, 2012] и др.
Для достижения цели исследования в диссертации решаются следующие
задачи:
1)
изучить научную литературу по истории и теории вопроса;
2)
сформировать терминологическую базу исследования,
определив
основные
понятия:
«нереалистическая
литература»;
«художественная картина мира»; «вербально-образная картина мира»
(далее - ВОКМ); «художественный концепт»; «модификация концепта»;
3)
уточнить соотношение понятий «стиль» и «вербальнообразная картина мира»;
4)
методом сплошной выборки составить картотеку примеров;
5)
охарактеризовать структуру вербально-образной картины
мира;
6)
определить
место
художественного
концепта
и
концептуального поля в структуре ВОКМ;
7)
исследовать принципы концептуализации действительности в
стилях романтизма, символизма и фэнтези;
8)
проанализировать своеобразие репрезентации персональной,
темпоральной и локальной сфер ядра ВОКМ русских нереалистических
текстов;
9)
охарактеризовать тропы и приемы, используемые в
околоядерной зоне концептосферы текстов русской нереалистической
прозы.
10) сделать вывод о сходстве и различиях организации
романтической. символистской, фэнтезийной ВОКМ;
Писатель называет свой стиль «социальной фантастикой», «фантастикой жёсткого действия» или «фантастикой
Пути», считая свое творчество отчасти постмодернистским.
1
7
11) наметить перспективы исследования.
Для достижения цели и решения задач были использованы методы
когнитивного и полевого анализа, лингвистического декодирования и
моделирования, опирающиеся на частные виды разбора: семного, лексического,
стилистического, лингвокультурологического.
Когнитивный анализ текста требует рассмотрения его структуры с учетом
дискурсивных, интертекстуальных, гипертекстуальных и сверхтекстуальных
связей [Романова, 2013], поэтому на современном этапе анализ языка
нереалистических текстов представляет собой сложную задачу, требующую
комплексного решения, а формирующийся корпус лингвопоэтических
исследований и накопленная база художественных нереалистических текстов
дают богатый материал для размышлений.
В настоящей диссертации методы когнитивного, дискурсивного,
интертекстуального, гипертекстуального и сверхтекстуального анализа
использовались с учетом этапности становления стиля русских художественных
нереалистических текстов, поэтому степень детализации каждого из них на
конкретном этапе анализа зависела от степени представленности в языке
направления необходимого для наблюдений материала.
Гипотеза: вербально-образная картина мира предромантических,
романтических, постромантических, неоромантических, символистских и
фэнтезийных художественных текстов создается системой разноуровневых
языковых единиц и генетически родственных приемов эстетического
преобразования,
представляющих
собой
специфические
способы
нереалистического лингвокогнитивного миромоделирования.
Положения, выносимые на защиту:
1.
Термин «нереалистические тексты» (художественные тексты
нереалистических направлений) используется в когнитивной лингвистике для
характеристики лингвостилевой парадигмы генетически родственных
вербально-образных картин мира (романтической, постромантической,
неоромантической, символистской и фэнтезийной), основанных на
идеалистической модели миромоделирования.
2.
Вербально-образная картина мира (ВОКМ) – это универсальная
когнитивная лингвопоэтическая категория, отражающая своеобразие
миромоделирования конкретного создателя текста, представленная в его
идиостиле системой художественных концептов различной типологии и
функционирующая в текстах определенного литературного направления как
инвариантная модель мировидения, выраженная комплексом типичных
языковых средств, тропов и лингвопоэтических приемов.
3.
Понятие «стиль нереалистических текстов» включает в себя
категорию «вербально-образная картина мира», которая входит в его состав
наряду с грамматическими и лингвопоэтическими единицами, участвующими в
композиционной организации текста, а также средства языкового кодирования
эстетической информации, среди которых встречаются как собственно языковые
единицы (лексемы, фразеологизмы), так и элементы иных семиотических систем
(числовые и буквенные символы, редакторские знаки, пиктограммы).
8
4.
Художественный концепт в лингвистической разновидности
(лингвоконцепт), выступающий в роли структурно-семантической единицы
ВОКМ, характеризуется рядом признаков: 1) устойчивостью структуры и
наличием в ней понятийной, эмоциональной и экспрессивной составляющих,
проецирующихся на ядерную и околоядерную зоны компонентов, которые
актуализируются в текстах направления языковыми единицами различных
уровней; 2) полной или частичной логической неустойчивостью (смысловой
непредсказуемостью); 3) разной грамматической представленностью (различной
частеречной принадлежностью); 4) проявлением градационных отношений при
классификации по разным основаниям: а) различной степенью обобщенности; б)
принадлежностью к разным жанровым типам и формам (гиперконцептам,
фреймам, сценариям, гештальтам, концепт-символам, лингвопоэтическим
типажам); в) аномальной сочетаемостью вербализаторов и их глобализацией; г)
статусностью в рамках ВОКМ (мегаконцепты, макроконцепты, суперконцепты
и микроконцепты, образующие концептуальное поле); 5) развертыванием
посредством когнитивных и семантических модификаций.
5.
Конститутивным
признаком
русских
художественных
нереалистических текстов является неомифологизм, который проявляется в
выполнении миромоделирующей функции, альтернативной аналогичной
функции мифологической картины мира и реализующейся в категориях
универсализма; синкретизма, проявляющегося в диффузности использования
языковых единиц; диалогизма; использования категорий кажимости,
персональности,
темпоральности,
локативности;
логоцентризма;
немифонимизации.
6.
Главным средством миромоделирования в текстах романтизма,
постромантизма, неоромантизма, символизма выступает лингвистический
мегаконцепт МИР, раскрывающийся посредством антитезы бинарных
лингвистических макроконцептов СВЕТ - ТЬМА, ЖИЗНЬ - СМЕРТЬ, МЕЧТА РЕАЛЬНОСТЬ, СОН, менее частотен в текстах фэнтези, что объясняется
заменой презумпции двоемирия презумпцией многомирия; в текстах фэнтези
миромоделирующую функцию выполняет лингвистический мегаконцепт
ОТРАЖЕНИЕ, ядро которого формируется концептом МАГИЯ/МИСТИКА;
7.
Персональный
аспект
миромоделирования
в
русских
художественных нереалистических текстах осуществляется посредством
лингвопоэтических типажей, которые представляют особую разновидность
концепта и реализуются следующими когнитивными разновидностями:
ПОЭТА/ПЕВЦА,
ЧЕЛОВЕКА
ИСКУССТВА,
МАГА,
ГЕРОЯ,
ИНФЕРНАЛЬНОГО СУЩЕСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНОРАС и др.; на этапе
становления стиля фэнтези доминируют лингвопоэтические типажи ГЕРОЙ и
МАГ, которые в процессе его развития приобретают ряд семантических
модификаций (герой лишенный оружия, маг лишенный магии, путешественник
между мирами).
8.
Локативный аспект миромоделирования осуществляется в русских
художественных нереалистических текстах посредством лингвистических
концептов ПУТЬ, ДОМ, ГОРОД (НОВГОРОД, ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА; в
9
фэнтези - ВАВИЛОН), приобретших в них статус неомифонимов; в текстах
позднего романтизма формируются топосные тексты, где роль лингвоконцептов
пространственной семантики выполняют антонимичные топонимы СИБИРЬ КАВКАЗ (СЕВЕР - ЮГ).
9. Лингвистический концепт ПУТЬ, функционирующий в романтических
текстах в когнитивных модификациях «жизненный путь», «изгнание», «ссылка»,
«путешествие», подвергается пародированию в текстах В. Ф. Одоевского,
А. Ф. Вельтмана, О. И. Сенковского, где реализует семантику «русские дороги»,
«воображаемое путешествие по карте», «псевдонаучная экспедиция»; в
неоромантических и символистских текстах его понятийная составляющая
расширяется с помощью единиц макроконцепта ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
(автомобиль, трамвай, аэроплан и др.), в текстах фэнтези его роль заметно
снижается, а присутствие элементов данного концептуального поля указывает на
своеобразие ВОКМ отдельных создателей тестов (А. Белянина, Е. Кинн, Н.
Некрасова, А. Пехова).
10. Темпоральное миромоделирование в русских художественных
нереалистических текстах осуществляется посредством лингвистических
концептов
КАЛЕНДАРНОЕ/СУТОЧНОЕ
ВРЕМЯ,
ОСЕНЬ,
ИГРА,
сохраняющих высокую частотность на всех этапах формирования
нереалистической литературной парадигмы с увеличением числа когнитивных и
семантических модификаций, которые используются как в пародийных, так и в
«коммерческих» текстах.
11. Лингвистический концепт ИГРА, выступающий в когнитивных
модификациях «карточная игра», «театральная игра», «игра на музыкальных
инструментах», «игра воображения», «языковая игра», в русских
нереалистических текстах служит репрезентантом «магического» времени; в
текстах фэнтези он имеет миромоделирующий статус, реализуясь в
фонетической, словообразовательной, фразеологической, семантической,
прагматической разновидностях языковой игры.
12. Динамика использования тропов и художественных приемов,
участвующих в организации лингвистических концептов ЗАГАДКА/ТАЙНА,
ПРАВДООДОБИЕ/ДОСТОВЕРНОСТЬ, которые формируют околоядерную зону
полей МИР и ОТРАЖЕНИЕ, обусловлена ротацией видов ВОКМ
нереалистических текстов: стилеобразующие в текстах романтической и
символистской парадигм гипертропы (гипербола, ирония) и метафора в
фэнтезийных текстах вытесняются гротеском, субстантивацией, синестезией и
языковыми аномалиями, превращающимися из периферийных приемов создания
экспрессии в миромоделирующие средства, поскольку вербализуют
фундаментальные законы магического мира; сравнение как в текстах
романтической парадигмы, так и в текстах фэнтези, обнаруживает высокую
частотность, поскольку структурно объединяет все другие изобразительные
средства и приемы (символ, интертекстуальное вкрапление, метафора,
метонимия и др.), помогающие реализовать презумпцию многомирия.
13. Интертекстуальные вкрапления в нереалистических художественных
текстах реализуют неявные компоненты смысла, которые обеспечивают
10
внутреннюю связь ВОКМ их текстов с художественными картинами мира
предшественников и современников: 1) в текстах романтической парадигмы
текстами-донорами служат «Слово о полку Игореве», тексты произведений
В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова; 2) в фэнтезийных текстах
актуализируются прецедентные феномены русских народных сказок, лирики А.
С. Пушкина, романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», сказок Л. Кэрролла
«Алиса в стране чудес», А. Милна «Винни-Пух и все-все-все », А. Линдгрен
«Малыш и Карлсон», цикла Р. Киплинга «Книга джунглей».
Теоретическая значимость диссертации обусловлена актуализацией
лингвокогнитивного подхода в рамках лингвистического исследования
художественных текстов русской нереалистической литературы за счет
углубления представлений об организации их художественной картины мира
систематизацией сведений о ее миромоделирующем потенциале на языковом
уровне. Уточнение лингвокогнитивного статуса художественных концептов и их
типологии позволяет выстроить иерархию концептуальных полей русской
художественной нереалистической прозы и охарактеризовать их участие в
структурировании ВОКМ с учетом динамических процессов. Исследование
принципов построения вербально-образной картины мира на материале русских
художественных нереалистических текстов романтико-фэнтезийной парадигмы
открывают перспективы описания ВОКМ других нереалистических парадигм:
импрессионистической, экспрессионистской, футуристической, абсурдистской,
литературно-сказочной.
Важное
место
в
диссертации
занимает
лингвокогнитивная характеристика таких тропеических средств и приемов, как
гротеск, языковая, в том числе стилистическая, аномалия, сравнение, синестезия
и др.
Практическая направленность определяется тем, что ее материалы могут
быть использованы в процессе преподавания учебных курсов «Филологический
анализ текста», «Лингвистический анализ текста», «Лингвистическая поэтика»,
«Когнитивная лингвистика», «Лингвокультурология», при чтении спецкурсов и
спецсеминаров; алгоритм научных суждений может быть в исследовательской
работе аналогичной тематики.
Основные положения исследования докладывались на Международных
конференциях в Москве (1996, 2001, 2002, 2015, 2017, 2021, 2022, 2023),
Ставрополе (2003), Смоленске (2003), Ярославле (2004, 2005, 2006, 2008, 2009,
2010, 2014, 2022), Соликамске (2004), Архангельске (2006), Рубцовске (2011).
. Структура докторской диссертации включает в себя Введение, восемь
глав, Заключение, Список литературы и Приложение.
Список литературы включает 569 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновываются актуальность и новизна исследования,
намечаются его цель и задачи, выдвигаются гипотеза и положения, выносимые
на защиту.
Глава 1. «Вербально-образная картина мира в лингвистической
научной парадигме»
11
В п. 1.1. Язык и стиль русских нереалистических текстов как объект
анализа лингвокогнитивной поэтики раскрывается термин художественные
нереалистические тексты, который обозначает объект наблюдений и позволяет
объединить в рамках исследования комплекс текстов, создававшихся на
протяжении значительного временного отрезка, но при этом обнаруживающих
сходство языковой картины мира. В число рассматриваемых объектов входят
тексты романтической парадигмы (предромантические, романтические,
постромантические, неоромантические), символистские, околосимволистские и
фэнтези2, объединенные объективноидеалистическим мировидением их
создателей.
В п. 1.2. Вербально-образная картина мира как предмет исследования
лингвокогнитивной поэтики понятие «Вербально-образная картина мира
(ВОКМ)» рассматривается на фоне однопорядковых представлений (картина
мира, художественная картина мира, прозаическая модель мира, языковая
картина мира писателя, концептуально-языковая картина мира писателя) и
определяется как «универсальная когнитивная лингвопоэтическая категория,
отражающая своеобразие миромоделирования конкретного создателя текста,
представленная в его идиостиле системой художественных концептов различной
типологии и функционирующая в текстах определенного литературного
направления как инвариантная модель мировидения, выраженная комплексом
типичных языковых средств, тропов и лингвопоэтических приемов.
Составляющая термина «вербальная» трактуется с опорой на его
психолингвистическую дефиницию, поскольку она учитывает информационнознаковый, инструментальный характер языка, как средства вербализации
внутренний речи автора и создания образов, ключ к пониманию индивидуальной
картины мира создателя текста. Термин «образность» понимается как иерархия
«всех языковых и речевых форм в процессе субъективной объективации
художественных концептов и базируется на воспроизводимости устойчивых
образных констант и вариативности образных (поэтических) парадигм,
вступающих в отношения- образной пропорциональности» [Халикова, 2004,
с.5].
Иерархия ядерных полей в ВОКМ нереалистических тестов организуется
иначе, чем в обыденной КМ: концепт «Человек» играет в ней подчиненную роль,
конкурируя с концептуальными полями «Представитель инфернальных сил»
(призраки, духи, колдуны вампиры и т.д.) в текстах романтической парадигмы и
«Представители нечеловеческих рас» (эльфы, драконы и т.д.) в фэнтези, в
результате чего оно приобретает вид: 1) Мир/ Отражение; 2) Бог/демиург; 3)
топос/хронос; 4) человек; 4) «представители волшебных рас или инфернальных
2
«Фэнтези – разновидность неомифа; литературное течение конца ХХ в., в основе
которого своеобразное сращение сказки, фантастики и приключенческого романа соединяются в
единую («параллельную», «вторичную») художественную реальность с тенденцией к воссозданию,
переосмыслению мифического архетипа и формированию нового мифа с ее границах»
[Мещерякова, 2001, с. 208].
12
сил»; 5) животные, в том числе обладающие даром мысли и речи; 6) артефакты,
в том числе одушевленные и др.
Структура ядра, как и структура периферии, способна меняться под
влиянием специфики художественного метода, литературного направления,
интенций писателя. Б. Н. Стругацкий обнаружил, что фантастические тексты на
идейно-тематическом и композиционно-образном уровнях структурируются
инвариантным концептуальным ядром Чудо – Тайна – Достоверность
[Нехорошев, 2008]. Анализ нереалистических текстов показывает, что под
влиянием стилевого своеобразия формула Б. Н. Стругацкого модифицируется: в
структуре ВОКМ языковые единицы объединяются в рамках мегаконцептов
МИР/ОТРАЖЕНИЕ, центральное место в ядре которых занимают мегаконцепты
СВЕТ – ТЬМА, ЖИЗНЬ -СМЕРТЬ, МИСТИКА в текстах романтической
парадигмы и символизма, и МАГИЯ – в фэнтези (подробнее п.3.2.).
Для исследования ВОКМ нереалистических художественных текстов в
диссертации использован когнитивный метод, включающий «анализ процесса
или сам процесс кодирования и декодирования смысла текста. В соединении с
текстоцентрическим подходом – выявление глубинного смысла, свѐрнутой
смысловой структуры» [Романова, 2013, с. 494].
В п. 1.3. Художественный лингвоконцепт как структурный элемент
вербально-образной картины раскрывается термин «художественный
концепт3», который трактуется как вербально-образный конструкт,
организующий текст произведения на языковом уровне. Являясь элементом
вербально-образной
картины
мира,
он
представляет
собой
сложноорганизованный феномен, формирующийся в конкретном тексте (ряде
текстов) общего литературного направления как результат взаимодействия
чувств и мыслительных операций автора (авторов) над языковыми знаками,
вербализованный
нетривиальным
образом
посредством
эстетически
преобразованных единиц национального языка.
Первое и главное свойство художественных лингвоконцептов
(восприятий, по С. А. Аскольдову) – это отсутствие у них логической
устойчивости, которую можно определить как связь формы языковой единицы
и смыслового комплекса, закрепленного за ней в языковой картине мира (ЯКМ):
концепты ИГРА, МАГИЯ функционируют в вербально-образных картинах мира
всех художественных нереалистических текстах, но проявляются по-разному: в
романтических текстах они представлены модификациями КАРТОЧНАЯ ИГРА
(штосс, фараон) и МИСТИКА (полночь, туман, город без имени), а в фэнтези –
окказионализмами. Так, первый из концептов реализуется в цикле Д. Емца о
Тане Гроттер с помощью единиц драконбол; пламягасительный, одурительный,
перцовый, чихательный, обездвиживающий (мячи); а второй в цикле того же
автора «ШНЫР» раскрывается с помощью новообразований ведьмарь (по
аналогии с ведьмак), пегасня (стойло пегасов) и др. Приведенные примеры
свидетельствуют об индивидуальности художественных слов, т.е.
3
Термин трактуется с опорой на работы Аскольдова, 1997; Адамовой, 2011; Болотновой, 2009;
Колесниковаой 2023, 2017; Красовской, 2009; Миллер, 2000; Тарасовой, 2010; Ткаченко, 2011.
13
вербализаторов концепта, но уникальными могут быть и сами концепты
(например, ШМАГИЯ – шутовская магия, в одноименной повести Г. Л. Олди).
Художественные концепты в нереалистических текстах, несмотря на
индивидуальность, обнаруживают общность смысло-образной структуры,
которую С. А. Аскольдов объясняет общностью семантики вербализаторов,
употребляя для этого термин точки пересечения. Эту функцию выполняют
различные типы сем: информемы (минимальные компоненты лексического или
грамматического смысла) и прагмемы (эмосемы, экспрессемы, стилемы и
потенциальные семы). Первые формируют понятийную общность концепта,
вторые – эстетическую, участвуя в процессе смыслопорождения и связи
вербализаторов концепта внутри возглавляемого им поля. В цикле Л. Романовой
«Пройти по Краю» имя концепта КРАЙ одновременно выступает в роли
архисемы функционально-семантического поля, на что указывает синтагматика:
люди КРАЯ (люди крыш, люди нор, люди ветра, люди сети). При этом, в отличие
от обыденной картины мира, концепт КРАЙ понимается как «мир, в котором по
своим законам живут представители инорас».
Грамматические и семантические особенности художественного концепта
задают тип концептуального поля, а следовательно, когнитивную модель,
реализуемую с его помощью: в текстах романтической парадигмы и символизма
распространены концепты-гештальты, актуальные в религиозном дискурсе
СВЕТ, ТЬМА, ПУТЬ, СОН, а в фэнтези – концепты-гиперонимы (ОРУЖИЕ),
фреймы/сценарии (МЕЧ, КОЛДОВСТВО, КВЕСТ, МУЗЫКА), гештальты
(БАШНЯ, СЕРДЦЕ, ВЕТЕР).
Художественные концепты могут быть уникальными: ДУМКА (Вельтман,
1986), ШТОСС [Лермонтов, 1987], МОТОРИЯ [Пехов, 2016] и др. Важным
способом изучения художественных концептов в когнитивном аспекте является
описание их места в вербально-образной картине мира.
В п. 1.4. Типология художественных концептов в лингвопоэтике
освещается их многоаспектная классификация, используемая в диссертации.
Объем художественного концепта может быть различным: в диссертации
разграничиваются
мегаконцепты,
макроконцепты,
суперконцепты
и
микроконцепты.
В когнитивной поэтике мегаконцепты целесообразно понимать как
крупные многомерные ментально-лингвальные образования, отличающие стиль
рассматриваемого литературное направление от однопорядковых и включающие
в себя когнитивные образования более простой структуры [ср. Французская,
2012]. К числу художественных мегаконцептов, структурирующих ВОКМ
фэнтези, относятся ОТРАЖЕНИЕ/ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, МАГИЯ,
ЗАГАДКА, ПРАВДОПОДОБИЕ. Макроконцепты – ментально-лингвальные
образования, формирующие ядерные зоны мегаконцептов. В ВОКМ фэнтези это
ГЕРОЙ, ОСЕНЬ, ИГРА, ДОМ, ОРУЖИЕ (МЕЧ) и др. Суперконцепты находятся
на границе ядра и околоядерной зоны ВОКМ, в результате чего могут
перемещаться как в одну, так и в другую сторону. На динамику их локализации
влияет частотность использования элементов концептуального поля в текстах
фэнтези того или иного периода. В фэнтези в их число входят ОРУЖИЕ, ЦВЕТ,
14
РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ и др. Микроконцепты формируют периферию
ВОКМ, они репрезентируются лексемами в переносных значениях: ОГОНЬ,
ВОДА, КОМЕТА и др.
С точки зрения внутренней организации нами выделяются гиперконцепты,
фреймы,
сценарии
(скрипты),
гештальты,
символ-концепты
и
лингвопоэтические типажи. В состав гиперконцептов входят языковые единицы,
обладающие
гипонимическими
(видовыми)
значениями.
Гипонимы,
формирующие концептуальное поле, в свою очередь, возглавляют тематические
группы, которые в художественном тексте включают как узуальные, так и
окказиональные языковые элементы. Они структурируются авторами текстов с
учетом когнитивных установок, направленных на формирование у читателя
определенной картины мира. Языковые элементы ядра гиперконцепта элементы
связаны друг с другом как родовое: ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (трамвай,
автомобиль, поезд и т. д.), ОРУЖИЕ (меч, сабля, клинок и т. д.).
Фрейм понимается, как структур данных (применительно к тексту –
языковых единиц), описывающую стереотипную ситуацию [Минский, 1979, с.7].
Схематически он выглядит как сеть, состоящая из узлов и отношений между
ними – суперфреймов, фреймов и субфреймов. В неоромантических текстах А.
Грина концептом суперфреймовой структуры является ПРЕСТУПЛЕНИЕ
(ПРАВОСУДИЕ), а макрофреймовой – БОЛЕЗНЬ (БЕЗУМИЕ). В фэнтезийных
текстах к числу таких концептов относятся КОЛДОВСТВО, ПОЕДИНОК и др.
Гештальт, по мнению В. И. Карасика, «подчеркивает целостность
хранимого образа, его несводимость к сумме признаков» [Карасик, 2002, с. 106].
Имя гештальта выражено многозначной лексемой, среди лексико-семантических
вариантов которой велико число образованных посредством метонимического
переноса, благодаря им возникает ощущение нечленимости образа. К числу
гештальтов в нереалистических текстах принадлежат мегаконцепты МИР,
МАГИЯ, МИСТИКА, СВЕТ, ТЬМА.
Концепт-символ существует в лингвопоэтике как самостоятельная
категория. В художественном тексте концепт-символ функционирует как
система взаимодействующих друг с другом элементов различных кодов
культуры, то есть свертку вербально-образной картины мира данного текста.
Ядро концепт-символа представлено комплексом номинативных единиц.
Лексемам и фразеологизмам, входящим в ее состав, присуща минимизация
объема узуальных понятийных сем и увеличение доли фоновых компонентов
смысла,
обладающих
архаической
семантикой,
что
усиливает
неомифологические черты ВОКМ. В формировании околоядерной зоны
концепт-символа, которая выражена сильнее ядра, участвуют эмоциональные и
экспрессивные языковые средства, анализ которых производится с помощью
полевого метода и культурологического комментария. Околоядерная зона
концепт-символа выражена значительно сильнее, чем ядро, за счет усиления
эмоционально-экспрессивной составляющей и ослабления понятийной.
Периферия включает в себя языковые единицы, маркирующие валентности
концепт-символа, которые служат для его связи с другими концептами текста,
важными для организации композиционно-образного уровня текста.
15
Поскольку нереалистические тексты даже сильнее, чем реалистические,
тяготеют к типологизации персонажей, то для языковой характеристики
последних может быть использован особый тип концепта, который мы
предлагаем назвать лингвопоэтическим типажом. Моделью анализа способен
послужить алгоритм описания а лингвокультурного типажа [Лутовинова, 2009]4.
В нереалистических текстах прием типизации прослеживается отчетливо и при
этом обнаруживает тенденции как к расширению, так и сужению. Так, образ
колдуна (колдуньи) в романтических и постромантических текстах может
выступать как в исходном виде, так и в модификациях вампир (упырь),
оборотень (Толстой), инфернальная сущность (Тургенев); в символизме и
околосимволистских течениях –мага, зеркального двойника (В. Я. Брюсов, В. Ф.
Ходасевич). Лингвопоэтический типаж положительного героя, представленный
в романтических, постромантических текстах модификациями поэт, художник,
мечтатель, воин, в фэнтезийных текстах раннего периода сужается до
лингвопоэтического типажа ГЕРОЙ, который затем расширяется посредством
модификаций минус-маг, художник, писатель, подросток, представитель иных
рас.
1.5. Слово как минимальное языковое средство репрезентации
вербально-образной картины мира
Когнитивный
анализ
требует
выяснения
закономерностей
функционирования лексического значения слова в рамках концептуальных
полей. При этом следует учитывать, что под влиянием контекста оно может не
только переходить в иное концептуальное поле в сравнении с узусом, но и,
включая ряд компонентов, в условиях нереалистического контекста может
становиться элементом не одного, а сразу нескольких концептуальных полей.
Синкретизм
лексико-фразеологических
единиц
обнаруживается
при
употреблении первичных значений, которые воспринимается читателем на фоне
актуальных для него переносных значений. В неомифологическом фэнтези
происходит диффузное употребление нескольких значений многозначного слова
(метабола), если фоновая семантика первичного лексико−семантического
варианта (ЛСВ) содержит мифологический компонент. Формальным признаком
использования этого приема в тексте служит коннотативное рассогласование
грамматически связанных элементов фразы («Берег хаоса»), проспективно
воспринимаемые читателем с учетом негативной оценочности переносных
метафорических значений, и меняющие эмоциональную окраску в тексте (Хаос,
вечный и нетленный (междометие, ср. боже, господи), Игры с Хаосом и др.).
Глава 2. Конститутивные признаки вербально-образной картины
мира русских художественных нереалистических текстов
4
Понятийная составляющая объединяет прямые номинации героя, информацию о его внешности,
социальном статусе, биографии, которые образуют ядро; эмоциональная и экспрессивная
характеристики, составляющие околоядерную зону, включают реплики самого персонажа, других
героев и автора текста, выполняющих характеризующую и характеристическую функции; периферия
формируется языковыми сигналами, которые указывают на национально-культурную специфику
образа.
16
В п. 2.1. «Неомифологизм как основной конститутивный признак
вербально-образной картины мира русских нереалистических текстов»
анализируются понятия мифологизм и неомифологизм5. Анализ языкового
материала
позволил
выявить
такие
конститутивные
признаки
неомифологического фэнтези, как синкретизм, универсализм, диалогизм, особая
организация пространственно-временного континуума, основывающегося не
только на мультиверсализме (многомирии), но и на привычном для романтизма
двоемирии.
В русских романтических текстах неомифологизм реализуется, в первую
очередь, как универсализм – признание Абсолюта в качестве первопричины
бытия и отражение его в каждом из явлений окружающей действительности.
Репрезентантом Универсума в текстах романтической и символистской
парадигм служит пейзаж, который, как в повести «Иоланда» А. Ф. Вельтмана,
где использованы языковые элементы концептуальных полей «Свет» и «Тьма»
(солнце, тени, запад, тьма и др.). В постромантических и символистских текстах
ирреальные силы изображаются подчеркнуто дуалистичными, и далеко не всегда
концепт СВЕТ является в них доминирующим (см. «Упырь» А. К. Толстого,
«Огненный ангел» В. Я Брюсова»).
Ведущую роль в системе конститутивных признаков мифа и неомифа
играет синкретизм. Его следствием в нереалистических текстах является
объединение черт прозы и поэзии (см. роман А. Ф. Вельтмана «Странник»,
центонные вставки в повестях М. Г. Успенского). На языковом уровне механизм
синкретизма проявляется в использовании слов с предельно обобщенной
семантикой (огонь, тьма), различные ЛСВ которых участвуют в вербализации
ВОКМ (ср. приобретающие в повести Т. Авлошенко «Никому не нужные люди»
символическое значение лексемы тьма, дом, дорога).
Неомифу присуща особая модальная, пространственная и временная
организация, вербализаторы которой взаимодействуют друг с другом. Так, к
числу маркеров «столкновения времен» относятся смена наименований
социального статуса персонажа (полноименный, обломок, имяхранитель);
чередование различных типов обозначения времени (традиционные для
описываемой художественной реальности единицы измерения циклического
времени, что создает эффект «сгущения» и «замедления» его хода: ювекка
[Иванова, 2006], месяц короед [Успенский, 2002]); персональное время героя,
маркированное посредством лексемы осень; ритуальное время – момент, в
который происходит приобщение героя к мифологическому времени (маркерами
выступают лирические отступления (в романе Г. Л. Олди «Шутиха» их
сигналом служат модификации прецедентного высказывания распалась связь
времен).
5
Мифологизм – это «текстовая и речевая (ситуативная) реализация семантики архетипа
(мифологемы) в данном … произведении. Мифологизм … представляет собой многослойное
образование, сочетает … прагматику, эстетику, магичность, символичность» [Бондарец, 2004, с. 7].
Автором термина неомифологизм является Е. Мелетинский [Мелетинский, 2018], который связывал
его проявление в текстах с проекцией прототипических моделей на новые временные условия.
17
В русских художественных нереалистических текстах выделяются
разновидности топосов, обладающих интегрирующей функцией; в ВОКМ они
именуются посредством компонентов соответствующих концептуальных полей
с семантикой: «священные места» (радуга, мост, лестница, пещера, колодец);
«храм»; «дом»; «поселение»/ «город». Поле «Священные места» целесообразно
дополнить элементами гора, башня, а в список концептов включить парадигму
пограничное пространство, которая реализуется в тексте своими элементами
дорога/перекресток, остров, лабиринт и др.
В п. 2.2. Лингвистическая поэтика именования как универсальный
конститутивный признак вербально-образной картины мира русских
нереалистических текстов рассматривается художественный концепт ИМЯ,
являющийся маркером неомифологизма текстов направления.
В группу собственных имен, актуализируемых создателями русских
нереалистических текстов, входят реальные (Вавилон, Ирем, Москва, Петербург,
Невский проспект, Васильевский остров, Ваганьково, Останкино) и
вымышленные топонимы (квартал Бессонных ночей, Боярышниковый переулок
[Иванова, 2006]), которые в нереалистическом тексте вместе с обозначениями
представителей разумных рас, божеств и отрезков времени составляют ядро
художественного концептов РЕАЛЬНЫЙ/ИРРЕАЛЬНЫЙ МИР, ОТРАЖЕНИЕ,
МАГИЯ,
Понятийная составляющая концепта ИМЯ в нереалистических
художественных текстах обладает национально-культурной составляющей:
индивидуально-авторские онимы прямо или косвенно характеризуют страну и
эпоху,
которые
являются
прототипом
изображаемой
вторичной
действительности. Ср.: В. Я. Брюсов, «Огненный ангел»: Рупрехт, Генрих фон
Оттергейм (Мартин Лютер, Альбрехт Дюрер); А. Пехов, «Страж»: Людвиг;
Прогансу (ср. Прованс). В ВОКМ фэнтези система координат часто проецируется
на российскую действительность разных исторических эпох: Многоборье (за
многими борами), со столицей Столенград; Поскония (от посконь – домотканый
холст из конопли; посконный – перен. простонародный). Зарубежные страны в
его текстах носят названия: Бонжурия, Уклонина, Паньша (Успенский).
Актуализация
внутренней
формы
происходит
с
помощью
художественного приема перевода: король Артур (побратим Жихаря) получает
имя Яр-Тур; богатырь. Использование имен собственных в русских
фэнтезийных текстах сопряжено с проявлением интертекстуальности в широком
понимании, что может осложняться комическим пафосом (гувернянька дочерей
Жихаря Апокалипсия Армагеддоновна [Успенский]).
Одним из художественных приемов, посредством которого реализуется
концепт ИМЯ в фэнтезийных текстах, является гротеск: в повести С. Ролдугиной
«Эхо Миштар. Север и юг», герой которой является кимортом, повелителем
энергии морт, который в определенный момент утрачивает свое могущество
вместе с именем и становится эстра. В мифопоэтической концепции обряд
перемены имени направлен на изменение судьбы человека или исцеление его от
болезни, что делает героя иной личностью (ср. Заклинатель Хаоса Теллор –
полуодаренный Плетельщик Тайлен [Иванова, 2006]).
18
В п. 2.3. Мифонимизация как лингвистический конститутивный
признак вербально-образной картины мира русских нереалистических
текстов отмечается, что наиболее продуктивными при анализе ВОКМ являются
наиболее широкие: «имена вымышленных объектов» [Подольская, 1990, с. 347];
«наименования, обозначающие вымышленные существа, предметы и явления из
мифологических, религиозных и сказочных текстов» [Завьялов, 2000, с. 3],
поскольку они включают в себя все модификации рассматриваемого явления.
Мифонимы делятся на несколько подгрупп: культонимы; теонимы; идеонимы и
др.. К мифонимам примыкает целый ряд реалионимов, имен собственных
реально существующих объектов: антропонимов, топонимов, прагматонимов и
др.. Такие единицы часто оказываются связанными с легендами и преданиями
средневекового и более позднего происхождения.
В нереалистических текстах Серебряного века заметное место занимает
мифоним Орфей, который наряду именами Одиссея, Медеи, Геракла, Зевса,
Ариадны, становится в них элементом индивидуально-авторских кодов
Мифоним Орфей в русской литературе стал использоваться для создания
эталонного образа поэта, Востребованы в этот период и мифонимы/теонимы,
восходящие к религиозному дискурсу: см., например, стихотворения А.Блока
«Экклесиаст», А.Белый «Христос воскрес», В.Соловьев «Хвалы и моления
Пресвятой Деве» и др. Все они становятся элементами интертекста, придавая
ВОКМ символистских текстов неомифологическую перспективу.
Среди мифонимов в текстах фэнтези распространены единицы
романтическо генезиса и неомифонимы, приобретшие фоновую семантику в
городских легендах и преданиях, ср.: «В Сухаревой башне живет Якоб Брюс,
знаменитый астролог и колдун» [Некрасова, 2008]. При концептуализации
пространства, времени и других лингвокогнитивных категорий в рамках
художественного текста мифонимы могут концентрироваться с целью передачи
необходимого смысла.
Мифонимы в текстах фэнтези могут быть классифицированы: 1. по
генетическому источнику: Греция: Афродита, Атлантида, Посейдон, дриада,
золотое руно; Европа: эльфы, гномы, орки, король Артур,; Славянский мир:
Сварог, Кощей Бессмертный, избушка на курьих ножках, Лысая гора, царь
Горох; страны Азии: лиса – оборотень Кицунэ, нэко, тульпа; Арабский мир:
шайтан, птица Рух; Иудея: Ноев ковчег, Эдем, Экклезиаст; Египет: сфинкс,
Тот; 2. по тематическому принципу: Боги: Зевс, Локи, Перун; Герои/богатыри:
Одиссей, Илья Муромец; Мифические существа: Медуза Горгона,; Ледяные
великаны, химеры,; Представители низшей мифологии: леший, водяной, вампир,
эльф, джинн; Герои фольклорных сказок: Колобок, Змей Горыныч; Магические
артефакты: Святой Грааль, скатерть-самооборонка, сапоги-невидимки;
Магические животные: Пегас; Гамаюн, Жар-птица; Магические растения:
яблоня, мандрагора, баранец; Мифические локусы: Эдем, остров Буян.
Авторы фэнтези крайне редко задаются целью реконструировать сказочномифологические стереотипы – гораздо чаще последние становятся объектами
лингвокреативных преобразований, в частности языковой игры. Деривация
широко используется в вербально-образной картине мира для создания
19
фрагментов магической реальности. Наиболее частотными ее способами
являются: суффиксация: эльф, эльфесса, эльфея; сложение основ: котофениксы;
котошмель, котодемон; сложение и сложение с суффиксацией, в том числе с
опорой на неомифонимы: Бабягун; банкир Фердикрюгер. К числу
окказиональных
деривационных
способов
принадлежат:
ложная
этимологизация: король Артур – Яр-Тур; транспозиция нарицательных имен
существительных из одной тематической группы в другую: обдериха (в поверьях
архангельских крестьян – «хозяйка бани») – в тексте магическое растение.
В фэнтезийной прозе мифонимы выносятся в позицию названия текста:
Марш экклезиастов, Гиперборейская чума (М.Г.Успенский, А. Лазарчук) –
альтернативноисторическое фэнтези, Таня Гроттер и молот Перуна (Емец) –
комическое фэнтези и др.
В п. 2.4. Лингвистическая специфика кодирования эстетической
информации в русском нереалистическом тексте отмечается, что понятие
языковой картины мира тесно связано с проблемой кодирования6 информации,
то есть передачи неявных смыслов. Так, в постромантическом тексте
К. М. Фофанова «Столица бредила в чаду своей тоски» использован элемент
телесного кода сердце: «газовых рожков блестящие сердца». В контексте
актуализируются такие неявные компоненты смысла, как ‘трепет’, ‘волнение’,
‘горение’.
По-новому взглянуть на решение проблем кодирования в художественном
тексте позволяет использование наблюдений исследователей, рассматривающих
систему стилей с современных позиций. Чрезвычайно ценными в этом смысле
нам представляются наблюдения Н. И. Клушиной, которая, рассуждая о
способах кодирования информации в медиатекстах, отмечает, что они являются
следующим шагом в развитии креолизованных текстов [Клушина, 2020]. Черты
креолизации проявляются в нереалистических текстах (чаще фэнтезийных) в
том, что наряду с вербальными знаками в них используются невербальные.
Невербальными являются изображения карт вторичных нереалистических
миров, расположенные перед вербальным текстом (см. Приложение 1). Карты
являются одним из средств создания мегаконцептов ЗАГАДКА (например
указатели «В Бэби-Сити» и «В Москву») и ПРАВДОПОДОБИЕ (море
Мертвецов, море Скованного, Лунный залив, острова Проклятых, Лоскутное
королевство).
Создатели нереалистических текстов не чуждаются использования знаков
и символов иных семиотических систем или с нарушением существующих
правил их использования: например, иноязычных алфавитов, чисел,
корректорских знаков, пиктограмм. Так, в тексте романтической повести
В. П. Титова и А. С. Пушкина «Уединенный домик на Васильевском»
использован элемент числового кода, который толкуется автором с учетом
6
Культурный код – это «совокупность знаков (символов) и система определенных правил, при помощи
которых информация может быть представлена (закодирована) в виде набора из таких символов для
передачи, обработки и хранения. Правила, регулирующие коды, устанавливаются по соглашению
между носителями одной и той же культуры» [Кравченко, 2001, с. 241].
20
религиозной (христианской) дискурсивной разновидности «Ќ 666, число
Апокалипсиса.
В подростковом комическом фэнтези «Порри Гаттер и Каменный
философ» одна из глав называется «Перрон 3,14159», где математический
символ – число «Пи» –используется для пародирования наименования
магической реалии платформа 9 ¾ из английского оригинала.
В. Панов использует в названии текста повести «Яр(к)ость»
пунктуационный знак скобок, который используется на стыке частей
предложения, но не применяется как орфографический символ.
Глава 3. Лингвоконцептуальная организация вербально-образной
картины мира в текстах русской нереалистической прозы
В п. 3.1. Миромоделирующая роль лингвистического мегаконцепта
МИР как отражение постулата бинарности в текстах романтизма и
символизма показано, что романтический принцип миромоделирования,
основанный
на
противопоставлении
концептов
РЕАЛЬНЫЙ
МИР/ИРРЕАЛЬНЫЙ МИР, сохраняется на протяжении господства этого метода
в литературе, хотя модификации концептов, реализующих его, существенно
меняются. Так, представляющие первый из мегаконцептов языковые единицы
позволяют В. Ф. Одоевскому в новелле «Импровизатор» соотнести языковую
модель мира с современной ему действительностью вследствие использования
единиц концептуального поля «Жизнеподобие», главным в ядре которого
является концепт ЧЕЛОВЕК (антропонимы Локк, Грем, Кант; устойчивые
обороты степной помещик, фризовая шинель). Важным средством создания
концепта ПРОСТРАНСТВО выступает топоним Индия (интерес к ней в России
усилился в первой трети ХIХ в.). Концепт ВРЕМЯ репрезентируют языковые
единицы, форма которых обладает чертами архаики (атомистическая химия,
цифрованное письмо; «Фрейшюц» comfortable. Вследствие бинарности картины
мира одни и те же события получают в тексте как реалистическую, так и
фантастическую интерпретацию, чему служат языковые единицы, разными
элементами входящие в разные концептуальные поля, например: знаком в поле
«Жизнеподобие» или «Тайна», а сигнификатом – в поле «Магия».
В систему языковых средств, использованных Одоевским для создания
концепта МАГИЯ, входят языковые единицы, семантика которых включает
данную сему. К их числу относятся лексемы и фразеологизмы (имена
существительные чудеса, чары, чародейство; прилагательные волшебный,
чудный, чудесный; устойчивое выражение сверхъестественная сила).
В тексте стихотворения А. И. Одоевского «Куда несетесь вы…» ядро
ВОКМ организуется концептом ПРОСТРАНСТВО. Противопоставление мира
мечты и реальности осуществляется в романтическом тексте с помощью
«двоящейся» топосной модели: Кавказ (юг), который соратники поэта называли
«теплой Сибирью», изображен сразу в двух ипостасях: как страна, куда вместе с
птицами устремляются мечты лирического героя и его товарищей, и как место,
где им предстоит найти последний приют. С этой целью поэт использует лексику
двух концептуальных полей: «Мечта», содержащего семы ‘высота’, ‘свет’,
‘разнообразие цветов’, ‘красота’, и «Реальность»: ‘черный’ (тень); ‘красный’
21
(кровь), ‘низ’ (ущелье), ‘холод’ (сѣверъ, мерзлый, снѣговой). Образ Севера
(Сибири) строится с учетом вертикальной системы координат: лексема сосна
содержит сему ‘верх’, а слова ров, увал – ‘низ’.
Околоядерную
зону
формируют
интертекстуальные
средства,
преимущественно аллюзии и реминисценции из претекстов («Mignons-Lied»
И.В.Гете) и «посттекстов», гораздо более известных, чем стихотворения
Одоевского («Тучи», «На севере диком…» М. Ю. Лермонтова).
Переход от принципа двоемирия к постулату многомирия как основе
лингвистического миромоделирования ВОКМ наблюдается в тексте
постромантической повести И. С. Тургенева «Призраки». Для этого прозаик
использует лингвоконцепт ПРИРОДА, в репрезентации которого важная роль
отводится лексике концептуальным полям «Вода» (волны, глубина),
«Астрономические явления» (комета, тьма = затмение), которые раскрываются
лексическими средствами, представляющими лингвистическую категорию
кажимости; «Что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное … медленно,
змеиным движением, двигалось над землей». В фантазии система миров с
доминантами «Смерть» и «Жизнь» противопоставлены. Вторая реализуется в
когнитивных модификациях мечта, гармония, красота, естественность
(IsolaBella, Маджоре). В символизме концептуализация реального и
ирреального миров наиболее ярко проявляется в тексте новеллы В.Я.Брюсова «В
зеркале».
В п. 3.2. Структурирующая роль бинарных лингвистических
макроконцептов СВЕТ и ТЬМА, ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в текстах романтизма
и символизма отмечается, что концепт СВЕТ реализуется в романтических
текстах модификациями Абсолют (Бог), Рай, ангел, духовная родина, мир,
лучистая энергия, день, солнце, доброта, любовь, жизнь, тепло, голубь. В том
случае, если в нереалистическом тексте используется омонимичная лексема свет
– «аристократическое общество», она служит репрезентантом концептуального
поля ТЬМА/НОЧЬ (см. новеллу В. Ф. Одоевского «Бал»). Концепт ТЬМА
репрезентируется, с одной стороны лексемами вечер, ночь, полночь, нечистая
сила, карты – чертова грамота, гнев, страсть, злоба, зависть, богатство,
смерть, холод, жар, огонь, Петербург, север, ворон и т.д., а с другой – тайные
знания, обретение истины (Одоевский, «Русские ночи»), влюбленность,
творчество, мечты.
Роль концептов СВЕТ и ТЬМА выявляется в процессе анализа
когнитивной организации ВОКМ текста баллады В. А. Жуковского
«Светлана», где ценностная составляющая первого из концептов маркируется
заглавием, в которое вынесено имя героини, обладающее отчетливой внутренней
формой. Название текста баллады показывает, что концептом, объединяющим
все остальные поля ВОКМ баллады, является мегаконцепт ЧЕЛОВЕК, в рамках
которого выделяются макроконцепты СВЕТ и ТЬМА реализуются
производными значениями, которые реализуют
представления об
ИРРЕАЛЬНОМ МИРЕ. Антитеза реализуется бинарно: противоборство света и
тьмы развертывается в тексте как сценарий, в котором компоненты
22
концептуального поля ТЬМА противопоставлены элементам концептуальной
парадигмы СВЕТ, которые в конце текста вытесняют первые.
Важным средством реализации антитезы являются элементы концепта
ЦВЕТ, являющегося элементом концептуального поля ПРОСТРАНСТВО и
представленного главным образом антитезой белого (светлого) и черного
(темного) цветов. Их антитеза - основное средство создания пейзажа из сна
Светланы: «на луне туманный круг, чуть блестят поляны». Подобную роль
антитеза концептов СВЕТ и ТЬМА играет в организации ВОКМ таких
нереалистических текстов, как «Бал» В. Ф. Одоевского и А. А. Одоевского,
«Страшное гадание» А. А. Бестужева-Марлинского, А. Погорельского «Черная
курица, или подземные жители» и др.
В п. 3.3. Макроконцепт СОН как лингвистическое средство
миромоделирования в текстах романтизма и символизма устанавливается,
что концепт СОН занимает важное место в организации ВОКМ романтических
текстов, поскольку отражает состояние сновидца, находящегося на границе
реального и ирреального миров, что позволяет говорить об онирических
времени, пространстве и лингвопоэтическом типаже сновидца.
Концепт СОН приобретает ядерный статус в одноименном тексте
А.Дельвига, где позволяет совместить модели устройства РЕАЛЬНОГО и
ИРРЕАЛЬНОГО миров, объединенных в границах онирических персоносферы
(волк, ведьма), времени (метелица, лед) и пространства (Волга, засека, тропа,
волна). Среди их вербализаторов преобладают слова конкретной семантики, хотя
нормой поэтической фразеологии того времени было использование условнометафорических выражений. «Магический» потенциал концептуального поля
«Сон» в тексте стихотворения актуализируется как прямым, так и фоновым
значениями лексем ведьма, волк.
Использование концепта СОН обнаруживается и в литературе
постромантизма, в частности в тексте стихотворения Н. А. Некрасова «Сон».
Оно принадлежит к разряду философской лирики, что достигается путем
использования лексем высокого, традиционно-поэтического, религиознопроповеднического стилей (церковнославянизмы: глава, блаженные; концептсимволы библейского происхождения: море, ангел света; поэтизмы (утес, весна,
часы), входящие в концептуальные поля «Человек», «Время (вечность)»,
«Пространство» и организующие единое ядро концепта СОН.
Понятийная составляющая концепта в рамках символистской ВОКМ
трактуется как «порождение иной реальности, недоступное для понимания и
осмысления человеком». В ранней лирике В. Я. Брюсова концепт СОН
выдвигается в ядерную зону концепта ВРЕМЯ, где представлен когнитвными
модификациями: ОСЕНЬ - «окна снов бессвязных» («Осеннее чувство», 1893);
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - «тень несозданных созданий// Колыхается во сне»
(«Творчество», 1895); МЕЧТЫ - «Я весь день, всё вчера, проблуждал по стране
моих снов» («После грез», 1895); ОКРУЖАЮЩАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ - «И
во всем, что кругом, ...Только сон, только сны, без конца, открываются мне»
(«После грез»,1895); БЕЗРАЗЛИЧИЕ - «Какая странная нега// В мире холодного
сна!» («Как царство белого снега», 1895). В новеллах В. Я. актуализируется
23
значение «сон-реальность (явь)» и связан с концептом БЕЗУМИЕ («Теперь, когда
я проснулся. Записки психопата». В новелле «В башне. Записанный сон» его
понятийная составляющая дополняется приращенными семами ʽсмысл’,
ʽпоследовательность’, ʽсвязность’, ʽпараллельность’.
В фэнтезийных текстах роль концепта СОН снижается за счет того, что
магия становится реальностью изображаемого вторичного мира, в то же время
он встречается в текстах городского фэнтези, а также фэнтези меча и магии, где
буквализируется и сюжетно развертывается метафорическая модель «сон –
путь/пространство».
3.4. Миромоделирующая функция лингвистического мегаконцепта
ОТРАЖЕНИЕ в текстах фэнтези нереалистических текстах
Мегаконцепт ОТРАЖЕНИЕ объединяет все остальные художественные
концепты и концептуальные поля изображаемого фэнтезийного мира и является
своеобразной универсалией в рамках литературного направления.
Языковыми репрезентантами имени рассматриваемого концепта служат
лексемы, составляющие синонимический ряд и обладающие высокой степенью
повторяемости в фэнтезийных текстах: миры, реальности, зеркала, вселенные,
отражения. Значение лексемы отражение «один из иных миров, обладающий
как сходством с земной реальностью, так и отличиями от нее», выступающей в
роли имени концепта в текстах русского фэнтези, не фиксируется словарями,
поскольку окказиональное значение представляет своего рода речевую
аномалию. Центр концепта представлен синонимическим рядом, включающим
лексемы, совпадающие по значению с именем концепта ОТРАЖЕНИЕ: мир,
реальность, вселенная, зеркало, которые активно используются создателями
фэнтези в том числе и в формах множественного числа. Ядро концептуального
поля ОТРАЖЕНИЕ реализуется мегаконцептом МАГИЯ, а также концептами
персональной, локальной и темпоральной семантики. Периферия представлена
индивидуально-авторскими
репрезентациями
концепта
ОТРАЖЕНИЕ,
прототипическими моделями которых могут служить Древняя Русь,
Средневековье, условная современность и т. п.
В п. 3.4.1. Структурирующая функция ядерного лингвистического
суперконцепта МАГИЯ /МИСТИКА в текстах романтизма и символизма
ВОКМ текстов фэнтези строится с опорой на постулат многомирия,
который раскрывается путем актуализации концептов РЕАЛЬНОСТЬ и
ОТРАЖЕНИЕ. Второй из концептов выдвигается в ВОКМ на первый план и
приобретает такую же степень реальности, что и первый. Ядро концепта
ОТРАЖЕНИЕ создается концептом МАГИЯ, представленным рядом
концептуальных полей, элементы которых содержат аналогичную сему:
«Колдовство» (лексемы с корнями маг-, колд- волшеб- чар- ); «Иные расы»
(эльфы, орки, драконы), «Профессии» (зоомаг, огневик), «Реалии магического
мира» (Грааль, визжок), «Волшебные животные и существа» (котодемон,
водоглот), «Магические растения» (обдериха, баранец).
В п. 3.4.2. Проблема расширения границ лингвоконцепта ЦВЕТ в
русских нереалистических текстах отмечается, что концепт ЦВЕТв них
является сквозным на разных этапах подвержен количественным и
24
качественным изменениям. На в ВОКМ романтических текстов доминируют
цветообозначения черный и белый, к которым с течением времени добавляются
широкая колористическая гамма, обладающая обширным этнокультурным
потенциалом (желтый, зеленый, голубой, красный в повести М.Ю.Лермонтова
«Штосс»).
В
неоромантической
повести
А.Н.Толстого
«Аэлита»
цветообозначения употребляются с опорой на прием антитезы,
противопоставляющей реальный мир Земли (черный, коричневый, красный) и
фантастический мир Марса (фиолетовый, голубой, зеленый). В текстах
символизма и околосимволистской парадигмы их число вновь сокращается,
чтобы затем расшириться в неоромантизме и фэнтези, где маркерами
цветообозначения становятся не только прилагательные черный, белый, серый,
зеленый, но и имена существительные, содержащие цветовую сему, в том числе
в окказиональном значении (желтая, зеленая магия + рыжье, зелень) и др.
Глава 4. Типология лингвоконцептов персональной семантики в
русских нереалистических текстах
В пп. 4.1. Языковые средства репрезентации лингвопоэтического
типажа ПОЭТ/ПЕВЕЦ в текстах романтической и символистской
парадигм; 4.2. Языковая структура лингвопоэтического типажа
ФИЛИСТЕРА / ЧИНОВНИКА в романтических текстах; 4.3. Языковое
воплощение лингвопоэтического типажа ИНФЕРНАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО
в текстах романтической и символистской парадигм; 4.4. Структура
ядерного лингвистического макроконцепта ГЕРОЙ в текстах фэнтези
отмечается, что концепты персональной семантики представлены в ВОКМ
нереалистических текстов лингвопоэтическими типажами. Их перечень пока не
составлен, поэтому в диссертации рассмотрены разновидности, которые,
появляясь в романтических текстах, формируют устойчивый инвариант,
модифицирующийся под влиянием способов концептуализации вторичной
реальности в стилях различных литературных направлений.
Нами выделены типажи ПОЭТА/ПЕВЦА (ЧЕЛОВЕКА ИСКУССТВА/
РОМАНТИЧЕСКОГО БЕЗУМЦА), который в текстах символистской
парадигмы
вербализуется
мифонимом
Орфей;
образами
ФИЛИСТЕРА/ЧИНОВНИКА, создаваемого сатирическими средствами;
ИНФЕРНАЛЬНОГО СУЩЕСТВА, для создания которого важна категория
кажимости; МАГА (см. главу 3), ГЕРОЯ, чей образ в текстах фэнтези тесно
связан с концептом ОРУЖИЕ (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
Лингвопоэтические типажи обнаруживают тенденцию к развитию. В
периоды доминирования в литературе романтического направления,
постромантического
и
неоромантического
течений
они
активно
взаимодействуют друг с другом, в символистских текстах этот процесс
замедляется и ослабевает к моменту формирования стиля фэнтези, где
первоначально перечень лингвопоэтических типажей максимально краток
(ГЕРОЙ, МАГ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНОРАС). В процессе развития стиля
русского фэнтези взаимодействие типажей усиливается, в результате чего
появляются такие их семантические модификации, как ЛЕДИ-РЫЦАРЬ, ГЕРОЙ
ПОПАДАНЕЦ, ГЕРОЙ – ТРИКСТЕР, ГЕРОЙ-ПОДРОСТОК, ГЕРОЙ –
25
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНОРАСЫ, ГЕРОЙ-МАГ, МАГ БЕЗ МАГИИ, что
проявляется в характере их языковой репрезентации и перечне вербализаторов
(например, магический контрабас в цикле Д. Емца о Тане Гроттер).
Глава 5. Лингвоконцепты локальной семантики в русских
нереалистических текстах.
В п. 5.1. Лингвоконцепт ПУТЬ/ПУТЕШЕСТВИЕ в русских
нереалистических текстах представлена динамическая характеристика
концепта-сценария ПУТЬ/ПУТЕШЕСТВИЕ, сформировавшегося в текстах
романтической парадигмы, где использовался в ряде когнитивных и
семантических модификаций, в том числе пародийного характера: ДОРОГА,
ПРОЦЕСС ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ВРЕМЯ ПУТИ, СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ
ЧЕГО-ЛИБО (пути праведников); УСПЕХ (пути не будет), ЖИЗНЕННЫЙ
ПУТЬ (Надсон, «Певец»), «прогулка», «поездка», «воображаемое путешествие»
(Вельтман, «Странник»), «псевдонаучная экспедиция» (Сенковский, «Ученое
путешествие на Медвежий остров»). В постромантических, неоромантических
текстах важным элементом сценария является изображение пейзажа, который
трактуется в символическом ключе (тенистая роща как символ успокоения в
тексте стихотворения С.Я. Надсона «Певец). В символистских текстах
значимыми оказываются наименования средства передвижения, которые
кодируют информацию ‘смерть’, ‘сумасшествие’ и т. п. В формировании
концепта участвуют элементы «транспортного кода»: ТРАМВАЙ – ‘быт’,
‘несчастный случай’, ‘Апокалипсис’; АВТОМОБИЛЬ – ‘транс’, ‘прогресс’ /
‘цивилизация’, ‘миф’ / ‘неомиф’, ‘демонизм’ / ‘четвертое измерение’;
АЭРОПЛАН – ‘мечта’, ‘богоборчество’. В фэнтезийных текстах частотность
использования вербализаторов концепта снижается, при этом структура
модификаций усложняется: «сон – путь», «путь – общение с богами».
В п. 5.2. Структура лингвистического макроконцепта ДОМ в русских
нереалистических текстах отмечается, что концепт ДОМ, представленный в
романтической, символистской парадигмах и фэнтезийных текстах по-разному в
них интерпретируется. Он реализует когнитивные модификации «хранитель
тайны», «вместилище греха», «нечистое место», «средоточие веры», которые
актуализируют компоненты смысла ‘загадка’, ‘преступление’, ‘грех’
‘искушение’, ‘вера’. В текстах фэнтези этот гештальт реализуется как сценарии
БЕГСТВО/ИЗГНАНИЕ ИЗ ДОМА и ОБРЕТЕНИЕ ДОМА, типаж
ИНФЕРНАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО, концепт-символы ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МИРОВ,
МОДЕЛЬ МИРА.
В п. 5.3. Традиции и новаторство вербализации лингвоконцепта
ГОРОД в русских нереалистических текстах и п. 5.4. Интертекстуальность
как средство вербализации суперконцепта ВАВИЛОН в текстах русского
фэнтези характеризуются репрезентанты концепта ГОРОД в русских
нереалистических текстах Петербург (Невский проспект, Адмиралтейство,
Сенная) и Москва (Пречистенка, Рождественский бульвар, Сетунь). В текстах
романтической парадигмы преобладает первый из них, начиная с символистских
текстов активизируется второй. Петербург изображается как «иллюзорный»
город двойственной природы, пересекающийся с концептом ВАВИЛОН. Москва
26
же изображается как многомирный и многомерный город, в котором
пересекаются различные пласты времени и пространства и идет борьба за
человеческое в человеке.
Глава 6. Лингвоконцепты темпоральной семантики в русских
нереалистических тестах
В п. 6.1. Лингвоконцепт КАЛЕНДАРНОЕ/СУТОЧНОЕ ВРЕМЯ в
романтических,
неоромантических
и
символистских
текстах
устанавливается, что концепт КАЛЕНДАРНОЕ/СУТОЧНОЕ ВРЕМЯ тесно
связан с миромоделирующими концептами МИР РЕАЛЬНЫЙ-МИР
ИРРЕАЛЬНЫЙ, СВЕТ-ТЬМА и репрезентируется языковыми единицами
религиозного дискурса (Крещенье, Светлое Воскресенье, заутреня и др.), а
также элементами фольклорной картины мира, где лексемы полдень, полночь,
тринадцать кодируют информацию ‘нечистая сила’. Их использование в
нереалистических текстах указывают на необходимость интерпретировать
изображаемые события с позиций двоемирия.
В п. 6.2. Языковая организация ядерного макроконцепта ОСЕНЬ в
русских нереалистических текстах
Гештальт-концепт ОСЕНЬ обладает высокой частотностью в русских
нереалистических текстах различной периодизации. В текстах романтической
парадигмы, помимо прямого значения, которое приобретает приращения
смысла, более характерные для лексемы зима, он вступает в модификациях
«время увядания», «гибель», «судьба», «пространство», «начало нового периода
жизни». В ВОКМ фэнтези лексема осень выступает в когнитивных
модификациях «знак мифологического времени, точки отсчета циклически
повторяющегося противоборства Света и Тьмы», «начало нового учебного
года». Расширяется и типология репрезентантов концепта: (паутина - паутинка,
Паутинник, туман - туманный, туманно, туманиться, дождь - дождик,
дождливый, дождевой, тучи, небо - небеса, небесный, ветер; дубы, березы, ели,
липы, рябина, яблоки; птицы), лексико-семантическим группам «Осенние
месяцы» (сентябрь, октябрь, ноябрь, листвянчик и др.), «Цвет» (желтый,
золотой, красный, багровый; серый, сизый, белесый, серебряный, синий, голубой,
зеленый) в том числе в составе тропов; а также парономазами (осенить, сень,
синь, сентябрь, осыпаться), к которым добавляются интертекстуальные
вкрапления.
В п. 6.3. Языковая организация ядерного макроконцепта ИГРА в
русских нереалистических текстах анализируется ряд когнитивных и
семантических модификаций («карточная игра», «театральная игра», «игра на
музыкальных инструментах», «игра воображения», «притворство» и т. д.),
указывающих на то, что ход календарного времени прерывается и герой
оказывается в рамках ирреального хронотопа. У гештальта ИГРА развита
околоядерная зона, которая представлена различными видами языковой игры
(фонетической, словообразовательной, фразеологической, семантической,
прагматической), что особенно заметно в текстах романтической парадигмы, где
главным ее репрезентантом становится каламбур, например, в текстах повестей
А. А. Бестужева, О. И. Сенковского, А. Ф. Вельтмана, где он служит не только
27
средством создания юмора и иронии, но и применяется для миромоделирования
противопоставляя концепты МЕЧТА и РЕАЛЬНОСТЬ, СВЕТ и ТЬМА.
Концепт ИГРА, как и концепт ОСЕНЬ, демонстрирует высокую
частотность на всех этапах становления нереалистической текстуальной
парадигмы, однако особенно ярко он проявляется в фэнтезийном направлении,
где гораздо отчетливее, чем в романтических текстах используется игра со
словообразовательными моделями и языковыми словообразовательными
формантами иностранных языков. Среди писателей-романтиков такие
лингвистические эксперименты предпринимают В. Ф. Одоевский в «Сказке о
мертвом теле…» (английское имя героя), М. Ю. Лермонтов в неоконченной
повести «Штосс» (немецкое название карточной игры). В фэнтезийных текстах
языковая игра этого типа распространена гораздо шире (см. тексты повестей А.
Белянина, Д. Емца, Н. Иртениной, С. Панарина, и др.). Не менее активна в
фэнтезийных текстах языковая игра с прецедентными феноменами и
фразеологизмами (см. тексты повестей А. Миронова, А. Уланова, Г. Л. Олди),
где она приобретает весьма сложный, подчас многоаспектный характер (ср.
Бладивудсток, Лондонецк, мухи-дроздофилы). В целом ряде подобных примеров
средством языковой игры выступает перевод.
Глава 7. Тропы и художественные приемы как языковые средства
миромоделирования в русских нереалистических текстах
В п. 7.1. Миромоделирующий потенциал гипертропов (гиперболы и
иронии) в романтических текстах отмечается, что гипербола, роль которой в
романтических текстах отмечалась В.Я.Брюсовым, в их ВОКМ текстов отражает
гипертрофированную
эмоциональность
лингвопоэтических
типажей,
репрезентирующих персоносферу бинарных концептов РЕАЛЬНЫЙ/
ИРРЕАЛЬНЫЙ МИР, СВЕТ/ТЬМА. К их числу принадлежат лингвопоэтические
типажи ПОЭТ/ПЕВЕЦ (ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ), ВОИН, ВЛЮБЛЕННАЯ
ГЕРОИНЯ, ИНФЕРНАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО (ЗЛОДЕЙ, МАГ), личностная
доминанта которых целенаправленно подчеркивается создателями текстов
(В. А. Жуковский, В. Ф. Одоевский, А. А. Бестужев, А. И. Одоевский).
Метафоры и сравнения часто выступают в роли структурных элементов
гиперболы, придавая ВОКМ текстов романтической парадигмы образность и
экспрессию. Гипербола используется и в создании лингвопоэтического типажа
ФИЛИСТЕРА/ЧИНОВНИКА, но в этом случае она вступает во взаимодействие
с приемом алогизма и иронией (приказной Севастьяныч из «Сказки о мертвом
теле» В. Ф. Одоевского, поэт
из «Превращения голов в книги» О. И.
Сенковского и др.). Противоположностью гиперболы выступает литота, которая
также используется в создании подобных лингвопоэтических типажей.
В п. 7.2. Миромоделирующий потенциал вербализаторов символа в
романтических, постромантических и неоромантических текстах
охарактеризованы функции этого художественного прима в романтических
текстах, где он используется локально в идиостилях конкретных авторов
(косморама, саламандра, сильфида, необойденный дом в произведениях
В. Ф. Одоевского). В тестах символизма и околосимволистской парадигмы
доминирующим приемом становится символ, который подчиняет себе
28
метафоры,
сравнения,
метонимии,
интертекстуальные
вкрапления,
усиливающие его миромоделирующий потенциал, который основан на
выдвижение одного из ядерных лингвоконцептов: в стихах о Прекрасной Даме
А. Блока это СВЕТ, а в повестях В. Я. Брюсова «В зеркале», «Торжество науки»–
ТЬМА. В последнем из рассказов он осложняется весьма редким слоя
символизма приемом– использованием сатиры (иронии, пародии): фоновая
семантика чисел три, двенадцать. Гораздо более характерна эта комбинация
экспрессивных языковых средств для текстов околосимволистской парадигмы,
например стихотворений В. Ф. Ходасевича («У окна»: конь, безносая Николавна,
воздушный змей как символы грядущего Конца света). На примере текста
стихотворения А. Блока «Комета» рассматриваются особенности структуры
символ-концепта, которому присуща сужение понятийной области и
актуализация фоновой семантики (‘катастрофа’, ‘война’, ‘разрушения’;
‘ирреальность’ ‘персональность’), которые реконструируются путем
этимологического и синтагматического анализа имени концепта.
В п. 7.3. Языковые средства создания гротеска в русских
нереалистических текстах делается вывод о том, что индивидуально-авторский
прием гротеска в романтизме стапновится миромоделирующим в текстах
фэнтези, где позволяет объединить в рамках вымышленной вторичной
реальности свойства явлений и предметов, несовместимые в обыденной
действительности. С этой целью используется метонимический перенос на
основе сем ‘живое’ – ‘мертвое’; ‘тело’ –’душа’; ‘человек’ – ‘вещь’, ‘животное’,
‘ирреальное существо’, ‘минерал’; ‘целое’-‘часть’; ‘единичное’ –‘
множественное’ и др. Прием гротеска реализуется в сложном синтаксическом
целом, в его состав входят другие тропы и приемы, наиболее важным среди
которых служит сравнение, в роли предмета и образа которого часто выступают
символы и интертекстуальные вкрапления, а в роли основания – метафорически
переносное значение. Особую роль в создании гротеска играют языковые
аномалии и синестезия, которые позволяют добиться не только неомифологизма,
но и эффекта магичности ВОКМ: ср. игру с местоимениями ОНО (Пугало)/ОН в
цикле А. Пехова «Страж». В текстах городского и неомифологического фэнтези
средством создания гротеска становятся как мифонимы, так и неомифонимы,
возникающие на основе топонимов и антропонимов (Москва, Петербург, Брюс),
а также имена персонажей литературных текстов и интертекстуальные
вкрапления.
7.4. Разноуровневые языковые средства репрезентации околоядерных
концептуальных полей ЗАГАДКА и ПРАВДОПОДОБИЕ в текстах русского
фэнтези
В п. 7.4.1. Особенности функционирования тропов и языковых
приемов в фэнтезийных текстах
Языковые единицы в рамках ВОКМ обладают полифункциональностью,
которая проявляется в многообразии тропеических связей и приемов,
элементами которых они одновременно являются. Этому способствуют такие
способы взаимодействия, как концентрация («Удар колокола сорвал с людей
драпировки скучного ХХ века. Древняя сущность вещей проступила сквозь
29
обветшалый камуфляж.»); контаминация (сладкая парочка вождей
краснокожих); включение, при котором структурно и семантически более
простое образное средство включается в состав семантически более сложного
(Будет и на вашей улице танковый парад); разрушение клишированного
образного средства (всеми фибрами своей городской, изъеденной смогом
души).В ряде случаев они служат средством языкового развертывания концепта
ИГРА.
В п. 7.4.2. Структура и миромоделирующие функции сравнительных
конструкций
подчеркивается
полифункциональность
компаративных
конструкция в текстах фэнтези, где они служат средством достижения
целостности текста, поскольку объединяют ядерные и околоядерные
концептуальные поля с периферией ВОКМ; маркируют взаимодействие
концептуальных полей ядерной зоны концепта ОТРАЖЕНИЕ, вследствие чего
не только формируют хронотоп фэнтези, но и указывают на проницаемость
времени и пространства, являющуюся следствием многомирия. Сравнивая
названия живых существ с обозначениями растений, животных, мифических
созданий, веществ, создатели текстов фэнтези неявно указывают на возможности
магической трансформации этих объектов друг в друга в изображаемом мире (И
не заметит он среди потока машин странных, извивающихся на поворотах
(автомобилей-А.Г.), словно резиновые, с тонированными зрячими окнами…»).
В текстах направления наименования предметов, привычных в обыденной
картине мира, соседствуют в сравнениях с обозначениями волшебных
артефактов, наименованиями носителей магического дара, представителей рас и
народов, населяющих иные миры, что создает эффект «осознанной
иллюзорности», необходимый для изображения «некоторого параллельного
мира» (Тролль «надвигался с неотвратимостью стальной черепахи на
гусеничном ходу»). Структура сравнений в текстах фэнтези весьма разнообразна,
в качестве их элементов могут использоваться интертекстуальные вкрапления
(прыгают с крыши на крышу не хуже Бэтмена), метафоры и олицетворения
(Сентябрь вконец распоясался, искренне полагая себя гулякой-октябрем),
символы (Словно тьма тут была густая и желеобразная, не поддающаяся
свету).
В п. 7.4.3. Структура и миромоделирующие функции метонимии
выявляется, что метонимически производные значения лексем занимают
важное место в вербально-образной картине мира русского фэнтези в силу своей
полифункциональности: они служат не только средствами создания
экспрессивного пласта информации художественных концептов, но и
структурируют их; выступают маркерами субжанровой принадлежности
текстов, определяя их тематику и сюжетные ходы; формируют вертикальную
организацию художественной картины мира фэнтезийного текста. Наиболее
часто маркерами художественных концептов, образующихся путем
метонимического развертывания, служат лексемы меч/клинок; магия; жизнь,
смерть, сердце, душа, голова. Метонимически производные значения обычно
формируют в рамках фэнтезийного контекста макроконцепт – гештальт,
состоящий из нескольких фреймов, которые организуют картину мира
30
произведения не только на языковом, но и на композиционно-сюжетном и
идейно-тематическом уровнях текста.
В
п.
7.4.4 Миромоделирующие
функции
субстантивации
рассматривается структурирующая роль окказиональных субстантиватов в
текстах фэнтези, где распространены такие вербализаторы, как темный
(представитель темных сил, темный маг, ученик темномагического
отделения в школе волшебников), светлый (представитель светлых сил,
белый маг, ученик светломагического отделения в школе волшебников),
зеленый (гоблин, дракон) и др., которые формируют языковой код направления.
В отличие от узуальных транспозитов, которым присуща семантическая
определенность, окказиональные субстантиваты характеризуются большей
семантической размытостью, основывающейся на многозначности. В ВОКМ
текстов направления они выступают средством неомифологизации
(субстантиват сумочный [Трускиновская, 2020] образован от прилагательного
по модели, схожей с теми, что обнаруживается в словах водяной, домовой).
Особое место в текстах фэнтези занимают субстантивированные причастия,
которые более других грамматических форм приспособлены к тому, чтобы быть
вершиной фрейма, формирующего тот или иной концепт вербально-образной
картины мира (Ходящая – женщина, обладающая светлой стороной дара
[Пехов, 2006]).
В п. 7.4.5 Типы и миромоделирующие функции олицетворения оно
рассматривается как самостоятельный экспрессивный прием, формирующий в
подсознании читателя мысль об одушевленности неживых предметов в ВОКМ
фэнтези. Олицетворение в текстах фэнтези передается определениями
(эпитетами) и приложениями (дуб-великан), сравнительными оборотами (ветер
шатался беззаботным пьянчужкой), одним из значений символа («Вавилонская/
башня встает там, где срыта память»), метонимией («мой Город спит»).
Стилем фэнтези используется и принцип двоемирия, под вилянием которого
олицетворения участвуют языковой игре: писатель намеренно стирает грань
между узуальными единицами, фигурами речи, изображением мира неживых
предметов олицетворенным. В рамках концепта МАГИЯ олицетворение
составляет оппозицию таким процессам, как «овеществление», при котором
образ живого существа приобретает характеристики неодушевленного предмета,
и «анимизация», когда человек или предмет описываются с помощью лексики
семантического поля «животное».
В п. 7.4.6 Способы вербализации синестезии указывается, что важной
особенностью синестезии является ее участие в познавательном
(когнитивном) процессе, базирующемся на комплексной сенсорной основе, что
указывает меняющую под ее влиянием картины мира. Создатели фэнтезийных
текстов имитируют особенности речи синестетов с целью передачи их
мировидения, необходимой для создания вербально-образной картины мира
этого литературного направления. Так, герой текста дилогии А.Пехова
«Созерцатель» цвета воспринимает как вкусы, а вкусы – как цвета. Наиболее
частотной языковой моделью синестезии в фэнтези является «существительное
+ прилагательное» («Еще хрустально-прозрачен воздух и бездонной синевы
31
полно небо»). Синестезия может реализоваться с помощью ряда языковых
приемов: подчинительных конструкций (лазоревых глаз ледяные мечи),
однородных членов предложения (красно-лиловый, торжественный,
сумрачный и сильный цвет), словосочетаний с аномальной синтагматикой
(Злое солнце февраля, жгучая ледышка зимы), метафоры (Бархатная чернота
ночного неба).
В п.7.4.7 Типы и миромоделирующие функции языковых аномалий
выявляются типы языковых аномалий: словообразовательные (жабс, старга),
лексико-грамматические (Тот, кто успел → следуя за Тотом), морфологопрагматические (Хорош тогда был бы я красавца – вроде Джона Сильвера).
Анализ языковых аномалий как средства языкового моделирования
концептов ЗАГАДКА и ПРАВДОПОДОБИЕ в фэнтези затрагивают несколько
уровней языка и используется в качестве базы для формирования элементов
композиционно-образного уровня, поэтому при их классификации опора на
частеречную систему языка условна. Морфологические аномалии
демонстрируют слова разных частей речи; изменения затрагивают категории
числа, рода, разряда, комплексное использование которых порождает эффект
«реальной ирреальности». Таким образом, языковые аномалии участвуют в
формировании концепта ОТРАЖЕНИЕ.
В п. 7.5. Типы и функции этномаркированных языковых единиц на
материале текстов стимпанка А.Белянина и А. Пехова анализируется
миромоделирующая роль языковых единиц, обладающих национальнокультурной
спецификой.
Этномаркированные
языковые
единицы
характеризуются с учетом степени освоенности воспринимающим языком
формы заимствования (транскрипция, транслитерация, графика языкаисточника,
тематической
группы:
имена,
профессии,
институты
государственной власти, напитки и др. (Майкл Ломонософф, кэбмен, cossack),
объема: лексемы, устойчивые выражения, интертекстуальные вкрапления
(У.Блейк «The Tiger»), участия в построении тропов и приемов, в частности
языковой игры («Быть может, именно тогда я, чистокровный англичанин,
вдруг впервые надел papakh’у набекрень и назвался cossack’ом» [Белянин, 2018]).
В Заключении делаются вывод об эффективности использования
вербально-образной картины мира в качестве инструмента исследования
миромоделирующего потенциала художественного текста. Использование этой
категории в процессе синхронно-диахронного анализа текстов предромантизма,
романтизма, постромантизма, неоромантизма, предмодернизма, символизма,
фэнтези доказало, что применительно к языку и стилю русской литературы
правомерно говорить о нереалистической текстуальной парадигме,
объединяющим началом которой выступает инвариант вербально-образной
картины мира, представляющей собой иерархию концептуальных полей,
которые возглавляются ключевыми константами, указывающими на общую
философско-идеалистическую базу. Становясь единицами ВОКМ, константы
могут менять свой статус, переходя из ее ядра в околоядерную зону
(лингвоконцепты ПУТЬ, СОН) и в обратном направлении (лингвоконцепт
32
ЦВЕТ), а также объем (от мегаконцепта до микроконцепта и наоборот), но
никогда не исчезают вовсе.
Лингвопоэтический анализ нереалистических художественный текстов
показал, что, помимо существующих, имеет смысл выделить еще 2 типа
концептов: концепт-символ и лингвопоэтический типаж, которые требуют более
детального рассмотрения.
К числу перспектив исследования относится анализ репрезентации
фэнтезийных макроконцептов ПУТЬ, «МИНУС˗МАГИЯ», лингвопоэтических
типажей ПОДРОСТОК/РЕБЕНОК, ДРАКОН, МАГ и др. На сегодняшний день
слабо изучена типология и роль интертекстуальных вкраплений в организации
ВОКМ, а также языковые репрезентанты метаболы, являющейся важным
лингвокогнитивным средством миромоделирования. Недостаточно изучена
лингвистическая категория кажимости в русских нереалистических
художественных текстах. В круг исследуемых проблем целесообразно включить
описание ВОКМ представителей нереалистической парадигмы, тексты которых
ранее не становились объектом специальных лингвокогнитивных исследований:
А. Барченко, Н. К. Вагнер, С. Кржижановский, большинство писателейфантастов Серебряного века.
Три Приложения демонстрируют различные направления когнитивной
реконструкции вербально-образной картины мира русских нереалистических
художественных текстов.
Основные положения диссертационной работы отражены в
следующих научных публикациях:
Монографии
1.
Грязнова, А. Т. Вербально-образная картина мира русского фэнтези:
монография / А. Т. Грязнова. – Москва: МПГУ. – 2023. – 296 с. (18,5 п.л.).
2.
Грязнова, А. Т. Лингвопоэтический анализ художественного текста:
подходы и направления: монография / А. Т. Грязнова. – Москва: МПГУ. – 2018.
– 324 с. (20,25 п.л.).
Издания Перечня ВАК
3.
Грязнова, А. Т. Языковые маркеры топосных текстов в
стихотворении
А. И. Одоевского
«Куда несетесь вы...»:
(к 220летию со дня рождения) / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2023. –
Т. 84. – № 1. – С. 51–59 (0,5 п.л.).
4.
Грязнова, А. Т. Языковые механизмы смыслообразования
в стихотворении О. Мандельштама «Дворцовая площадь» / А. Т. Грязнова
// Русский язык в школе. – 2022. – Т. 83. – № 1. – С. 36–43 (0,44 п.л.).
5.
Грязнова, А. Т. Языковая структура художественного концепта
«Механизм» в фантастических рассказах А. Грина (К 140-летию со дня
рождения) / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2020. – Т. 81. – № 4. –
С. 72-78 (0,4 п.л).
6.
Грязнова, А. Т. Признаки и функции концепт-символа «Комета»
в одноименном стихотворении А. Блока (К 140-летию со дня рождения) /
А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2020. – Т. 81. – № 6. – С. 74–82
(0,5 п.л.).
33
7.
Грязнова, А. Т. Передача неодобрения в русских глагольных
фразеологизмах / Ч. Бе, А. Т. Грязнова // Преподаватель XXI век. – 2019. –
№ 2. – Часть 2. – С. 373-383 (0,75 п.л.). Авторство не разделено.
8.
Грязнова, А. Т. Языковые средства создания фантастического в
новелле В. Ф. Одоевского «Импровизатор» (К 215-летию со дня рождения) /
А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2019. – Т. 80. – № 5. – С. 39–45
(0,4 п.л.).
9.
Грязнова, А. Т. Мифоним Орфей как элемент индивидуальноавторского кода В.Я. Брюсова / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. –
2019. – Т. 80. – № 6. – С. 60–66 (0,4 п.л.)
10. Грязнова, А. Т. Границы понятия «вещественный код» в русской
языковой картине мира / Ю. Чжоу, А. Т. Грязнова // Преподаватель XXI век.
– 2018. – № 2. – Часть 1. – С. 333-340 (0,47 п.л.). Авторство не разделено.
11. Грязнова, А. Т. Лингвопоэтический анализ стихотворения
А. А. Бестужева-Марлинского «Осень» / А. Т. Грязнова // Русский язык в
школе. – 2017. – № 6. – С. 57-62 (0,3 п.л).
12.
Грязнова, А. Т. Языковые средства создания иронии и их
функции в повести В. Пьецуха «История города Глупова в новые и
новейшие времена» / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2016. – № 1.
– С. 40-46 (0,4 п.л.).
13. Грязнова, А. Т. Интертекст как средство создания речевой маски
в стихотворении А. Блока «Экклесиаст» / А. Т. Грязнова // Русский язык в
школе. – 2016. – № 8. – С. 42-48 (0,4 п.л.).
14. Грязнова, А. Т. Лингвистические средства создания фантастики
в повести М. Ю. Лермонтова «Штосс» / А. Т. Грязнова // Русский язык в
школе. – 2015. – № 1. – С. 46-54 (0,5 п.л.).
15. Грязнова, А. Т. «Экспериментальная» фантастика А. И. Куприна
(Лингвопоэтический анализ повести «Жидкое солнце») / А. Т. Грязнова //
Русский язык в школе. – 2015. – № 8. – С. 42-48 (0,4 п.л.).
16. Грязнова, А. Т. Неявные смыслы «транспортного кода» в поэзии
В. Ходасевича / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2014. – № 12. –
С. 56-63 (0,44 п.л.).
17. Грязнова, А. Т. «Московский цикл» В. Я. Брюсова неомиф или летопись? (Опыт лингвопоэтического анализа) / А. Т. Грязнова
// Русский язык в школе. – 2013. – № 11. – С. 54-61 (0,44 п.л.).
18. Грязнова, А. Т. Структура и функции лингвоцветовой картины
мира в романе А. Н. Толстого «Аэлита» / А. Т. Грязнова // Русский язык в
школе. – 2013. – № 1. – С. 44-51 (0,44 п.л.).
19. Грязнова, А. Т.
Лингвистические средства создания
фантастического эффекта в повести А. А. Бестужева-Марлинского
«Страшное гадание» / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2012. – № 10.
– С. 47-53 (0,4 п.л.).
20. Грязнова, А. Т. Место олицетворения в вербально-образной
картине мира фэнтези / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2012. – №
11. – С. 47-52 (0,3 п.л.).
34
21. Грязнова, А. Т. Вербально-образная картина мира в «римском
цикле» А. Н. Майкова / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2011. – №
5. – С. 58-63 (0,3 п.л.).
22. Грязнова, А. Т. Вещественные доказательства таланта (Роль
культурно обусловленной детали в формировании хронотопа прозы
А. Аверченко) / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2011. – № 3. –
С. 36-42 (0,4 п.л.).
23.
Грязнова, А. Т. Средства создания «московского дискурса» в
фэнтези Е. Кинн и Н. Некрасовой «Самое тихое время города» / А. Т.
Грязнова // Гуманитарные исследования. – 2011. – № 1 (37). – С. 147-155 (1,12
п.л.).
24.
Грязнова, А. Т. Лингвопоэтические особенности «Подблюдных
песен» К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева в сравнении с фольклорными
образцами / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2010. – № 8. – С. 5763 (0,4 п.л.).
25. Грязнова,
А.
Т.
Зачарованный
русским
словом
(Лингвопоэтический анализ стихотворения К. Д. Бальмонта «Русский
язык») / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2010. – № 6. – С. 68-73 (0,3
п.л.).
26. Грязнова, А. Т. Вербально-образная картина мира как
инструмент лингвопоэтического анализа / А. Т. Грязнова // Вестник
Орловского государственного университета. – Серия: новые гуманитарные
исследования. – 2010. – № 6. – С. 192-194 (0,62 п.л.).
27. Грязнова, А. Т. «Этнографическая фантастика» В. Я. Брюсова
(Филологический анализ «Рассказов Маши, с реки Мологи, под городом
Устюжна») / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2008. – № 8. – С. 4550 (0,3 п.л.).
28. Грязнова, А. Т. Неизвестный Некрасов (Лингвопоэтический
анализ стихотворения Н. А. Некрасова «Сон») / А. Т. Грязнова // Русский
язык в школе. – 2008. – № 1. – С. 51-54 (0,25 п.л.).
29. Грязнова, А. Т. «Резкий ум критика и доброе сердце сказочника»
(Особенности языковой игры в произведениях К. И. Чуковского) /
А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2007. – № 2. – С. 47-52 (0,31 п.л.).
30. Грязнова, А. Т. Образ осени в ранней лирике В. К. Кюхельбекера
(Лингвопоэтический анализ) / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. –
2007. – № 3. – С. 55-61 (0,4 п.л.).
31. Грязнова,
А.
Т.
«Незаурядный
версификатор»
(Лингвопоэтический анализ стихотворения А. К. Толстого «Ты знаешь
край...») / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2005. – № 5. – С. 50-58
(0,5 п.л.).
32. Грязнова, А. Т. Образ Новгорода в лирике А. И. Одоевского
(Опыт лингвопоэтического анализа) / А. Т. Грязнова // Русский язык в
школе. – 2004. – №4. – С. 57-66 (0,56 п.л.).
33. Грязнова, А. Т. Ученик Гофмана или предшественник Щедрина?
(Анализ «Сказки о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем»
35
В. Ф. Одоевского) / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2004. – №2. –
С. 52-60 (0,5 п.л.).
34. Грязнова, А. Т. Такой разный Брюсов (Лингвостилистический
анализ фантастических произведений писателя) / А. Т. Грязнова // Русский
язык в школе. – 2003. – №6. – С. 56-64 (0,45 п.л.).
35. Грязнова, А. Т. Последний романтик Х1Х столетия
(Лингвопоэтический анализ стихотворения С. Я. Надсона «Певец») /
А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2002. – №6 . – С. 51-60 (0,56 п.л.).
36. Грязнова, А. Т. «Он стройно жил, он стройно пел…!» ( О балладе
В.А. Жуковского «Светлана») / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. –
2002. – № 2. – С. 51-61 (0,62 п.л.).
37. Грязнова, А. Т. Дорога или путь? (О стиле цикла А. Блока
«Родина») / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 2000. – № 5. – С. 51- 58
(0,45 п.л.).
38. Грязнова, А. Т. Опыт лингвистического анализа сказки
П. П. Ершова «Конек-горбунок» / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе.
– 1999. – №4. – С. 59-66 (0,45 п.л.).
39. Грязнова,
А.
Т.
Воспоминания
о
будущем
(Лингвостилистический анализ научно-фантастической повести В. Ф.
Одоевского «4338-й год. Петербургские письма» / А. Т. Грязнова // Русский
язык в школе. – 1999. – №2. – С. 70-77 (0,45 п.л.).
40. Грязнова, А. Т. Средства создания фантастики в романтической
сказке А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» /
А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 1997. – №4. – С. 65-70 (0,3 п.л.).
41. Грязнова, А. Т. Фоновые значения слов в поэзии
М. Ю. Лермонтова / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. – 1996. – № 2.
– С. 51-57 (0,4 п.л.).
42. Грязнова, А. Т. Русская романтическая сказка («Городок в
табакерке» В. Ф. Одоевского) / А. Т. Грязнова // Русский язык в школе. –
1996. – № 6. – С. 55-61 (0,45 п.л.).
Статьи в журналах и сборниках, не включенных в перечень
ВАК
43. Грязнова, А. Т. Место метонимии в вербально-образной картине
мира русского фэнтези / А. Т. Грязнова // Семантика и функционирование
языковых единиц в разных типах речи. Сборник статей Всероссийской научной
конференции с международным участием. Под научной редакцией
Т. П. Курановой. – Ярославль: Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского (Ярославль), 2022. – С. 46-57 (0,62 п.л.).
44. Грязнова, А. Т. Место мифонимов в вербально-образной картине
мира русского фэнтези / А. Т. Грязнова // Русский язык: образование, наука,
культура. Материалы международной научно-методической сессии. Под общей
редакцией С. М. Колесниковой. – Москва: Московский педагогический
государственный университет, 2022. – С. 258-263 (0,4 п.л.).
45. Грязнова, А. Т. Глагольная лексика, описывающая эмоциональное
состояние человека, как средство репрезентации акционального кода культуры
36
(на материале русского и китайского языков) / Чуньхун Бе, А. Т. Грязнова // Язык
в национально-культурном ракурсе: теория и практика. Сборник статей / под
общей ред. Л. А. Мардиевой, Т. Ю. Щуклиной. – Казань: Издательство
Казанского университета, 2019. – С. 22–32 (0,54 п.л.). Авторство не разделено.
46. Грязнова, А. Т. Языковые средства достижения эффекта многомирия
в фантазии И. С. Тургенева «Призраки» / А. Т. Грязнова // Язык и стиль
И. С. Тургенева. Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов
кафедры русского языка. – Москва: МПГУ, 2019. – С. 90-104 (0,87 п.л.).
47. Грязнова, А. Т. Языковые средства достижения эффекта
правдоподобия в прозе русского фэнтези / А. Т. Грязнова // Правда - неправда постправда. Сборник научных трудов проекта NOT ONLY. NOT ONLY 2018:
Теория и практика гуманитарных исследований. под ред. А. В. Глазкова,
Е. А. Глазковой. – Москва: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2018. – С. 116133 (1,06 п.л.).
48. Грязнова, А. Т. Художественный концепт в лингвопоэтическом
освещении / А. Т. Грязнова // Текст. Структура и семантика. Доклады
Международной научной конференции «Русский язык в исследованиях
отечественных ученых: история и современность», посв. памяти д.ф.н., проф.
Е.И. Дибровой. 2–3 декабря 2016. – М.: РосНОУ, 2017. – С. 267-274 (0,44 п.л.)
49. Грязнова, А. Т. Место концепта «Осень» в вербально-образной
картине мира русского фэнтези / А. Т. Грязнова // Сборник научных статей по
материалам Международной научной конференции «XIV Виноградовские
чтения». Ответственный редактор Е. С. Ярыгина, Е. Ю. Геймбух. – Том. I.
Русский язык. – М.: МГПУ, 2017. – С. 207-216 (0,56 п.л.).
50. Грязнова, А. Т. Роль словообразовательной игры в организации
вербально-образной картины мира русского фэнтези / А. Т. Грязнова //
Актуальные проблемы русистики. Материалы Международной научной
конференции "Максимовские чтения". – М.: Национальный книжный центр,
2015. – С. 63-76 (0,81 п.л.).
51. Грязнова, А. Т. Роль сравнительных конструкций в формировании
вербально-образной картины мира русского и русскоязычного фэнтези /
А. Т. Грязнова // Актуальные проблемы филологии. Международный
ежегодник. – Вып. 8. – Барнаул; Рубцовск: Издательство Алтайского
государственного университета, 2014. – С. 20-30 (0,62 п.л.).
52. Грязнова, А. Т. Типы и функции морфологических аномалий в прозе
русского фэнтези / А. Т. Грязнова // Проблемы современного образования. –
2013. – № 1. – С. 33-45 (1,5 п.л.).
53. Грязнова, А. Т. Функции социолектизмов в прозе русского фэнтези /
А. Т. Грязнова // Язык русской литературы XX века. сборник научных статей.
под общ. ред. О. П. Мурашёвой, Н.А. Николиной. – Ярославль: Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 2010. – С.
30-40 (0,62 п.л.).
54. Грязнова, А. Т. Проблема становления терминополя «Фэнтези» в
русском научном дискурсе / А.Т. Грязнова // Активные процессы в различных
37
типах дискурсов: функционирование единиц языка, социолекты, современные
речевые жанры. Материалы международной конференции 19-21 июня 2009 года.
– Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им.
К.Д. Ушинского, 2009. – С. 138-142 (0,25 п.л.).
55. Грязнова, А. Т. Когезия и когерентность как объекты языковой игры
в прозе русского фэнтези / А. Т. Грязнова // Материалы международной
конференции "Активные процессы в современной грамматике". Москва, 19-20
июня 2008 г.– Москва, 2008. – С. 55-59 (0,44 п.л.).
56. Грязнова, А. Т. Образный потенциал экспрессемы "Вавилон" в
русской нереалистической прозе / А. Т. Грязнова // Материалы международной
конференции "Гуманитарные науки в России 21 века: тенденции и перспективы".
–Архангельск: КИРА. – С. 59-64 (0,4 п.л.).
57. Грязнова, А. Т. Образный потенциал колоративов в прозе русского
фэнтези / А. Т. Грязнова // Активные процессы в современной лексике и
фразеологии. Материалы международной конференции. Москва, 08-09 июня
2007 г. –– Москва, 2007. – С. 52-56 (0,3 п.л.).
58. Грязнова, А. Т. Лингвистические средства неомифологизации в
прозе русского фэнтези / А. Т. Грязнова // Российский лингвистический
ежегодник. – Красноярск, 2007. – Вып 2 (9). – С. 40-51 (0,68 п.л.).
59. Грязнова, А. Т. Терминологическое поле «Нереалистическая проза»
в современном русском языке / А. Т. Грязнова // Филологическая наука в ХХ1
веке. Материалы У1 Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых. – М.-Ярославль, 2007. – С. 84-90 (0,44 п.л.).
60. Грязнова, А. Т. Образный потенциал языковой игры в прозе русского
фэнтези / А. Т. Грязнова // Российский лингвистический сборник. – Вып. 2 (9). –
Красноярск, 2007. – С. 40-51 (0,68 п.л.).
61. Грязнова, А. Т. Становление языка и стиля русского фэнтези. / А. Т.
Грязнова // Проблемы современного филологического образования:
Межвузовский сборник научных статей. – Вып. 7. – Москва – Ярославль: Ремдер,
2007. – С.153-157 (0,25 п.л.).
62. Грязнова, А. Т. Новые приемы использования устойчивых
выражений в прозе русского фэнтези. / А. Т. Грязнова // Вопросы языка и
литературы в современных исследованиях. Материалы Международной научнопрактической конференции “Славянская культура: истоки, традиции,
взаимодействие. VIII Кирилло-Мефодиевские чтения”. – Ч.1. – Вып. 2. – М. –
Ярославль, 2006. – С. 17-22 (0,4 п.л.).
63. Грязнова, А. Т. Художественные функции каламбура в прозе
русского фэнтези / А. Т. Грязнова // Экология культуры и языка: проблемы и
перспективы. Международная научная конференция, посвященная 100-летию Д.
С. Лихачева. 2-4 ноября 2006 г. – Архангельск, 2006. – С. 27-32 (0,44 п.л.).
64. Грязнова, А. Т. Травестия в мире русского фэнтези / А.Т. Грязнова //
Русский язык в школе и дома. – 2006. – №5. – С. 8-11 (0,15 п.л.).
65. Грязнова, А. Т. Наложение образных средств языке и стиле русского
фэнтези / А. Т. Грязнова // Филологическая наука в XXI веке: взгляд молодых.
38
Материалы I межвузовской конференции молодых ученых. К 130-летию МПГУ.
– Москва-Ярославль: МПГУ – Ремдер, 2006. – С. 379-382 (0,2 п.л.).
66. Грязнова, А. Т. Язык и стиль фэнтезийного романа Е. Хаецкой «За
синей рекой» / А. Т. Грязнова // Научные труды Московского Педагогического
Государственного Университета. Серия: гуманитарные науки. Сборник статей. –
М.: «Прометей», 2006. – С. 99-102 (0,2 п.л.).
67. Грязнова, А. Т. Специфика организации текста детского фэнтези
(лингвопоэтический аспект) / А. Т. Грязнова // Язык русской литературы XX
века. Сборник научных статей. под общ. ред. О. П. Мурашёвой, Н.
А. Николиной. – Ярославль, 2006. – С. 221-236 (0,4 п.л.).
68. Грязнова, А. Т. Поэтика фэнтезийных романов Э. Раткевич /
А. Т. Грязнова // Лингвистика и поэтика: сб. науч. тр. Вып. 2. / Моск. пед. гос.
ун- т; отв. ред. Н. А. Николина. – Москва: ЦГЛ, 2005. – С. 132-137 (0,4 п.л.).
69. Грязнова, А. Т. О стилистических просчетах авторов русского
фэнтези (проблема типологии) / А. Т. Грязнова // Научные труды МПГУ. Серия:
Гуманитарные науки. Сборник статей. – М.: «Прометей», 2005. – С. 45-48
(0,2 п.л.).
70. Грязнова, А. Т. Образный потенциал лексемы "герой" в прозе
русского фэнтези / А. Т. Грязнова // Филологическая наука в XXI веке: взгляд
молодых. Материалы четвертой Всероссийской конференции молодых
ученых. Москва – Ярославль. 22-23 ноября 2004 г. – М.: Ремдер, 2005. – С. 1620 (0,3 п.л.).
71. Грязнова, А. Т. Динамика языка и стиля русского фэнтези
(лингвопоэтический аспект) / А. Т. Грязнова // Научные труды МПГУ. Серия:
Гуманитарные науки. – М., 2004. – С. 54-58 (0,3 п.л.).
72. Грязнова, А. Т. Образный потенциал лексики текстового
семантического поля «оружие» в прозе русского фэнтези / А. Т. Грязнова //
Филологическая наука в ХХI веке: Материалы третьей Всероссийской
конференции молодых ученых. 22-23 ноября 2004 г. – Москва – Ярославль:
Ремдер, 2004. – С. 338-341 (0,2 п.л.).
73. Грязнова, А. Т. Национальные традиции языковой игры в
фэнтезийном романе М.Г. Успенского «Там, где нас нет» / А. Т. Грязнова //
Лингвистические и эстетические аспекты анализа текста и речи. Материалы V
Всероссийской (с международным участием) научной конференции. Соликамск.
19-21 февраля 2004 г. – т. 3. – Соликамск: Соликамский государственный
педагогический университет, 2004. – С. 31-34 (0,2 п.л.).
74. Грязнова, А. Т. Поэтика стилистического контраста в русском
комическом фэнтези / А. Т. Грязнова // Язык русской литературы ХХ века. –
вып. 2. – Ярославль: ЯГПУ, 2004. – С. 187-197 (0,62 п.л.).
75. Грязнова, А. Т. Лингвистические средства реализации травестии и
бурлеска в прозе русского фэнтези / А. Т. Грязнова // Лингвистика и поэтика. –
М.: ЦГЛ, 2004. – С. 132-137 (0,4 п.л.).
76. Грязнова, А. Т. Роль единиц семантического поля «игра» в
произведениях современной русской фантастики / А. Т. Грязнова // Научные
39
труды МПГУ. Серия: Гуманитарные науки. – Москва: «Прометей», 2003. – С. 2023 (0,15 п.л.).
77. Грязнова, А. Т. Романтические традиции в прозе русского фэнтези /
А. Т. Грязнова // PRO=ЗА. Тезисы международной научной конференции
«Поэтика прозы». – Смоленск: СГПУ, 2003. – С. 105-108 (0,15 п.л.).
78. Грязнова, А. Т. Роль эпиграфов в романтической прозе
О. И. Сенковского / А. Т. Грязнова // Современное русское языкознание и
лингводидактика. Сборник материалов международной юбилейной научнопрактической конференции, посвященной 80-летию академика РАО
Н. М. Шанского. – М.: Народный учитель, 2003. – С. 130-134 (0,15 п.л.).
79. Грязнова, А. Т. Текстообразующая функция устойчивых выражений
в русском ироническом фэнтези (на примере анализа трилогии М. Успенского о
Жихаре) / А. Т. Грязнова // Актуальные проблемы современной филологии.
языкознание. Киров, 15-17 октября 2003 г. / Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. Ответственный редактор С. В. Чернова. – Ч. 2. –
Киров: ВятГПУ, 2003. – С. 66-70 (0,3 п.л.).
80. Грязнова, А. Т. Повесть В. Ф. Одоевского «4338-й год.
Петербургские письма»: язык и стиль русской романтической фантастики / А. Т.
Грязнова // Антропоцентрическая парадигма в филологии. Материалы
Международной научной конференции Ставрополь, 14-15 мая, 2003 г. – Ч. 1.
Литературоведение. – Ставрополь: СГУ, 2003. – С. 374-385 (0,68 п.л.).
81. Грязнова, А. Т. Функции топонимов в романе М. Успенского «Там,
где нас нет» / А. Т. Грязнова // Человек, язык, искусство. Материалы
международной научно-практической конференции 4-6 ноября 2002 г. – Москва:
МПГУ, 2002. – С. 266-268 (0,15 п.л.).
82. Грязнова, А. Т. Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Посреди
небесных тел…» (К вопросу о стиле) / А. Т. Грязнова // Научные труды МПГУ.
Серия: Гуманитарные науки. – М.: «Прометей», 1998. – С. 3-4 (0,1 п.л.).
83. Грязнова, А. Т. Лексико-семантическая организация стихотворения
В. Ходасевича «Надо мной в лазури ясной...» / А. Т. Грязнова // Научные труды
МПГУ.// Серия: Гуманитарные науки. – М.: «Прометей», 1997. – С. 7-9 (0,1 п.л.).
84. Грязнова, А. Т. Национально-культурный компонент семантики
слова в интерпретации художественного текста / А. Т. Грязнова // Русский язык,
культура, история // Сборник материалов 2-ой научной конференции лингвистов,
литературоведов, фольклористов. 22-24 февраля 1996 г. – ч.1 – М. : МПГУ, 1997.
– С. 262-267 (0,4 п.л.).
85. Грязнова, А. Т. Нетрадиционная поэтическая лексика в поэтике В.Ф.
Ходасевича / А. Т. Грязнова // Актуальные вопросы языкознания в историческом
и современном освещении. Третьи Поливановские чтения. – Часть 2. —
Смоленская городская типография. – Смоленск, 1996. – С. 43–48 (0,4 п.л.).