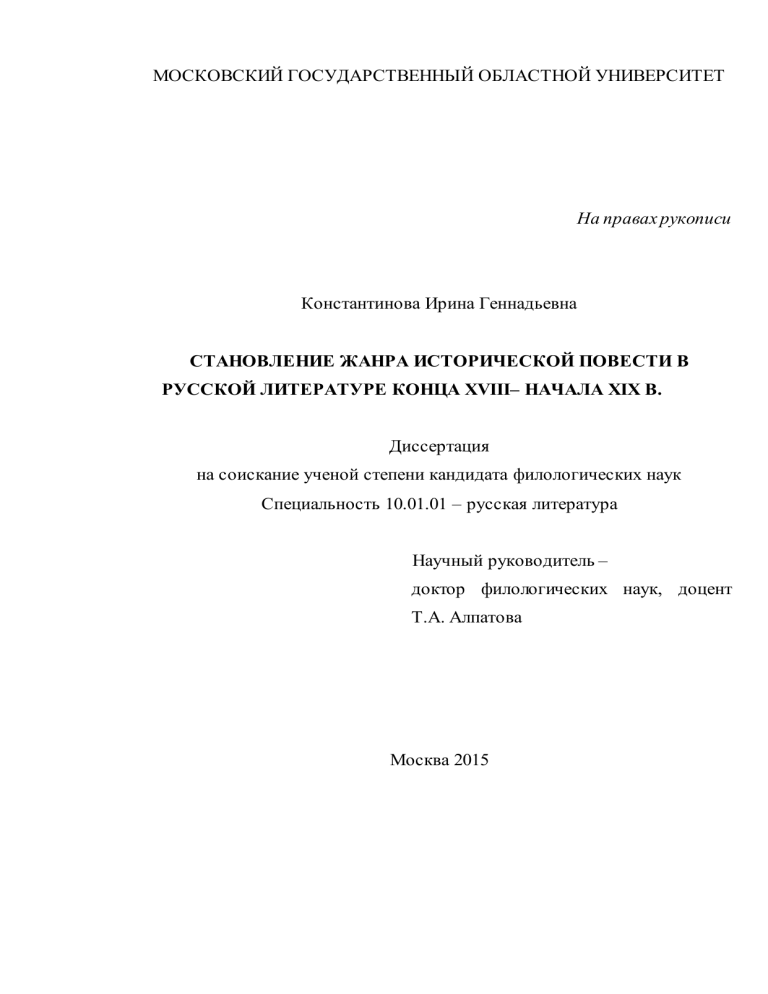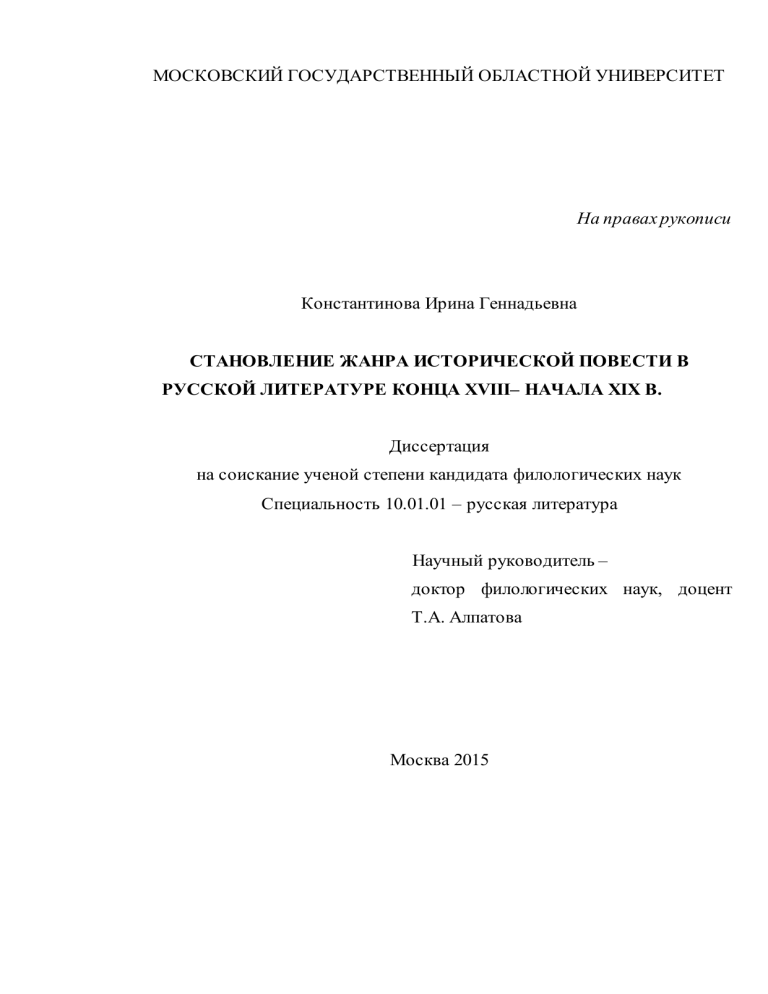
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
На правах рукописи
Константинова Ирина Геннадьевна
СТАНОВЛЕНИЕ ЖАНРА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ В
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XVIII– НАЧАЛА XIX В.
Диссертация
на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Специальность 10.01.01 – русская литература
Научный руководитель –
доктор филологических наук, доцент
Т.А. Алпатова
Москва 2015
Содержание:
Введение ……………………………………………………. ……………….. 3
Глава 1. Карамзинская традиция и ее судьба в русской исторической
повести конца XVIII – начала XIX в. ……………………………………………18
1.1. Специфика исторических повестей Н.М. Карамзина как жанрового
образца для творческого диалога последователей ………………………………...18
1.2. Предромантический историзм в изображении прошлого сквозь призму
«чувствительного» повествования («Оскольд» М.Н. Муравьева – «Предслава и
Добрыня» К.Н. Батюшкова) …………………………………………………………31
1.3.
Мотив вины и раскаяния в исторических «декорациях» сюжета о
разорении Полоцка («Рогвольд» В.Т. Нарежного – «Рогнеда, или Разорение
Полоцка» Н.С. Арцыбашева) ………………………………………………………..47
1.4. Балладный и элегический лиризм как средство проникнуть в «дух»
героев прошлого («Громобой» Г.П. Каменева – «Вадим Новгородский» и
«Марьина роща» В.А. Жуковского) ………………………………………………...53
1.5. Карамзинская жанровая модель исторической повести и «массовая
литература» конца XVIII – начала XIX в. («Прогулки в окрестностях монастыря
Симонова» В.М. Колосова – «Боярин Матвеев» П.Ю. Львова) …………………..64
Глава 2. Проблемы циклизации в сборниках исторических повестей
конца XVIII – начала XIX
в. и особенности отражения исторической
концепции авторов…………………………………………………………………..79
2.1. «Храм славы российских героев» П.Ю. Львова как опыт переходной
формы исторических повествований ………………………………………………..82
2.2. Особенности осмысления истории в книге Г.В. Геракова «Твердость
духа русских» …………………………………………………………………………93
2.3.
Тема героев прошлого в сборнике исторических повестей В.Т.
Нарежного «Славенские вечера» ………………………………………………..... 108
Заключение…………………………………………………………………...126
Литература……………………………………………………………….......129
2
ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее важных задач в развитии русской литературы рубежа
XVIII–XIX вв. было становление художественной прозы. Этот многогранный и
достаточно длительный процесс развивался в течение ряда десятилетий и
предполагал
решение
чрезвычайно
значимых
вопросов:
демократизации
писательского творчества и читательской аудитории, расширения эстетической
восприимчивости словесного искусства к тем жизненным сферам, которые
обычно не рассматривала литература классицизма, выработку жанровой системы
прозы, разграничение документального и собственно художественного начал и
мн. др.
Наиболее показательным для оценки того, какими путями шло развитие
русской прозы конца XVIII – начала XIX в., представляется жанр исторической
повести. Его значение было предопределено несколькими факторами. В первую
очередь, той безусловной важностью, которой обладала
история в сознании
людей XVIII столетия, и в частности, в эстетике классицизма 1 . Именно
историческое повествование представлялось и читателям, и авторам той поры
наиболее оправданным и полезным, будучи призвано осмыслить опыт прошлого
и воспитывать гражданские, патриотические чувства современников. Особое
значение исторической повести в русской литературе конца XVIII – начала XIX
в. было подготовлено опытом предшествующего литературного развития, прежде
всего древнерусской словесности, интерес к которой в этот период постепенно
усиливался. Значимым фактором в этом ряду можно выделить общую политикоидеологическую тенденцию екатерининского времени, связанную с развитием
национального начала, опорой на национально-исторические и национальнопатриотические ценности 2 . Наконец, внимание к историческому прошлому,
1 Подробнее об э том см.: Афанасьев Э .Л. На пути к
XIX веку (Русская литература 70-х го дов XVIII – 10-х годов
XIX в. М., 2002. 304 с.; Русская литература как форма национального самосознания. XVIII век. – М., 2005. – 814 с.
2 См.: Стенник Ю.В. Идея «древний» и «новой» России в литературе и общественно -исторической мысли XVIII –
начала XIX в. – СПб., 2004. – С. 140-184.
3
развивающееся в литературе рубежа XVIII–XIX вв., и в частности в жанре
исторической повести, подготавливало литературу к освоению одной из
определяющих эстетических тенденций романтизма: повороту от универсального
античного
идеала к национально-историческим образам как источникам
вдохновения для поэта1.
В центре диссертации поставлена проблема становления русской
исторической повести конца XVIII – начала XIХ в. Слово «становление»
использовано здесь не случайно. Главным качеством этой литературной эпохи
было движение, развитие, динамика художественных форм. Поэтому становление
как особый феномен литературного процесса может быть предметом анализа на
самых разных уровнях текста: проблематики, выбора героев, особенностей
историзма (т.е. воспроизведения исторического прошлого в художественном
повествовании),
наконец,
на уровне жанровой структуры.
Для
анализа
исторической повести эта проблема представляется очень актуальной.
Безусловный взлет интереса русских писателей к исторической тематике
произошел в конце 1810-х – начале 1820-х гг. и был связан с публикацией в 1818
г. первых восьми томов «Истории государства российского» Н.М. Карамзина. Это
важнейшее событие в русской историографии, а также в развитии всей
отечественной культуры в целом не раз привлекало внимание исследователей и
давно оценено по достоинству. Однако интерес к истории формировался в
русской литературе еще до этого знакового рубежа. Историческая проблематика
постепенно
получала
художественное осмысление
в
различных жанрах
литературы XVIII – начала XIX в., в первую очередь т.н. «высоких» – оде,
трагедии, героической поэме. Историческая тематика в прозе XVIII – начала XIX
в. также постепенно занимала свое место. Это было тем более важно, что
освоение национального прошлого было для русской прозы той поры одним из
важнейших путей обретения собственного, оригинального «лица», что и стало
1 Подробнее об э том см.: Морозова Е.А. «Дайте русского мне витязя!» (Литературное творчество «в народном
ду хе») // Русская литература как форма национального самосознания. XVIII век. М., 2005. С. 472-516; Разживин
А.И. Поиски национальной основы в поэмах конца XVIII – начала XIX в. Дисс. … канд. филол. н. – М ., 1985 и мн.
др.
4
серьезным художественным открытием, способствовавшим формированию жанра
исторической повести.
Именно проза, и в первую очередь жанр повести, господствовал в
литературе Древней Руси. Однако в XVIII столетии, с развитием новой русской
литературы, жанр повести трансформируется, и прозе приходится вновь
завоевывать свое место в литературе. Наблюдения над историей развития русской
прозы XVIII – начала XIX веков позволили исследователям выделить следующие
этапы ее развития1:
– 1730-50-е гг. – первые попытки создания оригинальных жанровых форм
повествовательной прозы с сохранением подражательности западноевропейским
образцам (таковы переводные романы В.К. Тредиаковского «Езда в остров
любви» и «Аргенида», романы Ф.А. Эмина);
–
1760-70-е гг.
– развитие оригинального романа и повести,
обогащающихся за счёт различных форм устного народного творчества,
достижений сатирической прозы и драматургии, малых жанров прозы, а также
западноевропейского романа (проза М.Д. Чулкова, В.А. Лёвшина, М. Комарова и
др.);
– 1780-е – 1800-е гг. – утверждение приоритета оригинальных романа и
повести
среди
других
форм
повествования,
появление
пародий
на
западноевропейские и отечественные источники, оформление жанровых моделей
основных типов повествовательной прозы («чувствительная», «светская»,
«историческая» повесть и т.п.). Важнейшей фигурой в этот период становятся
А.Н. Радищев и Н.М. Карамзин; выделяются также прозаические опыты
последователей Карамзина (В. Измайлова, В. Колосова, В. Подшивалова и др.), а
позднее и противников, в начале XIX века сблизившихся с «Беседой любителей
русского слова». Серьезное место в развитии прозы рубежа веков заняло
творчество В.Т. Нарежного.
Говоря о степени разработанности проблемы, можно отметить следующее.
1 Ср. периодизацию в кн.: Калашникова О.Д. Русский роман 1760-1770-х
5
гг – Днепропетровск, 1991. – 160 с.
Первым крупным исследованием русской повести, в том числе XVIII
столетия, стала книга В.В. Сиповского «Очерки из истории русского романа
XVIII века» 1 . Ее значение для развития представлений историко-литературной
науки о путях эволюции повествовательных беллетристических произведений
трудно переоценить.
Исключительно богатый по
материалу,
труд В.В.
Сиповского ввел в научный оборот множество малоизвестных, а то и вовсе не
известных произведений русской литературы XVIII века, в том числе переводных
и анонимных. Исследователь предложил интересные пути для анализа этих
неоднородных в художественном отношении текстов, в частности, анализ
авторских и переводческих предисловий как опытов теоретического осмысления
жанра, недооцененного собственно литературной теорией эпохи классицизма2. Не
дифференцируя в жанровом отношении роман и повесть, В.В. Сиповский тем не
менее многое сделал для того, чтобы создать предпосылки исследования повестей
в русском литературоведении ХХ столетия.
Серьёзный вклад в изучение русской повести внесли работы Б.М.
Эйхенбаума 3, А.В. Чичерина4 , В.И. Сахарова5, И.П. Щеблыкина 6 ; коллективная
монография «Русская повесть XIX века: История и
проблематика жанра» 7
(1973 г.), сборник, подготовленный учеными Института мировой литературы
РАН, – «Русский и западноевропейский классицизм. Проза» (1982) 8 , а также
материалы конференции, проведенной в Томском университете, – «Русская
повесть как форма времени» (2002) 9 . Большой научный опыт накоплен в
исследованиях, посвященных отдельным периодам развития русской прозы и
1 Сиповский В.В. Очерки из истории русского романа 18 века. Т.1. Вып. 1-2. – СПб., 1909—1910.
2 Развитие заложенной В.В.Сиповским
традиции исследования литературных предисловий см. в кн.: Лазареску
О.Г. Литературное предисловие: вопросы истории и поэтики. – М., 2007. – 380 с.
3 См.: Эйхенбаум Б.М. О прозе: Сб. статей / сост., по дго т. текста И.Ямпольского, вступ. ст. Г. Бялого. – Л., 1969.
– 504 с.
4 См.: Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля. Повествовательная проза. – М., 1977. –
445 с.
5 См.: Сахаров В.И. Русская проза XVIII-XIX вв. Проблемы истории и поэтики. – М., 2002.
6 См.: Щеблыкин И.П. Ранние традиции русской исторической прозы // Проблемы фольклорист ики, истории
литературы и методики ее преподавания. Материалы XI конференции литературоведов Пово лжья. – Куйбышев,
1972. – С. 51-62.
7 См.: Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра / под ред. Б.С. Мейлаха. – Л., 1973.
8 См.: Русский и западноевропейский классицизм. Проза. – М., 1982. – 392 с.
9 См.: Русская повесть как форма времени. – Томск, 2002. – 340 с.
6
отдельным авторам. Ряд работ дает представление о повествовательных текстах
XVIII века («Из истории русской повести: Историко-литературное значение
повестей
Н.М.
Карамзина»
Ф.З. Канунова
1
,
«Литература
русского
сентиментализма (Эстетические и художественные искания)» Н.Д. Кочетковой2,
«”Бедная Лиза” Карамзина. Опыт прочтения» В.Н. Топорова3 , а также работы
Ю.М. Лотмана4, Г.Н. Моисеевой5, П.А. Орлова6, М.Я. Билинкиса7, И.З. Сермана8,
Т.Е. Автухович9, М.В. Иванова10, Т.В.Федосеевой11, В.В. Биткиновой12, Л.А.
Сапченко 13, Т.А. Алпатовой14 и др.).
Еще более активное внимание литературоведы проявляют к жанру повести
в творчестве русских классиков XIX века, прежде всего – А.С. Пушкина и Н.В.
Гоголя. Анализу поэтики и жанровой специфики их произведений посвящены
исследования
М.О. Гершензона,
Б.М. Эйхенбаума,
А.З. Лежнева, Б.В.
Томашевского, Г.А. Гуковского, В.Ф. Переверзева, В.В. Гиппиуса, А.Г.
Гукасовой, Г.П. Макогоненко, Ю.М. Лотмана, Ю.В. Манна, Л.С. Сидякова, В.Н.
Турбина, С.Г. Бочарова, В.М. Марковича, Н.Н. Петруниной, Е.С. Хаева, П.
Дебрецени, Б.М. Гаспарова, С.А. Гончарова. Активно изучалось и творчество
1 См.: Канунова
Ф.З. Из истории русской повести: Историко -литературное значение повестей Н.М. Карамзина.
Томск, 1967. 187 с.; ее же: К эво люции сентиментализма Н.М .Карамзина («Марфа Посадница») // Ученые записки
Томского университета. Вып. 50: Вопросы метода и стиля. – Томск, 1965. – С. 3-13.
2 Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма (эстетические и ху дожественные искани я). СПб., 1994. 279
с.; ее же: Формирование исторической концепции Карамзина – писателя и публициста // XVIII век. Сб. 13:
проблема историзма в русской литературе. Конец XVIII – начало XIX в. – Л., 1981. – С. 132-155.
3 Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина: опыт прочтения. – М., 1995. – 512 с.
4 См.: Лотман Ю.М. Пу ти развития русской прозы 1810-х гг. «Труды по русской и славянской филологии». –
Тарту, 1961. Т. 4. – С. 3-57.
5 См.: Моисеева Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIIIв.
– Л., 1980. – 261 с.
6 См.: Орлов П.А. Повесть Н.М. Карамзина «Марфа Посадница» // Русская литература. 1968. № 2. С. 192-201.
7 См.: Билинкис М.Я. Русская проза XVIII века. Документальные жанры. Повесть. Роман. СПб., 1995. – 104 с.
8 См.: Серман И.З. Зарождение романа в русской литературе XVIII века // История русского романа. Т. 1. – М.; Л.,
1962. – С. 40-65; его же: Становление и развитие романа в русской литературе середины XVIIIвека // Из истории
русских литературных отношений XVIII – XIX в. – М.; Л., 1959.
9 Авту хович Т.Е. Поэзия риторики. Очерки теоретической и исторической поэтики. – Минск, 2005. – 204 с.; ее же:
Риторика и русский роман XVIII века. Взаимодействие в начальный период формирования жанра. – Гродно, 1995.
10 Иванов М.В. Судьба русского сентиментализма. – СПб., 1996.
11 См.: Федосеева, Т.В.
« Оскольд»
М.Н. Муравьева в
контексте предромантического жанра «старинной
повести» // Михаил Муравьев и его время. Сборник статей и материалов Четвер той Всероссийской научно практической конференции. Посвящение Союзу трех поэтов: Гаврилы Державина, Николая Львова и Михаила
Муравьева / Т.В. Федосеева [Текст]. – Казань, 2013. – С. 53-60.
12 См.: Биткинова В.В. Творчество Н.М. Карамзина 1780 -х – середины 1790-х гг. К проблеме предромантизма в
русской литературе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Саратов, 2004.
13 См.: Сапченко Л.А. Творческое наследие Н.М. Карамзина: проблемы его преемственности. Диссертация на
соискание ученой степени доктора филологических наук. – М., 2003.
14 См.: Алпатова Т.А. Проза Н.М. Карамзина: поэтика повествования. – М., 2012.
7
других прозаиков эпохи, писателей «второго» ряда и массовой литературы
(работы Ю.В. Манна, В.Э. Вацуро, Е.М. Пульхритудовой, В.М. Марковича, М.
Вайскопфа, А.Л. Осповата, В.И. Кошелева, М.А. Турьян, А.И. Рейтблата и др.).
Проза классиков рассматривалась и сквозь призму историко-литературного
контекста (работы В.Ш. Кривоноса, Ю.В. Шатина, М. Вайскопфа, С.А.
Гончарова, Ю.В. Стенника, В. Шмида, Э.Л. Афанасьева, Л.А. Сапченко).
Продуктивный опыт анализа повести дают работы, посвященные более
поздним периодам развития жанра («Тургенев и русский реалистический роман
XIX века» В.М. Марковича, «Русская реалистическая повесть: герменевтика и
типология жанра» В.М. Головко, «Русская повесть Серебряного века (Проблемы
поэтики, сюжета и жанра)» Н.Д. Тамарченко и др.). Интенсивно занимаются
сегодня исследователи и проблемой самого историко-литературного контекста.
Но она чаще всего рассматривается либо в связи с отдельным автором, либо в
связи с отдельной линией текстов (работы Н.Н. Акимовой, Л.И. Рублевой, Е.М.
Дзюбы, В.С. Киселева
являются
и др.). Значимыми для исследования русской повести
и те теоретические положения, которые были сформулированы в
современной нарратологии (В. Шмид, В.И. Тюпа), в теории мотивного и
дискурсного
анализа
повествовательного
текста
(В.Е.
Ветловская,
И.В.
Силантьев, В.И. Тюпа, Ю.В. Шатин).
В целом, круг работ, посвященных изучению прозы и повествовательных
форм, широк и разнообразен, что можно считать серьезным научным
достижением современной филологии. Однако в основном жанр повести
рассматривается в них на материале литературы XIX века. Более ранним этапам
развития жанра уделялось значительно меньшее внимание, что относится не
только к повести как таковой, но и к ее типологическим разновидностям, и в
первую очередь повести исторической. Как можно судить по публикациям и
диссертациям
1
,
само
понятие
«историческая
1 См.,
повесть»
применяется
напр.: Красникова М .Н. Ро ль фольклорной традиции в становлении типа исторического повествования.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филоло гических наук. – Астра хань, 2011; Курышева Л.А.
Повести о богатырях в «Русских сказках» В.А. Лёвшина: сказочно -историческая модель повествования.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Новосибирск, 2004; Субботина Г.В.
8
исследователями как правило лишь начиная произведениями конца 1810-х –
начала 1820-х гг., в первую очередь писателей, близких декабристскому кругу, –
А.О. Корниловича, А.А. Бестужева и др1. На
лишь
более раннем
этапе изучаются
исторические повести Н.М. Карамзина (работы В.И. Федорова2, Ю.Ф.
Флоринской3,
С.Е. Подлесовой4, Т.В. Федосеевой5, Т.А. Алпатовой6 и др.). Фрагментарно
жанровая разновидность «исторической повести» в литературе конца XVIII –
начала XIX в. анализируется в диссертации Г.В. Субботиной7 , однако и здесь
исследовательница в основном анализирует повести Н.М. Карамзина, лишь
упоминая о других авторах – современниках писателя, считая моментом
окончательного оформления интереса к жанру публикацию «Истории государства
российского», т.е. период после 1818 г.
Таким
образом,
актуальность
предпринятого
диссертационного
исследования определяется безусловной необходимостью обратить внимание на
Жанр русской повести конца XVIII – начала XIX в.: вопросы типологии и «чисто ты» жанра. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата филологических наук. – М., 2003; Юсупов Т.Ж. Развитие русской прозы
XVIII века: проблематика, поэтика, восточные мотивы. Диссер тация на соискани е ученой степени кандидата
филологических наук. – М., 1995; Сурков Е.В. Русская повесть в историко-литературном процессе XVIII – первой
трети XIX в.: становление, ху дожественная система, поэтика. Диссертация на соискание ученой степени до ктор
филологических наук. – СПб., 2007 и др.
1 См., напр.: Ар хипова А.В. Эволюция исторической темы в русской прозе 1800 -1820-х гг. // На путях к
романтизму. – Л., 1984; Державина О.А. Древняя Русь в русской литературе XIX века (Сюжеты и образы
древнерусской литературы в творчестве писателей XIX века). – М ., 1990; Троицкий В.Ю. Тема Отечественной
войны 1812 го да и формирование прозы русского романтизма // Отечественная война 1812 года и русская
литература XIXв. – М., 1998; его же: Художественные открытия русской романтической прозы 20-30-х гг. XIX в. –
М., 1985; Абаза Г.Б. К вопросу о методе исторической прозы декабристов // Романтизм в русской и советской
литературе. Вып. 6. – Казань, 1973. – С. 41-63 и мн. др.
2 См.: Федоров В.И. Литературные направления в русской литер атуре XVIII века. – М., 1979. – С. 82-122; его же:
От сентиментализма к романтизму. Поиск нового поэтического содержания и форм его выражения // История
романтизма в русской литературе. Возникновение и у тверждение романтизма в русской литературе (1790 -1825 гг.).
– М., 1979. – С. 75-86.
3 См.: Флоринская Ю.Ф. О художественном методе повести Н.М. Карамзина «Марфа Посадница» // XVIII век. Сб.
8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX в. – Л., 1969. – С. 299-308.
4 См.: По длесова С.Е. Исторические повести Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» и «Марфа Посадница, или
Покорение Новагорода»: особенности жанра, поэтика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
филологических наук. – Самара, 2008.
5 См.: Федосеева, Т.В.
« Оскольд»
М.Н. Муравьева в
контексте предромантического жанра «старинной
повести» // Михаил Муравьев и его время. Сборник статей и материалов Четвер той Всероссийской научно практической конференции. Посвящение Союзу трех поэтов: Гаврилы Державина, Николая Львова и Михаила
Муравьева / Т.В. Федосеева [Текст]. – Казань, 2013. – С. 53-60.
6 См.: А лпатова Т.А. Проза Н.М. Карамзина: поэ тика повествования. – М., 2012. – 550 с.; ее же: Н.М. Карамзинповествователь: вхождение в историю (к вопросу об ор ганизации повествования в «исторической повести»
«Марфа Посадница, или Покорение Новагорода») // Литература и история. Вып. 4. – М.: МГОУ, 2006. – С. 3-12.
7 См.: Субботина Г .В. Жанр русской повести конца XVIII – начала XIX в. (вопросы типоло гии и «чисто ты» жанра).
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – М., 2003. – С. 100-120.
9
ранний этап развития жанра русской исторической повести конца XVIII – начала
XIX в. как показатель становления, с одной стороны, национально-исторического
мышления писателей того периода, а, с другой стороны, – новой картины мира,
встающей в прозаическом повествовании. Необходимо проследить, какими
путями шло становление русской исторической повести как особой жанровой
формы в период, подготавливавший тот взлет интереса к национальноисторической тематике, который приходится на конец 1810-х – 1820-е гг.
Обращение к исследованию русской исторической повести на рубеже XVIII-XIX
вв. позволит оценить, насколько значимым был национально-патриотический
элемент не только для идейного климата эпохи 1, но и для развития новаторских
художественных форм. По справедливому мнению В.Ю. Троицкого, «одно из
главных мест в этом новом художественном мире по праву принадлежало
историческому прошлому народа. События отечественной истории становятся
неисчерпаемым
кладезем
оригинальных
сюжетов,
героических
образов,
самобытных воззрений, взглядов и суждений» 2 . История как предмет интереса
писателя, и в первую очередь история Отечества способствовала развитию
художественных принципов прозаического повествования. Развитие историзма,
поиск новых путей построения сюжета, психологического раскрытия внутреннего
мира исторического персонажа – все эти задачи, которые приходилось решать
писателям конца XVIII – начала XIX в. при обращении к национальному
прошлому, были важны и для развития жанра.
Однако анализ того, какими путями шло становление ранней русской
исторической повести на рубеже XVIII-XIX вв., позволяет выйти и к более
широкой проблеме – становления романтической картины мира, что также
способствует актуальности предпринятого исследования. Понятие «картина
мира» стало популярным благодаря культурологическим исследованиям А.Я.
1 Данная
проблема в последние десятилетия не раз привлекала внимание исследователей – прежде всего в
культурологическом контексте. Об э том см., напр.: Зорин А. Кормя двуглавого орла: литература и государственная
идеология в России в последней трети XVIII - первой трети XIX в. – М., 2004. – 416 с.; Проскурина В. Мифы
империи. Литература и власть в эпо ху Екатерины II. – М., 2006. – 328 с.; Акимова Т.И. Роль литературного
творчества Екатерины II в становлении дворянского самосознания конца XVIII – начала XIX в. – Саранск, 2013. –
276 с. и др.
2 Троицкий В.Ю. Художественные открытия русской прозы 20-30-х г. XIX в. – М., 1985. – С. 5.
10
Гуревича1, который определял его как «представления о социальном и природном
универсуме, присущие данной цивилизации на определенном этапе ее развития»2.
На уровне поэтики картина мира раскрывается в особенностях пространственно временной организации произведения, что, в свою очередь, оказывает влияние на
развертывание сюжета. Отражение картины мира организует внутренний мир
героя – носителя той мировоззренческой системы, которая отражает картину мира
и ее понимание автором. В случае с романтической картиной мира необходимо
учитывать также такое характерное для романтического мировоззрения явление,
как «оппозиции» 3, присутствующие в тексте в том числе на уровне стиля и языка.
Определяющим качеством романтической картины мира представляется ее
внерациональный
характер,
а
также
динамика,
которая
проявляется
в
устремленности личности к романтическому идеалу, обретаемому путем
свободного поиска, не ограниченного категориями разума. Национальноисторическое прошлое как сфера поиска и обретения такого идеала играет при
этом огромную роль. На это явление впервые было обращено внимание в трудах
И.И. Замотина4, заложивших основы анализа ранних опытов, стоящих у истоков
русского романтизма, – в том числе ранних опытов обращения к истории. В
последующем
анализ
исторических
мотивов
как
источников
нового
художественного видения мира нередко проводился исследователями в связи с
изучением специфики движения литературы от классицизма к романтизму, от
сентиментализма к романтизму, а также в связи с исследованием такого явления,
как предромантизм (см. работы В.Н. Касаткиной, В.В. Лукова, Т.В. Федосеевой,
А.Н. Пашкурова и мн. др.). Таким образом, исследование жанра исторической
повести рубежа XVIII–XIX в. в контексте становления романтической картины
мира получает особое значение – и как возможность более глубоко проследить
См.: Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984; его же: Исторический синтез и шко ла
«Анналов». – М., 1993.
2 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984. – С. 5.
3 См. идею «романтических оппозиций», развертывающуюся в трудах Ю.В. Манна.
4 См.: Замотин И.И. Ранние романтические веяния в русской литературе. – Варшава, 1900; его же: Предания о
Вадиме Новгородском в русской литературе. – Воронеж, 1901.
1
11
особенности жанра, и как средство для анализа малоизученных текстов рубежа
XVIII-XIX вв., посвященных исторической тематике.
Научная новизна диссертационной работы обеспечивается сравнительно
малой изученностью привлеченного к анализу литературного материала –
творчества В.Т. Нарежного, П.Ю. Львова, В.Г. Геракова, В.П. Колосова и др., а
также обращением к публикациям в журналах рубежа
«Московский
журнал»,
«Вестник
Европы»,
XVIII-XIX вв.:
«Приятное
и
полезное
препровождение времени», «Русский вестник» и нек. др. Новизна работы связана
также с применением методологии комплексного анализа текстов исторических
повестей конца XVIII – начала XIX века в аспекте их жанрового своеобразия, а
также элементов предромантического историзма, становление которого было
важнейшей задачей русской литературой той поры.
Цель диссертационного исследования – проанализировать становление
жанра русской исторической повести
в
период
1790-х –
1800-х гг.,
предшествовавший тому расцвету жанра, что начинается в конце 1810-х годов,
после публикации первых томов «Истории государства российского» Н.М.
Карамзина, с учетом специфики жанровых форм «повестей» и возможных путей
их циклизации в сборниках, выпускавшихся писателями в конце 1800-х – начале
1810-х годов.
В связи с поставленной целью в исследовании решаются следующие
задачи:
1. Обобщить исследовательские трактовки исторических повестей Н.М.
Карамзина как жанрового образца для творческого диалога последователей.
2. Определить специфику предромантического историзма как способа
изобразить прошлое, «приблизив» его к эмоциональному опыту чувствительного
читателя;
выявить
эмоционально
насыщенные
сюжетные
мотивы,
способствовавшие разрешению этой задачи в русской исторической повести
периода ее становления.
12
3. Проанализировать особенности лиризма ранних исторических повестей
с учетом художественного опытов жанра элегии и баллады.
4. Выявить
пути
трансформации
жанровой
модели
предложенной
Карамзиным исторической повести в «массовой» литературе рубежа XVIIIXIX вв.
5. Рассмотреть прием циклизации как своеобразное средство расширить
сферу исторического изображения в сборниках повестей и исторических
повествований рубежа веков (на примере творчества П.Ю. Львова, Г.В. Геракова
и В.Т. Нарежного).
Объектом исследования в диссертационной работе является русская
историческая повесть конца XVIII – начала XIX в: Н.М. Карамзина, М.Н.
Муравьева, В.А. Жуковского, Г.П. Каменева, П.Ю. Львова, Н.С. Арцыбашева,
В.Т. Нарежного, Г.В. Геракова, К.Н. Батюшкова и некоторые другие.
Предмет исследования – пути становления жанра исторической повести
в литературе конца XVIII – начала XIX в. с учетом своеобразия сюжета,
предромантического
художественных
изображения
историзма,
средств
героя,
особенностей
постижения
пейзажа,
исторической
концепции,
специфики
портретного
истории,
пространственно-временной
структуры
и
исторического содержания повести.
Серьезной проблемой, с которой сталкивается исследователь русской
литературы конца XVIII – начала XIX в. в целом, и в частности жанра
исторической
повести,
художественного
достижениями
оказывается
материала.
прозы
Н.М.
Наряду
иерархия
с
Карамзина
весьма
безусловными
и его
разнородного
художественными
ближайших
учеников
и
последователей, прозаические повести на историческую тему на рубеже XVIIIXIX вв. представлены сочинениями многих авторов, в том числе т.н. «второго
ряда». Именно поэтому такие произведения, как правило, редко привлекают
внимание исследователей. Однако они важны для создания цельной картины
13
художественного развития эпохи, и значит – вполне достойны внимания наряду с
признанными и прославленными художниками.
В случае с исторической повестью, и вообще, произведениями той поры,
посвященными национально-патриотической проблематике, приходится также
сталкиваться с исследовательской традицией огульно критиковать писателей за
«ложно-патриотический», «ура-патриотический» пафос их произведений. Одним
из принципов данной работы было желание избежать подобного оценочного
подхода. История отечества как важнейшая тема русской литературы на рубеже
XVIII-XIX вв., когда общество стремилось лучше понять себя, свое прошлое,
собственные
национально-исторические
корни,
волновала
самых
разных
писателей. Они не равны по уровню таланта, но достойны того, чтобы занять свое
место в истории литературных форм. Исходя из этого и строился круг писателей и
произведений, привлеченных к анализу в работе.
Общей и основной теоретико-методологической базой исследования
является системное единство выработанных литературоведением подходов к
рассмотрению и анализу как историко-литературного процесса, так и отдельного
произведения
в
его
связях
с
историко-литературным
контекстом.
Методологическая основа в изучении поставленной проблемы и литературного
материала определяется сочетанием современных теоретических концепций и
историко-литературного подхода с методами типологического и историкокультурного анализа. В работе использованы следующие методы исследования:
историко-генетический,
сравнительно-типологический,
феноменологический,
культурно-исторический.
Теоретическая значимость
исследования
определяется
тем, что
благодаря проведенной работе в историко-литературный процесс «возвращены»
некоторые произведения начала XIX в., не нашедшие признания у современников
и потому не получившие должной историко-литературной оценки (Г.В. Гераков,
Н.С. Арцыбашев, П.Ю. Львов). Проведенный анализ позволил уточнить ряд
положений, связанных с характеристикой исторической повести как жанра на
14
раннем этапе ее развития, с характеристикой сборников исторических повестей и
приемов циклизации в них – жанровой разновидности, популярной в русской
литературе той поры. Сделаны выводы о специфике предромантического
историзма в жанре русской исторической повести, о своеобразии путей его
развития на этапе, непосредственно предшествовавшем знакомству русского
общества с «Историей государства российского» Н.М. Карамзина.
Практическая значимость исследования
Результаты и материалы исследования могут быть использованы в
вузовских лекционных курсах и спецкурсах, в научных исследованиях по истории
литературы конца XVIII –
начала XIX вв.,
для создания нового учебно-
методического комплекса по изучению русской литературы и художественной
прозы конца XVIII – начала XIX вв., в подготовке комментариев к изданию
русских повествовательных текстов
и сочинений,
написанных
в жанре
повести, Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского и других авторов.
Положения, выносимые на защиту
1. Развитие жанра русской исторической повести на рубеже XVIII-XIX вв.
составляет важную страницу в эволюции русской прозы. В процессе этого
развития вырабатывается новый, предромантический взгляд на историю как
одновременно
поучительную
и
вызывающую
живое
эмоциональное
сопереживание; история познается как разумом, так и чувствительной душой
читателя.
2. Основы предромантического историзма как особого способа изобразить
прошлое сквозь призму чувствительного повествования, приблизив его к
эмоциональному опыту чувствительного читателя, были заложены в повестях
Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» и «Марфа Посадница, или Покорение
Новагорода», ставших жанровым образцом для творческого усвоения писателейпоследователей в конце 1790-х – нач. 1800-х и 1810-х гг.
3. Художественные находки Карамзина в сфере предромантического
историзма творчески усваиваются писателями, обращавшимися на раннем этапе
15
развития к жанру исторической повести, – М.Н. Муравьевым, К.Н. Батюшковым,
Г.П. Каменевым, В.Т. Нарежным и др. В их повестях отсутствие установки на
историческую достоверность, характерное для этапа развития жанра на рубеже
XVIII-XIX вв., превращалось в своеобразный прием достижения читательского
сочувствия, сближения эмоционального мира героев прошлого и современников
«эпохи чувствительности».
4. Характерная для карамзинской художественной модели установка на
лирическое изображение истории реализовывалась у некоторых писателей
(Г.П. Каменев, В.А. Жуковский) путем ориентации повествования на лиризм
популярных жанров поэзии той поры – особенно элегии и баллады.
5. Популярность жанра исторической повести на раннем этапе его
развития в России подтверждается также фактом проникновения его в
«массовую» литературу той поры (произведения Н.С. Арцыбашева, П.Ю. Львова,
Г.В. Геракова). В их творчестве историческая повесть вбирала в себя элементы не
только различных жанровых моделей «массовой» прозы рубежа XVIII-XIX вв.,
близких сентиментализму, но сохраняла рационально-нормативную установку на
дидактизм, а также неизбежную условность изображения истории, свойственную
классицистской традиции. Эклектичность позиции позволила писателям той поры
выстроить художественную модель прошлого, в которой сочетались бы
эмоционально-субьективное и дидактическое, личностное и «всеобщее» начала,
что и определило его своеобразное место в истории карамзинизма в русской
литературе начала XIX века.
6. Цикл исторических повествований также вызывал интерес писателей
рубежа XVIII-XIX вв. В их творческом сознании форма цикла передавала
собственно идею связи истории – смысл же определялся духом служения
отечеству, патриотизма и полезного урока, который могли дать события
прошлого современникам.
Апробация работы
16
Результаты работы обсуждались на заседании семинаров аспирантов
Московского государственного областного университета, на заседаниях кафедры,
а также во время выступлений на Восьмой Международной
конференции
«Русское
(Московский
литературоведение
на
современном
этапе»
государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова).
По теме
работы опубликовано 7 статей (общим объемом – 4 п.л.), из них 4 – в журналах,
рекомендованных ВАК РФ.
17
Глава 1
КАРАМЗИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ И ЕЕ СУДЬБА В РУССКОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА
1.1.
Специфика
исторических
повестей
Н.М.
Карамзина
как
жанрового образца для творческого диалога последователей
Исторические повести Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» (1792) и
«Марфа Посадница, или Покорение Новагорода» (1803) являются наиболее
изученными в кругу произведений русской литературы на историческую
тематику, созданных в конце XVIII – начале
XIX в. Исследователи
рассматривают их в самых разнообразных контекстах – и в соотнесении с
творческой эволюцией Карамзина-писателя, и в контексте движения от
сентиментализма к предромантизму и романтизму, и в связи с проблемой
развития исторических воззрений Карамзина, как своеобразные этапы на пути к
«Истории государства российского».
В настоящей работе обращение к этим произведениям Карамзина
необходимо для того, чтобы лучше понять писателей, которые пошли вслед за
ним, развивая предложенную жанровую модель исторической повести. Работ,
посвященных этой проблеме, значительно меньше, поскольку сами произведения
писателей, следовавших карамзинской традиции в жанре исторической повести на
рубеже XVIII-XIX вв., изучались нечасто. Сам факт следования за Карамзиным
оценивался при этом как свидетельство эпигонства, неоригинальности, как
недостаток подлинного историзма1 – что представляется не совсем справедливым.
Эстетическая идея «подражания» и «соревнования» 2 , господствовавшая в
литературе в течение всего XVIII столетия, сохраняла свое влияние и на рубеже
веков, поэтому сходство с повестями Карамзина как жанровыми моделями
1 См., напр., отрицательную оценку повести К.Н. Батюшкова «Предслава и Добрыня», данную Н.В. Фридманом,
см.: Фридман Н.В. Проза Батюшкова. – М., 1965. – С. 22.
2 См.: Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. – М., 2007.
18
исторического повествования не было в сознании самих писателей той поры
свидетельством авторской несостоятельности. Разумеется, некоторые из них были
более, а некоторые – менее талантливы в этом соревновании. Однако, чтобы
оценить, как оно происходило
в творчестве того или иного автора,
представляется необходимым вначале еще раз обратиться к историческим
повестям самого Карамзина, чтобы кратко резюмировать, в чем состояла
жанровая модель предложенного им исторического повествования.
Оценка той разновидности исторической повести, что была предложена
русской литературе в творчестве Карамзина, уже у ближайших современников и
критиков середины XIX в. оказывалась двойственной. Многие осуждали эти
повести – и «Наталью, боярскую дочь», и «Марфу Посадницу…» – за будто бы
недостаточное
внимание
к
исторической
правде,
избыток
вымысла
и
«чувствительности», стремление психологизировать и неизбежно при этом
«осовременивать» изображение внутренней жизни героев прошлого. Такие
негативные оценки высказывали Н.И. Греч, Н.А. Полевой, А. Старчевский и др.1.
С точки зрения этих критиков, в повестях Карамзина «строгая историческая
достоверность принесена в жертву литературным красотам»2. В даннром случае
критики явно предвосхищали позицию М.Т.Каченовского – представителя т.н.
«скептической» школы в историографии, критиковавшего за подобный взгляд и
Карамзина
как
историографическая
создателя
полемика
«Истории
государства
не раз
становилась
российского».
Эта
предметом внимания
исследователей; своеобразное обобщение сведений о том, как повлияла она на
развитие исторического сознания русских писателей первой трети XIX в.
присутствует в труде В.Н.Касаткиной3.
Исторические повести писателя оценили по достоинству В.В. Сиповский в
книге «Очерки по истории русского романа XVIII века» 4 , а также Б.М.
1 Подробнее о проблемах восприятия и оценки творчества Н.М. Карамзина современниками пишет Л.А. Сапченко.
2 Старчевский А. Николай Михайлович Карамзин. –
СПб., 1849. – С. 170-171.
3 См.: Касаткина В.Н. Историософское обоснование славянства в ранней поэзии Ф.И.Тютчева // Россия и
славянский мир в творческом наследии Ф.И.Тютчева. – М., 2009. – С. 80.
4 См.: Сиповский В.В. Очерки по истории русского романа XVIII века.
19
Эйхенбаум 1 , Г.А. Гуковский2 , Д.Д. Благой3 , В.В. Виноградов 4 , Ф.З. Канунова5 ,
В.И. Федоров 6 , Н.Д. Кочетков 7 и др. Многогранное и всестороннее изучение
исторических повестей писателя предлагается и во многих работах современных
исследователей – Л.А. Сапченко 8 , Л.И. Сигиды 9 , С.Е. Подлесовой 10 , Т.А.
Алпатовой11 и др.
Среди тенденций, которые наметились в литературе, посвященной
карамзинским повестям, можно выделить следующие.
Прежде всего, интересным и важным представляется анализ исторических
повестей Карамзина в контексте его философско-исторической концепции в
целом. И «Наталья, боярская дочь», и «Марфа Посадница…» выступают при этом
как своеобразные этапы в развитии общественно-политической, исторической
концепции писателя.
Методологической опорой такого рассмотрения можно считать те работы,
в которых исследователи утверждали мысль о глубоких просветительских корнях
1 См.: Эйхенбаум Б.М. Карамзин // Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии. –
2 См.: Гуковский Г.А.
Л., 1969. – С. 206-213.
Карамзин и сентиментализм // История русской литературы: в 10 т. Т. 5. – М.; Л., 1941. –
С. 65-67.
3 См.: Благой Д.Д. История русской литературы XVIII века.
4 См.: Вино градов В.В. О стиле Карамзина и его развитии // Процессы формирования лексики русского
литературного языка (от Кантемира до Карамзина): сборник статей. – М.; Л., 1966. – С. 237-258.
5 См.: Канунова Ф.З. Из истории русской повести: Историко -литературное значение повестей Н.М.Карамзина. –
Томск, 1967. – 187 с.; ее же: К эво люции сентиментализма Н.М. Карамзина («Марфа Посадница») // Ученые
записки Томского университета. Вып. 50: Вопросы метода и стиля. – Томск, 1965. – С. 3-13.
6 См.: Федоров В.И. Литературные направления в русской литературе XVIII века. – М., 1979. – С. 82-122; его же:
От сентиментализма к романтизму. Поиск нового поэтического содержания и форм его выражения // История
романтизма в русской литературе. Возникновение и у тверждение романтизма в русской литературе (1790 -1825 гг.).
– М., 1979. – С. 75-86.
7 Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма (эстетические и ху дожественные искания). – СПб ., 1994. –
279 с.; ее же: Формирование исторической концепции Карамзина – писателя и публициста // XVIII век. – Сб. 13:
Проблема историзма в русской литературе. Конце XVIII – начало XIX в. – Л., 1981. – С. 132-155.
8 Сапченко Л.А. Творческое наследие Н.М.Карамзина: проблемы его преемственности. Диссертация на соискание
ученой степени доктора филологических наук. – М., 2003.
9 См.: Сигида Л.И. Маска и подлинность личности персонажей у Пушкина и Карамзина (« Борис Годунов» и
«История государства российского»)//XVIII век: театр и кулисы. – М., 2006. – С.101-107; Сигида Л.И. Карамзин и
Рылеев о культуре Древней Руси//Мир культуры: история и современность. – М., 2006. – С. 183-194; Сигида Л.И.
Сюжет об Олеге Правителе в « Истории государства российского» Н.М . Карамзина и «Песнь о вещем Олеге» А.С.
Пушкина//Другой XVIII век. – М., 2002. – С. 273-282; Сигида Л.И. Н.М. Языков и Н.М. Карамзин: об
интерпретации сюжетов «Истории государства российского» в статьях « Олег» и «Н. Языков и русская
литература». – М., 2004. – С.16-36.
10 См.: Подлесова С.Е. Исторические повести Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» и «Марфа Посадница, или
Покорение Новагорода»: особенности жанра, поэтика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
филологических наук. – Самара, 2008.
11 Алпатова Т.А. Проза Н.М. Карамзина: поэтика повествования. – М., 2012; ее же: Н.М. Карамзин-повествователь:
вхождение в историю (к вопросу об организации повествования в «исторической повести» «Марфа Посадница,
или Покорение Новагорода») // Литература и история. Вып. 4. – М.: МГОУ, 2006. – С. 3-12.
20
сентиментализма и предромантизма в русской литературе. Таковы труды П.Н.
Беркова1, Г.П. Макогоненко2, П.А. Орлова3, Е.Н. Купреяновой4, Ф.З. Кануновой5,
Н.Д. Кочетковой6, Л.Г. Кислягиной7 , Ю.М. Лотмана 8, В.И. Федорова9 и др. По
мысли Г.П. Макогоненко, именно Карамзину «выпала задача сразу после великих
и драматических событий Французской революции отвечать на многие важные,
самой жизнью выдвинутые вопросы социального и политического существования
народов» 10.
Карамзин-просветитель глубоко интересовался историей, в которой видел
истоки тех процессов, что каждодневно развертывались перед глазами его самого
и его современников. По мысли Ю.М. Лотмана, главное направление в эволюции
взглядов писателя – переход от просветительского оптимизма и идеи «прогресса»
к более сложному, философскому пониманию истории как живого процесса,
органичного и не сводимого ни к какой единой умозрительной «схеме» 11 .
Исследователи
связывали
эту
особенность
мировоззренческого
развития
Карамзина с влиянием на него идей И.- Г. Гердера12.
1 См.: Берков П.Н. Основные вопросы изучения русского просветительства // Проблемы русского просвещения в
литературе XVIII века. – М.; Л., 1961.
2 См.: Макогоненко Г.П. Литературная позиция Н.М.Карамзина в XIX веке // Русская литература. 1962. № 4.
3 Орлов П.А. Русский сентиментализм. – М., 1977.
4 См.: Купреянова Е.Н. От сентиментальной повести к роману // История русского романа. – М., 1962. Т. 1.
5 См.: Канунова Ф.З. Из истории русской повести: Историко -литературное значение повестей Н.М. Карамзина. –
Томск, 1967.
6 См.: Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма (эстетические и ху дожественные искания). – СПб.,
1994. – 279 с.; ее же: Формирование исторической концепции Карамзина – писателя и публициста // XVIII век. Сб.
13: Проблема историзма в русской литературе. Конце XVIII – начало XIX в. – Л., 1981. – С. 132-155.
7 См.: Кислягина Л.Г. Н.М . Карамзин как явление европейской культуры Просвещения // Человек эпо хи
Просвещения. Сборник научных трудов. – М., 1999.
8 См.: Ло тман Ю.М. Сотворение Карамзина. – М., 1987. – 336 с.; его же: Политическое мышление А.Н. Радищева и
Н.М. Карамзина и опыт Французской революции // Великая французская революция и русская литература . – Л.,
1990. – С. 55-68; его же: Эво люция мировоззрения Карамзина (1789-1803) // Учен. зап. Тартуско го гос.
университета. 1957. Вып. 51. – С. 122-166; его же: Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг. (к
генезису исторической концепции Карамзина) // XVIII век. Сб. 13. Проблемы исто ризма в русской литературе.
Конец XVIII - начало XIX в. – Л., 1981. – С. 102-131 и др.
9 См.: Федоров В.И. Литературные направления в русской литературе XVIII века. – М., 1979. – С. 82-122; его же:
От сентиментализма к романтизму. Поиск нового поэтического содержания и форм его выражения // История
романтизма в русской литературе. Возникновение и у тверждение романтизма в русской литературе (1790 -1825 гг.).
– М., 1979. – С. 75-86.
10 Макогоненко Г.П. Литературная позиция Н.М. Карамзина в XIX веке // Русская литература. 1962. № 4. – С. 68.
11 См.: Лотман Ю.М. Эволюция мировоззрения Карамзина (1789-1803) // Учен. зап. Тар туского гос. университета.
1957. Вып. 51. – С. 122-166.
12 См.: Кочеткова Н.Д. Формирование исторической концепции Карамзина - писателя и публициста // XVIII век.
Сб. 13. Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII - начало XIX в. – Л., 1981; А лпатова Т.А. Проза
Н.М. Карамзина: поэтика повествования. – М., 2012; ее же: Карамзин-повествователь: диалог с историей на
страницах «Писем русского путешественника» // Текст и контекст в литературоведении: Сборник научных статей
21
Ощущение органичности, живого движения истории, насыщенности ее
индивидуальным, подлинно человеческом содержанием и стало философской,
мировоззренческой основой для жанра исторической повести в творчестве
Карамзина. Если обратиться к анализу с этой точки зрения повести «Наталья,
боярская дочь», станет понятной декларированная самим писателем установка
отнюдь не во всем следовать исторической истине. Она, эта истина, известна и
автору, и, как предполагается, читателю, но не обязательно слепо копировать ее.
Этот принцип становится объяснением иронично звучащих в общей тональности
повествования «анахронизмов» Карамзина: «Наталья <…> имела все свойства
благовоспитанной девушки, хотя русские не читали тогда ни Локка “О
воспитании”, ни Руссова “Эмиля” – во-первых, для того, что сих авторов еще и на
свете не было, а во-вторых, и потому, что худо знали грамоте» 1 ; «Читатель
догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят
они; но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать. Надлежало только
некоторым образом подделаться под древний колорит» (т. 1, с. 639, курсив
Карамзина)2.
Определяющей особенностью того жанрового образца исторической
повести, который был введен в русскую литературу Карамзиным, было их особое
сюжетно-композиционное
строение.
Исследователи
определяют
эту
специфическую черту как своеобразное раздвоение сюжетной линии, авторского
и читательского внимания – параллельное изображение исторических событий и
любовной линии3.
по материалам Международной научной конференции XI Виноградовские ч тения. Т. 2. – М., 2009. – С. 12-18 и др.
Подробнее о значении идей Гердера в развитии философско -исторических концепций рубежа XVIII-XIX вв. см.:
Жирмунская Н.А. Историко-философская концепция И.-Г. Гердера и историзм Просвещения // Там же. – С. 91101; Данилевский Р.Ю. И.Г. Гердер и сравнительное изучение литератур в России // Русская культура XVIII в. и
западноевропейские литературы. – Л., 1980; Гулыга А.В. Гер дер и его « Идеи к философии истории человечества //
Гердер И.-Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.
1 Карамзин Н.М. Избранные сочинения в 2 т. – М .; Л., 1964. Т. 1. – С. 626. Далее, кроме особо отмеченных
случаев, цитаты приводятся по этому изданию, в скобках указываются том и страница.
2 Ср. трактовку авторской иронии Карамзина в повести « Наталья, б оярская дочь», предложенную Т.А. Алпатовой:
Алпатова Т.А. Проза Н.М. Карамзина: поэтика повествования. – М., 2012.
3 См.: По длесова С.Е. Исторические повести Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» и «Марфа Посадница, или
Покорение Новагорода»: особенности жанра, поэтика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
филологических наук. – Самара, 2008.
22
Подобная двойственность возникает – хотя и на зачаточном уровне – уже в
повести «Наталья, боярская дочь». Именно поэтому трудно согласиться с Д.Д.
Благим, считавшим «исторической повестью» в творчестве Карамзина только
«Марфу Посадницу…» 1 , в которой исторические события действительно
вытесняют любовную интригу на второй план (убедительная полемика с точкой
зрения исследователя была представлена в работах В.И. Федорова 2 , Ф.З.
Кануновой 3 , С.Е. Подлесовой 4 и др.).
Разумеется, изображение собственно
исторических событий занимает в повести не столь значительное место. Однако
исследователи не случайно отмечали связь сюжета повести с рукописными
памятниками XVII века, прежде всего «Повестью о Фроле Скобееве» 5 , –
благодаря этой творческой установке Карамзину действительно удается лучше
раскрыть дух эпохи. Об историческом характере изображения свидетельствуют
также ясно выделяемые исторические прототипы героев повести и ее отдельных
сюжетных линий: боярин А.С. Матвеев (1625-1682) как прототип боярина Матвея
Андреева, история его бедствий также соотносилась исследователями с
предысторией изображенного в повести Карамзина семейства Любославских.
Даже любовной линии карамзинского повествования находили косвенный
источник в истории – неожиданно романтическую для допетровской Руси
женитьбу самого царя Алексея Михайловича
на Наталье Кирилловне
Нарышкиной.
Безусловным стремлением постичь дух истории в повести «Наталья,
боярская дочь», по справедливому мнению С.Е. Подлесовой, продиктован и
патриотический пафос
произведения. Он звучит уже в
1 См.: Благой Д.Д. История русской литературы XVIII
первой фразе,
века.
2 Федоров В.И. Литературные направления в русской литературе XVIII века. –
М., 1979. – С. 82-122; его же: От
сентиментализма к романтизму. Поиск нового поэтического содержания и форм его выражения // История
романтизма в русской литературе. Возникновение и у тверждение романтизма в русской литературе (1790 -1825 гг.).
– М., 1979. – С. 75-86.
3 Канунова Ф.З. Из истории русской повести: Историко -литературное значение повестей Н.М. Карамзина. – Томск,
1967.
4 См.: Подлесова С.Е. Исторические повести Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь»! и «Марфа Посадница, или
Покорение Новагорода»: особенности жанра, поэтика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
филологических наук. – Самара, 2008.
5 Впервые на э ту литературную параллель обратил внимание В.В. Сиповский, см.: Сиповский В.В. Очерки по
истории русского романа XVIII века. Далее идеи исследователя развивались в трудах В.И. Федорова, Ф.З.
Кануновой, С.Е. Подлесовой и мн. др.
23
открывающей повествование: «Кто из нас не любит тех времен, когда русские
были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею
походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу,
то есть говорили, как думали? По крайней мере, я люблю сии времена; люблю
на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под
сению давно истлевших вязов искать брадатых моих предков, беседовать с
ними о приключениях древности, о характере славного народа русского <…>»
(т. 1, с. 622). Автор подчеркивает многочисленные положительные качества своих
героев именно как людей прошлого: верность данному слову, честность,
хлебосольство, готовность помочь ближнему, «чему в наши просвещенные
времена, может быть, не всякий поверит, но что в старину совсем не почиталось
редкостию» (т. 1, с. 624).
Война со «свирепыми Литовцами» становится в повести чудесной
возможностью
разрешить
противоречия.
Алексей
накопившиеся
Любославский
жизненные
получает
и
нравственные
возможность
обелить
незаслуженно оклеветанное имя своего отца и получить прощение; Наталья не
разлучается с супругом и тем самым окончательно подтверждает угодность
небесам их союза; вместе молодые герои получают возможность заслужить
прощение отца Натальи и загладить свою вину перед ним; государь Алексей
Михайлович обретает нового храброго витязя, который будет верно служить
отчизне в мире и на войне; боярин Матвей вновь обретает утраченную семью. В
изображении войны в повести тесно взаимодействуют, таким образом, элементы
любовно-психологического и собственно исторического сюжета повести. Именно
война позволяет повествователю окончательно утвердить патриотический пафос
своего произведения: «страшно разят мечи российские; тверда, подобно камню,
грудь сынов твоих – победа будет всегда верною их подругою» (т. 1, с. 657).
Также важными отличительными признаками жанра исторической
повести, разработанного Карамзиным, было особое внимание к изображению
внутреннего мира героя; живое участие в жизни героев самого повествователя –
24
не просто знатока исторического прошлого, но человека неравнодушного,
способного глубоко сочувствовать людям, жившим в минувшие года; особое,
психологизированное изображение хронотопа повестей, когда и время, и
пространство изображаются как бы увиденными глазами определенного человека
– автора или кого-то из героев и т.п. 1 Частным случаем этой тенденции
становится особое внимание к психологически насыщенному пейзажу, а на
уровне стиля – фольклоризм, поэтичность, отчетливая эмоциональная доминанта
рассказа.
Очевидна она в повести «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода».
Бесспорно воспринимаемая исследователями как историческая, повесть эта по
праву может считаться отправной точкой для развития жанра, т.к. Карамзин сам
определил ее таким образом, дав подзаголовок: «историческая повесть». По
мнению Ф.З. Кануновой, в этой повести Карамзина в большей мере, чем в повести
«Наталья,
боярская
дочь»,
представлено
«объективно-эпическое
начало».
Центральное место в ней «…занимает не сентиментальная любовь, а героикопатриотическая деятельность Марфы, ее свободолюбивый страстный волевой
характер»2. Человек здесь рассматривается «не в узком мире интимных чувств и
отношений, а в связи с большими историческими событиями» 3 ; «характер
исторического
лица Карамзин трактует как определенную нравственно-
психологическую индивидуальность, обусловленную в большей мере “чудесной
силой натуры”, но вместе с тем созданную “обстоятельствами времени” и в свою
очередь влияющую на них» 4.
Построение сюжета, композиция, закономерности раскрытия основных
характеров здесь таковы, что на первый план выходит концепция истории,
оформившаяся к тому времени в творческом сознании Карамзина. Это не
1 Подробнее об этих жанровых признаках разработанного Карамзиным типа исторической повести пишет в своей
диссертации С.Е. Подлесова, см.: По длесова С.Е. Исторические повести Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь»
и «Марфа Посадница, или По корение Новагорода» : особенности жанра, поэтика. Диссер тация на соискание ученой
степени кандидата филологических наук. – Самара, 2008.
2 Канунова Ф.З. Из истории русской повести: Историко -литературное значение повестей Н.М . Карамзина. –
Томск, 1967. – С. 161.
3 Там же. – С. 162-163.
4 Там же. – С. 163.
25
случайно. Повесть «Марфа Посадница…» стала последним художественным
произведением писателя, он уже внутренне готовился перейти к написанию
истории, и таким образом именно осмысление философско-исторических проблем
обретало для него особую важность. Возможно, по этой причине именно в
повести «Марфа Посадница…» столь большое значение приобретает важнейшая
для историко-политического мышления XVIII столетия в целом проблема власти.
Сама тема новгородской свободы воспринималась в ту пору – и в
историографии, и в литературе – в первую очередь в контексте характерного для
эпохи вопроса о соотношении различных типов правления. Большее число
писателей в XVIII веке соотносили эту проблему с сюжетом о Вадиме
Новгородском, – стоит вспомнить в связи с этим пьесы Екатерины II
«Историческое представление из жизни Рюрика», Я.Б. Княжнина «Вадим
Новгородский», П.А. Плавильщикова «Рюрик». История подчинения вольного
Новгорода единоличной власти Рюрика в этих произведениях трактовалась в духе
идей Ш.-Л. Монтескье о превосходстве монархии над демократией или
олигархическим правлением кучки вельмож1.
Карамзинская концепция власти, а вместе с тем и концепция истории в
повести «Марфа Посадница», оказывается сложнее. О парадоксах историкополитической позиции писателя, о своеобразных ее загадках убедительно
размышляла Ф.З. Канунова, задаваясь вопросом: как объяснить, «…почему в
произведении, основой общественно-политической концепции
которого
является утверждение идеи самодержавного правления как исторической
закономерности, на первый план выведена страстная республиканка, гордая дочь
Новгорода, Марфа, на стороне которой сочувствие и симпатия народа?» 2.
Исследовательница видит ответ на этот вопрос в необычных эстетических
принципах Карамзина, воплотившихся в этой повести. Прежде всего, она
1 Подробнее о влиянии идей Монтескье на русскую трагедию классицизма см.: А лпатова Т.А. А.П. Сумароков и
Ш.-Л. Монтескье (к вопросу о генезисе политической концепции трагедии «Димитрий Самозванец») // Творчество
А.П. Сумарокова в контексте мировой литературы: Сборник научных работ, подготовленный по материалам
конференции, посвящённой творчеству А.П. Сумарокова (17 декабря 2008 года). – М., 2009. – С. 37-50.
2 Канунова Ф.З. Из истории русской повести: Историко -литературное значение повестей Н.М. Карамзина. – Томск,
1967. – С. 163.
26
выделяет влияние на раскрытие сюжета и характера главной героини, Марфы,
художественных принципов трагедии. Марфа, таким образом, – подлинно
трагическая фигура, «яркий героизированный, иногда в высоком классическом
плане образ»1. Этот трагизм реализуется как неразрешимость конфликта, согласно
теории трагедии как жанра, и делающая
возможным катарсис 2 . В высоком
трагическом конфликте нет места низменному началу – и в борьбе Новгорода и
Москвы, Марфы и Иоанна нет низости, подлости, злобы, а есть лишь
благородство, высота духа и подлинно трагические заблуждения. «Грудь русская
была против груди русской, и витязи с обеих сторон хотели доказать, что они
славяне» (т. 1, с. 712); «одни сражались за честь, другие за честь и вольность»
(т. 1, с. 713); «Дела славные и великие! Одни русские могли с обеих сторон так
сражаться, могли так побеждать и быть побеждаемы. Опытность, хладнокровие,
мужество и число благоприятствовали Иоанну; пылкая храбрость одушевляла
новгородцев, удвояла силы их, заменяла опытность» (т. 1, с, 717); «Как Иоанн
величием своим одушевлял легионы московские, так Марфа в Новегороде
воспаляла думы и сердца» (т. 1, с. 718).
Трагическое в художественной структуре повести, равно как и в
карамзинской трактовке истории в целом, повлияло на то, каким образом в
повести раскрывается обязательный в жанровой структуре мотив любви.
Безусловно, он играет здесь меньшую роль, нежели в повести «Наталья, боярская
дочь», однако все же не исчезает, выполняя не столько сюжетную, сколько
психологическую нагрузку.
Благодаря мотиву любви автор здесь получает
возможность мотивировать поступки героев, прежде всего Марфы, подчеркнуть
человеческое начало в них.
В душе Марфы живет убежденность в том, что «любовь супружеская» не
просто составляет высшее счастье человека, но и придает его жизни истинно
человеческое, высокое достоинство – и именно поэтому этой любви «все другие
1 Там же.
2 Подробнее об эволюции
теоретических взглядов на трагедию, о трансформации античных принципов жанра в
теории и литературной практике классицизма, см.: Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. – М.,
1967.
27
чувства уступают» (т. 1, с. 702). «В ней жена малодушная, осужденная роком на
одни жалобы и слезы в бедствиях, находит твердость и решительность, которой
могут завидовать герои!..» (т. 1, с.
702-703). Именно проявлением этого
высокого начала объясняет Марфа – а с нею и рассказчик – выбор борьбы за
новгородскую вольность в качестве главного дела жизни: «Что же действует в
душе моей? Что пременило ее столь чудесно? Какая сила дает мне власть над
умами сограждан? Любовь!.. Одна любовь… к отцу вашему, сему герою
добродетели, который жил и дышал отечеством» (т. 1, с. 703). Марфа поклялась
супругу заменить его, в случае его смерти взять на себя исполнение его
гражданского долга, и она сдержала эту клятву. «Гордость, славолюбие,
героическая добродетель есть свойство великого мужа: жена слабая бывает
сильна одною любовию, но, чувствуя в сердце ее небесное вдохновение, она
может превзойти великодушием самых великих мужей и сказать року: “Не
страшусь тебя!”» (т. 1, с. 704). Таким образом, в повести «Марфа Посадница»
Карамзин переосмысливает проблему любви и долга занимавшую значительное
место в литературе классицизма, и в частности в трагедии. В его повести любовь
«…трактуется как большое гражданское, патриотическое чувство. Любовь к мужу
и отечеству слились в душе Марфы. Она умеет подчинить личные чувства
общественному долгу и даже пойти на многие жертвы ради последнего» 1.
Однако трагизм, трагедийное начало в повести Карамзина не возвращало
писателя к закономерностям эстетики классицизма. Трагическое как эстетическая
категория в данном случае реализовывалась в повести как одна из разновидностей
другой эстетической категории, очень важной для становления предромантизма и
романтизма, – возвышенного. Исследование того, какое значение понятие
«возвышенного» в теории и литературной практике русских писателей конца
XVIII – начала XIX в,, в том числе Карамзина, провел А.Н. Пашкуров2. Именно
1 Канунова Ф.З. Из истории русской повести: Историко -литературное значение повестей Н.М. Карамзина. – Томск,
1967. – С. 165.
2 Подробнее см.: Пашкуров А.Н. Жанрово-тематические модификации поэзии русского сентиментализма и
предромантизма в свете категории возвышенного. Диссер тация … на соискание ученой степени до ктора
филологических наук. – Казань, 2005; его же: Категория возвышенного в поэзии русского сентиментализма и
предромантизма. Эволюция и типология. – Казань, 2004.
28
установкой на возвышенное определяется карамзинская трактовка истории в
повести – и в конечном счете определение ее исторической идеи – «мысль о
неизбежной трагической обреченности свободолюбия и поборников свободы, о
трагической бессмысленности жертвы Марфы Борецкой» 1.
Трагическое в восприятии исторических закономерностей и возвышенное
как одно из главных художественных средств их раскрытия выводит Карамзина в
повести «Марфа Посадница…» к еще одной проблеме, очень важной для
изучения не только этого произведения, но и раннего этапа русской исторической
повести в целом. Это проблема идеала, идеализации изображения – и характеров,
и событий, и исторических конфликтов. Если обратиться к истории восприятия
этих произведений, обращает на себя внимание, что именно идеализация истории
была главным предметом осуждения – как критиками-современниками, так и
литературоведами недавних лет, вплоть до наших дней. Лишь сравнительно
недавно внимание писателей XVIII – начала XIX в. к светлым, положительным,
идеальным, поэтичным сторонам русской жизни, и в частности русской истории,
перестало уничтожающе оцениваться как безусловный недостаток, а напротив,
получило положительную трактовку 2 . Применительно к творчеству Г.Р.
Державина об этом ярко и афористично сказал А.С. Курилов: здесь «русская
жизнь… со всеми ее атрибутами и реалиями, со всей ее поэзией впервые была
осознана художественно, открыта как предмет высокого искусства, тем самым
обеспечив мировое значение русской литературы» 3 . Искусство, видя в жизни
прекрасное, идеальное начало, не лжет, но именно реализует свое истинное
призвание – «подлинное искусство пробуждает в человеке устремленность к
жизни, какой она должна быть» 4.
1 Канунова
Ф.З. Из истории русской повести: Историко -литературное значение повестей Н.М . Карамзина. –
Томск, 1967. – С. 158.
2 Большую роль в этом сыграло развитие аксио логического направления в современном литературоведении, особое
внимание уделяющего категории ценности. Подробнее о развитии этой тенденции см.: Аношкина В.Н. Ценностное
изучение русской литературы XIX века // Ду хо вный потенциал русской классической литературы. Сборник
научных трудов. – М., 2007. – С. 84-93.
3 Курилов А.С. Г.Р. Державин и мировое значение русской литературы XVIII века, Г.Р. Державин и русская
литература. – М., 2007. – С. 21-22.
4 Аношкина В.Н. Ценностное изучение русской литературы XIX века // Ду ховный потенциал русской классической
литературы. Сборник научных трудов. – М., 2007. – С. 105.
29
Применительно к творчеству Карамзина, и именно к его историческим
повестям, «Марфе Посаднице...», на проблему идеализации как важного
художественного-философского принципа писателя впервые обратила внимание
Ф.З. Канунова. Размышляя об этом, исследовательница тесно связала особенности
исторической
концепции
Карамзина,
воплощенные
в
повести
«Марфа
Посадница…», с особой эстетикой истории, изложенной в статье писателя «О
случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом
художеств» (1802). Размышляя в этой статье о высоком нравственном,
воспитательном, одухотворяющем воздействии искусства, Карамзин предложил
своеобразную программу взаимодействия эстетического и исторического начал,
синтез которых будет способствовать развитию гражданских добродетелей у
современников. Средствами этого в истории Карамзин видит личностное начало,
а в искусстве – высокий субъективизм художника, способность неравнодушно
подходить к своему предмету. Ф.З. Канунова определяет эту позицию писателя
как «нравственно-психологическое», «эстетическое» отношение к истории 1.
Таким образом, в повестях «Наталья, боярская дочь» и «Марфа Посадница,
или Покорение Новагорода» Карамзиным были выработаны основные жанровые
признаки исторической повести, которые затем развивались писателями в течение
1800-х – начале 1810-х годов, до появления «Истории государства российского»,
которая дала возможность насытить исторические повествования значительным
содержанием и окончательно позволила исторической повести оформиться как
одной из важнейших жанровых форм в прозе той поры. Подводя итоги, можно
сказать, что важными чертами жанра исторической повести, предложенной
Карамзиным, были:
- двуплановость развертывания сюжета как исторического и любовного,
взаимодействие
в
изображении
элементов
исторического
колорита
и
психологически насыщенных любовных коллизий;
1 Канунова Ф.З. Из истории русской повести: Историко -литературное значение повестей Н.М. Карамзина. – Томск,
1967. – С. 161.
30
- присутствие в повестях возвышенного начала, которое могло проявляться
и в мотивах высокого патриотизма, героики, и в возвышенно-таинственном
колорите исторического прошлого, в величественных картинах дикой природы
(частным случаем воплощения этого возвышенного начала мог быть оссианизм);
- склонность к психологизированию изображения героев, подчеркивание
идеального
начала
в
их
характерах,
становившихся
благодаря
этому
нравственными образцами для современников.
Сентиментально-предромантическая природа ранних опытов русской
исторической повести, модель которой была в нашей литературе разработана
Н.М. Карамзиным, стала важным художественным открытием в искусстве и
реализовалась в творчестве целого ряда писателей различных идейных позиций.
Монографическому анализу их произведений и будут посвящены последующие
разделы данной главы диссертации.
1.2. Предромантический историзм в изображении прошлого сквозь
призму «чувствительного» повествования («Оскольд» М.Н. Муравьева –
«Предслава и Добрыня» К.Н. Батюшкова)
Повесть М.Н. Муравьева «Оскольд» не имеет точной датировки. По
мнению В.Н. Топорова, она может быть отнесена к
достаточно широкому
временному промежутку в жизни и творчестве автора – от второй половины 1790х до нач. 1800-х гг.1. Более узкую датировку повести давал Ю.Д. Левин, относя ее
в своем труде, посвященном истории русского оссианизма, именно к началу 1800гг. 2 .
При этом обращение писателя к исторической тематике естественно
связывается исследователями и с его профессиональными занятиями историей как
наставника великих князей, и с самой эпохой, когда повесть писалась: этот
«временной отрезок приблизительно в два десятилетия имеет свей рамкой две
войны со Швецией, первая из которых была связана с серьезной угрозой самому
1 См.: Топоров В.Н. Из истории русской литературы. Том 2: Русская
литература второй по ловины XVIII века.
М.Н.Муравьев: введение в творческое наследие. – М., 2001. Кн. 1. – С. 806.
2 Левин Ю.Д. Оссиан в России. – Л., 1980. – С. 123.
31
Петербургу <…> а вторая закончилась завоеванием Россией Финляндии» 1. Это
обусловило выбор тематики произведения и связывало исторические интересы
Муравьева как писателя с общим духом той эпохи, в которую он творил.
Выбор исторического колорита в повести Муравьева определялся также
значительной популярностью в русской литературе рубежа XVIII-XIX вв. такого
стилевого течения, как оссианизм. Это явление получило серьезное осмысление в
трудах целого ряда исследователей – В.И. Маслова2, Д.Н. Введенского3 , Ю.Д.
Левина4, В.Н. Топорова5, Т.В. Федосеевой6, А.Н. Пашкурова7 и др.
Первым характеристику этой повести М.Н. Муравьева дал К.Н. Батюшков.
По его оценке, это произведение «блистает красотами», герои «отличены резкими
чертами один от другого; они живут, действуют перед вами» 8 . «Искусство,
неразлучное с глубоким познанием истории, более всего блистает в описании
нравов северных племен. Автор «Оскольда» краткими словами умеет возбудить
внимание читателя и перенести его на сцену тогдашнего мира, который знаком
ему, как Омеру древняя Троада. Заметим еще, что эпоха, избранная им для
поэтического повествования, соединяет все возможные выгоды и доказывает его
верный вкус и обширные сведения» 9 . Интересны суждения Батюшкова о
жанровом своеобразии этого произведения, которое он считает и «повестью», и
«отрывком» (из более «большого творения»), а также сближает с эпопеей
1 Топоров В.Н.
Из истории русской литературы. Том 2: Русская литература второй по ловины XVIII века. М.Н.
Муравьев: введение в творческое наследие. – М., 2001. Кн. 1. – С. 806.
2 Маслов В.И. Оссиан в России (библиография). – Л., 1928.
3 См.: Введенский Д.Н. Этюды о влиянии оссиановской поэзии в русской литературе. – Нежин, 1919.
4 Левин Ю.Д. Оссиан в России. Л., 1980; его же: «Поэмы Оссиана» Джеймса Макфе рсона // Поэмы Оссиана. – Л.,
1983. – С. 461-501.
5 См.: Из истории русской литературы. Том 2: Русская литература второй половины XVIII века. М.Н. Муравьев:
введение в творческое наследие. – М., 2001. Кн. 1.
6 См.: Федосеева Т.В. Теоретико-методоло гические основания литературы русского предромантизма. М., 2006; ее
же: « Оскольд» М .Н Муравьева в контексте предромантического жанра «старинной повести» // Михаил Муравьев и
его время. Сборник статей и материалов Четвертой Всероссийской научно -практической конференции.
Посвящение Союзу трех поэтов: Гаврилы Державина, Николая Львова и Михаила Муравьева. – Казань, 2013. –
С. 53-60.
7 Пашкуров А.Н. Жанровые особенности поэзии М.Н. Муравьева: диссертация … канд. филол. наук. – Казань,
1997; его же: Михаил Муравьев и его время. Сборник статей и материалов Четвертой Всероссийской научнопрактической конференции. Посвящение Союзу трех поэтов: Гаврилы Державина, Николая Львова и Михаила
Муравьева. – Казань, 2013. Миф М.Н. Муравьева в русской литературной культуре: истоки. – С. 61-70.
8 Батюшков К.Н. Письмо к М.Н.<Муравьеву>-<Апостолу >. О сочинениях г. Муравьева // Батюшков К.Н.
Сочинения: в 2 т. – М., 1989. Т. 1. – С. 67.
9 Там же. – С. 68.
32
(отмечая сходство с нею в разнообразии предметов описания, которое считалось
одним из характерных признаков эпического изображения) 1.
В.Н. Топоров отмечает «широту исторического, хронологического и
этнокультурного кругозора»2 М.Н. Муравьева как автора повести, особо обращая
внимание на удивительную «плотность» текста, «иногда даже … затрудняющую
чтение, особенно слежение за тем, что читатель предполагает элементами
сюжетной конструкции» 3 . Однако эта плотность текста отвечала одной из
главных особенностей жанра исторической повести на раннем этапе ее развития –
воспроизведению
колорита
прошлого,
которое
достигалось
не
только
рационально-логическим путем, но прежде всего благодаря эмоциональной
убедительности. Перечисляя многочисленные имена персонажей, племена,
мифологические и топографические названия, Муравьев, как в своеобразную
«воронку», словно бы «втягивает» свою аудиторию в бесконечно далекую эпоху –
по выражению В.Н. Топорова, используя «поэтику списка» как «одно из средств
… для экспрессивного воздействия на читателя» 4.
Большое значение в повести Муравьева уже с самого ее начала
приобретает своеобразный образ рассказчика – скальда, древнего певца,
поэтичность мышления которого накладывала отпечаток на стиль повести,
придавая ему особую экспрессию: «Яростно дыхание ветров, страшен вид твой,
русское море, и черныя волны со злобою умирают между сими острыми скалами,
которыми усеян залив
отчаяния.
Какого
воителя,
Варяга
или Готфа,
приготовляешься поглотить гордое ополчение? Какия корабли гонят сюда девымстительницы, неутомимые Валки? <…> Пусть сладостныя песни восторженного
Скальда принесут утешение во грудь отчаянной девы. Взор Скальдов проницает
столетия, и в столетиях глас их не умирает. Дух, обитающий хладныя пещеры и
1 Там же.
2 Топоров В.Н.
Из истории русской литературы. Том 2: Русская литература второй по ловины XVIII века. М.Н.
Муравьев: введение в творческое наследие. – М., 2001. Кн. 1. – С. 806
3 Там же. – С. 809.
4 Топоров В.Н. Из истории русской литературы. Том 2: Русская литература второй по ловины XVIII века. М.Н.
Муравьев: введение в творческое наследие. – М., 2001. Кн. 1. – С. 855.
33
возвевающийся над стремнинами, дух творения и песни! Для кого велишь ты
златым струнам арфы моей наполнять воздух сладостным стенанием?...» 1.
Скальд в данном случае оказывается важен как рассказчик и потому, что
он – одновременно часть того мира, о котором ведется повествование, поэтому
его рассказ о событиях прошлого оказывается наиболее убедителен и достигает
самых глубин в душе слушателя. Так, по мысли Муравьева, становится возможно
соединить
воспитательную
и
эмоциональную
функции
исторического
повествования – не случайно именно песни скальда изображены в повести как
главная сила, пробудившая воинственных дух в героях, особенно юных. Сердце
юного Радмира «…билось с нетерпением, когда златая арфа Скальда оживляла
пред воображением его тени древних Варягов и битвы славныя в течение веков»
(с. 238) – и он решает стать воином.
Образ скальда в повести приобретает двойственное значение. С одной
стороны, упоминания о скальдах становятся одним из средств воспроизведения
исторического
колорита.
Именно
в
этом
смысле
Муравьев
пишет
о
сопровождающих войско Оскольда скальдах «с златыми арфами», которые
«возжигают вдохновенными песнями мужество воинов в час брани, описывая
чертоги Одина, отверзтые храбрым, умирающим прекрасно смертию за
отечество» (с. 229). В то же время, скальдом назван и повествователь; его рассказ
– тоже своеобразная песня скальда, лишь переложенная для современной
публикации (именно в этом смысле обыгрывается образ в подзаголовке:
«Повесть, почерпнутая из отрывков древних готфских скальдов» (с. 225). При
этом, характеризуя рассказчика как певца, скальда, Муравьев в то же время
обращается к читателю от первого лица (см.: «духу моему более благоприятствует
дерзостный подвиг Оскольда», с. 226), таким образом подчеркивая, сколь важно
именно чувство эмоциональной сопричастности тем далеким временам и
событиям, которые будут воскрешены в повествовании.
1 Муравьев М.Н.
Оскольд. Повесть, почерпнутая из о трывков древних готфских скальдов // Сочинения М.Н.
Муравьева. Изд. А. Смирдина. Т. 1. – СПб., 1847. – С. 225-226. В дальнейшем цитируется э то издание, страницы
указываются в скобках.
34
Исследователями не раз отмечался условный историзм этой повести. По
справедливой оценке Т.В. Федосеевой, «поэтическое изображение старины» здесь
«создавалось … под явным воздействием психологии современного автору
цивилизованного человека», свидетельством чего становятся
акценты на
любовной теме, нравственной проблематике, вопросах веры – том, «что особенно
занимало человека на рубеже XVIII и XIX веков»1. Новый, предромантический
взгляд на историю при этом обеспечивался для автора установкой не на
дидактизм, не на задачу «воспитать» в читателе некие гражданские или
исторические добродетели, но именно на эмоциональность, психологическую
насыщенность
и
возникающее
благодаря
этому
чувство
душевной
сопричастности изображенному.
Так, большое внимание в повести уделяется передаче собственно
исторических «картин», позволяющих не просто познакомиться с некими
историческими фактами или событиями, но словно увидеть их воочию. Помогают
Муравьеву в этом прежде всего яркие и выразительные описания природы:
«Солнце погружалось в синюю тучу пред закатом своим. Утомленное долгим
шествием воинство Оскольдово спускалось с холмов медлительно в пространную
долину; чистый источник украшал ее, не гордый в начале своем, расширяющийся
течением и становящийся порывистою и бурною рекою (с. 227).
Сравнения с образами природы всякий раз способствуют усилению
эмоциональной выразительности повествования. Так, благодаря сопоставлению
картины движущегося войска с огромной птичьей стаей Муравьеву удается
передать особую внутреннюю насыщенность текста, пробудить сочувствие
читателя: «Кто может назвать имена бесчисленного множества воинов, которые
последуют сим храбрым полководцам? Таковы тучи пернатых, наполняющих
воздух криком, когда, почувствовав приход зимы, оставляют крутые берега
русского моря, не памятуя любви и прекрасных дней, коими там насладились оне
1 Федосеева Т.В.
Теоретико-методо логические основания литературы русского предромантизма. – М., 2006. –
С. 83.
35
летом; удивленный путешественник забывает дорогу свою, на них взирая, и
унывает в сердце, видя себя оставляемого свирепости мразов и бурных ветров» (с.
232).
Эти развернутые сравнения, а также отмеченные В.Н. Топоровым
«перечни»
в
описаниях
героев,
разнообразных
исторических
деталей,
исторических, топографических, мифологических реалий в повести, могут быть
сопоставлены с такой особенностью древнего мироощущения и древней поэзии,
как гомеровский в своих истоках «всеохват», «эпический синкретизм»
восприятия и изображения действительности. Это явление характеризует
И.В. Шталь, раскрывая его специфику как характерного для архаического
миросозерцания древнегреческих поэтов: «принципы “целостности” и всеохвата
мировосприятия, принцип качественного единообразия мира при количественном
неравенстве качеств, это единообразие составляющих, а также закономерность
неделимого сращения “истины” и “вымысла” в эпическом повествовании» 1 .
Популярность гомеровского эпоса в эпоху классицизма, а также общий интерес
литературы той поры к античности мог стать причиной трансформаций
гомеровского «всеохвата» картин и в произведениях более поздних писателей.
Хотя эта черта не отмечалась в творчестве М.Н. Муравьева, существуют
исследования,
посвященные
трансформации
гомеровских
художественных
принципов в «Мертвых душах» Гоголя 2 . Для М.Н. Муравьева же подобная
ориентация
на
способствовала
неограниченность,
передаче
всеохватность
эпического
1 См.: Шталь И.В. Художественный мир гомеровского эпоса. –
масштаба
изображаемых
описания,
картин
архаизация
М., 1983. – С. 123.
2 Впервые на э ту черту гоголевской поэтики обратил внимание еще К.С. Аксако в в статье «Неско лько слов о поэме
Гоголя По хождения Чичикова, или Мертвые души», вызвавшую полемический отклик В.Г. Белинско го. По мысли
К.С. Аксакова, именно го голевские разверну тые сравнения делали его б лизким гомеровскому эпическому
мышлению: «Тот же глубоко проникающий и всевидящий эпический взор, тоже всеобъемлющее эпическое
созерцание. Как понятно, что мы, избалованные в нашем эстетическом чувстве в продолжении веков, мы с
недоумением, не понимая, смотрим сначала на э то явление, мы ищем: в чем же дело, перебираем листы,
желая видеть анекдо т, спешим добраться до нити завязки, романа, увидеть уже знакомого незнакомца,
таинственную, часто понятную, загадку, думаем, нет ли здесь, в э том большом, сочинении, какой -нибудь интриги
помудреннее; - но на это на все молчит его поэма; она представляет нам целую сферу жизни, целый мир, где
опять, как у Гомера, свободно шумят и блещу т во ды, всходит со лнце, красуется вся природа и живет человек, мир, являющий нам глубокое целое, глубокое, вну три лежащее содержание общей жизни, связующий единым
ду хом все свои явления», см.: Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. – М., 1981. – С. 138. По дробнее
об этом см.: Петрова Н.Э. Гомеровское видение мира и «Мертвые души» Н.В. Гоголя // Классическая филология на
современном этапе. – М., 1996. – С. 213-229.
36
повествования также помогала передаче исторического колорита глубокой
древности.
При описании действующих лиц повести Муравьев прибегает к кратким
афористичным
характеристикам,
также
позволяющим
выделить
какие-то
запоминающиеся черты. Герой может ехать «на бодром коне, белом, как снега
скандинавские» (с. 227), его «седые власы покрываются железным шлемом» (с.
227-228), «со взором, исполненным дружества, простирает он руку свою» (с. 228)
и мн. др.
Несмотря на все разнообразие этнографического
и исторического
материала, обобщенного в повести, Муравьев все же обращает особое внимание
на национально-исторические мотивы, связанные с изображением древних
славян. Их портреты достаточно подробно прорисованы, они изображаются как
люди не только грозно-воинственные, но и чувствительные, исполненные
благородства, привлекающие читателя внешней и внутренней красотой. Таковы
новгородцы Извет и Добрыня (первый «оставив сокровища отца своего и
спокойную торговлю Новагорода, пустился во след за славою по стезям
Оскольда» (с. 228–229), второй же – тот, «которому ответы богов предсказывают
сияющее потомство» (с. 229)); таковы семь тысяч ратников, отправившиеся в
поход Оскольда из Новгорода. В духе предромантизма Муравьев изображает
своих
героев
носителями
тех
качеств,
которые
составляли
идеал
«чувствительного» человека. Примером этого можно считать возникающий в
повести образ Вадима Новгородского.
Вообще интерес писателей конца XVIII – начала XIX в. к этой фигуре
исследователи по традиции связывали со становлением ранних романтических
тенденций в России1. Пьесы Екатерины II «Историческое представление из жизни
Рюрика», Я.Б. Княжнина «Вадим Новгородский», П.А. Плавильщикова «Рюрик» с
разных сторон знакомили русского читателя с этим персонажем, всякий раз
1 См.: Замотин И.И. Предания о Вадиме Новгородском в русской литературе. – Воронеж, 1901.
37
подчеркивая те качества, которые отвечали историко-политической концепции
автора – от монархической до тираноборческой.
М.Н. Муравьев видит в Вадиме прежде всего трагедию личности, яркого,
сильного человека, который лишился того, во что верил, но готов храбро
сражаться с врагами. На первый взгляд, его трактовка развивает сюжетные ходы
пьес Екатерины II и Плавильщикова: противостояние Вадима и Рюрика
трактуется как следствие борьбы за престол, Вадим помилован великодушным
правителем и имеет возможность участвовать в воинском походе. Однако
главный акцент у Муравьева сделан не на возможных отрицательных качествах
героя (гордость, властолюбие и т.п.), но именно на его страданиях, что отвечало
духу предромантического историзма: «Крепость воинства, оскорбленный Вадим,
который не может забыть отчуждения своего от престола новаградскаго,
угрюмый, безмолвный, снедаемый оскорбленною гордостию, предводительствует
частью тех, коих считал некогда своими подданными. Одеяние простое и щит без
знамений не могут сокрыть в нем витязя, повелителя мужей. Он надеется
бессмертными деяниями заменить венец княжеский, или, с оружием в руках,
найти конец своих печалей в гробе» (с. 230). Этот «строгий воин» становится
воплощением гордого духа славянства, которым любуется автор и который
стремится возбудить он в читателе-современнике. Не случайно эпитет «строгий»
дважды повторяется применительно к Вадиму: «взоры его изображают … столько
же упреков, сколько строгости воинской»;
«строгими очами взирает он на
гордых» (с. 231). Главный исторический урок, связанный в повести с образом
Вадима, – урок нравственного достоинства, как самого его, так и Оскольда,
который «умеет уважать несчастие в герое» (с. 231).
Предромантическое изображение истории в повести
предполагало
обращение не только к событиям, происходящим в реальном историческом
измерении, но и к сверхъестественному, фантастическому. В этом сказ алось
увлечение оссианическим колоритом, влияние мифологии и фольклора.
38
Фантастические мотивы, присутствующие в повести, способствуют
развертыванию сюжета – служат предсказаниями о событиях, которые еще не
произошли, но которые предчувствует автор, должен предчувствовать читатель.
На это и указывают знамения. Таково явление в ночи Оскольду тени убитого им
воина Рингвольда.
Явление это окрашено пугающими подробностями. Происходит оно в
лесу, «под тению которого» живут «священные страхи» (с. 232). «Погружен в
глубокую задумчивость, Оскольд вступал в первыя отверстия леса. Вздохи,
стенания, как бы человека умирающего насильственною смертию, поражают
бесстрашное его внимание» (с. 233). Когда охваченный гневом Оскольд вновь
хочет ударить тень своим мечом, «тело воздушного обитателя, легко разделяемое
ударами меча, столь же легко составлялось паки, и признак язвы не оставался.
Багровый пламень проницал эфирное существо его» (с. 233).
Не менее
пугающими звучат и пророческие слова призрака: «Слабый смертный Оскольд,
Оскольд ненавистный! Не мечтай удостоиться моих ударов. Скоро, изнемогая под
ударом смертного, простертый на полях византийских, извергнешь ты гордую
душу, и отчаяние, видеть надменные замысли твои разрушенными, огорчит
последние твои дыхания. Тогда возьму тебя на суд Одинов, в вечную обитель
Валгаллы, и воздам тысячекратно удары, которыми пронзил ты меня при струях
Ранцелайны» (с. 233-234).
В
исторической
повести
Муравьева
большое
значение
имеет
психологическое начало. Изображая внутренний мир своих героев, автор здесь
подчеркивает, насколько глубокими и сильными, поистине всеохватными
являются их переживания, будь то светлые или мрачные, – предчувствия гибели,
героический дух, готовность пожертвовать собой, чувство дружбы, и конечно,
любви.
В.Н. Топоров писал, что Муравьев стремится проследить в повести
различные психологические этапы становления любовного чувства. Это связано с
сюжетной линией
Радмира
и Искреды.
39
Глубине раскрытия
любовных
переживаний в данной сюжетной линии повести способствует то, что в основном
автор обращает внимание на развертывание чувства в душе девушки.
Радмир и Искреда полюбили друг друга в ранней юности, еще не
осознавая этого, когда «веселость незлобия составляла игры их», и «сладостная
задумчивость отягощала вежды» (с. 239).
Когда Искреда узнает, что ее
возлюбленный решил стать воином, она потрясена и впервые осознает всю силу
своего чувства: «Как затрепетало в ней сердце, когда нескромные подруги
упомянули в присутствии ея, может быть без намерения, о назначенном
вооружении друга ея! Тогда узнает она таинство своей нежности и свойство
подозрительной дружбы; узнает, что не может существовать без Радмира <…>
Умереть за Радмира или жить с Радмиром сливается для нея в единое
чувствование» (с. 239). Священные обряды посвящения юноши в воины ужасают
«нещастное сердце любовницы» (с. 240); «мрак смерти отягощает очи ея» (с. 242).
Лишь любовь Радмира возвращает Искреду к жизни: «Опасность смерти
примирила стыдливость с любовью, и взоры Искреды покоятся без гнева на
пламенных очах юноши; рука ея, согласная с сердцем, упала на длани
Радмировы» (с. 242).
Т.В. Федосеева замечает: «Драматическому характеру любовной истории
соответствует общий элегический настрой повествования» 1 . Таковы любовные
истории Оскольда и безвременно погибшей Етельвинды, Радмира и Искреды.
Именно любовь позволяет оценить героев с новой точки зрения – это относится
как к читателям, так и к другим персонажам повести: подданные «с любовию
видят нежное умиление того, кто привык разить ужасом толпы свирепых
супостатов» (с. 243). Это становится одним из главных «уроков» истории в
повести Муравьева: любовь царит везде, и даже среди ужасов войны она не
должна быть забыта: «Жестокие сердца, никогда не любившие» Осудите, если
можете…»,
–
восклицает
рассказчик,
прямо
обращаясь
к
читателям-
современникам.
1 Федосеева Т.В.
Теоретико-методо логические основания литературы русского предромантизма. – М., 2006. –
С. 83.
40
Важным
историческом
психологическим
мотивом
произведении оказывается
в
также
повести
«Оскольд»
своеобразная
как
психология
героизма, готовности к самопожертвованию, спокойного ожидания и приятия
смерти. Подобное чувство присутствует в изображении внутреннего мира
практически всех персонажей повести – воинов, отправляющихся в поход, не
зная, что ожидает их в будущем. Однако наиболее подробно передается оно в
изображении внутреннего мира самого Оскольда.
С точки зрения автора, это одна из главных добродетелей древних героев,
которые способны забыть личный интерес во имя высших начал – славы и долга.
Только это способно придать человеку истинное человеческое достоинство –
«особенное спокойствие» (с. 234) перед лицом смерти. «Когда для всякого смерть
неизбежна, то для чего же оставаться в презрительном мраке, и ждать старости
бесславной, не оживляемой никакою хвалою?» (с. 227). Именно поэтому так
уверенно отвечает Оскольд призраку, предсказывающему его неизбежную и
скорую гибель: «Смерть, к которой поспешают безвоспятно человеки, может ли
известностию своею удержать нас от сияющего поиска славы? Нет!... тщетное
знание … будущего не нарушает спокойствия души моей. Оно придает более
величества подвигу моему, и бессильная вражда твоя возлагает на меня новое
обязательство не терять ни единого мгновения для снискания славы» (с. 234). Как
писал об этом В.Н. Топоров, «пусть смерть. Она и так неизбежна. Но лучше слава,
приносимая подвигом, ярчайшим событием, дающим истинную цену жизни, чем
“презрительный мрак” и “бесславная старость”» 1 . Таким образом, по мысли
исследователя,
и
создается
«верный
очерк
психологии
Оскольда…
правдоподобное восстановление психологических мотиваций и переживаний
применительно к эпохе, отдаленной более чем на девять веков» 2.
Проза К.Н. Батюшкова по традиции привлекала значительно меньшее
внимание исследователей, нежели его поэзия. В последние десятилетия, в связи с
1 Топоров В.Н.
Из истории русской литературы. Том 2: Русская литература второй по ловины XVIII века. М.Н.
Муравьев: введение в творческое наследие. – М., 2001. Кн. 1. – С. 817.
2 Там же. – С. 817.
41
усилением интереса к литературному контексту первой трети XIX в.,
прозаические произведения Батюшкова все чаще становятся предметом интереса
ученых1. Однако в первую очередь это касается литературно-критических статей2,
эпистолярной прозы,
дневниково-медитативного сочинения «Чужое – мое
сокровище», прозаической повести «Вечер у Кантемира» 3 . Собственно
историческую повесть «Предслава и Добрыня» исследователи по-прежнему
изучают нечасто. Отрицательную оценку этому произведению дал еще Н.В.
Фридман, видевший в нем лишь подражание прозе Карамзина и отказывавший в
историзме4.
И все же, несмотря на то, что сам Батюшков не считал свою повесть
достойной публикации (она была напечатана лишь в альманахе «Северные цветы
на 1832 год») 5, «Предслава и Добрыня» К.Н. Батюшкова, несомненно, занимает
важное место в развитии русской исторической повести начала XIX в. Это
единственная законченная повесть молодого писателя; две другие, посвященные
античной истории, – «Лавиния» (1810) и «Левкад» (1811; перевод повести Э.
Парни, приписываемый Батюшкову) – не были завершены. При первой
публикации повесть «Предслава и Добрыня» получила высокую оценку от
составителей альманаха «Северные цветы» – предположительно А.С. Пушкина
или О.М. Сомова6: «Повесть сия сочинена Батюшковым в деревне 1810 года и
подарена одному любителю словесности, которому свидетельствуем искреннюю
благодарность за сообщение драгоценной сей рукописи и за позволение
1 См.: Аношкина В.Н. Дружелюбное обаяние поэта // Батюшков К.Н. К другу. Избранные произведения и письма.
М., 2007. С. 40-43; ее же: К.Н. Батюшков. Проло г и эпилог творчества. Об истоках религиозности. Религиозно философские воззрения предромантика // Аношкина -Касаткина В.Н. Православные основы русской литературы
XIX века. – М., 2011. – С. 26-55.
2 См.: Луцевич Л.Ф. Обоснование «легкой поэзии» М. Муравьевым и К. Батюшковым // Литература и время. –
Кишинев, 1987. – С. 9-19; ее же: К проблеме литературно-теоретических взглядов М.Н. Муравьева и К.Н.
Батюшкова // Венок поэту. Жизнь и творчество К.Н. Батюшкова. – Вологда, 1989. – С. 28-37.
3 См.: Белкин Р.И. «Вечер у Кантемира» К.Н. Батюшкова и «Арап Петра Великого» Пушкина // Временник
Пушкинской комиссии. – Л., 1988. Вып. 22. – С. 121-130.
4 См.: Фридман Н.В. Проза Батюшкова. – М., 1965. – С. 22.
5 Северные цветы на 1832 го д. СПб., 1832. С. 1-46. По дробнее об истории публикации повести Батюшкова в
альманахе см.: Фризман Л.Г. Пушкин и « Северные цветы» // Северные цветы на 1832 год / изд. подго т. Л.Г.
Фризман. – М., 1980. – С. 295-337; 338-339.
6 Ю.Г. Оксман предполагал, ч то предисловие к публикации принадлежит О.М . Сомову, см.: Неизданные письма к
Пушкину / Публ. Ю. Оксмана, О. Поповой, Н. Лаврова // Литературное наследство. Т. 16-18. – М., 1934. – С. 593.
По мнению Л.Г. Фризмана, также автором заметки был О.М. Сомов, см.: [Фризман Л.Г.] Примечания // Северные
цветы на 1832 год. Изд. подгот. Л.Г. Фризман. – М., 1980. – С. 339.
42
напечатать оную. Может быть, найдут в этой повести недостаток создания и
народности, может быть, скажут, что в ней не видно Древней Руси и двора
Владимирова. Как бы то ни было, но поэтическая душа Батюшкова отсвечивается
в ней, как и в других его произведениях, и нежные, благородные чувствования
выражены прекрасным гармоническим слогом»1.
Сюжет повести, заимствованный из истории Древней Руси, времен князя
Владимира, содержал немного подлинно исторических реалий. Автор вскользь
упоминает о борьбе древнего Киева с печенегами: повесть начинается с момента,
когда гонец приносит весть о победе; собственно исторические сведения
преподносятся читателю крайне сжато, практически конспективно: «Между тем
все народы покорялись великому князю. И воинственные жители Дуная, и дикие
хорваты, сыны густых лесов и пустыней, и печенеги, пиющие вино из черепов
убиенных врагов на сражении – все платили дань христианскому владыке.
Народы стран северных, жители туманных берегов Варяжского моря, обитатели
неизмеримой и бесплодной Биарии страшились и почитали Владимира» 2.
Собственно «историчен» в повести Батюшкова именно колорит: различные
упоминания о мечах, латах, шлемах, кошницах, «трудах ратных», «стальных
доспехах», «распущенных стягах», «борзых конях», запонах, забралах, шеломах,
дружинах, булатных копьях, кубках и «златых чарах с медом искрометным и
заморскими винами», появляются в описаниях, как вскользь брошенные
исторические детали: «турий рог», «златоглавый шатер», «ристалище», «терема
княжеские», «гридница», «тяжелая секира», «исполинское копье», «златое
стремя» и мн. др.
Эти исторические детали и сведения выполняют в повести двойственную
функцию. С одной стороны, они создают тот самый исторический фон, без
которого действие невозможно было бы конкретизировать во времени; с другой
1 Цит. по: Батюшков К.Н. Сочинения: в 2 т. –
2 Цит. по: Батюшков К.Н. Сочинения: в 2 т. –
М., 1989. Т. 1. – С. 467.
М., 1989. Т. 1. – С. 275. Далее цитаты приво дятся по этому изданию,
с указанием тома и страницы.
43
же – служат своеобразной мотивировкой главному конфликту повести –
соперничеству Добрыни и Радмира за любовь Предславы.
Центральное место в повести занимает именно любовная интрига, которая
также раздваивается. В начале, когда читатель узнает о том, что Добрыня и
Предслава любят друг друга, причиной несчастья их любви выступает различие
состояний героев: «Тщетная любовь, источник слез и горести! Все разлучает тебя
с возлюбленной: и высокий сан ее, и слава Владимира, и слава предков
красавицы, повелителей Царяграда!» (т. 1, с. 273). Соответственно, эта коллизия
подчеркивается благодаря подробным характеристикам героев, прежде всего их
яркому, романтически исключительному портрету. Цель этих описаний – усилить
мысль о том, насколько несправедливо, когда равно достойные, будто бы
созданные друг для друга юноша и девушка обречены на разлуку. «Прекрасна ты
была, княжна киевская! Осененная длинною фатою, ты была подобна стыдливому
месяцу, когда он сквозь тонкий туман смотрит на безмолвные долины и на синий
Днепр,
сверкающий
в
просеках
дубовых.
<…>
прекрасны
подруги
Предславины… но что звезды вечерние перед красным месяцем, когда он
выходит из-за рощей в величии и в полной славе?..» (т. 1, с. 273-274).
Изначально обреченная любовь героев проходит в своем развитии в
повести несколько этапов. Вначале эта обреченность ощущается не столь остро:
«Они не видели под цветами ужасной пропасти, навеки из разлучающей, ибо она
засыпана была руками двух сильных волшебниц, руками любви и надежды!» (т. 1,
с. 274; курсив Батюшкова); «Тих и ясен ручей при истоке, но скоро, возрастая
собственными водами, становится быстр, порывист и мутен. Такова любовь при
рождении, таковы и наши любовники» (т. 1, с. 275).
Меняется изображение любви – и соответственно, эмоциональная
тональность описаний – с появлением соперника, Радмира. Обреченность любви
становится здесь совершенно очевидной; светлая печаль, которая изначально
присутствовала в душах героев, сменяется отчаянием.
44
Здесь Батюшков, в духе предромантической, в первую очередь готической
поэтики 1 , прибегает к мотиву предчувствия и пророчества. Он также был
разработан Карамзиным, и не только в собственно готических его повестях
«Остров Борнгольм» и «Сиерра Морена» 2 , но и в повестях исторических,
особенно «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода» 3 . У Карамзина это
пророчество развертывается в целостный микросюжет повести: падение вечевого
колокола предсказывает поражение вольного Новгорода, а картина природы,
навеянная образами «Слова о полку Игореве», поддерживает, усиливает это
пророчество и окончательно проясняет его смысл: «”…Буря угрожает отечеству”.
— “Знаю”, — ответствовал пустынник и с горестию указал рукою на небо. Густая
туча висела и волновалась над Новымградом; из глубины ее сверкали красные
молнии и вылетали шары огненные. Плотоядные враны станицами парили над
златыми крестами храмов, как будто бы в ожидании скорой добычи. Между тем
лютые звери страшно выли во мраке леса, и древние Сосны, ударяясь ветвями
одна об другую, трещали на корнях своих...»4. У Батюшкова пророческие мотивы
так и не развертываются до конца, сохраняется недосказанность. Таков образ коня
Добрыни, подаренного ему князем Владимиром. Конь этот «был некогда
посвящен Световиду и имел дар пророчества» – однако пророчества он не дает, а
лишь увозит с ристалища Добрыню и Предславу, что в конечном счете позволяет
влюбленным на время скрыться от соперника. Предзнаменованием выглядит и
внезапно наступившая непогода: «…внезапу воздух помрачился тучами.
Зашумели вихри, и гром трижды ударил над главами зрителей. Сердца
малодушных жен и старцев, которые втайне поклонялись мстительному
Чернобогу, исполнились ужасом. <…> Дождь и снег беспрестанно шумели и
1 См.:
Вацуро В.Э. Готический роман в России. – М., 2002. – С. 34-51. Об интересе Батюшкова к го тической
тематике см. также: Ко лесова С.Н. « Песнь Гаральда Смелого» Батюшкова в аспекте структуры жанра // Дискурс.
2005. № 12-13. С. 214-224. Степанова Е.В. Древнескандинавские мотивы в поэзии К.Н. Батюшкова // Утренняя
заря. Молодежный литературоведческий альманах. – М., 2006. – С. 16-22.
2 См.: Вацуро В.Э. Литературно-философская проблематика повести Н.М. Карамзина «Остров Борнгольм» //
XVIIIвек. Сб. 8. – Л., 1969. – С. 190-209; его же: « Сиерра-Морена» Н.М. Карамзина и литературная традиция //
XVIII век. Сб. 21. Памяти П.Н. Беркова. – Л., 1999. – С. 327-336.
3 Подробнее об этом см.: Алпатова Т.А. Н.М. Карамзин-повествователь: вхождение в историю (к вопросу об
организации повествования в «исторической повести» «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода») //
Литература и история. Вып. 4. – М.: МГОУ, 2006. – С. 3-12.
4 Карамзин Н.М. Собрание сочинений: в 2 т. – М.; Л., 1964. Т. 1. – С. 696.
45
наполняли внезапными ручьями путь и окрестную долину» (т. 1, с. 281).
Таинственными красками окрашено и появление мстителя – до тех пор, пока
повествователь не назовет имя Радмира, кажется, будто это признак: «О ужас!...
он увидел, при сумнительном блеске месяца, который едва мелькал сквозь облако,
увидел ужасный призрак… вооруженного рыцаря! <…> Меч уже сверкал в руке
незнакомца, страшный голос раздавался в мраке: «Вероломные, мщение и
смерть!»» (т. 1, с. 284).
Вообще, черты романтической исключительности – героев, событий,
чувств – постоянно подчеркиваются в повести. Деталей, связанных с этим, столь
же много, как и деталей, призванных создать здесь исторический колорит.
Юноши, действующие в сюжете, – это «витязи», «богатыри», «рыцари». Не менее
прекрасны и девы, «белая грудь» которых «волнуется как лебедь на заливах
Черного моря, когда полуденный ветер расколыхнет воды его»,
глаза их
«блистают огнем». В несчастье сердце героев «чуждо радостей», а чело «мрачно
посреди веселий и торжеств народных». Очень романтичен внешний облик
Радмира: «Вид его был величествен, но суров; взоры проницательны, но мрачны;
стройный стан его был перепоясан искривленным мечом; руки обнажены; грудь
покрыта легкою кольчугой, а вниз рамен висела кожа ужасного леопарда» (т. 1, с.
276). Ужасная и вместе с тем величественная смерть Добрыни и Предславы
завершает повесть: «Добрыня, плавая в крови своей, устремил последний,
умирающий взор свой на красавицу; улыбка, печальная улыбка, потухла в очах
его, и имя Предславы вместе с жизнию замерло на устах несчастного.
Нет ни
жалоб, ни упрека в устах красавицы. Нет слез в очах ее. Хладна, как камень,
безответна, как могила, она бросила печальный, умоляющий взор на притекшего
Владимира, на отчаянную матерь и, прижав к нагой груди своей сердце супруга,
пала бездыханна на оледенелый его труп... как лилия, сорванная дыханием
непогод, как жертва, обреченная любви и неизбежному року» (т. 1, с. 284).
Это нагнетение романтических мотивов – идеализация внешнего облика и
глубоких чувств героев, их подчеркнутая исключительность, готический колорит,
46
таинственность – безусловно отличали повесть Батюшкова в ряду собственно
исторических
повестей.
Однако
такая
склонность
к
романтизации
не
противоречила самому духу жанра, как в начале XIX века, когда повесть была
написана, так и в 1830-е годы, когда она публиковалась друзьями Батюшкова.
Исследователи приводят отзывы о ней, содержавшиеся в рецензиях на «Северные
цветы». В журнале «Европеец» отмечалась «звучность и чистота языка»1 повести;
в журнале «Гирланда» было сказано, что «в слоге этой повести видна
пленительная Муза славного нашего поэта» 2 . «Поэтическая душа Батюшкова
отражается и в сей повести, как во всех его произведениях: нежные, благородные
чувствования выражены в оной языком сладостным…, слогом поэтическим» 3.
Таким образом, повесть «Предслава и Добрыня» стала образцом,
свидетельствовавшим о творческом развитии жанра карамзинской исторической
повести одним из ближайших друзей и единомышленников писателя.
1.3. Мотив вины и раскаяния в исторических «декорациях» сюжета о
разорении Полоцка («Рогвольд» В.Т. Нарежного – «Рогнеда, или Разорение
Полоцка» Н.С. Арцыбашева)
Ранний этап развития русской исторической повести, как видно на
примере
повестей
Н.М.
Карамзина
и
его
ближайших
последователей,
характеризовался прежде всего стремлением авторов сблизить изображение
внутреннего мира героев и мира чувств, переживаний, эмоций современного
человека эпохи сентиментализма и предромантизма. Именно в этом нередко
заключалась специфика психологического раскрытия героев повестей, и именно
эта причина нередко делала изображение истории в них недостоверным. Люди
прошлого, изображенные на страницах сентиментально-предромантических
1 Европеец. 1832. № 2. С. 288. Цит. по: [Фризман Л.Г.] Примечания // Северные цветы на 1832 го д. Изд. подгот.
Л.Г. Фризман. – М., 1980. – С. 339.
2 Гирланда. 1832. № 3-4. – С. 73. Цит. по: [Фризман Л.Г.] Примечания // Северные цветы на 1832 год. Изд. подгот.
Л.Г. Фризман. – М., 1980. – С. 339.
3 Северная пчела. 1832. № 18. Цит. по : [Фризман Л.Г.] Примечания // Северные цветы на 1832 год. Изд. подгот.
Л.Г. Фризман. – М., 1980. – С. 339.
47
исторических повестей, жили теми эмоциями, которые были слишком близки
современной эпохе. Однако эта установка, по-видимому, была принципиально
важна для этапа становления русской исторической повести в начале XIX в. –
благодаря ей писатели получали возможность заинтересовать читателей,
пробудить сочувствие, наконец, освоить саму систему приемов психологического
раскрытия личности.
Выявить природу такого «историко-психологического анахронизма» в
исторических повестях периода становления интересно на примере какого -либо
устойчивого сюжета, к которому в поисках вдохновения обращались различные
авторы. В русском литературоведении сложилась традиция рассматривать таким
образом сюжет о Вадиме Новгородском 1 . Правда, специфика его раскрытия
такова, что пик интереса к нему пришелся все же на литературу периода
классицизма (см. «Историческое представление из жизни Рюрика» Екатерины II,
«Вадим Новгородский» Я.Б. Княжнина, «Рюрик» П.А. Плавильщикова). Поэтому
в качестве предмета анализа в данной работе избран сюжет, практически не
привлекавший внимание исследователей, – история разорения Полоцка и
пленения князем Владимиром полоцкой княжны Рогнеды.
История Рогнеды и разорения Владимиром Полоцка была известна
благодаря подробному изложению в «Повести временных лет» 2. В конце XVIII –
начале XIX в. сюжет этот был популяризирован благодаря картине А.П. Лосенко
«Владимир перед Рогнедой» (1770), выставлявшейся в залах Академии
Художеств.
Сюжет
этот
был
очень
популярен
в
сентиментально-
предромантической и романтической литературе, однако изучалась в основном
его реализация романтиками, прежде всего дума «Рогнеда», принадлежащая перу
К.Ф. Рылеева. Исторические же повести конца XVIII – начала XIX в., т.е. более
раннего периода, связанные с этим сюжетом, практически никогда не
привлекались к научному анализу. Повесть В.Т. Нарежного «Рогвольд» (1798)
1 См.: Замотин И.И. Предания о Вадиме Новгородском в русской литер атуре. – Воронеж, 1901.
2 Подробнее об э том см.: Михеев С.М. Легенда о
Владимире и Рогнеде и скандинавская традиция // Именослов.
История языка. История культуры. – СПб., 2010. (Труды Центра славяно-германских исследований. I.) . – С. 169–
179.
48
упоминается лишь в биографических очерках и словарных статьях, как образец
«подражательного», «квазиисторического» повествования, как очередная попытка
подражания «Наталье, боярской дочери» Н.М. Карамзина – что предполагает
отказ и повести, и ее автору в сколько-нибудь серьезном участии в становлении
жанровой модели исторического повествования. Незначительность же таланта
Н.С. Арцыбашева и вовсе стала причиной того, что его повесть «Рогнеда, или
Разорение
Полоцка»
(1804)
никогда
не
попадала
в
фокус
внимания
исследователей.
Повесть В.Т. Нарежного «Рогвольд» вписывается в те жанровые и
стилевые поиски русских писателей рубежа XVIII-XIX вв., с которыми было
связано становление исторической повести той поры.
В отличие от многих
современников, и в частности от Н.С. Арцыбашева, обратившегося к схожему
материалу, Нарежный обращает внимание в первую очередь на внутренний мир
личности, мир чувств, переживаний и эмоций. Его интересует любовная коллизия
и ее психологические нюансы. Именно поэтому основная часть повести строится
как своеобразная «сцена» - диалог на кладбище между побежденным князем
Полоцким Рогвольдом, отцом Рогнеды, и неузнанным до времени победителей –
князем
Владимиром.
Не случайно
реплики
героев
даже
предваряются
своеобразными ремарками, которые помогают подчеркнуть их эмоциональное
состояние: «в смятении останавливаясь» (с. 354) 1, «приподнимаясь» (с. 354), «с
изумлением» (с. 356), «вскочив» (с. 357), «схватывает его руку» (с. 359), «с жаром
взяв его за руку» (с. 360) и др. Диалог этот предстает в повести как высшая
степень искренности и силы эмоционального переживания: «Взоры Владимировы
обращены были на старца, – взоры старцевы устремлены были на Владимира» (с.
356).
Сцена предваряется краткой интродукцией – вступлением, служащим
своеобразным эмоциональным камертоном, настраивающим читателя на нужный
эмоциональный лад: «Ночь освещала лазоревое небо; Полоцк находился в
[Нарежный В.Т.] Рогвольд // Приятное и по лезное препровождение времени. 1798. Ч. 20. Далее цитаты
приводятся по этому изданию.
1
49
глубоком покое; – войско Владимирово в безмолвии возлежало на обширных
полях его» (с. 353). Мрачная ночь, луна, картина поля битвы как знаки
оссианического пейзажа дополняются здесь еще и печальным видом кладбища,
«черной огромной гробницы» (с. 354), близ которой и будет развертываться
основное действие.
Особым образом задано во вступлении и психологическое состояние героя
– Владимир мучим раскаянием, он страдает, тяжко переживает чувство вины:
«Мечталось ему, что тени пораженных готовы были излить на него всю свою
ярость; что кровь их, превращаясь в пламенную реку, готова была окружить
Владимира <…> Вздохи теснились в его груди» (с. 353).
Далее диалог героев строится таким образом, что параллельно рассказу
читатель ощущает главную интригу: Рогвольд не узнает Владимира, читатель же
догадывается, что это и есть неузнанный обидчик, и с нетерпением ждет
разрешения возникшей коллизии.
Главным эмоциональным мотивом повести Нарежного оказывается
раскаяние. Эта тема задана уже во вступлении. Далее, в начале диалога с
Рогвольдом, Владимир признается тому в своих страданиях. Он не лишился
царства, ни свергнут с трона и не «пресмыкается в пыли и ничтожности» (с. 358),
как представляет себе Рогвольд, но его судьба еще более горька, потому что муки
раскаяния, по мысли автора, намного страшнее. «Горесть, скорбь и раскаяние, как
адские Фурии, терзают ему сердце» (с. 358), он «ни минуты не был спокоен с тех
пор, как несправедливая судьба вручила ему победу над Рогвольдом, – и отдала
ему прекрасную дочь его» (с. 358). Владимир не называет себя Рогвольду, и
потому для читателя тем более сильно звучат его слова: «Ах, Рогвольд! Есть ли
бы знал ты, что чувствует Владимир в сии минуты, есть ли бы мог ты проникнуть
в его сердце, и видеть, как ад волнует кровь его и как раскаяние на части
раздирает виновное сердце, – ты бы простил его, ты бы
преступление» (с. 359).
50
позабыл его
В повести Нарежный создает довольно редкий для прозаического
повествования тип интриги, которую можно назвать не событийной, а
эмоционально-психологической. Это сближало повесть с традициями жанра
трагедии, особенно с сюжетами о царе Эдипе, в котором именно узнавание
истины и раскаяние и есть главных итог произошедших событий.
Но раскаяние мучит не только Владимира. В повести возникает мотив
симметрии: вина Владимира как похитителя Рогнеды перекликается, в свою
очередь, с изображением вины Рогвольда, который и сам осуждает себя за то, что
не уберег дочь. Именно раскаяние заставляет Рогвольда томиться при древней
гробнице предков. Он сам говорит об этом: «вина моя единственная; – я имел
дочь, дочь прекрасную, – и она причиною моей горести» (с. 355).
Трагическая природа мотива вины подчеркивается в повести и благодаря
теме рока: «Грозная десница судьбы отяготела над моей главою; корота моя
сокрушилась, – пал город, пал народ мой – и владыка Полоцкий из великолепных
чертогов переселился в мрачные гробницы» (с. 357).
В трактовке Нарежного Рогвольд готовился отдать руку Рогнеды
прекрасному юноше, но грозный вестник принес весть, которая разрушила
счастье героев: «владыка обширного севера, могущественный Владимир…» (с.
364) потребовал ее себе в супруги. Он поклялся получить Рогнеду или разорить
Полоцк – «тако клялся Владимир пред богами, – и клятва его ненарушима» (с.
364).
На этом слове обрывается опубликованная часть повести Нарежного.
Обещанное в конце публикации продолжение так и не было напечатано – журнал
перестал выходить на двадцатой части. В результате для заинтригованного
читателя
повесть
невольно
получала
черты
романтического
фрагмента,
становилась еще более таинственной вследствие недосказанности.
Иную, более традиционную с точки зрения актуальности классицистских
принципов изображения характеров, и особенно осмысления вины как следствия
пагубной силы страстей,
предлагает в своей повести Николай Сергеевич
51
Арцыбашев («Рогнеда, или Разорение Полоцка»). Арцыбашев как автор
исторического повествования в основном делает акцент на передаче колорита.
Именно красочные описания, не всегда точные, но благодаря обилию деталей
выдержанные в подчеркнуто «древнерусском» духе, и становятся главными в его
повести. Так, здесь описывается капище Перуна («В роще священной,
покрывающей берег шумного Волхова, возвышался кумир Перуна. Огнь вечный,
угашение которого стоило жизни очередному жрецу, пылало пред изображением
величественного бога земли и неба. В руке своей держал он камень,
драгоценностьми украшенный, которого блеск представлял при свете огня живое
подобие палящей молнии. Деревянный стан его, сребряная глава, златые уши и
ноги железные, таинственно изображали свойства Создателя» (с. 60-61) 1. Также
колоритно изображается встреча Владимира с народом на «стогнах града»,
жертвоприношение Перуну, пир за «столами дубовыми», изображение которого
заставляет вспомнить «Наталью, боярскую дочь»: «Беседа веселая заменяет
торжество шумное; часто ходит кругом чаша радости – сила ее волшебная
истребляет и малейшие следы неудовольствия. Часто встает Владимир с места
своего, подходит угощать граждан даже самых последних. Ласково, дружелюбно
он со всеми беседует подобно брату кроткому с семейством многочисленным» (с.
65). В «рыцарском» духе изображаются состязания витязей на ристалище.
Присутствует
в
повести
Арцыбашева
и
сентиментально-
предромантическая чувствительность, также представленная главным образом в
статичном, описательном ключе: «дружба с мужем добродетельным, излияние
печалей и радостей в недра души чувствительной» (с. 72) сразу показаны как
главные радости Владимира, и эта тональность не меняется в изображении героя
и его эмоций.
Собственно история вожделения Владимира к Рогнеде показана в повести
как следствие страстей – именно в связи с этим мотивом воскрешается здесь
классицистское по сути противопоставление страстей и разума: «мужественный в
1 Далее цитируется издание: Северный вестник. 1804. Ч. 2, 3 4.
52
битвах, твердый в злополучиях, мудрый Владимир, был по женолюбию своему
последний из человеков» (с. 37). Однако в сравнении с традицией классицизма
разрешается эта проблема по-иному: верх над страстями одерживает не столько
разум героя, сколько его чувство, – сострадания, милосердия, братской любви к
сопернику.
Владимир сражается с избранником Рогнеды Руальдом; «равны были силы
их и мужество, – не равно благоприятствует им щастие…» (с. 101-102). Владимир
ранит Руальда в бою, но тут же «великодушие, жалость, любовь к человечеству
заменяют тотчас ярость военную в чувствительном сердце Владимира» (с. 102).
Он «забывает смертельного врага своего», «глас ревности утушается в душе его
гласом сострадания» (с. 102-103). Он пытается спасти Руальда, вылечить его,
однако рана была слишком тяжела, и тут умирает на руках Владимира,
примиренным и спокойным, завещая Владимиру как своему лучшему другу
Рогнеду.
Таким образом в повестях начала XIX в. складываются основные элементы
предромантического историзма, главным принципом которого окажывается
подчеркнуто эмоциональное, психологизированное осмысление исторических
событий. Нравственные, духовные уроки прошлого –
в отличие от уроков
гражданственности, в поисках которых обращались к истории авторы эпохи
классицизма – становятся основой изображения героев и событий как в повестях
ближайших последователей и продолжателей Карамзина, так и в массовой
литературе
той поры.
Однако
созданию предромантического
историзма
способствовало и проникновение в прозу лирического начала, связанного с
традициями определенных поэтических жанров, в которых предромантическое и
романтическое начало оказались особенно сильны. Таковы жанры баллады и
элегии; их воздействию на историческую повесть рубежа XVIII-XIX вв. и будет
посвящен следующий параграф работы.
53
1.4. Балладный и элегический лиризм как средство проникнуть в дух
героев прошлого («Громобой» Г.П. Каменева – «Вадим Новгородский»,
«Марьина роща» В.А. Жуковского)
Художественные искания в области трансформации карамзинского
жанрового образца исторической повести присутствуют также творчестве одного
из первых русских поэтов-предромантиков, Г.П. Каменева.
Творчество Г.П. Каменева (1772-1803) с давних пор привлекало внимание
критиков. Сама позиция поэта, ставшего
одним из первых в России
представителей романтического направления, безусловно, вызывала интерес у
многих современников. Так, по свидетельству племянницы Г.П. Каменева,
казанской писательницы А.А. Фукс, во время визита к ней А.С. Пушкин (поэт
заезжал в Казань в период своих поездок по местам пугачевского восстания в
1833 году) так говорил о Каменеве: «Он первый в России осмелился отступить от
классицизма. Мы, русские романтики, должны принести должную дань его
памяти: этот человек много бы сделал, ежели бы не умер так рано» 1.
Среди первых работ о творчестве Каменева – статьи Н. Второва 2 , Е.
Боброва3, И.Н. Розанова4. В первые послереволюционные годы проявился интерес
к Каменеву с точки зрения социологического изучения литературы – в таком
аспекте личность, биографию и творчество поэта изучал Г. Залкинд 5 . Позднее
начинается изучение поэтики произведений. Исследователей занимает уже место
Каменева в историко-литературном процессе, влияние на его наследие различных
традиций – от фольклора и русской поэзии XVIII века до западноевропейской
литературы. Таковы работы И.П. Лупановой6, Ю.Д. Левина7, Р.М. Лазарчук8, В.Э.
1 Пушкин в воспоминаниях современников. –
М., 1987. Т.2. – С. 219.
– СПб., 1845.
3 Бобров Е. Первый русский романтик Г.П. Каменев//Исторический вестник. 1903. № 8.
4 Розанов И.Н. Русская лирика. От поэзии безличной к исповеди сердца. Т.1. – М., 1914.
5 Залкинд Г. Г.П. Каменев. Опыт имущественной характеристики первого русского романтика. – Казань, 1926.
6 Лупанова И.П. Русская народная сказка в творчестве русских писателей первой по ловины XIX в. – Петрозаво дск,
1959.
7 Левин Ю.Д. Оссиан в русской литературе. Конец XVIII – 1 треть XIX в. – Л., 1980.
8 Лазарчук Р.М. Письма Каменева и их историко-литературное значение//Проблемы изучения русской литературы
XVIII в. Вып.2. – Л., 1976.
2 Второв Н.Г. Г.П. Каменев//Вчера и сегодня. Кн.1.
54
Вацуро 1, А.Н. Пашкурова2. В честь 225-летнего и 230-летнего юбилеев со дня
рождения поэта в Казани, на его родине, были выпущены сборники тезисов и
материалов конференций3. Первое монографическое исследование, посвященное
изучению творчества Каменева, создано Э.Н. Валеевым4.
Переводные и оригинальные стихи и повести Г.П. Каменева печатались в
журналах: «Муза»
(1796),
«Иппокрена»
(1799-1801),
«Новости русской
литературы» (1802) и другие. Каменев переводил А. Коцебу, С. Геснера, Э.Х.
Клейста и других. С 1802 г. он был членом Вольного общества любителей
словесности, наук и художеств, в периодическом издании которого (ч. 1, 1804)
была впервые напечатана условно – сказочная богатырская повесть «Громвал»,
написанная дактило – анапестическим стихом. Это одно из первых произведений
романтизма в русской литературе5.
В 1796 г. в журнале «Муза» Г.П. Каменевым была напечатана небольшая
повесть «Громобой», обозначенная самим автором: «отрывок из героической
повести». Уже этим подзаголовком Каменев, по сути, определил направление
своих жанровых исканий – и в области национально-исторического прошлого,
которое названо в повести «героическим», и в области построения текста –
отрывка, фрагмента, в духе поэтики предромантизма выводившего на первое
место эмоционально-субъективное отношение повествователя к прошлому.
Повесть «Громобой» нечасто привлекала внимание исследователей,
причем в основном она рассматривалась как один из источников знаменитой
балладной поэмы В.А. Жуковского «Двенадцать спящих дев» (ее части первой –
«Громобой»). Своеобразным препятствием на пути анализа при этом, как и в
1 Вацуро В.Э . Г.П. Каменев и готическая литература//Русская литература XVIII в. и ее международные связи. ЛД.,
1975.
2 Пашкуров А.Н. Элегика Г.П. Каменева в свете концепции возвышенного//Литературные чтения в честь Гавриила
Петровича Каменева, замечательного поэта, купца и жителя Казани. 15 февраля 2002 г. – Казань, 2002.
3 Чтения, посвященные 225-летию со дня рождения Гавриила Каменева, поэта и жителя Казани. 13-14 февраля
1997. – Казань, 1997; Литературные чтения в честь Гавриила Петровича Каменева, замечательного поэта, купца и
жителя Казани. 15 февраля 2002 г. – Казань, 2002.
4 Валеев Э.Н. Первый русский романтик Г.П. Каменев. – Киров, 2001.
5 Биографические сведения о Г.П. Каменеве приводятся по изданию Краткая литературная энциклопедия. – Т.3. –
М., 1966. См. также: Лотман Ю.М., Альтшуллер М.Г. Г.П. Каменев//Поэты 1790-1810 –х гг. – Л., 1971; Зорин А.Л.
Г.П. Каменев/Русские писатели XIX в. 1800-1917. Биографический словарь. – М., 1997. Т.2; Лазарчук Р. Каменев
Г.П. //Словарь русских писателей XVIII в. Вып. 2. – СПб, 1999.
55
случае с большинством русских исторических повестей раннего периода, был
условный
характер
изображения
прошлого:
«квазиисторической
1
,
«псевдоисторической»2 называют повесть «Громобой» ученые, имея в виду, что
не историческая истина, а психологическая насыщенность внутренней жизни
героев, яркий оссианический колорит интересовали Каменева-прозаика.
«Громобой» действительно представляет собой своеобразный опыт
лирико-психологической «баллады» в прозе. Однако в начале повести Каменев
вполне сознательно концентрирует множество «исторических» уточнений и
деталей, воссоздающих некое эмоциональное ощущение исторического прошлого
– времен «великого
князя Святослава, сына Игоря и блаженныя Ольги» 3 .
Появляется множество слов-сигналов, указывающих на то, что действие
происходит в прошлом: «беспокойные народы» (с. 35), «народ, толпившийся при
чертогах Государя» (с. 35), «Татары, Печенеги, Вятичи, Хозары» (с. 36) и др.
Ярким выразительным средством, способствующим передаче «исторического»
начала в повести, становится инверсия, которая еще со времен художественных
опытов исторического повествования Карамзина как правило играла роль
своеобразного
«исторического»
стилевого
маркера,
передавая
важность,
значительность, некоторую архаику колорита.
Вообще инверсия как художественный прием (наряду с перифразой)
воспринималась современниками как
знак карамзинского стиля, той самой
«поэзии прозы» Карамзина, о которой с некоторой иронией позднее писал А.С.
Пушкин 4. Инверсия могла выполнять функционально достаточно разнообразные
роли; по справедливому наблюдению В.Н. Топорова5, главное предназначение
инверсии в карамзинской прозе – передать некую необычность текста, выделить
его из «нейтрального» потока повседневности. Когда это происходило, то далее, в
1 Зорин А.Л. Г.П. Каменев // Русские писатели. 1800-1917.
Биографический словарь. Т. 2. – М., 1992. – С. 450.
2 Валеев Э.Н. Г.П. Каменев в историко-литературном процессе конца XVIII – начала XIX в. Диссер тация … канд.
филол. наук. – Елабуга., 2001.
3 [Каменев Г.П.] Громобой // Муза. 1796. Ч. 2. – С. 34-47.
4 См. Пушкин А. С. <О прозе > // Пушкин А. С. По лное собрание сочинений: В 16 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1937-1959. Т. 11. Критика и публицистика, 1819-1834. – 1949. – С. 18-19.
5 См.: Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. – М., 1999. – С. 135-137.
56
повестях различной жанровой природы
это толковалось
по-разному: в
сентиментально-психологическом повествовании типа «Бедной Лизы» служило
средством раскрытия внутреннего мира героя, в предромантических повестях
(«Остров Борнгольм», «Сиерра Морена»)
– воплощало смятение души,
охваченной трагическими страстями. В исторических же повестях инверсия – это
еще и необычность величавого, архаизированного в сравнении с современностью
«склада речей» героев прошлого.
Писатели-карамзинисты, следовавшие за предложенной им жанровой
моделью, унаследовали этот прием как на уровне структуры текста, так и на
уровне художественной функции.
Не был исключением и Каменев, в
художественном мире которого, и в частности в повести «Громобой» инверсия
заняла
довольно
значительное
место: «Отмстим!
–
воскликнул
народ,
толпившийся при чертогах» (с. 35); «текут по знаменитому граду, яко
дожденосные тучи на зыбях небесных» (с. 36); «подобно грозному облаку во
время бурного сражения стихий» (с. 37); «мрачная нощь расстилала черную свою
одежду по влажным равнинам и холмам…» (с. 41) и мн. др.
Главной «пружиной» сюжета в повести Каменева является, как это и было
в исторических повестях «карамзинского» типа, любовная интрига. История
любви Громобоя к черкешенке Калханте выдержана также в предромантических
тонах: автор с увлечением говорит об удивительной красоте своей героини: «Она
была прелестна, как зарею живописуемое утро: кротка и приятна, как спокойный
свет луны во время мирной нощи. Коралловые уста, розовые ланиты, лилейное
чело; дыхание слаще весенних ветерков; черные огненные очи, зияющие
пламенем любви, – такова была красавица!» (с. 43). Не только Громобой, но и все
другие русские витязи пленились ею. Она чуть не стала причиной распри между
русскими
воинами,
и
лишь
благодаря
мудрости
Святослава
удалось
предотвратить междуусобицу.
Представленный в повести Каменева подвиг Громобоя, совершенный во
имя любви (он сумел удержать на бегу разъяренного вола), имеет под собой
57
достаточно глубокую сеть культурно-исторических смыслов. Прежде всего, эта
сцена могла ассоциироваться с летописным преданием о подвиге Яна Усмаря
(Усмошвеца, Усмовича), о котором рассказывается в «Повести временных лет».
Этот русский герой, чтобы остановить кровавую битву с печенегами,
принял участие в назначенном испытании силы и вырвал у бежавшего мимо быка
одной рукой кожу с мясом. Князь Владимир заложил на месте поединка город
Переяслав, название которого происходило по преданию от слова «перенять» :
русский богатырь перенял здесь славу богатыря печенежского.
Сюжет легенды о Яне Усмаре был популяризирован на рубеже XVIII–
XIXвв. благодаря картине Григория Ивановича Угрюмова «Испытание силы Яна
Усмаря» (1796), которая была выполнена художником в качестве конкурсной
работы на звание академика и выставлялась в залах Академии Художеств. Таким
образом древнерусский сюжет оказывался в центре внимания тогдашнего
образованного общества1.
Вполне справедливо отмечено, что «Каменевская повесть представляет
собой патриотическое произведение,
по форме приближающееся к сказанию,
соединившему в себе лирическое
начало с торжественной героикой» 2 .
Балладный, лиро-эпический эмоциональный колорит в обращении к истории,
который видит у Каменев исследователь, вряд ли можно считать свидетельством
художественной слабости писателя-новатора. Скорее это было одним из способов
расширить возможности только формирующегося жанра исторической повести,
вывести его за пределы лишь субъективно-эмоционального, «лирического»
видения минувших эпох. Каменев, как и другие авторы, принял участие в
оформлении жанровых особенностей исторической повести на раннем этапе ее
развития.
Однако особую роль в становлении лиризма как определяющего качества
для поэтики исторической повести сыграли произведения В.А. Жуковского.
1 Подробнее об этом см.: Зонова З. Г.И. Угрюмов. 1764-1823.
– М., 1966. – С. 20.
Э.Н. Г.П. Каменев в историко-литературном процессе конца XVIII – начала XIX в. Диссертация … канд.
филол. наук. – Елабуга, 2001. – С. 105.
2 Валеев
58
Наряду с повестями Н.М. Карамзина исторические повести В.А.
Жуковского могут считаться наиболее подробно и объективно изученными в
литературоведении. В трудах И.А. Айзиковой 1 , Р.В. Иезуитовой 2 , Ф.З.
Кануновой 3 , В.Н. Касаткиной 4 , Н.Д. Кочетковой 5 , Н.Н. Петруниной 6 , А.Г.
Садовникова 7 , В.Ю. Троицкого 8 , А.С. Янушкевича 9 и др. представлены
интересные и важные грани творческих поисков Жуковского-прозаика, обозначен
круг произведений русской и западноевропейской литературы, на традиции
которых он ориентировался в своей прозе, сделаны выводы о том, какое место
занимала проза в художественном мире Жуковского.
Предметом анализа в данном разделе главы будут исторические повести
Жуковского 1800-х гг. («Вадим Новгородский» 10 и «Марьина роща» 11 ) как
своеобразные опыты развития карамзинской жанровой модели исторической
повести. По справедливому мнению исследователей, именно они, наряду с
«Натальей, боярской дочерью», Карамзина, стали наиболее значительными
образцами сентиментально-предромантической психологической повести, в
которой автор-повествователь обращается к прошлому в поисках прежде всего
живых чувств, эмоций, созвучных переживаниям современников и потому
способных пробудить сочувствие
в душе читателя. И если «Наталья…»
Карамзина условно может быть соотнесена с жанром идиллии12, то исторические
1 См.: Айзикова И.А. Философско-исторические и религиозно-нравственные проблемы в прозе В.А. Жуковского //
Вестник Томского государственного педагогического университета. – Томск, 2003. Вып. 1. – С. 9-14.
2 Иезуитова Р.В. В.А. Жуковский: итоги и проблемы изучения // Русская литература. 1983. № 1.
3 Канунова Ф.З. Вопросы мировоззрения и эстетики Жуковского. – Томск, 1990; ее же: Карамзин и Жуковский:
некоторые вопросы изучения русской истории по материалам биб лиотеки Жуковского // XVIII век. Сб. 16. – Л.,
1989. – С. 130-138.
4 Касаткина В.Н. «Здесь сердцу будет приятно…». – М., 2005.
5 Кочеткова Н.Д. Жуковский и Карамзин // Жуковский и русская культура. – Л., 1987. – С. 190-216.
6 Петрунина Н.Н. Жуковский и пу ти становления русской повествовательной п розы // Жуковский и русская
культура. – Л., 1987. – С. 45-79.
7 Садовников А.Г. Принципы изображения природы в прозе В.А. Жуковского 1797-1808 г. // Грехневские ч тения. –
Н. Новгород, 2001. – С. 57-60.
8 Троицкий В.Ю. Значение поэзии В.А. Жуковского в развитии русской романтической прозы // Жуковский и
литература конца XVIII – начала XIX в. – М., 1988. – С. 193-206.
9 Янушкевич А.С. Эволюция дневниковой прозы В.А. Жуковско го // Проблемы меода и жанра. – Томск, 1989. Вып.
15. – С. 3-27.
10 Вестник Европы. 1803. Ч. 12. № 23-24.
11 В.А. Жуковский. Собрание сочинений в четырех томах. Том четвертый. Изд -во: М .-Л.: Художественная
литература, 1959-1960.
12 Подробнее об э том см.: Кросс Э. Разновидности идиллии в творчестве Карамзина // Державин и Ка рамзин в
литературном движении XVIII - начала XIX века. – Л., 1969. – С. 13.
59
повести Жуковского – это повести-элегии1, сама условность историзма в которых
из
недостатка
превращается
в
своеобразный
художественный
прием,
позволяющий сблизить внутренний мир людей прошлого и современников.
Ярче всего это ощущение условности как следствия стремления автора
приблизить героев и события, эмоции и переживания к читателю, сказалось в
повести «Вадим Новгородский». Здесь, в отличие от литературной традиции
обращения к сюжету о Вадиме, Жуковский изображает не историческую
трагедию разочарования и утраты, столкновения идейных позиций и т.п., что уже
разрабатывалось не раз его предшественниками2. Делая своего героя – Вадима –
юношей, автор иначе расставляет акценты и в изображении его исторической
судьбы. Он – в первую очередь чувствительный человек, охваченный
патриотическим порывом, живущий мечтой спасти свою родину. Жить мечтой
по-настоящему искренно может только юность – возможно, по этой причине
Жуковский-повествователь наделяет даром мудрости другого героя, Гостомысла,
с которым и связываются в повести мотивы мудрости, печали, исторического
разочарования.
Сама
публикация
повести
в
«Вестнике
Европы»
связывала
это
произведение с художественным опытом Жуковского как автора элегий: текст
предварялся редакторским замечанием Карамзина, напоминавшим читателям о
«Сельском кладбище»: «Молодой Автор этой пиесы и мой приятель, Г.
Жуковский,
известен
читателями
Вестника
по
Греевой
Элегии,
им
переведенной»3. Этот элегический мотив подхватывало лирическое вступление к
повести, связанное с душевными переживаниями Жуковского о смерти Андрея
Тургенева и таким образом вводившего в текст мотивы и другой элегии поэта –
«Вечер»: «О ты, незабвенный! Ты, увядший в цвете лет, как увядает лилия
прелестная, благовонная! Где следы твои в сем мире? Жизнь твоя улетела, как
1 Петрунина
Н.Н. Жуковский и пу ти становления русской повествовательной прозы // Жуковский и русская
культура. – Л., 1987. – С. 45-79.
2 Кроме сюжета о Вадиме, Н.Н. Петрунина связывала также э ту повесть Жуковского с переведенной им поэмой в
прозе Флориана « Вильгельм Телль, или Освобожденная Швейцария», см. Петрунина Н.Н. Жуковский и пу ти
становления русской повествовательной прозы // Жуковский и русская культура. – Л., 1987. – С. 52, 58-60.
3 Вестник Европы. – М., 1803. Ч. 12. № 23-24. – С. 211.
60
туман утренний, озлащенный сиянием солнца!1 <…> Где друг мой, с которым я
шел рука в руку, без робости, без трепета, с беспечным, веселым спокойствием? –
– Все исчезло! Никогда, никогда не встретимся в сем мире» 2.
Это элегическое настроение подхватывается уже в начале самой повести
Жуковского. Повествователь стремится «оживить» «пепел протекшего», воззвать
«из гробовых развалин» «тени Героев и великих». Его повествование – песнь в
честь славы героев, дань любви и памяти их могилам.
Основным средством для передачи условного, предромантического по
своей природе историзма в этой повести оказывается оссианический колорит, с
его вполне узнаваемыми, уже закрепленными традицией деталями: мшистые
камни, луна, седой старец, арфа, осенние ветры, густые туманы, дубы, разбитые
стрелою Перуна… Однако все эти знаки получают в повести дополнительное
эмоционально-психологическое объяснение. Для героя – Гостомысла – это знаки
протекшего
времени,
его
неминуемо
клонящейся
к
закату
жизни,
и
следовательно, его исторической трагедии. «Слава дней моих улетела, как дым,
унесенный ветром», – поет в своей горестной песне герой, переходя затем от
выражения личной трагедии ко всеобщему – беде всего своего рода: «А ты, моя
отчизна! Ты, незабвенная и в дикой пустыне, и на краю гроба! Куда девалось твое
величие? Почто утратился блеск твоей славы? Печаль, как туман, покрывает тебя
своим мраком. Не вижу храбрых сынов твоих: пали могущие, или сокрылись.
Иноплеменники ругаются над твоим бессилием; иноплеменники терзают тебя, как
волки хищные свою добычу. К тебе, обожаемая, к тебе летят мои вздохи. По тебе
унываю; но кто услышит мои стенания? Кто прольет отраду в иссохшее
сердце?» 3.
Появление Вадима в этом эмоционально-психологическом ключе, в
котором Жуковский трактует историю, становится поистине явлением некоего
«нового героя», «полубога». Залогом его исторической роли становится в
1 Там же. –
С. 213.
2 Там же. – С. 213-214.
3 Вестник Европы. – М., 1803.
Ч. 12. № 23-24. – С. 219.
61
трактовке Жуковского та волшебная по силе воздействия сочувственная
симпатия, которую он вызывает: его «лицо выразительное, запечатленное
печатью добродушия», взгляд – «быстрый, пылающий», «темно-русые волосы,
мягкие как шелк и кудрями по плечам рассыпанные, величественный стан,
высокая белая грудь, нежный и мужественный голос» и т.п.
Вадим рассказывает Гостомыслу историю своей жизни – их изгнания
вместе с отцом, Радегастом, урок твердости и силы духа, который дал ему отец
своим несчастьем и самой смертью. В сознании Вадима идеал героизма и живое
чувство (к отцу, к Гостомыслу, к родине) слились неразрывно. Это и определило
специфику концепции героизма в повести. Подлинный патриотизм рождается
только в чувствительном сердце, рождается благодаря силе сочувствия и любви.
«Пример человека, непоколебимого и твердого среди волнений жизни, слова его,
убедительные и сильные, образовали мое сердце: я трепетал и хватался за меч,
когда отец мой, со всей живостью пылкого юноши, говорил о славе, о подвигах
славян храбрых, изображал их великодушие, их верность в дружбе, святое
почтение к обетам и клятвам. Душа моя пламенела, в восторге я падал к ногам
Радегаста, и орошал их кипящими слезами»1. Только такая сила любви – к отцу, к
другу, к родине – и способна, по мысли Жуковского, создать истинного героя.
Несколько по-иному предстает образ исторического прошлого в повести
«Марьина роща». Здесь Жуковский возвращается к центральному сюжетному
мотиву сентиментально-предромантической, карамзинской жанровой модели
исторической повести – мотиву любви.
Н.Н. Петрунина справедливо сближала это произведение не только с
«Натальей, боярской дочерью», но прежде всего с «Бедной Лизой». Подобно этой
повести Карамзина, Жуковский-повествователь здесь создает своего рода легенду
о «гении места» 2 , таинственной и печальной истории из прошлого, которая
отныне должна стать для читателей сладким поэтическим преданием, окрасить
1 Вестник Европы. – М., 1803.
Ч. 12. № 23-24. – С. 230-231.
Н.Н. Жуковский и пу ти становления русской повествовательной прозы // Жуковский и русская
культура. – Л., 1987. – С. 74.
2 Петрунина
62
собой бытовую повседневность, переносить человека в мир мечтаний и
исторических
грез:
«Карамзин
в
«Бедной
Лизе»
создал
предание,
поэтизировавшее окрестности Симонова монастыря. Жуковский облек ореолом
мечтательной романтики другой уголок Москвы – Марьину Рощу» 1.
Оссианический колорит этой повести дополняется готическим: его
свеобразной модификацией становится «терем грозного Рогдая», подобный
рыцарскому замку, хранящему мрачную тайну2. Этот терем впервые появляется в
самом начале повести, окрашенный лучами закатного солнца. И далее
периодические упоминания о нем всегда вносят в повествование ощущение
грусти, тревоги, сомнений, трагических предчувствий («подобно великану
возвышался над лесом»3; «в эту минуту золотые рога месяца мелькнули из тучи
над кровлею Рогдаева терема»; «Рогдаев терем – черная туча над ним носилась
<…> Быстрая молния раздвоила тучу пламеню браздою»; «Глубокая мрачность
царствовала в тереме витязя Рогдая» 4 ; «луна, подобная зареву отдаленного
пожара: весь терем покрылся ее сиянием»5 и др.). В этом смысле формально не
имеющий отношения к готическому, а скорее к древнерусскому колориту,
Рогдаев терем у Жуковского аналогичен по своим художественным функциям
«готическим башням монастыря Симонова» в повести «Бедная Лиза», также
пророчащим мрачный финал любовной истории героев.
В целом сюжетная линия повести посвящена именно раскрытию
эмоционального мира героев. Как таковых примет «большой» истории, которые
столь часто возникали в предромантических исторических повестях (изображения
витязей, оружия, коней, битв, упоминания исторических имен, местностей и
событий), в «Марьиной роще» найти нельзя. Некоторые элементы исторического
колорита вносятся в повесть лишь упоминанием о Новгороде и отдельными
1 Петрунина
Н.Н. Жуковский и пу ти становления русской повествовательной прозы // Жуковский и русская
культура. – Л., 1987. – С. 74.
2 См.: Вацуро В.Э. Готический роман в России. – М., 2002.
3 В.А. Жуковский. Собрание сочинений в четырех томах. Том четвертый. Изд-во : М.-Л.: Художественная
литература, 1959-1960. – С. 370.
4 В.А. Жуковский. Собрание сочинений в четырех томах. Том четвертый. Изд-во : М.-Л.: Художественная
литература, 1959-1960. – С. 378-379.
5
В.А. Жуковский. Собрание сочинений в четырех томах. Том четвер тый. Изд -во : М .-Л.: Ху дожественная
литература, 1959-1960. – С. 379.
63
«древнерусскими» именами (Рогдай, Услад, Пересвет). В остальном же
эмоциональный тон повествования, и особенно лиризм прозы Жуковского скорее
приближал героев к читателям-современникам. Н.Н. Петрунина писала об этом:
«лирико-музыкальная и эмоцинально-психологическая атмосфера» возникает
здесь «…на основе сложного отношения между прозаическим словом поэта и
творчески преломленным, трансформированным сгустком его жизненного
опыта» 1.
Таким образом, повести Жуковского стали наиболее законченным опытом
«лиризации» истории, предложенным Карамзиным как один из путей ее
художественного
осмысления.
Предромантический
историзм
Жуковского
оказался связан с поиском путей, следуя по которым, возможно сделать
минувшее максимально близким читателю, но не за счет исторических сведений
или колорита, но именно благодаря подчеркнутому единству эмоционального
мира личности. Чувства человека те же – и в Древней Руси, и в современности –
поэтому ощущение живого проникновения в дух былых эпох должно было
возникать в повестях Жуковского именно вследствие условности их внешней
историко-бытовой линии; именно душа, внутренний мир людей прошлого
становится главным предметом изображения в этих повестях.
1.5.
Карамзинская
жанровая модель
исторической
повести и
«массовая литература» конца XVIII – начала XIX в. («Прогулки в
окрестностях монастыря Симонова» В.М. Колосова – «Боярин Матвеев»
П.Ю. Львова)
Предложенная Карамзиным художественная модель русской исторической
повести на раннем этапе ее развития была очень любима читателями и вызывала
устойчивый интерес писателей. Однако, помимо этой устойчивой жанровой
модели, в литературе рубежа XVIII-XIX вв. начинаются художественные искания,
в основном связанные с поиском исторической «реальности», с желанием
1 Петрунина
Н.Н. Жуковский и пу ти становлени я русской повествовательной прозы // Жуковский и русская
культура. – Л., 1987. – С. 69.
64
писателей совместить этико-психологическое и собственно «историческое». Эта
тенденция проявилась в особом направлении в развитии жанра, которое условно
можно назвать беллетризацией изображения реальных исторических персонажей
и событий. К этому приему нередко обращались авторы, представляющие т.н.
«массовую литературу», что свидетельствовало о безусловной популярности
жанра исторической повести уже на стадии его становления в русской литературе.
В данном разделе главы рассматриваются два образца подобной попытки
соединить просветительски-дидактическую, «полезную», – и «чувствительную»
линию в подходе к истории, представленные в творчестве В.М. Колосова и П.Ю.
Львова. Оба эти писателя
практически не были объектом анализа в
литературоведческих трудах, и потому представляется интересным, каким
образом их художественные поиски вписывались в общую линию развитии жанра
на этапе его становления.
Творчество Василия Михайловича Колосова (1782—1857) – русского
писателя сентиментального
направления,
последователя Н.М. Карамзина, в
основном привлекало внимание составителей обобщенных справочных изданий о
русской литературе рубежа XVIII-XIX вв., биографических и библиографических
словарей русских писателей. Судьба его – пример типичной карьеры чиновника
первой трети XIX
столетия. В
1802 году Колосов
поступил на службу в
ведомство Экспедиции кремлёвского строения, впоследствии принимал участие
в работе различных комиссий (1803–1813 – в грузинской, 1808–1812 – в
комиссариатской и др.)
В 1830 году служил смотрителем Кремлёвского
архитектурного училища, был уволен в обер-офицерском чине в 1832 году по
состоянию здоровья.
Не более известно и о литературном творчестве Колосова. Первые его
стихи были напечатаны в Москве в 1801 году по случаю восшествия на престол
Александра I. Несколько стихотворений опубликовал в 1803–1805 гг. в «Друге
просвещения» и «Новостях русской литературы»; входил в число авторов
65
вышедшего в Москве в 1814 году «Собрания стихотворений, относящихся к
незабвенному 1812 г.».
В
различных
словарных
изданиях
сведения
о
творческом пути
В.М. Колосова в основном касаются библиографии сочинений писателя. Так, в
Справочном
словаре
Геннади
представлены
следующие
произведения
В.М. Колосова: «Плач России и неизреченная радость о восшествии на престол
императора Александра I» (М. 1801); «Плод энтузиазма, лирическое сочинение»
(на случай коронаций
Александра I) (V. 1801); «Прогулки в окрестностях
монастыря Симонова» (M. 1806); «Воробьевы горы» («Новости Русской
Литературы», 1804 г.); «Стихи Петру Андреяновичу Познякову на случай
открытия им, в его доме, публичных представлений и маскарадов в пользу бедных
и инвалидов 1814 года» (М. 1814); «Хор в честь русских героев, избавивших
Европу от французского ига» (М. 1814) 1 . В Энциклопедическом словаре
Брокгауза и Ефрона (1890—1907) приводятся и другие публикации писателя:
«Глас Россиянина» (М., 1814); «Польский в честь императора Александра I»
(М., 1814); «Польский на день рождения императора Александра I» (М., 1814).
Также в словаре высказывается мысль о посредственности стихов В.М. Колосова,
а также о написанном в прозе произведении «Прогулки в окрестностях монастыря
Симонова» (М., 1806 г.), представляющем собой «слабую дань карамзинской
сентиментальности» 2.
Повесть В.М. Колосова «Прогулки в окрестностях монастыря Симонова»
практически не привлекала внимания
исследователей.
Между тем,
это
интересный образец массовой литературы сентиментализма, свидетельствующий
о популярности наиболее распространенных мотивов карамзинской прозы, ее
основных приемов, бывших основой привлечения читательского внимания.
«Прогулки…» представляют собой соединение жанров сентиментальной повести,
путешествия, путеводителя, идиллии, научно-популярной статьи и отчета о
1 См.: Геннади Г.Н. Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII
и XIX столетиях и
список русских книг с 1725 по 1825 г. – Берлин, 1880. Т. 2. – С. 123.
2 Цит. По: Зорин А.Л. Колосов // Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. – М., 1994. – Т. 3. – С. 24.
66
филантропических мероприятиях.
Сам стиль, сентиментальное отражение
истории являются средствами возбуждения чувства у публики. Уже в обращении
к читателям прослеживается сентиментальная направленность,
В.М. Колосов
посвящает свой труд «сердцам чувствительным и душам благомыслящим» 1.
В
предисловии автор называет свое произведение – «слабый цветок в неувядаемом
саду отечественной словесности» (с. 6) и надеется, что повесть его доставит
удовольствие «читателям и читательницам», явно ориентируясь на женский вкус,
«чувствительность» как нравственно-эстетическую установку, необходимую для
достижения сентименталистского идеала чтения-сотворчества.
В дальнейшем приемы сентименталистского повествования о жизненных
впечатлениях, бывшие необходимым содержанием «прогулки» как особого
жанра,
постоянно
взаимодействуют
с
собственно
литературными
реминисценциями, в первую очередь из произведений Н.М. Карамзина и близких
ему авторов (так, автор упоминает повесть «российского Стерна» «Бедная Лиза»
(с.12-13), философский трактат Ш. Бонне «Созерцатель природы», бывший одним
из
любимых источников
для
писателей-сентименталистов
в
построении
природных картин (с. 19), переводы повестей Мармонтеля, выполненные Н.М.
Карамзиным (с. 23) и др.).
Характерная
для
сентиментализма
установка
на
риторичность
художественного изображения окружающего мира приводит в повести Колосова
к тому, что писатель словно бы балансирует в своем видении действительности
между
собственно
жизненными
впечатлениями
и
теми
литературными
ассоциациями, которые уже связались с этими впечатлениями как в душе
чувствительного автора, так и его читателей. Само видение панорамы Москвы в
начале «Прогулок…», равно как и структура периодов,
оказываются
спроецированы на карамзинские описания города и размышления об одиноких
прогулках, помещенные в начале «Бедной Лизы»2: «Кому из Московских жителей
1 Колосов В.М. Прогулки в окрестностях монастыря Симонова. – М.: в типографии Платона Бекетова, 1806. – С. 3.
Далее цитаты приводятся по этому изданию.
2 О популярности э того приема, прочно ассоциировавшегося в читательском сознании той поры с творчеством
Н.М. Карамзина, и в первую очередь с повестью « Бедная Лиза», см.: А лпатова Т.А. Литературное образование
67
не известны очаровательные окрестности Монастыря Симонова? – Чье сердце,
напитанное чувствительностию, не ощущало приятных биений при прогулке в
Майские вечера благорастворенные, по усеянным ароматическими цветами
лугам, окружающим знаменитые древностию стены и башни его?...» (с. 7); ср.:
«Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей
города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более
моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и
рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в
старых новые красоты» 1.
Основу литературной традиции жанра прогулки для литературы русского
сентиментализма составляли в основном «Прогулки одинокого мечтателя» Ж.Ж. Руссо, в свою очередь ставшие основой для вариаций жанра в творчестве
Н.М. Карамзина
(«Прогулка»,
«Письма
русского
М.Н. Муравьева
(«Обитатель
предместья»,
путешественника»),
«Утренняя
прогулка»),
И.М. Долгорукова («Прогулка в Савинском», «Прогулка на Трех горах» и др.).
Общие черты, проявляющиеся в указанных произведениях, позволяют говорить о
«прогулке» как особом типе выстраивания отношений человека и природы,
особом состоянии души, а также о «прогуливающемся» лирическом герое, некоем
«дворянине-философе», открытом всем впечатлениям бытия. Эта-то открытость и
становится основанием тех ассоциативно обусловленных образов, возникающих в
литературном описании «прогулки»; их последовательность и сменяемость
связана с передачей сочувственного восприятия картин природы, отличавшего
тот
тип
художественного
творчества,
который сложился
в
литературе
сентиментализма.
Именно
такой
тип
выстраивания
взаимоотношений
человека
и
окружающего мира – однако представленный на «низовом» уровне массовой
литературы – присутствует в повести В.М. Колосова. Свободно переходя в
М.Ю.Лермонтова и проблемка места русского XVIII века в историко -литературной концепции поэта //
Электронный журнал «Вестник МГОУ». – М., 2013. № 2. – С. 1-12.
1 Карамзин Н.М. Избранные сочинения: в 2-х т. – М.; Л., 1964. – Т. 1. – С. 605.
68
изложении впечатлений с одной темы на другую, автор замечает: «Будучи рабом
сбивчивых мечтаний моих, перенесся я к изгибам сердца человеческого,
рассуждал о пагубных следствиях страстей и обольщения» (с. 12) – так мотивы
«Бедной Лизы» появляются в его сознании вслед за воспоминаниями об «истории
деяний человеческих». Житейские впечатления прогулки выводят рассказчика к
философским размышлениям о Боге, мудрость и благость Которого открывается в
картинах природы: «Премудрый Творец и Правитель миров видимых и
невидимых! – Произнес я в сердечном умилении, – сколь велик Ты и непостижим
сам в себе, столько же велик в Твоем творении!» (с. 15).
Особое место в повести занимают идиллические мотивы. Это задано уже
изначальной авторской установкой: ориентироваться на нежный, в первую
очередь
женский
вкус
читательниц.
Идиллическое
начало
разлито
в
представленных картинах природы, в самом перечислении пейзажных деталей
заметна установка на особую «сладостность», трогательность описания, которое
должно пробудить в читателе не только этическое «сочувствие», но словно бы
сходные ощущения – цветов, звуков, запахов: «Палевые пятна, разбросанные по
голубому горизонту, предвещали скорый восход солнца. Кукушкины слезки и
полевые жасмины освежали чувства… благовонными испарениями; гористовка и
малиновка как нектаром упояли меня гармоническою своею песнию…» (с. 15).
Потому-то
прогулка по деревням в окрестностях Симонова монастыря
проецируется в описании на пасторальную традицию: автор будто бы гуляет по
Аркадии, бродит по хижинам её обитателей, жилищу Палемона – героя повести
Мармонтеля. В идиллических тонах выдержан и эпизод встречи с крестьянами –
добрым стариком и двумя детьми, его воспитанниками; старик сам рассказывает
путешественнику историю собственной жизни, «с простым, но трогательным
красноречием» (с. 38).
Однако наиболее значительное место в повести Колосова занимают
исторические мотивы. Обращение к ним писателя также обусловлено жанровым
заданием
«прогулки»,
включавшим
не
69
только
передачу
эмоционально-
субъективных впечатлений рассказчика, но и своеобразную просветительскую
цель – созерцая встречающиеся памятники протекших времен, раскрыть перед
читателем исторические ассоциации, с ними связанные. Этот опыт был хорошо
известен тогдашним поклонникам сентименталистского направления в литературе
по историческим очеркам Н.М. Карамзина, появившимся на страницах «Вестника
Европы»: «Исторические замечания и воспоминания по пути к Троице» и др.
Исторические мотивы возникают в повести Колосова постоянно, тесно
взаимодействуя с собственно «чувствительными»: созерцание трогательных
картин окружающего мира ассоциативно вызывает в памяти повествователя
события прошлого, которые с ними связаны. В результате и сама история
обретает здесь лирическую, эмоциональную окрашенность. Так, субъективноэмоциональные
тона
присутствуют
в
своеобразном
автопримечании
–
исторической справке о прошедших годах Симонова монастыря в начале повести:
«Симонов мужской монастырь первого класса, в Москве за Земляным городом,
как значится в общем о монастырях описании, начат строиться Св. Феодором,
Архимандритом, племянником и учеником Преподобного Сергия Чудотворца
<…>Внутри сей церкви погребены Александр Пересвет и Родион Ослеб, иноки,
коих в 1380 году великий Патриот, Св. Сергий, избрав из монашествующей
братии,
снабдил
оружиями
для
защищения
России от
нападения
со
многочисленным войском Мамая, Князя Татарского, при Державе Великого Князя
Димитрия Иоанновича Донскаго. <…> При воззрении на скромные их мавзолеи, я
осмелился начертать несколько стихов, кои здесь и помещаю: Сыны смирения,
Герои в грозной брани! // Спасенна вами Мать на вас с улыбкой зрит; // Почтенны
иноки! – простря нежнейши длани, // Венцом бессмертия Россия вас дарит: //
Покойтесь, славные. В священных сих стенах, // Вам жертвы воскурят в
позднейших временах!..! (с. 8-9). Трогательная история старика вводит в контекст
авторских размышлений воспоминания о Екатерине II и русско-турецкой войне,
подвигах русских солдат при взятии Очакова. Картины села Коломенского и
Царицына вызывают в душе автора воспоминания о Петре I, Екатерине II, о
70
великом прошлом России: «Коломенское!... твое имя начертано в сердце моем – в
сердце каждого Россиянина! – с именем Петра оно пребудет незабвенным в
позднейших летописях нашей истории!.. <…> Великая почла себе за долг
посетить
колыбель
Великого
и
поставила счастливое своим
жребием,
процветающее снова Царицыно прекрасным памятником своего присутствия»
(с. 51-52).
При этом обращает на себя внимание, что историческое у Колосова как
правило предстает в тесном взаимодействии с природным. Одним из образов,
который способствует установлению этой связи в повести, становится усадьба. По
определению Д.С. Лихачева1, Е.Е. Дмитриевой2, Е.П. Зыковой3 и др. современных
исследователей литературного контекста усадебной образности, усадьба, как и
сад, несла в себе идею синтеза различных временных рядов, словно бы
останавливала время. Попытку такого видения находим и в повествовании
Колосова. Так, земля Коломенского и Царицына до сих пор помнит шаги
Екатерины «на коврах зеленобархатных» (с. 51), т.е. на лужайках усадьбы. Гуляя
среди исторических мест, герой повести собирает впечатления подобно
своеобразному «гербарию» (мотив, восходящий к «Прогулкам одинокого
мечтателя» Руссо), что также наполняет размышления о прошлом субъективно эмоциональным содержанием.
Историческое в повести Колосова тесно переплетено с размышлениями о
сегодняшнем дне, прежде всего о правлении Александра I, изображение которого
благодаря подобному приему получает больший масштаб, позволяет выявить
сущность тех нравственных и политических «уроков», которые дает история. Так,
при посещении деревни Кожуховская, автор размышляет о неразрывной связи
сегодняшнего дня и великого славного прошлого: «Да устыдятся самих себя…
враги наши и,
повергшись в чистосердечном раскаянии к стопам венчанной
Кротости в образе Александра Первого, да научатся из младых премудрых уст
1 См.ж: Лихачев Д.С. Поэзия садов. Семантика садово-парковых стилей. Сад как текст. – СПб., 1991.
2 См.: Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мифа. – М., 2008.
3 См.: Зыкова Е.П. Поэма о сельской усадьбе в русской идиллической традиции // Миф. Пастораль. Утопия.
Литература в системе культуры. – М., 1998. – С. 58-71.
71
его сей высокой истине, что не война, а мир творит счастливыми человеков!»
(с. 49).
Таким образом, повесть Колосова вбирала в себя элементы не только
различных жанровых моделей «массовой» прозы рубежа XVIII-XIX вв., близких
сентиментализму,
но
сохраняла
рационально-нормативную
установку
на
дидактизм, а также неизбежную условность изображения истории, свойственную
классицистской традиции. Эклектичность позиции позволила Колосову-писателю
выстроить художественную модель прошлого, в которой сочетались бы
эмоционально-субьективное и дидактическое, личностное и «всеобщее» начала,
что и определило его своеобразное место в истории карамзинизма в русской
литературе начала XIX века.
Творчество Павла Юрьевича Львова (1770–1825) редко привлекало
внимание литературоведов1. В основном к нему проявляли интерес исследователи
Н.М. Карамзина и развития русского сентиментализма на рубеже
XVIII –
XIX вв.2.
Однако отношение
основоположников
сентиментальной поэтики в
России, Н.М. Карамзина и И.Д. Дмитриева, к литературным опытам Львова было
сложным и в целом отрицательным (так, Карамзин, называя Львова «львенком», в
письме к Дмитриеву утверждал, что главным несчастием его было «написать
«Памелу», «Храм бессмертия» и проч.»3). Поэтому Львов довольно скоро выпал
из круга писателей-карамзинистов, сблизившись с представителями «Беседы
любителей русского слова». Творческая эволюция писателя в направлении от
«новаторства» к «архаизму» в значительной мере объясняет и специфику жанра
исторической повести в его творчестве.
Как автор исторических повестей, Львов стремился, с одной стороны,
подобно карамзинским повестям «Наталья, боярская дочь» и «Марфа Посадница,
1 См., в частности, о нем: Орлов П.А. Русский сентиментализм. М., 1977.
С. 187-189; Царева В.П. Роман П.Ю.
Львова «Российская Памела…» // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. {Вып. 3}. Л., 1978. С. 50-56;
Пашкуров А.Н. Поздний русский сентиментализм: Диалог идиллического и элегического. – Казань, 2010. – 127 с.
2 См.: Кочеткова Н.Д. «Бедная Лиза» Карамзина и «Даша, деревенская девушка» П.Ю. Львова // От Карамзина до
Чехова. – Томск, 1992. – С. 8-12.
3 Карамзин Н.М. Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. – СПб., 1866. – С. 28.
72
или
Покорение
Новагорода»,
воспроизводить
чувства,
переживания,
эмоциональную жизнь людей прошлого, но, с другой стороны, автор стремится
насытить
свои
исторические
повести
поучительным,
дидактическим
содержанием, подчеркнуть значение патриотических мотивов в поведении своих
героев.
Так
сентименталистская
чувствительность
заменялась
более
рациональным началом; таким образом, Львов как автор исторических повестей
возвращается к основополагающим принципам литературы классицизма.
Ярким примером такой эволюции творческого метода писателя может
служить повесть «Боярин Матвеев» (1815) 1 , позднее включенная П.Ю. Львовым в
цикл
под названием «Достопамятные повествования о великих государях и
знаменитых боярах XVII века» (1821). Автор обращается здесь к той же
исторической эпохе, что освещалась в повести
Н.М. Карамзина «Наталья,
боярская дочь». Однако его интересует не глубокая эмоциональная жизнь русских
людей
той поры, а именно
патриотический «урок», который способна дать
потомкам судьба боярина Артамона Матвеева.
Любопытно, что, определяя цель своего повествования, автор в данном
случае обращается к разнородной аудитории: наряду с русскими людьми, которые
должны познавать историю своего отечества, писатель адресуется и к
иностранцам, суждения которых о России часто бывают однобокими и
неосновательными.
Львов
с
негодованием
и
прискорбием
пишет
об
оскорбительных суждениях иностранцев, будто бы Россия до XVIII века была во
мраке невежества и россияне были грубыми варварами. В связи с этим писатель
видит свою цель в том, чтобы раскрыть истину, обратившись к истории
древности, вспомнив о просвещении, мудрых законах, о победах в сражениях,
славных государях, богатстве разума и силе духа, доблести русского народа.
Львов убеждает читателей в том, что и до XVIII века в России были великие
люди, которые своими добродетелями даже превосходили чужеземцев, и
1 [Львов П.Ю.] Боярин Матвеев. Сочинение Павла Львова, ч лена императорской российской академии и Беседы
любителей русского слова. – СПб.: Типография Правительствующего сената, 18 15. – 36 с. Далее цитаты
приводятся по этому изданию.
73
приводит в пример одного из них – русского боярина Артамона Сергеевича
Матвеева. На примере его жизни, прославленной знаменитыми делами,
оставшимися в памяти потомства, Львов хочет опровергнуть ошибочные мнения
иностранцев о русских.
Подобная цель повествования, очевидно, обрела особое значение в пору
сразу после Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской
армии 1813-1814 гг. Львов-повествователь в своих художественных поисках
оказывается близок тем патриотическим настроениям, которые владели тогда
русским обществом, и таким образом историческая тема в его сознании
оказывается напрямую связана с современными чаяниями и надеждами – что в
целом соответствовало традиции исторических «применений» в поэтике
классицизма.
Автор обращается к XVII веку, к периоду
царствования Алексея
Михайловича, когда жил боярин Матвеев. Много полезных дел исполнил он для
общества, много совершил подвигов. По мысли Львова, боярин Матвеев соединил
в себе достоинства Сюлли, Кольбера, кардинала Ришелье, – столь значительные
исторические примеры становятся в повести не только средством характеристики
героя, но и подчеркивают своеобразную «вневременность» его деяний, которые
потому и способны стать для потомков уроком гражданственности.
Важнейшей составной частью этого «урока» становится патриотизм героя.
Матвеев посвятил себя служению отечеству, не тратя времени на странствования
по чужим землям, – с точки зрения Львова, это было одной из причин его
величия. Подобная мысль в повести явно оказывалась связана с традициями
критики галломании, унаследованной русской литературой начала XIX века от
русской сатиры века XVIII-го. Не случайно в повести поднимается вопрос
образования и воспитания. Перечислив многие заслуги Матвеева перед
Отечеством, автор задает вопрос, что сделало его таким, и сам отвечает: русское
воспитание, далекое от всех иностранных нововведений последующих веков:
74
«Боярин Матвеев доказал своим примером, что русское родительское воспитание
может достаточно наделять отечество великими людьми» (c. 26).
Развитие
сюжета
повести
подчинено
хронологическому
порядку
жизнеописания боярина. Из повести мы узнаем, что он был сыном вельможи, в
юности поступил на службу и прошел все чины, участвовал в походах, был на
приступах многих городов с полководцами и воеводами, победил Гетмана
Потоцкого, прогнал Хана Крымского. Во время, когда русские воины терпели
урон от неприятеля, Матвеев военным искусством спасал полки от гибели. Во
всех своих делах он проявлял быстроту ума и бодрость духа, «блистал повсюду
своими достойными удивления, дарованиями» (c. 10).
Он дослужился до
полковников и стольников, но в ратном сражении был изувечен: «кости его были
сокрушены и кровь его, как вода, пролита была за Царя и отечество» (c. 10). На
гражданской службе Матвеев также
был благодетелем отечества. Своей
мудростью и старанием он привел в подданство царю Алексею Михайловичу
Богдана Хмельницкого со всем его воинством, «обнимал своим неусыпным
созерцанием все вверенные его попечению области» (c. 11). Он пресекал все
возмущения в Коломенском, в Путивле, в Переяславле, предупреждал многие
напасти, везде водворял добро и порядок, благоразумием сумел сберечь много
денег царю, истребил самозванца. Боярин Матвеев спасал отечество от
злоумышлений врагов и бед. Именно он подверг сомнению мирный договор с
Польшей, и тем самым спас Россию от беды, своими суждениями обличил
шведского посла в неправде.
Львов отмечает, что именно боярин Матвеев был восстановителем величия
царского титла, чествовал царя в грамотах и письмах титлом величества, требовал
от всех послов Европы, чтоб они с благоговением входили в царский чертог. Он
заботился о благе отечества, составил три книги: описание вида, титла и печати
самодержцев России и государей других стран; об избрании на царство Михаила
Федоровича; описание побед, одержанных в разные времена российскими
князьями и царями. Монетный двор, порученный царем, он вывел из упадка и
75
обогатил царство серебряной монетой. Учредил заведения, выгодные царской
казне, доходы от которых использовал для украшения столицы, для мастерской
палаты и царского двора, на содержание приказов.
Львов пишет: «Боярин Матвеев обращает на себя удивление потомства со
всеобщим почтением; ибо к чести и славе времени своего и звания доказал он
приснопамятными отечеству заслугами, что может соделать в своей земле муж
ума глубокого и прозорливого, души твердой и великой» (c. 18), «дела его,
подражания достойные, изображают его благородной свойство» (c. 18-19).
«Боярин Матвеев был всегда блюститель истины и верный исполнитель
законов; строгий хранитель чистейшего благонравия и взыскательный судья
самого себя. Как в словах, так и в делах своих, всегда справедлив, скромен, точен,
одинаков. Он сохранил свойственную воину умеренность, искренность и
простоту в поступках. Он не терпел роскоши, ласкательства, надменности и
праздности. Самым постоянным трудолюбием занято было время его. Каждый
день, каждый час жизни его были драгоценны отечеству» (с. 19). На всех его
делах «изображалась печать мудрости». Он был «судьей правосудным и судьей
милосердным» (с. 20) и заслужил любовь народа своей доступностью,
приветливостью,
кротостью.
Матвеев
прославился
своей
щедростью,
хлебосольством и любовью к народу. Он помогал бедным и убогим, угощал
старцев, отличившихся почтением в народе. «Отечество имело в нем – сына
усердного, царь – друга верного, церковь – сущего христианина» (c. 25).
В конце своего повествования Львов задумывается о почтении русским
народом своего вельможи. Такие люди, как Матвеев, при жизни должны получать
награды, достойные их заслуг, считает автор. И Матвееву удалось дождаться
подобного признания: в знак любви и благодарности к боярину народ принес ему
драгоценные надгробные камни с гробов отцов и дедов своих для строительства
дома, не взяв денег и подарков взамен. Так был воздвигнут «чертог доблести»,
какого не было никогда и ни у кого.
76
«О великий муж! честь сынов России! твое жилище есть лучший памятник
заслуг твоих и превосходит все памятники, сколько их ни было на земном шаре»
(с. 35). Подвиг русского народа, по мнению Львова, и есть лучшее свидетельство
его великодушия.
Таким образом, определяющей особенностью творческой эволюции П.Ю.
Львова как автора исторических повествований может считаться движение к
дидактизму, развитие патриотических мотивов, стремление сочетать интерес к
личности с типично классицистической темой прославления государства и
государственности. Историзм Львова условный – в духе классицизма писатель
ищет в прошедших веках не «духа эпохи», а то, что сближает их с
современностью, в которой живут предполагаемые читатели. Художественная
неоднозначность исторического повествования Львова позволяет лучше понять
как специфику творческого метода самого писателя, так и богатство
и
разнообразие литературной ситуации рубежа XVIII – XIX вв.
Таким образом, развитие жанра исторической повести в русской
литературе рубежа XVIII-XIX вв. может рассматриваться как одна из
интереснейших страниц в истории отечественного предромантизма. Главным
итогом жанровой эволюции на этапе, непосредственно предшествовавшем
публикации «Истории государства российского» Н.М.Карамзина, была выработка
специфического предромантического историзма, предполагавшего не столько
историческую точность изображения деталей, сколько духовно-нравственную
оценку героев и событий (чему способствовало изображение определенных
«чувствительных»
историзма
сюжетов);
оказывается
изображения;
лиризм;
также
особая
важной
чертой
предромантического
субъективно-эмоциональная
характерный
условно-поэтический
окрашенность
«исторический»
колорит, узнаваемыми приемами создания которого бытии трансформированные
в «древнерусском» духе оссианические и готические мотивы.
При этом важнейшей задачей развития и предромантического историзма
как способа художественного изображения национального прошлого, и самого
77
жанра исторической повести было передать идею исторической связи,
исторического единства эпох. Особенностям ее художественного воплощения и
будет посвящена следующая глава работы.
78
Глава 2
ПРОБЛЕМЫ ЦИКЛИЗАЦИИ В СБОРНИКАХ ИСТОРИЧЕСКИХ
ПОВЕСТЕЙ КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА И ОСОБЕННОСТИ
ОТРАЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ АВТОРОВ
Развитие жанра русской исторической повести рубежа XVIII-XIXв. было
связано также с постепенным увеличением масштаба изображаемых событий,
широкого охвата действия. В связи с этим в творчестве целого ряда писателей,
обращавшихся в своих повестях к изображению истории, проявляется тенденция
к циклизации; по этой причине изучение циклов исторических повестей
представляется очень важным для характеристики как самого жанра, так и путей
его развития в русской литературе той поры.
Проблема циклизации не раз привлекала внимание литературоведов. В
работах М.Н. Дарвина 1 , Л.Н. Гареевой 2 , Л.Е. Ляпиной 3 , О.Г. Егоровой 4 , З.А.
Ветошкиной 5 , Н.Н. Старыгиной 6 , Е.Ю. Афониной 7 , А.С. Янушкевича 8 , С.В.
Нестеровой 9 и др.
рассматривались как теоретические, так и историко-
литературные аспекты этого художественного явления. А.Н. Веселовский в своей
работе «Три главы из Исторической поэтики» («Синкретизм древнейшей поэзии и
начало дифференциации поэтических родов») писал о том, что циклизация как
художественный феномен возникает уже в древнейшие времена,
1 См.:
когда
Дарвин М .Н. Художественная циклизация лирики // Теория литературы: в 3 т. Т. 3: Роды и жанры /
Основные проблемы в историческом освещении. – М., 2003.
2 См.: Гареева Л.Н. Вопросы теории цикла (лирического и прозаического) // « Стихо творения в прозе»
И.С.Тургенева: Вопросы поэтики. – Ижевск, 2004.
3 Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе в. СПб., 1999; ее же: Циклизация в русской литературе 1840-х - 60х гг: дис.... доктора фил. наук. – СПб., 1994. – 429 с.; ее же: Жанровая специфика литературного цикла как
проблема исторической поэтики // Проблемы исторической поэтики. Исследования и материалы: Межвуз. сб -к
науч. труд. - Петрозаводск, 1990. – С. 23-30. 181. Ляпина, Л.Е. Проблема лирического цикла и поэзия А.А.Фета
[Текст] / Л.Е. Ляпина // Материалы XXVII научной студенческой конференции. - Тарту, 1972. - С. 126-127.
4 Егорова О.Г. Проблема циклизации в русской прозе первой половины ХХ века. Астрахань, 2004.
5 Ветошкина З.А. Поэтический цикл как особая разновидность ху дожественного текста: диссер тация… канд.
филол. наук. – Краснодар, 2002.
6 Старыгина Н.Н. Проблема цикла в прозе Н.С.Лескова // Жанр и композиция художественного произведения.
Петрозаводск, 1984.
7 Афонина Е.Ю. Поэтика авторского прозаического цикла: диссертация … канд филол. наук. – Тверь, 2005.
8 Янушкевич А.С. Три эпо хи литературной циклизации: Бокаччо – Гофман – Гоголь // Вестник Томского
государственного университета. 2008. № 2 (3).
9 Нестерова С.В. Циклическое построение в малой эпической прозе: диссертация … канд. филол. наук. – Тверь,
2012.
79
объединение лиро-эпических песен по принципу «генеалогической циклизации»
позволяло певцу обобщить не только образы героев, но и общие принципы
мировосприятия племени: «идеал героизма, который естественно влиял на все
новое, входившее в кругозор песни: типы физической мощи и красоты, храбрости
и вежества, предательства и верности» 1.
Однако среди исследовательских работ, связанных с анализом циклизации,
преобладают исследования циклов в лирике А.С. Пушкина 2, Н.А. Некрасова, А.К.
Толстого, Н.П. Огарева, К.С. Случевского, А.А. Блока3 и мн. др. Среди работ же,
посвященных прозаическим циклам, большинство изучает судьбу цикла в прозе
начиная с 1820-х гг., практически – лишь с А. Погорельского, А.С. Пушкина и
А.А. Бестужева (Марлинского), а позднее – Н.В. Гоголя и В.Ф. Одоевского. Более
ранний период практически не привлекал внимания исследователей, а между тем
именно тогда писатели-прозаики в России, по сути, осваивали поэтику
прозаического цикла как особого явления в литературе, открывали его
художественные возможности.
Большинство ученых, определяя понятие «цикл», подчеркивает, что
главное для его определения – наличие нескольких общих признаков, которые
выделяются как с точки зрения формы, так и содержания. Важен для определения
сущности цикла и авторских замысел – по мысли М.Н. Дарвина, формирующий
т.н. «сильный», «авторский» цикл4, общность которого не вызывает сомнений.
Вызывает споры исследователей, как понимать цикл – как специфическую
жанровую форму или как «тип текстопостроения» 5 , особый «механизм»
объединения частей в составе целого. Так пишет о нем Л.Е. Ляпина: «цикл – тип
эстетического
целого,
представляющий
собой
ряд
самостоятельных
1 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 1989. – С. 209.
2 Дарвин М.Н., Тюпа В.И. Циклизация в творчестве Пушкина: опыт изучения поэтики конвергентного сознания. –
Новосибирск, 2001.
3 Фоменко И.В. Цикл стихотворений А.А. Блока «Пляски смерти»: заметки и интерпретации // Вопросы
романтического миропонимания, метода, жанра и стиля. – Калинин, 1986. – С. 70-79; Сапогов В.А. Поэтика
лирического цикла А.Блока: диссертация … канд. филол. наук. – М., 1967.
4 См.: Дарвин М.Н., Тюпа В.И. Циклизация в творчестве Пушкина: опыт изучения поэтики конвергентного
сознания. – Новосибирск, 2001. – С. 246.
5 Нестерова С.В. Циклическое построение в малой эпической прозе: диссертация … канд. фило л. наук. – Тверь,
2012. – С. 17.
80
произведений, <…> созданных одним автором и скомпонованных им в
определенную последовательность. Обладая всеми свойствами художественного
произведения, цикл обнаруживает специфику как герменевтическая структура
текстово-контекстной природы, включающая систему связей и отношений между
составляющими его произведениями»1. Ей вторит и С.В. Нестерова, видящая в
цикле «тип текстопостроения, механизм, образующий единый текст из контекста
самостоятельных произведений»2.
Это видение цикла, как представляется, оказалось актуальным для
стихотворных и прозаических произведений XIX в. начиная с 1820-х годов.
Материал русской исторической повести более раннего периода – конца XVIII –
начала XIX в. – показывает, что в произведениях этого ряда явление цикла носило
несколько иной характер: отдельные части в составе целого имели не столь
важное значение, и таким образом цикл тяготел
к тому, чтобы выступать в
качестве самостоятельного жанра (или жанровой разновидности) исторического
повествования. Причин этого было, по-видимому, несколько. На первом месте
оказывалось желание писателей следовать древнерусской традиции летописного
изображения истории, когда общее повествование строилось на основе отдельных
небольших летописных рассказов. Эта традиция стала известна благодаря
публикациям летописных источников в последнюю треть XVIII в., прежде всего в
составе «Древней российской вивлиофики» Н.И. Новикова 3 . Принцип
циклизации, подобной летописным рассказам, лежал и в основе исторических
сочинений XVIII в., прежде всего истории князя М.М. Щербатова, в «Записках
касательно российской истории» Екатерины II.
Циклизация, объединение
нескольких сравнительно небольших текстов в больший объем, соответствовало и
общему взгляду на историю, характерную для XVIII – начала XIX в., когда в
сознании писателей все большее значение приобретала идея философии истории,
1 Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX в. – СПб., 1999.
2 Нестерова С.В. Циклическое построение в малой эпической прозе:
– С. 4.
диссертация … канд. филол. наук. – Тверь,
2012. – С. 17.
3 Подробнее об этом см.: Насонов А.Н. История русского летописания XI – начала XVIII века. – М. 1969; Клосс
Б.М. Никоновский свод и русские летописи XVI-XVIII веков. – М. Языки русской культуры 2000 и др.
81
необходимости вносить общий смысл во внешне разрозненную череду фактов,
событий, исторических имен и т.п. И если в собственно исторических сочинениях
это внесение философического смысла нередко приводило к тому, что автор
подчинял свое повествование некоей схеме – прогресса, регресса, круговорота,
подобного модели Джамбаттиста Вико, и т.п., то в художественных исторических
циклах тема прошлого нередко развертывалась более органично. Форма цикла
передавала собственно идею связи истории – смысл же определялся духом
служения отечеству, патриотизма и полезного урока, который могли дать события
прошлого современникам.
2.1. «Храм славы российских героев» (1803) П.Ю. Львова как опыт
переходной формы цикла исторических повествований
Интересным опытом цикла исторических
повествований, созданных в
период конца XVIII – начала XIX в., стала книга П.Ю. Львова «Храм славы
российских героев» (1803). Как и другие сочинения Львова, эта книга
практически не привлекала внимания литературоведов. Однако ее анализ
представляет интерес как для характеристики творческих исканий писателя, так и
для анализа путей, которыми шло развитие исторического повествования на
рубеже XVIII-XIX вв.
«Храм славы…» Львова – необычное по своей структуре произведение, в
котором сочетаются черты цикла исторических повествований, аллегорической
повести (в духе масонско-дидактической литературы XVIII столетия), небольшие
исторические «портреты» великих героев прошлого, среди которых, в свою
очередь, выделяются несколько собственно повестей, превышающих портреты по
своему объему и таким образом представляющих
более развернутую
характеристику персонажей. Это произведение ярко показывает, насколько было
важным для циклов исторических произведений в то время объединяющее
начало: связывая отдельные тексты между собой, автор получал возможность,
82
благодаря самой форме цикла, представить более широкую историческую
панораму, передать само ощущение истории как единого, развивающегося
процесса, единой силы, что связывает между собой на первый взгляд
разрозненные имена и факты.
Оригинальность
сочинения
Львова
в
ряду
других
циклических
исторических повествований начала XIX в определяется тем, что в функции
художественной «рамы» цикла 1 у него оказалось не просто эмоциональнолирическое вступление – «камертон», настраивающий душу читателя на нужный
автору сочувственный лад, и не просто обращение к читателю, мотивирующее
структуру цикла. «Храм славы российских героев от времен Гостомысла до
царствования Романовых2 открывается развернутым вступлением, совмещающим
в себе черты эмоционально-лирического и дидактико-аллегорического, даже
мистического повествования.
В развернутом (с точки зрения современников писателя, даже растянутом,
излишне многословном3) вступлении самым подробным образом воссоздается та
ситуации, в которой начинается рассказ. Львов здесь воссоздает условия
рождения всякого творческого вдохновения, как их принято было оценивать в
теории XVIII в. – как сочетание рационального и эмоционального начала, труда и
творческого вдохновения, рождающегося в особом состоянии духа 4 .
Таким
условием в данном случае оказывается уединение, удаление от света, гармония
окружающей природы и ночь
как время особой душевной восприимчивости
человека 5 . Именно оно создает условия для творческого вдохновения,
обеспечивает саму возможность рождения текста, а значит – познания истории.
1 Подробнее об этом см.: Насонов А.И.
История русского летописания XI – начала XVIII века. – М. 1969
2 См.: Львов П.Ю. Храм славы российских героев от времен Гостомысла до царствования Романовых. – СПб., в
Императорской академии наук, 1803. Далее цитаты приводятся по этому изданию.
3 См. письмо Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву; Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриевую . – СПб., 1866. – С.28.
4 Подробнее об э том см.: Нико лаев С.И. Вдо хновение и творческий процесс в представлениях русских писателей
XVIII века [Текст] / С.И. Николаев // XVIII век. Сб. 25. – СПб., 1008. – С. 26–38.
5 Подробнее о значении ночи в размышлениях о творческом вдо хновении у Карамзина и писателейсентименталистов см.: Алпатова Т.А. Ночь в ряду универсалий русского сентиментализма (к проблеме
текстопорождающего по тенциала ночи в творчестве Н.М. Карамзина) // Универсалии русской литературы. –
Воронеж, 2011. – С. 104-118.
83
Автор начинает свой мысленный путь в прошлое «…в недрах сего
таинственного убежища, где может быть отзывалося когда-нибудь единственно
томное воздыхание первой любви» (I-II) 1 , в «мирном пристанище, от сует и
коловратности удаленном» (II). Его «поучительные размышления» направляет
само время; то в прошлое, то в будущее переносится его мысль «по
беспредельному
Царству
мечтания: то
носился
над
мрачными веками
давнобытности, то созидал чудесные миры гадательного блаженства» (II).
Прославление уединения в начале «Храма славы» - мотив, безусловно
свидетельствующий о сохранении глубинной связи Львова в его исторических
повествованиях
с
сентиментально-предромантической
поэтикой.
В
духе
карамзинской школы он восхищается здесь «тихой сенью уединения», само
воспоминание о которой «мило сердцу» человека. Именно уединение позволяет
ему освободиться от суетного света, дарует «лучшее богатство – мир с самим
собой» (IV), «превосходнейшие утехи – постепенное стяжание вездесущего добра,
являющегося в разнообразных произведениях щедрой природы» (IV).
Сами
исторические
размышления
сентиментально-предромантической
атмосфере
рассказчика
гармонии,
начинаются
покоя,
в
полного
слияния с природой. Как и многие другие писатели-карамзинисты, Львов здесь
обращается к образу вечера – времени особой восприимчивости души: «В один
ясный вечер, каковыми плодотворное лето украшает землю, сидя под ветвями
многолетних елей, нависших над прозрачною рекою, я читал книгу бытия (IV).
Последний образ здесь – переход от предметно-описательного к
аллегорическому плану рассказа. «Книга бытия» воспринимается и как некая
«книга» вообще, историческое сочинение, и как воплощение мудрости, некое
высшее знание об истории, открывающееся рассказчику (ср. также возникающий
в дальнейшем образ «театра света» (V), который также становится двуплановым).
Читая эту книгу, он постигает «произведения мира» и «деяния людей», видит
1 Принятая в книге Львова различная пагинация – римскими цифрами во вступлении и арабскими – в основной
части, по -видимому, подчеркивала особенности структуры издания, служило дополнительным средством выделить
вступление как очень важную часть, где выражалась основная мысль автора.
84
«начала возвышения Царств и причины падения их, ужасные перевороты, гибель
целых народов, расслабление сильных Монархий» (IV-V). Аллегорический
подтекст описания далее усиливается благодаря сравнению исторического
повествования с некоей «узорчатою тканью»: «великие мужи
блистали тут
подобно ярким цветам среди густоты теней».
Перечисляя отдельные исторические факты, Львов-повествователь как
будто выделяет для читателя отдельные нити, «цветы» на этой «ткани»; они в
первую очередь мрачны и вселяют в душу ощущение трагизма истории:
«крестовые походы», «изуверство», «предательства и измены», «Аристид в
изгнании», «Сократ в темнице» и т.д. Все это вселяет меланхолию в душу
рассказчика. Он не может оставаться равнодушным; предаваясь общему
движению истории, которая все глубже и глубже захватывает ее, он словно
отдается общему течению событий. На образном, аллегорическом уровне текста
это проявляется как образ пловца по бурному морю: «подобно мореплавателю,
окинувшему взором пространство океана и с волны на волну стремящемуся на
всех ветрилах к отеческому берегу, я преходил от народа к народу, от поколения к
поколению; следовал за победами то сих, то тех; странствовал из древнего
Вавилона к пресловутым Фивам и в ученые Афины из бранноносной Спарты к
гордым стенам Ромулова града, от падшей Капитолии в пышную Константинову
столицу…» (VII). И так сознание героя приносит его к древности Отечества – и
«начинают являться на поприще славы Российские Ирои; подобно древному
светилу, из облак выкатившемуся, сияют в веках прошедших» (VIII).
Появление российских героев в дальнейшем настраивает тональность
размышлений рассказчика на высокий, в первую очередь одический лад.
Появляются такие ключевые для оды понятия, как «восторг» (IX), «священный
ужас»
(XV), «доброгласная лира» (Х). Названное в связи с этим имя
«неподражаемого Ломоносова» (Х) позволяет Львову ввести в повествование
образы одического «парения» - особой душевной восприимчивости ко всему
великому и прекрасному.
85
Одический по своей природе восторг охватывает рассказчика. Это
происходит в особом состоянии между сном и бодрствованием – в «краткое время
неизреченного восхищения» и поистине «духовного существования»: «Внезапный
восторг объял меня всего; какая-то животворная теплота согрела грудь мою; я
млел в тихой радости, которая чужда шумной радости земной, а подобна
бальзамическому
дыханию
цветов,
носящемуся
по
зарям
утренним
и
освежающему чувства, она ободряла дух» (IX).
Этот фрагмент повествования Львов насыщает параллелями, в первую
очередь отсылающими к «высокой» литературной традиции, – оды и героической
поэмы. Сентиментально-предромантический колорит сменяется здесь высоким
классицистическим. В связи с этим и названо имя Ломоносова: «да глас мой,
подобно твоему сладкословию, пронесется в веки и воспламенит дух позднейших
потомков» (Х). Помимо параллелей с одами Ломоносова, читатель может угадать
здесь также реминисценции из стихотворений Г.Р.Державина, прежде всего
«Видения мурзы». Родственна уже сама исходная «лирическая ситуация» 1 , в
которой начинается повествование: вечер у Львова, ночь и сладкая задумчивость
– у лирического героя Дерожавина:
Сон томною своей рукою
Мечты различны рассыпал,
Кропя забвения росою,
Моих домашних усыплял;
Вокруг вся область почивала,
Петрополь с башнями дремал,
Нева из урны чуть мелькала,
Чуть Бельт в брегах своих сверкал <…>
Лишь веяли одни зефиры,
Прохладу чувствам принося.
Я не спал – и со звоном лиры
1 Подробнее об этом см.: Кузнецов И.С. Система лирических ситуаций в поэзии А.С. Пушкина. Диссер тация …
канд. филол. наук. – М., 1998.
86
Мой тихий голос раздался…1
У Львова «блеск лампады» (ХI), блеск «златого солнца и серебра луны»
(XII) (ср. у Державина: «На темно-голубом эфире // Златая плавала луна. // В
серебряной своей порфире, // Блистаючи с высот…») – все это сближает
нарисованную Львовым картину с популярным в начале XIX в. державинским
стихотворением. Но более всего объединяет их мотив сошествия с небес
чудесного божества. У Державина это – образ Фелицы – Екатерины, явившейся,
подобно Фемиде, как воплощение правосудия:
Виденье я узрел чудесно:
Сошла со облаков жена…
Исследователи, начиная с Я.К. Грота 2 , подробно рассматривали
интертекстуальные связи этой державинской картины – и с «программой» Н.А.
Львова, и с картиной Д.Г. Левицкого «Екатерина II в храме богини правосудия»,
которая была выставлена на всеобщее обозрение в доме графа Безбородко, и с
заметкой И.Ф. Богдановича, представлявшей
своеобразный «отчет» об этой
«выставке» и также содержащей описание картины – сошествия чудной
жены с облаков к людям.
П.Ю. Львов также выстраивает свое «видение» по похожей сюжетной
схеме,
заставляющей,
впрочем,
вспомнить
и другие чудесные видения
сверхъестественных существ в высокой поэзии классицизма (в частности, в оде
М.В. Ломоносова «На взятие Хотина»): «Раздался трубный глас; поколебалась
твердь; отверзлась превыспренная; тьмы миров, висящих на собственной тяжести
своей, горели как лампады в неизмеримом пространстве бесконечном и по
лествице, вдруг соорудившейся из рдяных облаков, <…> коей верх терялся в
неудобозримой отдаленности Эмпирея, а низ касался земли, сходила Богиня,
Царица всех времен; восхищающее душу имя ея: Слава» (XI).
Само видение Славы также строится с использованием узнаваемых
мотивов чудесных видений, характерных для произведений высокого стиля –
1 Державин Г.Р. Стихотворения.
– М., 2006. – С. 86.
с объяснительными примечаниями Я.К.Грота. – СПб., 1866. Т. 1.
2 См.: Державин Г.Р. Сочинения Державина
87
отсылку к ним дает сам П.Ю. Львов, указывая в качестве своеобразного
«источника» своих описаний «певца Энея» – Вергилия. «Ничто на свете краше,
величественнее, привлекательнее быть не может! Чем более она приближалась,
тем очаровательнее была ея волшебная красота; тем ярче блистали ея прелестные
взоры, воспаляющие сердца; тем возвышеннее соделывался рост ея. Улыбка,
смертным неведомая, приумножала любезность ея милый уст, и восторгом дарила
душу <…> Драгоценные перлы, сливаясь с ея русыми власами, возвышали их
красоту <…> Многоценные камни, как звезды, сияли на пышной груди ея» (XIXII).
Развитием аллегорической темы также становится описание существ,
окружающих богиню славы, – Патриотизм, Храбрость, Предприимчивость,
Победа, Законодательство; их окружают «толпы крылатых Гениев» (XIII); за
процессией следуют «никогда не стареющие Пиериды» - Музы, и само Время.
«Оно вело за собою тысящи и тьмы лет, исходящих целым рядом из
неудобопроницаемой внутренности небесной» (XIII).
Вообще, тема времени принципиально важна здесь для П.Ю. Львова как
писателя, обратившегося к истории. Его герой, встретив чудное божество – Славу,
размышляет об одном: как достичь ее, как быть ею избранным, – т.е., по
существу, как избежать «острой косы» времени, не исчезнуть в веках. И
дальнейшее развитие этого мотива на уровне аллегорических образов дает ответ
на эти вопросы.
Собственно, описание храма Славы и составляет основную часть
созданного П.Ю. Львовым историко-аллегорического цикла исторических
повествований. Оно состоит из нескольких частей: аллегорическое повествование
во введении описывает этот храм «символическим языком», а далее, в основной
части небольшие рассказы и повести развертывают перед читателем собственно
истории героев – Гостомысла, Рюрика, Олега, княгини Ольги, Святослава, князя
Владимира, Владимира Мономаха, Ивана Грозного и др.
88
Слава даруется лишь истинным героям – ни лесть современников, ни
пустые похвалы стихотворцев не могут сделать подлинно прославленным
недостойного человека. Размышляя об этом, Львов вводит в рассказ образ
«любомудрия» – исторической философии, которая «тщательно исследует самые
дела, источник оных и истинное достоинство бесстрастно отделяет от ухищрений
и высокомерия» (XXI). Доказательством того, что не все правители заслуживают
истинной славы, становится преддверие храма – «юдоль вечныя клятвы» (т.е.
проклятия), места, где лежат упавшие в руины плоды недостойных дел.
Вообще стремление П.Ю. Львова подробно описывать, структурировать
аллегорическое пространство сближает его здесь с традицией масонских
аллегорических произведений, в которых путь героя к познанию некоей истины
развертывался в особом пространстве, где он шел от чего-то «недостойного» к
«истинной мудрости». Таковы, по мнению исследователей В.И. Сахарова1, Т.В.
Артемьевой2, Т.А. Алпатовой3 и др., странствия героя в прозе М.М. Хераскова,
особенно
странствия Кадма в романе «Кадм и Гармония». Это было
своеобразным воскрешением мотива путешествия как посвящения4. Своеобразие
повествования П.Ю. Львова в данном случае – это статика описания: и
«негативный», и «позитивный» топосы – «место клятвы (проклятия)», и «место
славы» оказываются в одном и том же храме, герою не нужно преодолевать
какие-то трудности и испытания, мудрость приходит к нему как бы сама собой –
через созерцание предметов, развернутых в достаточно пространном описании.
В пределе «недостойных» славы доминантой этого описания оказывается
хаос – «сцепление различных предметов», смешанных как попало – символ
бессмысленности, суетности человеческих стремлений: «Я увидел тут тысящи
знамен, под коими несметные легионы сражалися для того токмо, чтоб титул
1 Сахаров В.И. Масонская проза: история и поэтика // Сахаров В.И. Иероглифы вольных каменщиков. Масонство и
русская литература XVIII – первой половины XIX века. – М., 2000. – С. 86-90.
От славного прошлого к светлому будущему: Философия истории и утопия в России эпо хи
Просвещения. – СПб., 2005. – С. 383-384.
3 См.: А лпатова Т.А. «Письма русского пу тешественника» Н.М.Карамзина и традиция аллегорического романапутешествия // Восьмые международные Виноградовские чтения. Проблемы истории и теории литературы и
фольклора. Материалы конференции 23-25 марта 2004 г. – М., 2004. – С. 228-252.
4 О его фольклорных истоках см.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – М., 2000.
2 Артемьева Т.В.
89
одного владыки был высокопарнее другого. <…> Груды копей, мечей, бердышей
и утварей жертвенных, ржавчиною точимых <…> Свитки папира с Эллинскими и
Латинскими письменами уничтожалися на рассыпающихся камнях, едва носящих
знаки Египетских Иероглифов…» (XXV-XXVI).
В противоположность этому описанию, храм славы истинной поражает
прежде всего порядком, разумностью, органичностью устройства. В нем также
находится множество предметов – «утвари царей, богатырские брони, златыя
гривны бояр, гражданские и победительские венты, лиры, весы, кормила
кораблей, орудия звездочетов, ваятелей, строителей, орудия земледельческие»
(XVIII-XXIX), но «все сии вещи, расположенные по порядку, соблюдены были
рачительно». Это дары Судьбы, которые даются человеку при рождении, потому
что истинная слава даруется тому, кто был полезен людям и сумел тщательно
исполнить свой долг. Львов в духе поэтики классицизма предлагает читателю
нравственный урок: истинная слава бывает не следствием «громких» деяний
правителя, вельможи или военачальника. Для того, чтобы ее заслужить,
«потребны действие, труд, пожертвование собственным благом благу общему»
(XVII). Главный урок, который читатель должен вынести из этой части
произведения: «Одна деятельная добродетель ведет к бессмертью!».
Развитием и доказательством этой мысли становится в цикле Львова как
раз цепочка небольших исторических зарисовок, рассказов и повестей, каждая из
которых представляет характеристику определенной исторической личности в
истории России. Это как бы описание памятника ему – причем вначале это
действительно описания
неких воображаемых монументов («Гостомысл»,
«Рюрик», «Олег», «Ольга» и т.д.), затем же повествования становятся
пространнее и действительно приближаются к небольшим повестям.
Их спецификой остается статичность – общая черта всего цикла «Храм
славы». «Сюжетом» выступает собственно авторская концепция исторической
роли того или иного персонажа – что в его деятельности оказалось самым
важным, какую роль в истории России он сыграл. Так, у Иоанна Великого (Ивана
90
Калиты) это объединение российских земель, у Иоанна Второго (Ивана Грозного)
– обновление прежней и созидание новой славы Отечества. «Взор Иоанна был яр
и прекрасен, строг и полон благочестия; добропобедное мужество, дальновидная
мудрость, щедрота, словом: вообще преизящное совершенство даров великого
духа являли в нем паче бога, нежели человека, и наводили священный ужас» (3536). Львов старается подчеркнуть именно положительные качества российских
правителей. Повествуя об истории правления Ивана Грозного, он особое
внимание обращает на те трудности, что пришлось преодолевать царю уже в
юности: «раздоры,
происки,
домогательства,
смуты
между
Боярами
и
Царедворцами; подобно зверям хищным, раздраженныя, состязующиеся за
добычу, они восставали друг на друга» (с. 39). Иоанну удалось остановить эти
бесчинства, и в этом, с точки зрения Львова, состоит его главное величие.
Здесь
автор
высказывает
историко-философскую
концепцию,
опирающуюся на идеи Ш.-Л.Монтескье, крайне популярные в политической
мысли Европы XVIII-XIX в.1. Самое разрушительное для государства, с точки
зрения философа, –
отсутствие единой власти, когда множество вельмож,
руководимых лишь своими злыми страстями, разрушают страну. Иоанн как
правитель сумел остановить эти раздоры: «Не самовластие, а сила закона блюдет
царства: добрые вельможи – твердые столпы его; честные нравы их – оплот
общего блага» (с. 40).
П.Ю. Львов перечисляет деяния, за которые Иоанн удостаивается
памятника: это не только установление единой власти в государстве, но и
покорение Казани, завоевание Сибири. Иоанн «подъял … из бездны зол,
возобновил и возвеличил» (с. 54) Россию. Автор видит Иоанна также
просветителем своей страны – в годы его царствования в Россию приходят
1 Подробнее об этом см.: Макогоненко Г.П. Из истории формирования историзма в русской литературе // XVIII
век. Сб. 15. Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII – начало ХIХ в. – Л., 1981. – С. 7, 15-16;
Алпатова Т.А. А.П. Сумароков и Ш.-Л. Монтескье (к вопросу о генезисе по литической концепции трагедии
«Димитрий Самозванец») // Творчество А.П. Сумарокова в контексте мировой литературы: Сборник научных
работ, подготовленный по материалам конференции, посвящённой творчеству А.П. Сумарокова (17 декабря 2008
года) / Отв. ред. С.Н. Травников. – М., 2009. – С. 37-50.
91
«Науки и Художества», начинается книгопечатание, устанавливаются торговые и
дипломатические контакты с другими странами, создается регулярная армия.
В духе идей классицизма П.Ю. Львов осуждает Иоанна за «необузданность
страстей» в яростном поражении врагов (имея в виду судьбу Новгорода): «Если
на Западе была Варфоломеевская ночь, то можно сказать, что и на севере был
Иоаннов день» (с. 60). Однако Слава «не дозволяет» долго смотреть на
изображение трагедий Иоаннова царствования. Для П.Ю. Львова важно главное:
«Се Царь, Ирой, спаситель от бед и строгий отец России!» (с. 960). Эта надпись –
и есть воплощение квинтэссенции исторической оценки царя в глазах автор
повести.
В целом «Храм славы…» П.Ю. Львова, несмотря на отрицательные
отзывы современников, можно рассматривать как достаточно оригинальный опыт
соединения
различных
предромантической
литературных
интонации,
традиций
отчетливо
–
от
звучащей
в
сентиментальносамом
начале
произведения, к типичной для классицизма, более того, высоких жанров, прежде
всего оды. Таким образом, созданный Львовым цикл исторических повествований
демонстрировал переход от сентиментально-предромантической, «казамзинской»
линии построения исторической повести к более дидактичному повествованию.
Художественным средством, которое позволило бы сделать эту дидактику более
органичной для выражения авторской мысли, становится у писателя аллегория –
это безусловно сближало цикл П.Ю. Львова с литературной традицией XVIII в. и
вносило в его книгу черты классицизма. Можно сказать, что сама важность,
величие, «высокость» исторического предмета в данном случае обусловили
возвращение писателя к традиции, более или менее сознательную «архаизацию»
повествования. Пути преодоления этой архаизации развивались в творчестве
других писателей – Г.В. Геракова и В.Т. Нарежного, которым и будут посвящены
последующие параграфы настоящей главы.
92
2.2. Особенности осмысления истории в книге Г.В. Геракова
«Твердость духа русских»
Гавриил
Васильевич Гераков
общества «Беседа любителей
(1775–1838) – педагог,
русского
писатель, член
слова», практически не был изучен
в литературоведении и как писатель оказался забытым.
Более или менее развернутые характеристики творчества Г.В. Геракова
можно найти лишь в энциклопедических словарях, однако и в них, как правило,
даются лишь общие, и в основном негативные оценки личности и таланту автора.
Так, в Биографическом
Г.В.
Геракова: «Его
словаре
дана
следующая
многочисленные сочинения,
оценка
творчеству
проникнутые
квасным
патриотизмом и дурного тона менторством, служили предметом насмешек со
стороны публики и журналистов. Благодаря его “благожелательному” доносу не
было разрешено цензурным ведомством второе издание “Опыта о просвещении”
И.П. Пнина, чтобы не “разгорячать умы” и не “воспалять страсти”. Единственная
его услуга литературе – точное установление дат пребывания Пушкина в 1820 г.
на Кавказе и в Крыму; случайно там оказался в то время и Г.В. Гераков, занесший
встречу с Пушкиным и Раевским в свои “Путевые записки” (1828–1830)». В
Энциклопедическом словаре
Ф.А. Брокгауза
и И.А. Ефрона Г.В. Геракова
характеризуют как «автора многих бездарных историческо-анекдотических
творений в ультрапатриотическом духе», который давал обильную пищу
насмешкам и причинял большие неприятности журналистам, отказывавшимся
помещать его статьи». Наиболее подробная и объективная характеристика
творчества и жизненного пути Геракова дана А.О. Толстихиной в словаре
«Русские
писатели
1800-1917
гг.»;
«верноподданнический наивный патриотизм»
исследовательница
отмечает
автора и «снисходительно-
ироническое» отношение современников к его сочинениям 1 . Единственное
исследование, посвященное путевым запискам Геракова, принадлежит перу Н.Н.
1 Толстихина А.О. Г.В. Гераков // Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. – М ., 1989. Т. 1. –
540.
93
С. 539-
Тарховой и связано не столько с характеристикой творческой индивидуальности
писателя, сколько с установлением фактов биографии А.С. Пушкина; Гераков как
писатель
и
человек
остается
здесь
практически
вне
внимания
исследовательницы1.
Г.В. Гераков, уроженец Москвы, родился в 1775 году. Он был сыном грека
из Мореи,
воспитывался в основанном при Екатерине II Греческом корпусе
(Гимназии для иностранных единоверцев). После окончания образования Г.В.
Гераков долго был учителем истории в Первом Кадетском корпусе и в частных
домах Петербурга, потом служил обер-прокурором Сената. Начиная с 1800-х
годов Г.В. Гераковым был опубликован целый ряд исторических произведений:
«Герои русские за 400 лет» (СПб., 1801), «Для добрых. Сочинения и переводы в
двух частях» (СПб., 1801), «Князь Меньшиков, любопытный исторический
отрывок» (СПб., 1801), «Вечера молодого Грека» (СПб., 1802), «Слава женского
пола» (СПб., 1803), «Твердость духа русских» (СПб., 1803), «Краткая всеобщая
история до Рождества Христова» (СПб., 1806), «Чувства верноподданного,
излившиеся при получении манифеста о милиции 30-го ноября 1806 года» (СПб.,
1807), «Достопримечательные происшествия в российской истории с рождения
Петра Великого до кончины его» (СПб., 1807), «Нравоучительные изречения
древних и новых философов в пользу юношества» (СПб., 1807), «Героиня
славянского поколения» (СПб., 1807) и мн. др.
Центральной темой творчества Г.В. Геракова стала героическое прошлое.
Его труд отражает рост национального самосознания народа, воспитывает в
русских людях чувство гордости и патриотического долга. Он
призывает к
доброй памяти о героических событиях и людях, прославивших свою родину.
Свои нравственные принципы он обозначает в небольшом авторском
предисловии к книге первой: «Вера, усердие к Государю, дух Русский, любовь к
добродетели,
благорастворенный
воздух,
гостеприимство
патриархальных
1 См.: Тар хова Н.Н. Интригующий по дтекст «скучной книги»: «Пу тевые записки» Г.В. Геракова как источник для
биографии А.С. Пушкина // Библиофилы России. – М., 2011. Т.8. – С.393-409.
94
времен, благосклонность дружеская ободрение достоинств, покой сердца,
здравие, разговоры с невинностию, веселие должное, внимание к человеку.
Удаление зла, невежества, – словом, вечное услаждение воспламеняли более и
более дух мой писать дела некоторых Россиян»1. Автор здесь обозначает главный
моральный итог своего сочинения: оно научило его самого «улыбаться
непостоянству слепого счастия, переносить с твердостию несправедливости и
быть готову равнодушно, с теплою верою к Творцу расставаться с телом и
возлететь духом к … Зиждителю всяческих» 2.
Автор в целом трактует историю в духе классицизма – как моральнонравственный урок, который должны искать в прошлом современники. Прошлое
при таком подходе – некий «монумент времен грядущих, когда может быть люди
быв справедливее воздадут достойное – достойным» 3 . Однако, в отличие от
писателей-классицистов XVIII века,
содержится
только
в
которые полагали, что героическое
высоком, величественном
и
великолепном,
Г.В. Гераков находит героизм и в простом и обыденном, в поступках простых
людей. По мысли писателя, человек, даже в самом низком состоянии, может быть
замечен и войти в историю, если он одарен способностями служить на благо
Отечеству: «История свидетельствует, что многие великие мужи, прославившиеся
во всех родах служением отечеству и соделавшие имена свои бессмертными,
произошли от самого низкого состояния» 4 . Отчасти его высокая оценка Петра
определяется именно тем, что этот государь «умел находить подобных людей,
образовывать и приуготовить способности оных себе и отечеству на пользу» 5. Для
Геракова история России представляется как героическая история народа,
сохранившего свою независимость и самобытность, несмотря на препятствия и
многочисленные войны.
1 Гераков Г.В. Твердость духа русских. Книга 1. –
Пг., 1813.
2 Там же.
3 Там же. – С. 4. Здесь и далее в цитатах – курсив Г.В. Геракова.
4 Там же. – С. 69.
5 Там же. – С. 70.
95
Произведение Г.В. Геракова «Твердость духа русских» представляет
собой цикл повестей в трех книгах, каждая из которых – собрание отдельных глав
о героях России, поступки которых достойны памяти и уважения потомков. Здесь
Гераков ставит своей задачей воспитание патриотических чувств на примерах
героического прошлого.
Книга ориентирована на широкий круг читателей: как
избранных, обладающих особым литературным вкусом, так и простых людей,
которые, прочитав её, могли найти похожие образы, ситуации и применить их к
своей жизни.
Автор пишет о людях разных должностей и званий, объединенных
чувством мужества, смелости, преданности родине, готовых на всё ради ее блага.
Он восславляет и
известных
И.К. Нарышкин, А.В. Суворов,
исторических
личностей,
таких
как
Дмитрий Донской, граф А.Г. Орлов, князь
Долгоруков, Д.И. Ржевский, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, фельдмаршал П.Б.
Миних, и малоизвестных людей, память о которых навсегда останется в сердцах
потомков: адмирале Г.А. Спиридове и Ильине, капитане Секерине, полковнике
Парфентьеве, купце Иголкине, унтер-офицере Старичкове, поручике Мигданове,
мастере Гурьеве и других. Иногда Г.В. Гераков сознательно выстраивает ряд
персонажей в отдельных повестях цикла таким образом, чтобы помимо
известных, исторических личностей там действовали бы и люди простые, а то и
вовсе безымянные. Такова повесть «Дмитрий Донской, Эвдокия <так!>, Захар
Тютчев, Боброков, монах Пересвет и Русские» (часть 1). Именно «русские» - весь
народ, по мнению автора, решает участь Мамая, определяет исход Куликовской
битвы: «Для спасения Отечества единодушно все желали победы или смерти» 1.
В книге сложно уловить единый композиционный план; довольно четко в
ней прослеживается лишь историко-дидактическая установка, связанная с
мотивом единства личности монарха и народа, в совокупности составляющих
основу
существования
самого
государства.
Первая
книга
открывается
посвящением императору Александру I, вторая – своеобразным эпиграфом,
1 Гераков Г.В. Твердость духа русских. Книга 1. – Пг., 1813. – С. 51.
96
адресованным верноподданному читателю: «Кто любит Государя своего и
Отечество, тот готов и может достигнуть бессмертной славы» 1 . Примером
подобной бессмертной славы, заслужить которую удалось подвигом во имя
государя и отечества, становится история Ивана Сусанина, которой и открывается
третья книга.
В самом начале своего повествования Г.В. Гераков говорит, кого можно
назвать истинным героем, слава которого не будет забыта в веках. Это «человек,
жертвующий жизнью своею благу Отечества, тот, который умирает с
бесстрашием, для того, что смерть его может переменить дела ужасные,
волнующие внутри Отечество, тот, которого жизнь нужна для искупления
бедствий, водворившихся в государстве, и он,
зная судьбу свою, в восторге
умирает, претерпев все ужасы злодеяния, восстановляет тишину, отраду рода
человеческого, прекращает крамолы и готовит счастье соотечественникам»2. По
мнению писателя, именно такой герой «воздвигнет алтарь благодарности в память
непоколебимого духа своего» 3 . Автор определяет также специфику своего
исторического подхода: он основывается не только на требованиях разума, но и
сердца, история России для него – любимое занятие, и ему очень больно оттого,
что среди современников мало кто интересуется ею. Гераков подчеркивает, что в
поисках примеров патриотических подвигов россиян он исследовал славянские
«были
и небылицы», русские летописи; ему жаль тех, кто знает историю,
начиная лишь со времен Петра и Екатерины, забывая о
древности.
летописях русской
Г.В. Гераков опровергает тех людей, что не способны увидеть в
русских летописях истинно интересных, увлекательных и трогательных картин; в
духе предромантического историзма он утверждает, что именно обретение
подобных примеров и является истинной целью всякого, кто пишет об истории:
«Пусть мучат меня многие, твердя, что летописи Русские преисполнены
1 Твердость духа русских. Гавриил Гераков. Книжка вторая.
– Пг., . В Типографии Военного Министерства, 1813.
2 Твердость ду ха русских. Гавриил Гераков. Книжка первая. – Пг., . В Типографии Военного Министерства, 1813. –
С.1
3 Там же. – С.2
97
пустяками чудесными; я всегда читать с терпением буду их <…> и снова щастлив
буду, вскричав подобно Коломбу: берег! берег!»1.
Несмотря на то, что в последовательности отдельных фрагментов книги
отсутствует хронологический или иной четко выраженный принцип, тем не менее
отдельные фрагменты, из которых состоит историко-публицистический труд Г.В.
Геракова, тяготеют к определенным смысловым центрам, неким моральноисторическим истинам, которые автор стремится проиллюстрировать для своего
читателя.
Центральный сквозной мотив книги – прославление готовности героя
пренебречь собственными страданиями и даже жизнью, сознавая, что это
необходимо для блага Отечества: «Человек, посвятивший себя на защиту
Отечества оружием, есть благороднейший и почтеннейший», «Умереть или
победить, было и будет законом каждого русского воина» 2.
Таким для Геракова уже в начале первой книги становится пример Ивана
Кирилловича Нарышкина, который обращается с речью к стрельцам: «Я уже
готов умереть, дай Бог, чтобы смерть моя прекратила возмущение; делайте со
мной, что хотите» 3.
Интересно, что
параллельно
основному повествованию о героях,
поставленных в центр событий, в цикле «Твердость духа русских» автор дает
характеристики их прославленным современникам, в частности, царям. Таково
размышление о Петре в повести «Нарышкин»: уже в детстве будущий царь
показывает «взор быстрый», «остроту ума», «величественные движения» – в нем
«пребывает дух, который токмо к царствованию создан»4. Яркие портреты даются
также и другим правителям – мудрому и дальновидному Федору, который сумел
угадать в Петре будущего великого правителя России, «разумной, хитрой и
прекраснейшей» царевны Софье и т.п.
1 Гераков Г.В. Твердость духа русских. – Пг., 1813.
Ч. 1. – С. 35.
2 Там же. – С. 25
3 Твердость ду ха русских. Гавриил Гераков. Книжка первая. – Пг., . В Типографии Военного Министерства, 1813.
С. 8
4 Гераков Г.В. Твердость духа русских. Книга 1. – Пг., 1813. – С. 6-7.
98
–
Характеризуя своих героев, Г.В. Гераков часто прибегает к прямой речи,
всякий раз вкладывая в их уста высокие слова, делая персонажей выразителями
идей самоотверженности, готовности погибнуть ради ближних, ради Отечества.
Условность историзма, проявлявшаяся при использовании этого приема,
выразилась прежде всего в том, что каждый из героев, независимо от того, когда,
в какую именно эпоху он жил, говорил о нравственных и политических
проблемах, актуальных для исторического сознания рубежа XVIII-XIX вв.,
выражая характерное для этой эпохи понимание героики в духе неоклассицизма1.
Таков, например, диалог царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной с ее братом,
Иваном Кирилловичем, который хочет добровольно выйти к взбунтовавшимся
стрельцам и таким образом, ценой своей жизни, «спасти Отечество от бедствий»2.
«Иди, любезный брат <…> иди умереть Отечество спасая да тем изобличить
клеветников, врагов Царю, Отечеству и роду нашему!» 3.
«Неоклассицистская» позиция Г.В. Геракова как автора в «Твердости духа
русских» оказалась отчасти обусловлена и его греческим происхождением. Он
неоднократно подчеркивает, что хотя не является русским по рождению, но
Россия стала для него «вторым Отечеством» 4 , здесь он «возрос, образован …
русскими», и потому слава и доблесть русских героев не оставляют его
равнодушным. Собственно, свое греческое происхождение Г.В. Гераков не раз
обыгрывает,
чтобы
более
живо
и
естественно
представить
ставшие
традиционными уподобления российских героев древним грекам и римлянам –
Децию, Курцию, Муцию Сцеволе и т.п.
Гераков
воспевает
известных
героев,
преимущественно
недавнего
прошлого. Так, в первой книге он обращается к личности А.В. Суворова, его
подвигам, пишет, что тот «ознаменовал царствование императора Павла I и
1 Подробнее
об этом см.: Михайлов А.В. Античность как идеал и ку льтурная реальность XVIII – XIX в. //
Михайлов А.В. Языки ку льтуры. – М., 1997. – С. 509; Кибальник С.А. Русская антоло гическая поэзия первой
половины XIX в. – Л., 1990; Кнабе Г.С. Русская античность. Со держание, роль и судьба античного наследия в
культуре России. – М ., 2000; Турчин В.С. Александр I и неоклассицизм в России. Стиль империи и империя как
стиль. – М., 2002; Касаткина В.Н. Предромантизм в русской лирике. К.Н. Батюшков. Н.И. Гнедич. – М., 1997; ее
же: Поэзия гражданского подвига. Литературная деятельность декабристов. – М., 1987.
2 Гераков Г.В. Твердость духа русских. – Пг., 1813. Ч. 1. – С. 11.
3 Там же. – С. 12.
4 Там же. – С. 21.
99
обессмертил имя свое и россиян»1. Отдельная глава книги посвящена Дмитрию
Донскому, который взошел на престол «как солнце после мрака и страшной
непогоды, мужества и великодушия преисполненный» 2.
«Слава не умирает, но поколение поколению, со слезами благословляя,
передаст имена великих мужей»3, – пишет автор, рассказывая о Чесменском
бое, во время
которого
прославились
граф
А.Г. Орлов, адмирал Г.А.
Спиридов и Ильин: «слава пронесла имя непобедимых россиян, потрясла
Оттоманскую Порту, и обессмертила сим Великую Екатерину» 4.
Одна из глав книги посвящена фельдмаршалу Б.К. Миниху,
который
«своими заслугами, непоколебимостью, ко благу нового своего Отечества,
заслужил имя русского»5. Во время правления Елизаветы, находясь в ссылке в
течение 20 лет, он не оставался без дела: он сочинял, писал об управлении
российскими провинциями и посылал свои записки в Сенат, занимался обучением
других и возвращен из заточения был лишь Петром III.
Обращаясь к 1612 году, автор пишет о Пожарском и Минине,
освободителях России от поляков, «заслуживших бессмертие». «Великие люди»,
Пожарский и Минин, «бессмертные мужи», Гермоген и Философов и
Костромской поселянин Сусанин
заслуживают монументы в память о себе.
Автор с сожалением пишет о том, что все только говорят об этом, а памятников,
воздвигнутых этим героям, до сих пор нет.
Г.В. Гераков уверен в том, что монументы нужны, так как люди, проходя,
останавливаются, узнают, проливают слезы в память подвигов, стремятся сами
достигнуть чести. И сам он проходит мимо памятников Марсу Русскому, А.В.
Суворову, П.А. Румянцеву, льет слезы, чтит подвиги их, он желает быть
полезным человечеству.
1 Гераков
Г.В. Твердость духа русских. – Пг., 1813. Ч. 1. – С. 15
2 Там же. – С.33
3 Там же. – С.49
4 Там же. – С.68
5 Там же.
– С. 69
100
Важной
совершивших
темой книги становится
подвиги во
имя
прославление
верности
и любви
великих
женщин,
к Отечеству.
Это
соответствовало общему духу сентиментально-предромантического понимания
героизма как прежде всего основанного на живом чувстве, наилучшим
воплощением которого и была женщина (вспомним повесть Н.М. Карамзина
«Марфа Посадница, или Покорение Новагорода»). Гераков также обращается
женским образам в истории
к
России. Евпраксия (глава «Князь Рязанский
Теодор и супруга его Евпраксия») для Г.В. Геракова – русская героиня, пример
супружеской
верности.
Это
соответствует
«чувствительной»
установке
повествования – не случайно автор называет Евпраксию «моя героиня», она
«всегда пребудет памятна в душах чувствительных»1. Рассказчик старается живо
передать страдания княгини Евпраксии, и тем самым возбудить сочувствие у
читателя: «княгиня Эвпраксия <так!> едва вступившая в двадцатую весну жизни
своей, повержена лежит вся окровавленна, вздоха нет, померк свет в ея светлоголубых очах, погас светильник ее жизни <…> лежит разбитая на острых камнях
у подошвы высокого терема, держа в объятиях двухлетнего Иоанна <…>
младенец мертв, но обхватился ручонками в круг белой шеи матери своей» 2.
Изобразив ужасную картину, повествователь далее вновь возвращается к
предыстории – событиям, которые предшествовали завоеванию Батыем Рязани.
Ему важно понять причины поступка княгини. В трактовке рассказчика, она
следует за убитым супругом,
понимая, что «позорная
любовь
тирана
кровожадного» невозможна для истинной россиянки. «Вот пример супружеской
верности», – восклицает повествователь.
Обращаясь к древности, автор рассказывает о храбрых, неустрашимых,
мужественных женщинах, Амазонках-Славянках, «героинях брани» и о царице
Марпезии, готовых отомстить за смерть своих мужей. Они взяли под свое иго
Армению, Галатию, Сирию, часть Персии, другие азиатские области, строили
города и крепости, учреждали общества, «удивляли всех своею мудростию и
1 Гераков
Г.В. Твердость духа русских. – Пг., 1813. Ч. 1. – С. 24
2 Там же. – С. 28-29.
101
мужеством»1. Они обращаются к облакам во время битвы, природа помогала им
побеждать, «небо склонялось – они побеждали». Чем больше препятствий
встречали они, тем больше мужества проявляли на дела великие.
Примером душевного благородства истинно великой женской души видит
повествователь и историю «добродетельной Барсуковой». Эта смелая женщина
нашла в себе силы отвергнуть ухаживания Петра (в трактовке Г.В. Геракова, они
были то ли попыткой «испытать добродетель» прекрасной хозяйки, то ли он
действительно пленился «ее милыми приятностями»). Прекрасная женщина «с
открытым, непорочным лицом» 2 , смело бросает в лицо монарху: «Я никак не
воображала,
чтоб
Государь,
долженствующий
собою
подавать
пример
добродетели подданным, сделать мог толь порочное предложение» 3 . Вновь
прямая речь оказывается выражением чувства, более присущего читателю в его
эпоху; однако, по мысли Г.В. Геракова, такие неизбежные анахронизмы придают
большую силу воздействия повествованию.
Важным художественным приемом, позволяющим достичь сходного
эффекта, становятся в книге Г.В. Геракова прямые обращения к читателю.
Рассказчик призывает их к сочувствию, стремится пробудить воображение и тем
самым вызвать живой эмоциональный отклик в сердцах. Он не сомневается, что
сострадание соотечественникам в бедствиях, восхищение подвигами героев
всегда волнует людей – именно это обеспечивает эмоциональную возможность
познавать историю не только разумом, но и сердцем, и главное – такая
способность чувствовать себя почти современником великих времен понастоящему обеспечивает национальное единство всего народа.
Так, рассказывая читателям о завоевании Батыем Рязани, Гераков
восклицает: «Отвратите! – отвратите взоры свои, Боже! какое зрелище в
Рязани!» 4 . То, что было поначалу лишь риторическим восклицанием, далее
развертывается в живую картину, которая не может оставить равнодушными
1 Гераков Г.В. Твердость духа русских. – Пг., 1813.
Ч. 1. – С. 43
С. 83.
3 Там же. – С. 83.
4 Гераков Г.В. Твердость духа русских. – Пг., 1813. Ч. 1. – С. 27.
2 Там же. –
102
истинно русские сердца: «со всех сторон народ толпится, бежит, волнуется
подобно страшной буре, со стоном тяжким вопиет, там старцы, мужи, дети с
отчаянием в душах; там жены, девы, престарелые, с растрепанными волосами,
вздыхают, подъемлют руки к небесам…» 1 и т.п.
Г.В. Гераков с любовью пишет о России, называя ее «любезная моя
родина».
Особой, сквозной темой в книге «Твердость духа русских» становится
размышление об образовании и просвещении. Причиной этого, по-видимому,
стали как педагогические занятия автора, так и общий настрой того времени,
когда создавалось его историческое сочинение. События войны 1812 года стали
причиной кризиса традиционных представлений о характере воспитания,
ориентированного главным образом на подражание иностранным образцам.
Критикой подобных воспитательных принципов пронизаны как литературные
произведения той поры («Горе от ума» А.С. Грибоедова и др.), так и частные
письма (К.Н. Батюшков) 2 , публицистические выступления современников.
Гераков,
размышляя
об
образовании
и
воспитании,
не
отрицает
их
необходимости, однако отмечает, что лишь «благое воспитание ведет в храм
славы; истинное образование возвышает душу и научает, как быть полезным
человечеству; оно
нам влагает великодушие…» 3 (глава «Русский солдат при
Петре Великом»). По мысли автора, «тот только просвещен, кто любит свою
родину, повинуется своему Государю, выполняет в точности обязанности свои,
имея в предмете пользу Отечества, Государя, ближнего»4. Г.В. Гераков пишет о
необходимости просвещения для каждого человека любого пола и звания. По
мнению автора, образованный и здравый ум делает жизнь счастливой.
Частым предметом описания в книге Г.В. Геракова становятся подвиги
простых людей, которые таким образом оказываются для автора примерами не
1 Там же. –
С. 27
этом см.: Аношкина В.Н. Дружелюбное обаяние поэта // Батюшков К.Н. К другу. Избранные
произведения и письма. – М., 2007. – С. 40-43
3 Гераков Г.В. Твердость духа русских. – Пг., 1813. Ч. 1. – С.77
4 Там же. – С. 66
2 Подробнее об
103
только истинной верности Отечеству, героизма и самоотверженности, но и
подлинной личностной самостоятельности, внутренней красоты. Таков в его
описании некий новогородский купец Иголкин – образец верности своему царю.
Сидя в тюрьме у шведов, услышав однажды, как солдаты бранили Петра, Иголкин
не выдерживает и убивает их. После он признается в содеянном, нисколько не
жалея об этом. Карл XII, узнав о случившемся, был очень удивлен и со словами:
«В столь грубом народе, столь великий человек!» 1 , – возвращает его Петру,
который
щедро вознаградил Иголкина деньгами и домом в Новгороде за
проявленную верность и героизм.
«Любовь к Отечеству и верность к Государю своему равняет людей» 2, –
так начинает Г.В. Гераков главу «Старичков и Чуйка при Александре I». Унтерофицер Старичков до конца жизни своей хранил знамя своего полка и перед
смертью передал это знамя рядовому Чуйке, умоляя его беречь и доставить
своему полку. Чуйка всё сделал, как сказал Старичков, за что получил
вознаграждение
от
императора
Александра.
«Мужество
соединенное
с
решимостью есть совершенство твердости духа» 3 , – пишет автор в главе про
бомбардира Федотова при Александре I, прославившегося во время шведской
войны тем, что спас людей, взяв ящик с боевыми снарядами и паклей,
предотвратив тем самым взрыв. Многие великие, прославившиеся служением
Отечеству, произошли от самого низкого сословия. Таков был солдат Румянцев,
заслуги которого были велики,
душа «преисполненная твердостию явно
показывала любовь чрезмерную к Отечеству и Государю своему» 4.
Г.В. Гераков в своей книге славит не только отдельных героев, но весь
русский народ, говоря о нем как о «великом, единственном в мире по доблестям
душевным!»5. Автор жалеет о том, что сам не участвует в подвигах против
Бонапарта в войне 1812 года, и в то же время он испытывает гордость, что есть
1 Г.В. Твердость духа русских.
– Пг., 1813. Ч. 1. – С. 95
– С. 98
3 Там же. – С. 21
4 Твердость ду ха русских. Гавриил Гераков. Книжка третья. – Пг., . В Типографии Военного Министерства, 1814
года. – С. 75.
5 Твердость ду ха русских. Гавриил Гераков. Книжка третья. – Пг., . В Типографии Военного Министерства, 1814
года. – С. 124
2 Там же.
104
люди, готовые сразиться на ратном поле. Таких людей, проливающих свою кровь
за Отечество, он признает лучше, полезнее себя и счастливее, хоть
они
и
находятся всегда перед лицом смерти. Автор призывает их «принести
благодарение Творцу за поприще самое блестящее, поприще, прямо к вечной
славе ведущее» 1 , «меч правдою извлеченный на коварного врага самим Богом
благословляется», «Бог благословляет успехами тот народ, который, держась
свято присяги своей, любит в Императоре Отечество, а в Отечестве Государя
своего»2. Писатель говорит о преданном императору М.И. Кутузове, которому
он поручил начальствовать над пятьюдесятью тысячами русских, «сыне брани,
внимательном сподвижнике великого
А.В. Суворова, бесстрашном князе
Багратионе» 3 , о храбром Милорадовиче. «Везде, где проходили Российские
войска, в странах иноземных, везде оставляли следы благости, дружбы и
сокрушение в сердцах, своим редким устройством, своею честью» 4. Французов он
противопоставляет русским: «на каждом шагу знаки варварства; везде слышен
вопль несчастных, везде видны следы опустошения, везде ужасные следствия их
пребывания…» 5 .
Именно Бородинскому сражению обязана Россия славными
последствиями.
В
завершении автор приводит слова Д.П. Трощинского:
«Пала Москва; но опершись на Князя Кутузова, устояла Россия» 6 .
В конце
первой книги Г.В. Гераков пишет: «Где есть Бог, где ещё сохраняются нравы
предков, и где народ крестится большим крестом, любит своего Государя,
помазанника Божия: туда не советую вторгаться никому, дабы не испытать участи
Бонапартьевой – и его бесчисленных войск» 7.
Размышляя об исторических личностях прошлого, Г.В. Гераков выделяет
мотив истинного и ложного величия, и соответственно, доброй памяти и суда
потомства. В связи с этой мыслью в книге появляется образ А.Д. Меньшикова.
1 Там же. –
С. 125
С.126
3 Там же. – С.132
4 Твердость ду ха русских. Гавриил Гераков. Книжка первая. – Пг., . В Типографии Военного Министерства. 1813.
– С.133
5 Там же. – С.133
6 Там же. – С. 144
7 Там же. – С.144-145
2 Там же. –
105
Ему посвящена большая часть второй книги. Автор показывает его путь от
молодого пирожника, замеченного Петром,
до глубокомысленного политика,
неустрашимого воина, искусного полководца и наконец, до упадка и ссылки. Г.В.
Гераков говорит о том, что «жизнь Меньшикова может послужить поучительным
примером надменным и несправедливым, что рано или поздно наказание следует
за человеком, забывшим тленность свою, и что он также может подпасть участи
бедственной, как и бедный и немочный» 1.
Говоря о личных качествах князя Меньшикова, Г.В. Гераков пишет, что он
любил своего Государя и Отечество, был милостив и учтив к россиянам и
иностранцам, ласков к тем, кто ниже его, храбр, честолюбив. Отмечает он и его
пороки: скупость и мщение врагам, суровость и грубость в обращении. Однако в
трактовке Геракова опала Меньшикова становится земной расплатой за ошибки и
преступления, им содеянные, и ведет героя к покаянию и душевному
возрождению. Перед смертью А.Д. Меньшиков обращается к своим детям со
словами, что смерть не страшна ему, умирая в ссылке, он уверен «в
беспредельном милосердии и правосудии Божьем» 2.
Последняя глава третьей книги называется «Чувства русского»,
в ней
автор обращается к русскому народу, благородному народу: «Тебе ли, народ
избранный, не чувствовать, величия своего!» 3 .
Много несчастий пережило
отечество, и Гераков хочет «возобновить в душах» людей память о бедах, которые
постигли Россию, «воспламенить дух» народа, «воскрилить парение душ к
великому, славному».
Писатель вновь обращается к героям, Пожарскому и Минину. Он отмечает
отличительную черту русского дворянства в древности, заключающуюся в том,
что «оно всегда, с возвышенными чувствами, готово было разделять славу и
1 Твердость ду ха русских. Гавриил Гераков. Книжка вторая. – Пг., . В Типографии Военного Министерства,
1813.
– С.126-127
2 Там же. – С.125
3 Твердос ть ду ха русских. Гавриил Гераков. Книжка третья. – Пг., . В Типо графии Военного Министерства, 1814.
– С.102
106
опасность с опытными Полководцами своими» 1 . Возвращаясь к настоящему,
автор говорит, что чувства эти одушевляют все сословия. «Каждый гордится, нося
на себе имя Русского» 2 . Ничто не может препятствовать
русским
людям
сражаться с врагами и если надо – умереть на поле славы. Г.В. Гераков говорит,
что русский народ готов на деле доказать любовь к Отечеству, они стремятся
выполнять веления своего Государя Александра, готовы жертвовать всем ради
родины, «кипит кровь каждого Русского – у него в душе Бог, Отечество,
Государь, слава и победа» 3.
Завершает третью книгу Г.В. Гераков датой «18 июля 1812 года»
строчками из трагедии «Пожарской» М. Крюковского: «Да пепл родимых стен
потомству возвестит, Что славу Росс свою всех выше благ ценит» 4.
В третьей книге есть отрывок из письма Г.В. Геракова другу,
датированный 8 октября 1812 года. Душа автора в восторге, что он «предузнал
гибель Бонапартию», и с «восхищением передает сии строки потомству» 5.
Д.В. Давыдов, прочитав сочинение Г.В. Геракова, написал в 1814 году:
Гераков! прочитал твоё я сочиненье,
Оно утешило моё уединенье;
Я несколько часов им душу восхищал:
Приятно видеть в нём, что сердцу благородно,
Что пылкий дух любви к отечеству внушал, —
Ты чтишь отечество, и русскому то сродно:
Он ею славу, честь, бессмертие достал6.
Книга Г.В. Геракова «Твердость духа русских» – интересный пример
взаимодействия различных литературных тенденций своего времени. В ней
переплелись морально-дидактический пафос классицизма и сентиментальная
1 Твердость ду ха русских. Гавриил Гераков. Книжка третья. – Пг., . В Типографии Военного Министерства,
С. 110
2 Там же. – С.110-111
3 Там же. – С.112
4 Там же. – С.114
5 Там же. – С.119
6 Давыдов Д. Стихотворения. Москва: «Советская Россия», 1979.
107
1814. –
чувствительность в обращении автора к «любезному отечеству» – России,
официальная публицистическая риторика и попытка исследовать исторические
факты и документы, размышления о великих людях и «незаметных героях»
истории. В целом сочинение писателя представляет собой яркий образец
малоизученной массовой литературы периода войны 1812 года, сделавшей
историческую тему глубоко закономерной для всей русской словесности той
поры.
2.3. Тема героев прошлого в сборнике исторических повестей В.Т.
Нарежного «Славенские вечера»
Русская литература начала XIX века представляла собой разнообразие
литературных течений, направлений, жанров, имен. В этот период продолжают
творить классицисты, развивается сентиментальная литература, нравственнодидактическая сатира, возникает и утверждается романтизм. В литературе
появляются новые имена. Немалую роль играют и скромные талантливые
писатели. Они
находят новые пути в литературе, по которым впоследствии
пойдут их современники. Одним из таких писателей, чье творчество внесло
своеобразный вклад в русскую литературу первой четверти XIX века,
был
Василий Трофимович Нарежный.
Творчество
В.Т.
Нарежного
не
раз
было
предметом
интереса
литературоведов, начиная с В.Г. Белинского, который в обзоре «Русская
литература в 1841 году» назвал Нарежного первым русским романистом.
«Романистов было много, а романов мало, и между романистами совершенно
забыт их родоначальник Нарежный... В 1824 году он издал “Бурсака”, а в 1825 –
“Два Ивана”, романы, запечатленные талантом, оригинальностию, комизмом,
верностию действительности» 1.
1 В.Г. Белинский. Собр соч. в 9-ти т. т. 1. – М., 1976.
– С.317
108
Однако
и
в
приведенном
отзыве
критика,
и
в
последующих
исследовательских трудах с именем Нарежного в первую очередь связывалось
создание русского романа (см. работы В.Ф. Переверзева, П. Михеда, Л.И.
Рублевой, Н. Шахмагонова и мн. др.).
«Славенским вечерам» внимания
уделялось значительно меньше, т.к. исследователи видели в них лишь
подражание карамзинскому типу исторического повествования, не находили
«подлинного» историзма, «предреалистического» видения действительности,
и
потому либо осуждали Нарежного за эту художественную «слабость» его
произведения, либо старались найти в нем черты более характерного для
писательского творчества жанрово-стилевого типа – романа1.
Сама судьба словно подталкивала Нарежного к тому, чтобы молодой
писатель сразу обратился к исторической теме. В 1799 году В.Т. Нарежный
был зачислен студентом на философский факультет. В университете В.Т.
Нарежный
познакомился
и
подружился
критиками А. Ф. Мерзляковым,
Андреем
Тургеневым.
А. Ф.
с будущими
Воейковым,
писателями
В. П.
и
Вронченко,
А. Тургенев в 1797–1800 годах возглавлял
университетский литературный кружок, на заседаниях которого обсуждались
вопросы теории изящных искусств. На базе этого кружка в 1801 году было
организовано «Дружеское литературное общество», сыгравшее важную роль в
распространении романтической эстетики. Активное
литературного
кружка,
участие
в
работе
возглавляемого А. Тургеневым, принимал и В.Т.
Нарежный. В своем дневнике А. Тургенев рассказывает о горячих спорах,
которые велись в то время вокруг трагедии Ф. Шиллера «Разбойники». Эти споры
потом отзовутся в драме В.Т. Нарежного «Дмитрий Самозванец».
Ко времени учебы в гимназии и университете относится формирование
литературных
интересов
будущего
писателя.
Он
внимательно
изучает
произведения М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, Г.Р.
1 Так, например, цикл «Славенские вечера» В.Т. Нарежного называет романом Г.В. Арбузова, см.: Арбузова Г.В.
Пространственно-временные характеристики в романе В.Т. Нарежного « Славенские вечера» // Проблемы языковой
картины мира на современном этапе. – Нижний Новгород, 2010. – С. 8-11.
109
Державина,
знакомится с
античной и западноевропейской литературой,
увлекается сочинениями просветителей: Вольтера, Дидро, Руссо и Шиллера.
К этому времени относится и начало его писательской деятельности. В.Т.
Нарежный
выделялся среди своих сверстников литературным дарованием,
вскоре его имя начинает встречаться на страницах популярных московских
журналов.
То, что первые произведения В.Т. Нарежного написаны в жанрах
историко-героической поэмы и трагедии, не случайно. Тяготение молодого автора
к этим жанрам во многом объяснялось данью литературной традиции, ибо
героическая поэма и трагедия занимали важное место в русской литературе конца
XVIII века. Но главное, пожалуй, в том, что они отвечали литературным вкусам,
литературной атмосфере, которые характеризовали университетскую среду.
Нарежный и его товарищи увлекались лекциями преподавателя университета
И.А.
Сохацкого, читавшего греческую и латинскую
словесность
и
пропагандировавшего эстетику и искусство классицизма. Одновременно И.А.
Сохацкий
являлся и редактором университетских журналов
«Приятное и
полезное препровождение времени» и «Иппокрена, или Утехи любословия», на
страницах которых в 1798 году увидели свет первые произведения В.Т.
Нарежного – историко-героические поэмы «Брега Альты» и «Освобожденная
Москва». Они встретили сочувственный отклик у членов Вольного общества
любителей словесности, наук и художеств – известных деятелей
литературы
А.X. Востокова, А.Е. Измайлова, Ф.П. Вронченко 1.
Обращение В.Т. Нарежного в своих первых произведениях к исторической
тематике отражало и общий интерес русского образованного общества к
национальному прошлому России, возникший еще в середине XVIII века.
В 1803 году В.Т. Нарежный переезжает в Петербург и поступает на службу
в Экспедицию государственного хозяйства Министерства внутренних дел. В 1809
году он публикует первую часть «Славенских вечеров», над которыми работал в
1 Подробнее об этом см.: Шахмагонов Н.Ф. Первый русский романист // Нарежный В.Т. Славенские вечера. –
1990. – С. 9-25.
110
М.,
1806–1808 годах. Написанные ритмизованной прозой, «Славенские вечера» стали
значительным достижением русского предромантизма в области исторической
прозы, хотя поэтика «Славенских вечеров» и отдельные образы во многом еще
обусловлены влиянием поэзии Оссиана.
Повествование ведется от лица автора, который «наслаждается красотой
земли и неба великолепием, обращаясь к истории земли Славеновой» 1.
«Славенские вечера» – это цикл повестей, объединенных единым идейнотематическим содержанием. В.Т. Нарежный в дальнейшем дополнял «Славенские
вечера» новыми повестями. Полное издание «Славенских вечеров» увидело свет
уже после смерти писателя, в 1826 году.
Основными источниками,
на
которые В.Т. Нарежный опирался при
создании «Славенских вечеров», были «История Российская от древнейших
времен» М.М. Татищева, русские летописи, Библия, «Слово о полку Игореве»,
сборник исторических песен Кирши Данилова2.
Повествование построено в форме 12 вечеров, каждый из которых имеет
свое название, заключающее в себе историческое имя: Кий и Дулеб, Славен,
Рогдай, Велесил, Громобой, Ирена, Мирослав, Михаил, Любослав, Игорь.
В понимании историзма в литературе В.Т. Нарежный шел в русле
своего времени 3 . Заимствования из исторических источников носят частный
характер и практически не связаны с сюжетом повестей, который во многом
является вымыслом художника. В.Т. Нарежный чаще всего пользуется лишь
историческими
названиями
славянских
племен,
языческой
мифологией,
отдельными реальными ситуациями (осада печенегами Белгорода, убийство
Святополком братьев Бориса, Глеба и Святослава, мученическая смерть князя
Михаила Черниговского в Золотой Орде и т.п.).
1 Нарежный В.Т.
Славенские вечера. – М.: Правда, 1990. – С. 27.
Л.И. Проблема «человек и ис тория» в прозе В.Т.Нарежного // Филоло гический журнал. – ЮжноСахалинск, 2004. Вып. 12. – С. 18-21.
3 Подробнее об этом см.: подробнее об этом см.: Федосеева Т.В. « Славенские вечера» В.Т. Нарежного в контексте
предромантического осмысления ду ховно-нравственного пути народа // Забытые и малоизвестные писатели как
феномен русской культуры. – Елабуга, 2009. Вып. 1. – С. 59-70.
2 Рублева
111
В.Т. Нарежный использует и библейский сюжет. Так, рассказ Добромысла
о спасении Россом своего народа построен на аналогии с ветхозаветным
повествованием о выводе пророком Моисеем еврейского народа из Египта и
расселении его в «земле обетованной», указанной Богом.
В цикле повестей, вошедших в «Славенские вечера», можно выделить
несколько тематических групп. Первые две повести «Кий и Дулеб» и «Славен»
связаны с далеким прошлым, истоками Руси, посвящены событиям истории
Древней Руси. Все исторические реалии этих повестей сводятся к названию
племен и их легендарных вождей, зафиксированных летописью. Воображение
В.Т. Нарежного рисует добродетельность Кия и Славена, их заботу о судьбах
народа и страны.
В основу характеристики главных героев, согласно
художественным принципам классицизма, положен принцип контраста. Мудрому
правителю Кию, князю Полянскому, основателю города Киева, «гению древних
полян»,
все дела которого проникнуты заботой о судьбе своего народа,
противопоставлен мрачный, лютый и гордый Дулеб, «бурный вождь и князь
свирепых племен». Дулеб «упивался кровью пленных», Кий же «поучал народы
свои познавать богов и чтить их веления», он «открывал им таинства», «он
говорил – и тысячи мнили видеть в лице его юное некое божество, мудрое и
благодетельное» 1.
Во втором Вечере добродетельному поборнику мира и согласия Славену
противопоставляется любитель кровавых браней Радимир. Автор обращается к
воспоминаниям «ратных и великих подвигов предков». Князь Славен и князь
Радимир, князь берегов варяжских, «положил славу в кровопролитиях и утехи
свои в хищениях» (с. 36).
Следующие четыре повести («Рогдай», «Велесил», «Громобой», «Вечер
VI») рассказывают о временах Киевской Руси, о киевских богатырях времен
Владимира Святославовича, их преданности князю и Русской земле.
1 Нарежный В.Т.
Славенские вечера. – М.: Правда, 1990. – С. 27. Далее цитируется это издание.
112
В повести «Рогдай» В.Т. Нарежный воспользовался лишь самим фактом
осады Белгорода печенегами в 997 году, отраженным в летописном сказании.
События же, о которых идет речь в повести, никак не связаны с сюжетом
летописного рассказа, а навеяны героикой русского былевого эпоса и авторской
фантазией.
В центре повествования – Рогдай с оруженосцем Слотаном и «грозный»
Буйслав, «хищный, подобно тигру ливийскому, неукротимому, подобно буре» (с.
39).
Писатель не стремится к точному изложению событий, а показывает
величие патриотизма защитников земли русской, их стойкость и мужество.
Патриотическая идея повести раскрывается в словах Рогдая, обращенных к
печенегам: «не отважу жизни своей для сребра и злата; и последнюю каплю ее
ценю дороже богатств
всего света. Единственно отечеству посвящена жизнь
витязя земли Русской – для него только проливается кровь его» (с. 40).
Повесть
«Велесил»
представляет
собой психологическую
новеллу,
рассказывающую о неразделенной любви мужественного и благородного
русского витязя
к похищенной им во время одного из походов прекрасной
гречанке Софии. Сюжет повести вымышлен и только приурочен к эпохе
княжения
Владимира
Святославовича,
на
что
указывает упоминание о
междоусобных распрях между Ярополком и Олегом, Ярополком и Владимиром 1.
Со своеобразным сочетанием исторических фактов и художественного
вымысла сталкиваемся мы в повести «Мирослав». Опираясь на исторические
данные, В.Т. Нарежный верно передает атмосферу распрей между сыновьями
Владимира, обрисовывает характер Святополка, коварного убийцы своих братьев
Бориса и Глеба. Конфликт повести основан на соперничестве Святополка
и
Святослава в любви к Исмении. Возникновение, развитие и завершение
1 Подробнее о специфике изображения исторических характеров в цикле Нарежного см.: Киселев В.С. Концепция
личности в цикле В.Т. Нарежного « Славенские вечера» // Вестник Томского государственного педагогического
университета. – Томск, 2004. Вып. 3. – С. 27-32; его же: Жанровые модификации конф ликта в « Славенских
вечерах» В.Т. Нарежного // Вестник Томского государственного педагогического университета. – Томск, 2005.
Вып. 6. – С. 23-27.
113
этого конфликта является художественным вымыслом автора. Однако подобная
организация сюжетного повествования помогла В.Т. Нарежному исторически
верно обрисовать характер Святополка.
Повесть «Любослав», также вошедшая позднее в «Славенские вечера»,
была написана в обстановке роста национального самосознания и национально патриотического подъема, вызванных Отечественной войной 1812 года. В.Т.
Нарежный
поднимает
здесь
важную
для
своего
времени
проблему
государственной власти, призывает к мудрости государственного управления.
Обращаясь к историческому прошлому,
молодого туровского
князя
В.Т. Нарежный повествует о судьбе
Любослава, который
в мирное время жаждет
военной славы, совершает набеги на соседние земли, ввергает свой народ в
бессмысленные кровопролития. Автор словами праведного пустынножителя,
Иоила приводит читателя к пониманию, «что не в победах бранных, не в
торжествах кровавых, не в имени завоевателя приобретается счастье владык
земли» (с. 106), а в мудром правлении и в заботах о всеобщем благе. Слова
пророка звучат как наставление свыше, призыв к совершению добрых поступков,
о которых останутся воспоминания у потомков спустя века.
Как и большинство современников, В.Т. Нарежный видит в отечественной
истории средство воспитания гражданских добродетелей и патриотической
гордости. Вдохновенно повествуя «о подвигах ратных предков наших», писатель
не ограничивается прославлением мужества, стойкости духа и величия
защитников Русской земли, он говорит и о красоте и искренности чувств наших
предков, осуждает тиранию и жестокость, прославляет государственную
мудрость.
Следует подробнее рассмотреть те мотивы и особенности поэтики
произведения, которые объединяют «Славенские вечера» в цикл.
Прежде всего в этом ряду необходимо отметить вступление к циклу,
приуроченное к событиям современности. Оно настраивает читателя на общий
исторический колорит произведения, так и на особую тональность повествования
114
– размеренного, уравновешенного, словно бы гармонирующего с общей
атмосферой природы – «при склонении солнца багряного с неба светлого в волны
румяные», «в тени дерев высоких» (с. 25).
Исследователи отмечали особое значение для В.Т. Нарежного здесь мотива
«вечера» 1 , в какой-то степени сближающего этот цикл Нарежного с будущими
«Вечерами на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя2. Мотив вечера становится не
только указанием на время действия, но определяет саму ситуацию «рождения»
текста 3 . Вечер – время отдыха и успокоения, вносящий мир и покой в душу
человека, проникнутый меланхолией (вспомним элегию В.А. Жуковского
«Вечер»), но в то же время и чувством светлой печали, более живым ощущением
открытости души ко всем впечатлениям бытия.
Делая
вечер в своем произведении ситуацией, которая рождает
повествование («при закате солнца летнего в воды тихие» будут юноши и девы
внимать «пению» рассказчика», с. 26), В.Т. Нарежный преодолевает опасность
впасть в излишний дидактизм, изначально делая рассказ о «подвигах ратных
предков наших и любезности дев земли Славеновой» (с. 26) в первую очередь
эмоциональным, проникнутым «кротким упоением души» (с. 25) автора.
«Видел я страны чуждые и красоты земель отдаленных; видел
весну
цветнее, видел лето блистательнее, видел осень обильнее благословениями полей
и вертоградов, нежели в стране нашей; но нигде не видел я старцев почтеннее,
мужей величественнее, юношей любезнее и дев прекраснее, как в земле
Славеновой» (с. 25).
Таким образом, уже в начале «Славенских вечеров» обозначена специфика
предромантического историзма в них как ориентация на психологическое,
См.: Ваенская Е.Ю. « Славенские вечера» В.Т. Нарежного (К проблеме жанра «Вечеров») // Классика и
современность. – Архангельск, 2003. Вып. 2. – С. 30-37.
2 Рублева Л.И. Нарежный и Гоголь // Фило логический журнал. – Южно-Сахалинск, 2010, Вып. 17. – С. 15-21;
Вокин М.Р. Мо тив богатырства в «Славенских вечерах» В.Т. Нарежного и в «Тарасе Бульбе» Н.В. Гог оля //
Забытые и второстепенные писатели XVII-XIX вв. как явление европейской культурной жизни. – Псков, 2002. Т. 1.
– С. 247-253.
3 Анализ схо дного по функциям мотива ночи в творчестве Н.М. Карамзина, мотивирующего временем суток
особенности повествования, см.: Алпатова Т.А. Ночь в ряду универсалий русского сентиментализма (к проблеме
текстопорождающего потенциала ночи в творчестве Н.М. Карамзина) // Универсалии русской литературы. 2. Воронеж, 2011. – С. 104-118.
1
115
«человеческое» содержание произведений. И именно осмысление нравственных
феноменов в повестях, включенных в цикл, становится основой их учительного,
дидактического содержания.
В первом вечере «Кий и Дулеб» осмысливается нравственный феномен
человечности правителя, соотношения в нем силы и мудрости 1.
Образ
Кия
здесь,
по-видимому,
мог
для
читателей
ассоциироваться с размышлениями М.М.Хераскова о
Нарежного
правителе-человеке,
правителе-реформаторе, который несет своим подданным не только справедливые
законы, но учит их мудрости и человечности (таковы правители в романах
М.М. Хераскова «Нума, или Процветающий Рим», «Кадм и Гармония»,
«Полидор, сын Кадма и Гармонии»)2. Герой Нарежного, Кий – не просто князь и
основатель Киева; его правление санкционировано богами, и потому он способен
нести людям истинную мудрость.
Кий как правитель оказывается в то же время и главным жрецом
Перуновым. Он показан читателям «у подножия
храма… окруженным
старейшинами и оруженосцами, сопровождаемым вождями племен чуждых,
покорившихся законам Киевым» (с. 27) Кий – «вдохновенный божеством,
соприсутственным месту тому» – именно в храме Перуна, «на возвышенном
холме», осуществляет свою главную задачу в роли правителя: «Кий поучал
народы свои познавать богов и чтить их веления. Он открывал им таинства, как
земля, изрытая плугом, принимая в себя семена сельные, отдает их с лихвой
своему попечителю. Он научил их, как крепкие сосны, падшие под острием
секиры, быв соединены вервием, носятся по волнам днепровским и служат
человеку способом сообщаться со странами, отдаленными от него волнами
глубокими. Он говорил – и тысячи мнили видеть в лице его юное некое божество,
мудрое и благодетельное» (с. 27).
1 Ср.
трактовку изображения героев в ст.: Грихин В.А. Проблематика и особенности поэтики « Славенских
вечеров» В.Т. Нарежного // Филологические науки. 1986. № 1. – С. 72-75.
2 Подробнее эта проблема рассматривается в статьях Т.В. Артемьевой и Т.А. Алпатовой см.: Артемьева Т.В. От
славного прошлого к светлому будущему: Философия истории и у топия в России эпо хи Просвещения. – СПб.,
2005. – С. 383-384; Алпатова Т.А. Проза Н.М. Карамзина: поэтика повествования. – М., 2012. – С. 89-115.
116
Противостояние Кия и Дулеба, заложенное уже в названии повести,
развертывается и на всем протяжении повествования: и внешность героев, и их
отношения к своим подданным, и главное, их душевные качества оказываются
противоположны. Мудрости Кия противопоставляется сила и гордость Дулеба,
опорой одного из героев является Белый Дух (Белобог), второго же – грозный и
страшный Черный Дух, который «утешается бедствием и преступлением
человеков» 1 . И после смерти Дулеб остается мрачным, пугающим: «Часто в
бурную ночь, когда ветры потрясали в корне дерева… когда молнии, рассекая
небо, и громы, рыкая на вершинах гор, приводили в трепет неустрашимых
странников, когда месяц, едва мерцая сквозь тучи свинцовые, бледно посеребрял
крылья их быстротекущие, – часто ловцы зверей и странные витязи видели, как
дух Дулебов в виде столба огненного грозно носился над вместилищем праха
своего, опершись на облака громовые» (с. 31).
Как и во всех предромантических повестях с исторической тематикой,
здесь присутствуют оссианические мотивы. Они воплощены в первую очередь в
пейзаже – причем своеобразие поэтики В.Т. Нарежного в воспроизведении
исторического
колорита
сказалось
в
особом
характере
использования
перифрастических образов. Автор выстраивает цепочки перифраз, заменяя
красочными сравнениями, уподоблениями примелькавшиеся общеязыковые
метафоры: вместо «солнце село» – «как
скоро шумящий Днепр увенчался
последними лучами закатывающегося великого светила небесного» (с. 28); вместо
«перед восходом солнца» – «едва Зимцерла златоблестящая, вечно юная,
прелестная невеста Световидова, отверзла врата неба величественному жениху
своему» (с. 28) и др.
Появляется в повести и образ скальда, становящийся одним из сквозных в
цикле в целом. Его описание выдержано в уже ставших привычными для
читателей той поры оссианических тонах: «Белая брада его развевалась по груди,
1 Образы славянских языческих богов были воссозданы в повествовании В.Т. Нарежного, по -видимому, на основе
знакомства с первым мифологическим словарем М.Д. Чулкова «Абевега русских суеверий» (1786), который был
до появления «Истории государства российского» Н.М. Карамзина главным источником сведений о религиозных
представлениях дохристианской Руси.
117
покрытой железными листами. Льняная мантия струилась на раменах его,
подобно легкому туману, когда он, при восшествии царя светил небесных,
колеблясь по вершинам дубов древних, спускается на траву злачную и обещает
красный день трудолюбивому землепашцу. В деснице его сияла арфа работы
иноземной; он шел, опираясь на копие, и взор его, устремленный к небу, был тих
и величествен» (с. 29).
Именно песня скальда, обращенная к воинам Дулеба, решает исход
противостояния. Это становится в повести также своеобразным «маркером»,
свидетельствующим о проявлении предромантических установок: роль скальда
означает роль слова, поэзии, способной смягчить сердца людей, пробудить в них
разум и обуздать злые страсти.
Вообще, в первой повести, открывающей цикл «Славенские вечера»,
заметно стремление Нарежного-повествователя
примирить
традицию и
современность. От традиции литературы классицизма в повести сохраняется
мотив противостояния разума (здесь – «мудрости») и «страстей»; новаторским
же
оказывается
предромантический
колорит,
в
обрамлении
которого
развертывается указанная коллизия. Воины Дулеба – «бурные дети страстей
своих», их вид грозен и ужасен, но, тем не менее, эти воины оказываются
растроганы песней скальда: «тишина душевная разлилась в свирепых взорах
дулебян; мрак и зверство улетели мгновенно с ланит их» (с. 30). Применительно к
их характеристике после этого становятся также возможны такие эпитеты, как
«легкий», «кроткий», звуки арфы «нежат их слух», «подобно кроткому, сладкому
дыханию ветерка, который принеся к нам запах розы, пролетел мимо. Мы все еще
чувствуем сладость ее благоухания и прохладу от легких крыл юного сына весны
цветущей» (с. 30).
Так исторические персонажи по своим душевным качествам, по
способности к сопереживанию, отзывчивости сближаются с идеалом самого
автора и его современников – людей совершенно иной эпохи. Дикость и бурные
нравы
прошедших
времен
становятся,
118
таким
образом,
лишь
частью
оссианической экзотики «бурного» пейзажа, также добавляющей
приятную
сладость изображению, Этот мотив можно считать одной из скреп цикла именно
как специфической повествовательной ситуации «вечеров», которая является
сквозной для всей книги Нарежного в целом.
По контрасту с первым вечером, вечер второй, «Славен», начинается
печальной и горестной интонацией. «Мрачна душа моя», – признается
повествователь, и далее, перемежая мотивы оссианического пейзажа и горестные
философские сожаления о протекшем времени, о безвременно утраченных
радостях жизни, продолжается выражение характерных для предромантического
историзма горестных чувств и переживаний: «Мысли мои рассеяны, как легкие
струи тумана», «хладны чувства мои, как снега, покрывающие брега озера
Ильменя», «Дико воет ветер в ущелья кремнистые, – и душа моя не находит мира
и радости в обновляющейся природе», «сколько мужей славных и великих
сокрыты в могилах или осуждены не видать страны отеческой, не дышать
воздухом привычным, не зреть солнца над гробами отцов своих…» (с. 32).
Самое оригинальное в построении повествования «Славенских вечеров»,
по-видимому, – это оссианический в своих истоках мотив «цикла песен». В
данном случае повествование рассказчика обозначается как некая «песня» – ею
становится и весь цикл в целом, и отдельные вечера (в частности, «Вечер II
Славен»), а внутри авторской «песни» появляются уже в качестве персонажа
герой-скальд, также исполняющий песню (или несколько песен), которые могут
быть единственной мотивировкой развертывания сюжета, могут
быть его
кульминацией и т.п.
Этот мотив «цикла песен» реализуется в «Вечере втором». После
замечания рассказчика: «Раздадутся громкие звуки арфы моей, потрясут воздухи
и превысят звоном свисты ветров, играющих с вершинами дубов и кедров.
Приблизьтесь! Я знаю, сколь приятно красоте внимать звучному пению о
подвигах ратных» (с. 32).
119
Далее начинается «песня» («Возвратился ты с победой на поля наши!..»),
которая принадлежит уже не самому рассказчику, но персонажам повести –
«гражданам благодарным», которые «пели в восторге радости», «исходя во
сретенье князю Славену,
текущему с победой над Варягами» (с. 33). Далее
«старейший дружинник» князя, Добросмысл «поведает в песнях» его подвиги:
«он берет серебряный щит, ударяет в него трикраты копьем стальным <…> звуки
песни его разнеслись по берегу и валам реки Мутной» (с. 33-34).
«Песня» Добросмысла становится здесь не только средством раскрыть
предысторию событий.
Она
исторический
повествования,
колорит
позволяет сделать
более
передать
органичным сам
нравственную
оценку
происходившим в разные времена событиям в истории славянских племен, и
наконец, подводит к развязке повести – решению Славена помиловать Радмира и
дать ему возможность стать добродетельным.
Мотив «песни», как и другие приемы, позволяющие выделить в
повествовании саму «ситуацию рассказывания», присутствует не во всех
«вечерах» цикла (см. также «Вечер шестой», «Вечер седьмой. Ирена», «Вечер
девятый. Михаил»), всякий раз позволяя читателю
глубже почувствовать
эмоциональное настроение повести, увидеть героев и события глазами самого
рассказчика, способного по-настоящему сочувствовать своим персонажам. Это
соответствует тому жанровому канону исторической повести, который был
унаследован литературой от творчества Н.М. Карамзина, его повестей «Наталья,
боярская дочь»и и «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода».
Особенно интересным с этой точки зрения представляется «Вечер
девятый. Михаил», открывающийся как раз картиной вечера, что в полной мере
реализовывало своеобразную жанровую установку цикла.
Вечер как время, в которое начинается повествование, и способен создать
нужную рассказчику эмоциональную тональность. Рассказчик обращается к
солнцу: «Ты склоняешься уже, солнце небесное, от взоров наших! В последний
раз сего вечера златишь ты жемчужные крылия облака легкого, на коем некогда,
120
во дни давно протекшие, бесплотные духи витязей великих любили покоиться и в
последний раз упиваться вечерним светом твоим» (с. 75).
Духи витязей, подобно современникам самого рассказчика, несмотря на
свою силу и храбрость, любуются закатом, испытывают меланхолические
переживания как типично предромантические герои. «Великий муж», князь
Михаил Черниговский, также показан в повести как в первую очередь
чувствительный человек – в плену у ханя Батыя он «копает гряды для цветника
царевны», сажает, поливает и «лелеет» цветы; «князь, лишась
сладкого
удовольствия управлять народом и делать его счастливым, смотрел с улыбкою,
когда юная роза или лилия отверзали к нему свои объятия и кротко благоухали
своему повелителю» (с. 75).
Храбрость, верность, подвиги героя, его мученическая кончина не
противоречат этому началу чувствительности. Нарежный здесь рассматривает
тонкость души героя как основу истинной добродетели, а все его высокие
качества – как ее истинное следствие. Думается, такая трактовка персонажа также
была связана с традициями предромантизма.
Стиль «Славенских вечеров» во многом определялся влиянием поэтики
«Слова о полку Игореве», устного народного творчества. Связь с поэтикой
«Слова о полку Игореве» часто обнаруживает себя в описаниях битв и сражений.
«Раздался гром и треск; рассыпались искры от булатных мечей и стальных
шлемов, кровь багряная пролилась по песку желтому. Издали слышен был вои
зверей пустынных и крики вранов плотоядных, собравшихся терзать останки
мужей падших» (с. 59). Описание сражающегося Буривоя в повести «Громобой»
напоминает мужественного буй-тура Всеволода из «Слова о полку Игореве».
В тексте встречается много устаревших слов: алчба – голод, бунчук –
конский хвост на древке, символ власти, вежды – веки, весь – село, деревня, длань
– рука, паче – больше, лучше и др.
Очень часто при характеристике своих персонажей Нарежный использует
прием уподобления, восходящий к устному народному творчеству. «Как два
121
вихря противные, текущие сразить один другого, роют землю и исторгают древа
великие на пути своем, наконец встретясь, борются и, уничтожа друг друга
равною силою, исчезают; пыль подъемлется к облакам, и тишина наступает – так
сразились мы с Буривоем» (с. 54).
В описаниях природы Нарежный также использует поэтику «Слова о
полку Игореве». Природа живет своей жизнью, наделяется человеческими
страстями, выступает олицетворением добрых или злых сил.
Вечер первый заканчивается описанием природы: в результате боя Дулеб
погибает, «дух Дулебов в виде столба огненного грозно носился над вместилищем
праха своего, опершись на облака громовые» (с. 31). В «Громобое»: «Волнистый
туман плавал на траве злачной, и громкое пение птиц, вьющихся в пространном
небе, казалось, приветствовало витязя в благонамеренном пути его» (с. 49).
«Печально лицо земли во время зимы свирепой. Окованная природа в каждом
дыхании ветра сетует о своем обнажении. Мрачные облака, отягченные снегами и
бурями, каждое мгновение грозят ниспасть на лоно земли и погребсти все
земнородное. Тщетно солнце стремится расторгнуть воздушную рать эту; оно
уступает и от стыда покрывается мраком. Но – среди сих непогод и ужасов, – кто
покоен в духе и мирен сам с собою, у того радость прозябает во взорах, и улыбка
цветет на устах невинных. Таково было с прелестною княжною косожскою» (с.
36).
В «Мирославе» герой обращается к небу как к живому существу: «О, ты,
существо великое и премудрое! На закате дней моих я познал тебя, и душа моя
обновилась; природа явилась мне в новом виде, и сердце мое стало биться
жизнию, дотоле неизвестною. Благословляю тебя, существо непостижимое, но
великое и благодетельное!» (с. 69).
Критика положительно
встретила
«Славенские вечера».
Рецензент
«Цветника» писал: «Славенские вечера», можно назвать подражанием песням
Оссиановым и подражанием весьма удачным. Оссиан пел подвиги бардов,
Нарежный открывает славные дела богатырей русских и приключения князей
122
славянских…» 1 . Рецензент обратил внимание и на особенности языка
«Славенских вечеров»: «Кому не нравится такая превосходная проза! По крайней
мере,
мы,
со
своей
стороны,
считаем
обязанностью
отдать
полную
справедливость дарованиям г. Нарежного и сказать, что его «Славенские вечера»
могут служить образцом чистоты языка и хорошего слога» 2.
В «Вечерах» автор пытался создать образ целой страны в определенную
эпоху – Киевской Руси, образ достаточно условный и стилизованный, но
пронизанный единым настроением. «Вечера» написаны в форме рассказа в
рассказе. Сами «вечера», как обрамление, как фон к описываемым событиям, как
художественный
прием,
был
использован
для
создания
эпизодов
для
повествования из различных эпох, преодоления исторической дистанции: автор
любит думать о прошлом на берегах моря Варяжского, когда его окружает «сонм
друзей» и «прелестных дев». В.Т. Нарежный как бы приглашает читателя: «При
закате солнца летнего в воды тихие приходите сюда внимать моему пению.
Поведаю вам о подвигах ратных предков наших и любезности дев земли
Славеновой» (с. 26). Фраза «внимать моему пению» была уместна, так как
следовавшие затем рассказы о деяниях предков, ритмизированные поэмы в прозе,
автор действительно пел или произносил речитативом. Создавался типичный для
русского
предромантизма сентиментальный морализаторский тон, в котором
документальность
летописных
свидетельств
растворялась
оссианическими
красками.
В цикле «Славенские вечера» В.Т. Нарежный как истинный патриот
обращается к героическому прошлому родины. Чувствовалось приближение
битвы
с наполеоновской Францией,
и своим произведением
Нарежный
стремился поднять национальный дух, пробудить национальное самосознание,
напомнить о величии и непобедимости своего народа. Перед писателем не стояла
задача воспроизвести события исторически достоверными, главная задача автора
– передать чувство восхищения героической историей своего отечества.
1
2
Цветник, 1809. Ч. III № 8. – С. 263-264.
Там же. – С. 273.
123
О цикле повестей В.Т. Нарежного пишет Л.А. Капитанова в своей работе
«Повествовательная структура русской романтической повести (начальный этап
развития)». В «Славенских вечерах» литературовед обнаруживает образную
реализацию «авторской модели мира». Своеобразная хроника событий из
прошлого «славенской земли», имеющая тесную связь с фольклором и
генетически соотносимая с «Повестью временных лет», рассматривается в прямой
связи с устойчивым мотивом авторских раздумий о мире и человеке. И эпическое,
и лирическое содержание повестей выражает оппозиционность
авторского
сознания по отношению к современной ему реальности, приближающуюся к
романтической, но таковой не являющуюся. Образ современного мира устранен
из повествования, поскольку он не соответствует авторскому идеалу. Его идеал в
прошлом. Цикл повестей Нарежного в целом рассматривается Л.А. Капитановой
как
переходная
от
«функционально-заданного»
типа
повествования
к
«индивидуальному» 1.
Написанные ритмизованной прозой с обилием метафор и перифраз,
«Славенские вечера» были близки к историческим повестям Н.М. Карамзина как
своей национально-исторической тематикой, так и стилем. В повестях «Рогдай»,
«Велесил», «Громобой», «Ирена» Нарежный изображает богатырей Киевской
Руси времен Владимира. Он наделяет их фантастическими, сентиментально чувствительными чертами, идущими от оссиановских баллад и рыцарских
романов и повестей. «Живость картин из дикой природы», «смесь геройства с
нежными
сценами»
и
«глубокая
меланхолия»,
бывшие,
по
словам
Н. М. Карамзина, отличительными признаками и «красотами оссиановских
песен», сочетаются в «Славенских вечерах» с национально-историческими
образами и сюжетами. Это обращение Нарежного к славянской истории и
мифологии свидетельствовало о росте национального самосознания, и не
случайно, что героическая и патриотическая тематика «Славенских вечеров»
1 Федосеева Т.В. Теоретико-методо логические основания литературы русского предромантизма.
С. 143
124
– М.: МГОУ. –
оказалась близка патриотически-гражданственным «думам» поэтов-декабристов –
К.Ф. Рылеева, П.А. Катенина, В.К. Кюхельбекера и др.
Таким образом, на основе проведенного анализа произведений можно
сделать вывод, что первые опыты циклического построения сборников
исторических повествований (П.Ю.Львова. В.Г.Геракова) отличались тем, что
часто составлялись из довольно кратких исторических повествований с неярко
выраженной событийной линией; именно целостная структура, единый авторский
взгляд на историю были призваны объединить эти разрозненные фрагменты в
целое. Возможно, по этой причине они не имели успеха у современников, как
слишком аморфные, лишенные сюжетного интереса. Лишь В.Т. Нарежному в
«Славенских вечерах» удалось объединить элемент сюжетной занимательности,
психологической глубины раскрытия исторических характеров и общую
авторскую установку, что свидетельствовало о развитии предромантического
историзма в русской литературе начала XIX в.
125
Заключение
Становление жанра русской исторической повести на рубеже XVIII-XIX
вв. составляет важную страницу в эволюции русской прозы. В процессе этого
становления вырабатывается новый, предромантический взгляд на историю как
одновременно
поучительную
и
вызывающую
живое
эмоциональное
сопереживание; история познается как разумом, так и чувствительной душой
читателя.
Проведенный анализ исторических повестей в пору становления жанра
позволил прийти к следующим выводам.
В последние десятилетия XVIII века в русской литературе наблюдалась
устойчивая потребность в жанре исторической повести как краткого, национально
окрашенного, патриотического по тематике, «чувствительного» по своему
эмоциональному звучанию
прозаического
повествования.
Это
ощущение
необходимости найти новые пути развития жанра было вызвано к жизни
процессом становления новых форм художественного сознания, прежде всего
сентиментализма и предромантизма, с их идеей открытия новых источников
вдохновения. Этими источниками в равной мере были внутренний мир личности
и национально-историческое прошлое, интерес
к которому усиливался и
благодаря патриотическому подъему и росту национального самосознания на
рубеже веков.
Начальной точкой в развитии жанра русской исторической повести той
поры становятся повести Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» и «Марфа
Посадница, или Покорение Новагорода». Анализ реальной литературной
ситуации той поры помог выявить, что,
карамзинистами
и
их
противниками,
несмотря на полемику между
жанровая
модель,
предложенная
Карамзиным, была актуальна практически для всех авторов, обращавшихся в
конце XVIII – начале XIX в. к опытам исторического повествования. Повести
Н.М. Карамзина заложили в русской литературе основные жанровые признаки
исторической повести, которые затем развивались писателями в течение 1800-х –
126
начале 1810-х годов, до появления «Истории государства Российского», которая
дала
возможность
насытить
исторические
повествования
значительным
содержанием и окончательно позволила исторической повести оформиться как
одной из важнейших жанровых форм в прозе той поры.
Главный
отличительный
признак
этой
жанровой
модели
–
предромантический историзм. Для него характерно изображение истории сквозь
призму
чувствительного
повествования,
когда
отсутствие
исторической
фактографической точности (в целом характерное для русской литературы до
издания «Истории государства
российского») превращалось в своеобразный
прием, сближавший эмоциональный опыт героев прошлого и читателей –
современников эпохи чувствительности.
Авторы исторических повестей конца XVIII – начала XIX в. (М.Н.
Муравьев, К.Н. Батюшков, В.А. Жуковский, Г.П. Каменев, В.Т. Нарежный и др.)
по-своему усваивали и раскрывали в своих повествованиях специфические черты
этого
сентиментально-предромантического,
чувствительного
изображения
истории.
В процессе становления жанра русской исторической повести на раннем
этапе
ее
развития
сложилось
несколько
разновидностей
исторического
повествования – «малые» формы повести и «сборники» – циклы исторических
повествований. Близкие по типу предромантического историзма (внимание к
историческому колориту, «оссианизм» как средство погружения читателя в «дух»
протекших времен, сочетание дидактизма и эмоциональности), они различались
степенью обобщения и охвата героев и событий.
Исторические повести П.Ю. Львова, В.М. Колосова, Н.С. Арцыбашева,
Г.В. Геракова и др. вбирали в себя элементы не только различных жанровых
моделей «массовой» прозы рубежа XVIII-XIX вв., близких сентиментализму, но
сохраняла
рационально-нормативную
установку
на
дидактизм,
а
также
неизбежную условность изображения истории, свойственную классицистской
традиции. Эклектичность позиции позволила писателям той поры выстроить
127
художественную модель прошлого, в которой сочетались бы эмоциональносубьективное и дидактическое, личностное и «всеобщее» начала, что и
определило его своеобразное место в истории карамзинизма в русской литер атуре
начала XIX века.
Жанр
цикла исторических повествований также вызывал интерес
писателей рубежа XVIII-XIX вв. В их творческом сознании форма цикла
передавала собственно идею связи истории – смысл же определялся духом
служения отечеству, патриотизма и полезного урока, который могли дать события
прошлого современникам.
128
ЛИТЕРАТУРА
Источники
1.
Батюшков, К.Н. Сочинения: в 2 т. /К.Н. Батюшков [Текст]. – М., 1989.
– Т. 1.
2.
Вестник Европы. Ч. XII. – М., 1803. – С. 211-234.
3.
Гераков, Гавриил. Твердость духа русских. Книжка первая / Г.
Гераков [Текст]. – Петроград: В Типографии Военного Министерства, 1813. –
145 с.
4.
Гераков, Гавриил. Твердость духа русских. Книжка вторая / Г.
Гераков [Текст]. – Петроград: В Типографии Военного Министерства, 1813. –
168 с.
5.
Гераков, Гавриил. Твердость духа русских. Книжка третья / Г. Гераков
[Текст]. – Петроград: В Типографии Военного Министерства, 1814. – 119 с.
6.
Жуковский, В.А. Собрание сочинений: в 4 т. Т.4. / В.А. Жуковский
[Текст]. – М.-Л.: Художественная литература, 1959-1960. – С. 369-390.
7.
Карамзин, Н.М. Собрание сочинений: в 2 т. / Н.М. Карамзин [Текст].
– М.; Л., 1964. Т. 1.
8.
Колосов, В.М. Прогулки в окрестностях монастыря Симонова / В.М.
Колосов [Текст]. – М.: В Типографии Платона Бекетова, 1806. – 87 с.
9.
Львов, П.Ю. Боярин Матвеев. Сочинение Павла Львова, члена
императорской российской академии и Беседы любителей русского слова / П.Ю.
Львов [Текст]. – СПб: Типография Правительствующего Сената, 1815. – 36 с.
10.
Муравьев, М.Н. Оскольд. Повесть, почерпнутая из отрывков древних
готфских скальдов//Сочинения М.Н. Муравьева. Изд. А. Смирдина. Т. 1. / М.Н.
Муравьев [Текст]. – СПб., 1847.
11.
Нарежный, В.Т. Славенские вечера/ Сост., вступ. ст.
и
прим.
Н.Ф. Шахмагонова; Ил.и оф. А. Анно / В.Т. Нарежный [Текст]. – М.: Правда,
1990. – 608 с.
129
Научные монографии и статьи
Теория и история жанра повести
12.
Абаза, Г.Б. К вопросу о методе исторической прозы декабристов //
Романтизм в русской и советской литературе. Вып. VI. / Г.Б. Абаза [Текст]. –
Казань, 1973. – С. 41-63.
13.
Архипова, А.В. Эволюция исторической темы в русской прозе 1800-
1820-х гг.//На путях к романтизму / А.В. Архипова [Текст]. – Л., 1984. – С. 215233.
14.
Архипова, A.B. Проблема национальной самобытности в русской
литературе первой четверти XIX века (эпоха становления романтизма) // Русская
литература и фольклор. Первая половина XIX века / А.В. Архипова [Текст]. – Л.,
1976. – С.38-79.
15.
Архипова, A.B. Эволюция исторической темы в русской прозе 1800 –
1820-х гг. // На путях к романтизму. Сб. науч. тр. / АН СССР, Ин-т рус.лит.
(Пушкин, дом) / А.В. Архипова [Текст]. – JL: Наука, 1984.
16.
Автухович, Т.Е. Риторика и русский роман ХVIII в: Взаимодействие в
начальный период формирования жанра / Т.Е. Автухович [Текст]. – Гродно, 1995.
– 186 с.
17.
Алпатов, М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII
первая половина XIX века)/ М.А. Алпатов [Текст]. – М.: Наука, 1985.
18.
Афанасьев, Э.Л. На пути к XIX веку (Русская литература 70-х гг.
XVIII в. 10-х гг. XIX в.)/ Э.Л. Афанасьев [Текст]. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. – 304 с.
19.
Базанов, В. Очерки декабристской литературы. Поэзия / В. Базанов
[Текст]. – М.-Л., 1961.
20.
Базанов, В. Очерки декабристской литературы. Публицистика. Проза.
Критика /В. Базанов [Текст]. – М., 1953.
21.
Барг, М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма /М.А. Барг [Текст].
– М., 1987. – 348 с.
130
22.
Балашов, Д.М. История развития жанра русской баллады / Д.М.
Балашов [Текст]. – Петрозаводск, 1966.
23.
Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по
исторической поэтике // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи / М.М.
Бахтин [Текст]. – М., 1986. – С. 121 - 290.
24.
Бахтин, М.М. Эпос и роман. (О методологии исследования романа) //
Бахтин М.М. Эпос и роман / М.М. Бахтин [Текст]. – СПб., 2000. – С. 194-232.
25.
Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики / М.М. Бахтин [Текст].
– М., 1975. – 502 с.
26.
Бахтин, М.М. Время и пространство в романе // Вопросы литературы /
М.М. Бахтин [Текст]. – 1974. № 3. – С.133-179.
27.
Бахтин, М.М. К методологии литературоведения // Контекст 1974/
М.М. Бахтин [Текст]. – М., 1975. – С. 203-212.
28.
Бахтин, М.М. Проблема автора// Вопросы философии / М.М. Бахтин
[Текст]. – М. , 1977. №7. – С. 71-79.
29.
Бегунов, Ю.К.
Русско-европейские литературные связи
эпохи
предромантизма: Обзор зарубежных исследований // На путях к романтизму: Сб.
науч. тр./Ю.К. Бегунов [Текст]. – Л., 1984. – С. 237-279.
30.
Беляев, Ю.А. «Надобно знать, что любишь» (Русская историческая
повесть первой половины XIX века) // Свидания через века / Ю.А. Бегунов
[Текст]. – М., 1988. С. – 42-62.
31.
Беляев, Ю. Эпохи, воскрешенные словом // Русская историческая
повесть / Ю. Беляев [Текст]. – М., 1988. – С.5-24.
32.
Берков, П.Н. Основные вопросы изучения русского просветительства /
Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII в. / П.Н. Берков [Текст]. –
М.-Л.: Акад. Наук СССР, 1961. – 272 с.
33.
Билинкис, М.Я. Русская проза XVIII века: Документальные жанры,
Повесть. Роман / Билинкис М.Я. [Текст]. – СПб., 1995. – 104 с.
131
34.
Виноградов, В.В. О теории художественной речи: Учеб. пособие/ В.В,
Виноградов [Текст]. – М., 1971. – С. 240;152-154.
35.
Виноградов, В.В. О языке художественной прозы / В.В. Виноградов
[Текст]. – М., 1980. – 360 с.
36.
Винокур, Г.О. Язык литературы и литературный язык // Контекст.
1982. Литературно-теоретические исследовании / Г.О. Винокур [Текст]. – М.,
1983. – С. 266-269.
37.
Вишневская, Г.А. Из истории русского романтизма. (Литературно-
теоретические суждения Н.М. Карамзина 1787-1792 гг.) // Вопросы романтизма в
русской литературе/ Г.А. Вишневская [Текст]. – Казань, 1964. Сб. 2. – С. 26-106.
(Уч. зап. / Казан, ун-т; Т. 124; кн. 5).
38.
Володин, Э.Ф. Специфика художественного времени // Вопросы
философии/ Э.Ф. Володин [Текст]. – 1978. №8. – С. 132-141.
39.
Гачев, Г. Образ в русской культуре/ Г. Гачев [Текст]. – М., 1981. –
40.
Гинзбург, Л. О литературном герое/ Л. Гинзбург [Текст]. – Л., 1979.
158 с.
– 222 с.
41.
Гинзбург, Л. О психологической прозе/ Л. Гинзбург [Текст]. – Л.,
1977. – 448 с.
42.
Гинзбург Л. О структуре литературного героя // Искусство слова. М.,
1973. С. 376-388.
43.
Гиршман, М.М. Ритм художественной прозы: Монография/ М.М.
Гиршман [Текст]. – М., 1980. – С. 98-151; 102-112; 366.
44.
Головко, В.М. Поэтика русской повести / В.М. Головко [Текст]. –
Саратов, 1992.
45.
Державина, O.A. Древняя Русь в русской литературе XIX века
(Сюжеты и образы древнерусской литературы в творчестве писателей XIX века)/
О.А. Державина [Текст]. – М.: ИМЛИ, 1990. – 416 с.
132
46.
Жирмунская, Н.А. Историко-философская концепция И.Г. Гердера и
историзм Просвещения // ХУШ в. Сб. 13. Проблемы историзма в русской
литературе конца XVIII начала XIX в./ Н.А. Жирмунская [Текст]. – Л., 1981. – С.
91-101.
47.
Западов, В.А. Литературные направления в русской литературе XVIII
в./ В.А. Западов [Текст]. – СПб., 1995. – 80 с.
48.
Западов,
В.А.
Проблема
изучения
и
преподавания
русской
литературы XVIII века. Статья 3-я. Сентиментализм и предромантизм в России //
Проблемы изучения русской литературы XVTII века/ В.А. Западов [Текст]. – Л.,
1983. – С. 140-149.
49.
Западов, В.А. Русская литература последней четверти XVIII в.:
Хрестоматия / В.А. Западов [Текст]. – М., 1985. – С. 410-422.
50.
Иезуитова, Р.В. Пути развития романтической повести // Русская
повесть XIX века: История и проблематика жанра / Р.В. Иезуитова [Текст]. – Л.,
1973. – С. 77-88.
51.
Ионин, Г.Н. Спор «древних» и «новых» и проблема историзма в
русской критике 1800-1810 гг. // XVIII век. Сб. 13: Проблемы историзма в русской
литературе / Г.Н. Ионин [Текст]. – Л., 1981. – С. 192-204.
52.
История русского романа в 2-х т. М.-Л., 1962-1964, т. 1 - 627 е., т. 2 -
53.
Калашникова,
642 с.
О.Л.
Русский
роман
1760-1770-х
годов
/О.Л.
Калашникова [Текст]. – Днепропетровск, 1991. – 160 с.
54.
Калашникова, О.Л. Жанровые разновидности русского романа 1760-
1770-х гг./О.Л. Калашникова [Текст]. – Днепропетровск, 1988.
55.
Калашникова, О.Л. Русская повесть первой половины XVIII века /
О.Л. Калашникова [Текст]. – Днепропетровск, 1989.
56.
Капитанова,
Л.А.
От
чувствительной
повести
романтической /Л.А. Капитанова [Текст]. – Петропавловск, 1992.
133
к
повести
57.
Капитанова,
Л.А.
Повествовательная
структура
романтической повести (20-30-е гг. XIX в.) / Л.А. Капитанова [Текст]. –
русской
Псков,
1997.
58.
Косиков, Г.К. К теории романа (роман средневековый и роман Нового
времени) // Проблема жанра в литературе средневековья /Г.К. Косиков [Текст]. –
М., 1994. – 393 с.
59.
Кочеткова,
Н.Д.
Сентиментализм и Просвещение.
// Русская
литература /Н.Д. Кочеткова [Текст]. – 1983. № 4. – С. 22-37.
60.
Кошелев, В.А.
Пушкин и легенда о Вадиме Новгородском //
Литература и история. Вып. 2 / В.А. Кошелев [Текст]. – СПб, 1997. – С. 93-109.
61.
Кузьмин, А.И. Повесть как жанр литературы / А.И. Кузьмин [Текст].
– М., 1984. – С. 112, 141.
62.
Купреянова, Е.Н. Назарова, JI.H. Русский роман первой четверти XIX
века. От сентиментальной повести к роману // История русского романа: В 2 т. Т.
1. / Е.Н. Купреянова, Л.Н. Назарова [Текст]. – М.; Л., 1962. – С. 66-100.
63.
Лотман, Ю.М. Пути развития русской прозы 1800-1810-х гг.//Труды
по русской и славянской филологии. IV. / Ю.М. Лотман [Текст]. – Тарту, 1961. –
С. 3-57.
64.
Лебедева, О.Б. История русской литературы XVIII в. / О.Б. Лебедева
[Текст]. – М., 2000. – 415 с.
65.
Левин, Ю.Д. Начало 1760 середина 1780-х гг.: Просветительство //
История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII
в./ Ю.Д. Левин [Текст]. – СПб., 1995. Т. 1. Проза. – С. 142-212.
66.
Левкович, Я.Л. Историческая повесть // Русская повесть XIX века:
История и проблематика жанра / Я.Л. Левкович [Текст]. – Л., 1973. – С. 108-134.
67.
Левкович,
Я.Л.
Принцип
документального
повествования
в
исторической прозе пушкинской поры // Пушкин. Исследования и материалы. Т.
VI. Реализм Пушкина и литература его времени / Я.Л. Левкович [Текст]. – Л.,
1969. – С. 171-196.
134
68.
Лихачев, Д.С. Внутренний мир художественного произведения //
Вопросы литературы /Д.С. Лихачев [Текст]. – 1968. № 8. – С. 74-87,151 .
69.
Лихачев, Д.С. О национальном характере русских // Вопросы
философии / Д.С. Лихачев [Текст]. – 1990. № 4. – С. 3-6.
70.
Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского
дворянства (XVIII начало XIX в.). СПб. 1994. – 399 с.
71.
Лотман Ю.М. Идеи исторического развития в русской культуре конца
XVIII - начала XIX века. // XVIII век. Сб. 13: Проблемы историзма в русской
литературе. Конец XVIII начало XIX века/ Ю.М. Лотман [Текст]. – Л., 1981. –
С. 82-90.
72.
Лотман, Ю.М. Пути развития русской прозы. 1810-х годов. // Труды
по русской и славянской филологии / Ю.М. Лотман [Текст]. – Тарту, 1961. Т. 4. –
С. 3-57. (Уч. зап. / Тартус. гос. ун-т; Вып. 104).
73.
Лузянина, Л.Н. Историзм художественного мышления в первые
десятилетия XIX века. // Известия АН СССР. Сер. лит. и языка/Л.Н. Лузянина
[Текст]. – 1972. Т. 31. Вып. 2. – С. 131-141.
74.
Макогоненко, Г.П. Из истории формирования историзма в русской
литературе // XVIII в. Сб. 13. Проблемы историзма в русской литературе конца
XVIII начала XIX в./ Г.П. Макогоненко [Текст]. – Л. 1981. – С. 3-65.
75.
Манн, Ю.В. Автор и повествователь // Историческая поэтика.
Литературные эпохи и типы художественного сознания / Ю.В. Манн [Текст]. –
М., 1994. – С. 431- 480.
76.
Мелетинский, Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа
/ Е.М. Мелетинский [Текст]. – М., 1986. – 320 с.
77.
Мелетинский,
Е.М.
Средневековый роман: Происхождение
и
классические формы / Е.М. Мелетинский [Текст]. – М., 1983. – 300 с.
78.
Мильчина, В. Поэтика примечаний // Вопросы литературы / В.
Мильчина [Текст]. – 1978. №11. – С. 229-247.
135
79.
Михайлов,
A.B. Античность как идеал и культурная реальность
XVIII-XIX вв. // Античность как тип культуры / А.В. Михайлов [Текст]. – М.,
1988. – С. 308-324.
80.
Моисеева, Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании
и исторической мысли России XVIII в. / Г.Н. Моисеева [Текст]. – Л., 1980. – 261 с.
81.
Николаев, Н.И. Внутренний мир человека в русском литературном
сознании XVIII века / Н.И. Николаев [Текст]. – Архангельск: Помор, гос. ун-та,
1997. – 145 с.
82.
Омелько, Л.В. Эволюция образа автора в русской прозе второй
половины XVIII века. (К вопросу о становлении поэтики предромантизма) //
Проблемы изучения русской литературы XVIII в. / Л.В. Омелько [Текст]. – Л.,
1990. – С. 97-107.
83.
Петров, С.М. Русский исторический роман XIX в. / С.М. Петров
[Текст]. – М., 1964. – 439 с.
84.
Петрунина, Н.Н. Проза 1800 1810 гг. // История русской литературы:
В 4 т. Т.2. / Н.Н. Петрунина [Текст]. – Л., 1981. – С. 51-79.
85.
Прийма, Ф.Я. Тема «новгородской свободы» в русской литературе
конца XVIII – нач. XIX в.//На путях к романтизму / Ф.Я. Прийма [Текст]. – Л.,
1984. – С. 100-138.
86.
Проблемы историзма в русской литературе: конец XVIII начало XIX
века: XVIII век: Сб. 13. – Л., 1981.
87.
Ромодановская, Е.К. Русская литература на пороге Нового времени:
Пути формирования русской беллетристики переходного периода / Е.К.
Ромодановская [Текст]. – Новосибирск, 1994. – 232 с.
88.
Русская повесть как форма времени: Сб. статей. Томск, 2002
89.
Русский классицизм второй половины XVIII начала XIX века / Под.
ред. Г.Г. Поспелова. М., 1994. – 336 с.
90.
Рымарь, Н.Т. Поэтика романа. / Н.Т. Рымарь [Текст]. – Куйбышев,
1990 – 254 с.
136
91.
Рымарь,
Н.Т.,
Скобелев,
В.П.
Теория
автора
и
проблема
художественной деятельности / Н.Т. Рымарь, В.П. Скобелев [Текст]. – Воронеж,
1994. – 263 с.
92.
Сазонова, Л.И. Переводной роман в России как arsamandi. / Сб. XVIII
век. Вып. 21. / Л.И. Сазонова [Текст]. – СПб.: Наука, 1999. – 454 с.
93.
Сахаров, В.И. Иероглифа вольных каменщиков. Масонство и русская
литература XVIII- начала XIX века / В.И. Сахаров [Текст]. – М.: Жираф, 2000. –
214 с.
94.
Сахаров, В.И. Масонский роман / Русский и западноевропейский
классицизм. Проза / В.И. Сахаров [Текст]. – М.: Наука, 1982. – 291 с.
95.
Сахаров, В.И. Русская проза XVIII-XIX веков. Проблемы истории и
поэтики. Очерки / В.И. Сахаров [Текст]. – М., 2002 – 216 с.
96.
История русского романа. Т. 1. – М.; Л., 1962. – С. 40-65.
97.
Серман, И.З. Становление и развитие романа в русской литературе
середины XVIII века // Из истории русских литературных отношений XVIII-XX
вв. / И.З. Серман [Текст]. – М.; Л., 1959. – С. 82-95, 442.
98.
Сиповский, В.В. Из истории русского романа и повести (Материалы
по библиографии, истории и теории русского романа). Ч. I.: XVIII век./ В.В.
Сиповский [Текст]. – СПб.: 2-е Отд. Имп. Акад. наук, 1903. – 333 с.
99.
Сиповский, В.В. Очерки из истории русского романа. Т. I. Вып. 12.
(XVIII век) / В.В. Сиповский [Текст]. – СПб.: тип. СПб. т-вапеч. и изд. Дела
«Труд», 1909-1910. - Вып. 1 - 715 е., вып. 2. – 951 с.
100. Сиповский, В.В. Из истории русской литературы XVIII века. Опыт
статистических наблюдений / В.В. Сиповский [Текст]. – СПб.: тип. Имп. Акад.
наук, 1901. – 46 с.
101. Сиповский, B.B. Русский исторический роман первой половины XIX
столетия. Тезисы // Сб. ст. в честь акад. А.И. Соболевского. Ст. по слав, филол. и
рус. словесности. Т. 101, № 3/ В.В. Сиповский [Текст]. – JL, 1928. – 507 с.
137
102. Стенник, Ю.В. Системы жанров в историко-литературном процессе //
Историко-литературный процесс. Проблемы и методы изучения / Ю.В. Стенник
[Текст]. – Л.: Наука, 1974. – 274 с.
103. Стенник, Ю.В. Идея «древней» и «новой» России в литературе XVIII
в. (М.В. Ломонсов) // Литература и история/ Ю.В. Стенник [Текст]. – СПб., 1992.
– С. 6-31.
104. Стенник, Ю.В. Православие и масонство в России XVIII века: (К
постановке проблемы) // Русская литература / Ю.В. Стенник [Текст]. – 1995. № 1.
– С. 76-92,
105. Стенник, Ю.В. Эстетическая мысль в России XVIII в. // Русская
литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой/ Ю.В. Стенник [Текст]. –
Д., 1986. – С. 375.
106. Стенник, Ю.В., Степанов В.П. Литературно-общественное движение
конца 1760-х-1780-х годов // История русской литературы: В 4 т. / Ю.В. Стенник,
В.П. Степанов [Текст]. – Л., 1980-1983. Т. 1. – С. 491-522.
107. Сурков, Е.А. Русская повесть первой трети XIX века. (Генезис и
поэтика жанра) / Е.А. Сурков [Текст]. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1991. –1582 с.
108. Тихомиров, М.Н. Развитие исторических знаний в России второй
половины XVIII в. // Очерки истории исторической науки. Т. 1/ М.Н. Тихомиров
[Текст]. – М., 1955. – С. 169-244.
109. Тойнбин, И.М. Вопросы историзма Пушкина и художественная
система Пушкина 1830-х гт. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VI.
Реализм Пушкина и литература его времени / И.М. Тойнбин [Текст]. – Л., 1969. –
С. 35-59.
110. Троицкий,
В.Ю.
Предромантические
веяния
//
Русский
и
западноевропейский классицизм. Проза / В.Ю. Троицкий [Текст]. – М., 1982. –
С. 301-320.
138
111. Троицкий, В.Ю.
Тема
Отечественной
войны
1812
года
и
формирование прозы русского романтизма / Отечественная война 1812 года и
русская литература XIX в. / В.Ю. Троицкий [Текст]. – М.: Наследие, 1998. – 384 с.
112. Троицкий, В.Ю. Художественные открытия русской романтической
прозы 20-30-х годов XIX в. / В.Ю. Троицкий [Текст]. – М.: Наука, 1985. – 279 с.
113. Турчин, В. Эпоха романтизма в России. К истории русского искусства
первой трети XIX столетия: Очерки / В. Турчин [Текст]. – М.: Искусство. 1981. –
С. 426.
114. Успенский, Б.А. Поэтика композиции: Структура художественного
текста и типология художественной формы / Б.А. Успенский [Текст]. – М., 1970.
– 225 с.
115. Утехин, И. жанры эпической прозы / Т. Утехин [Текст]. – Л., 1982. –
197 с.
116. Федоров, В.И. Жанр повести и баллады в переходный период от
сентиментализма к романтизму // Проблемы жанра в русской литературе / В.И.
Федоров [Текст]. – М., 1980. – С. 394.
117. Федоров, В.И. История русской литературы XVIII века / В.И. Федоров
[Текст]. – М., 1982. – 335 с.
118. Федоров, В.И. Литература // Очерки русской культуры XVIII века. Ч.
3. / В.И. Федоров [Текст]. – М., 1988. – С. 257-267.
119. Федоров, В.И. Литературные направления в русской литературе XVIII
века / В.И. Федоров [Текст]. – М., 1979. – С. 82-122.
120. Федоров, В.И. От сентиментализма к романтизму. Поиск нового
поэтического содержания и форм его выражения // История романтизма в русской
литературе. Возникновение и утверждение романтизма в русской литературе
(1790-1825) / В.И. Федоров [Текст]. – М., 1979. – С. 75-86.
121. Формозов, A.A. Классики русской литературы и историческая наука /
А.А. Формозов [Текст]. – М., 1995. – 160 с.
139
122. Чичерин, А.В. Очерки по истории русского литературного стиля.
Повествовательная проза / А.В. Чичерин [Текст]. – М., 1977. – 445 с.
123. Чичерин, А.В. Ритм образа. Стилистические проблемы /А.В. Чичерин
[Текст]. – М., 1978. – 278 с.
124. Шохин, К.В. Очерк истории развития эстетической мысли в России:
Древнерусская эстетика XI – XVIII веков / К.В. Шохин [Текст]. – М.,1963. – 135 с.
125. Щеблыкин, И.П. Ранние традиции русской исторической прозы //
Проблемы фольклористики, истории литературы и методики ее преподавания:
Материалы XI научной конференции литературоведов Поволжья / И.П.
Щеблыкин [Текст]. – Куйбышев, 1972. – С. 5152.
126. Щеблыкин, И.П. О двух основных рановидностях исторического
повествования // Проблемы жанрового многообразия русской литературы XIX
века / И.П. Щеблыкин [Текст]. – Рязань, 1976. – С. 3-15.
127. Юсупов, Т.Ж. Развитие русской прозы XVIII века: В 2 т. / Т.Ж.
Юсупов [Текст]. – М., 1994.
128. Янушкевич, A.C. Русский прозаический цикл: нарратив, автор,
читатель // Русская повесть как форма времени: Сб. статей / А.С. Янушкевич
[Текст]. – Томск, 2002. – С. 97-107.
Персоналии писателей
К.Н. Батюшков
129. Аношкина, В.Н.
Ценностное изучение русской литературы XIX
века // Духовный потенциал русской классической литературы. Сборник научных
трудов / В.Н. Аношкина [Текст]. – М., 2007.
130. Касаткина, В.Н. «Здесь сердцу будет приятно…» / В.Н. Касаткина
[Текст]. – М., 2005.
131. Аношкина, В.Н. Дружелюбное обаяние поэта // Батюшков К.Н. К
другу. Избранные произведения и письма /В.Н. Аношкина [Текст]. – М., 2007.
140
132. Аношкина, В.Н. К.Н. Батюшков. Пролог и эпилог творчества. Об
истоках
религиозности.
Религиозно-философские
предромантизма//Аношкина-Касаткина В.Н.
воззрения
Православные основы русской
литературы XIX века / В.Н. Аношкина [Текст]. – М., 2011.
133. Белкин, Р.И. «Вечер у Кантемира» К.Н. Батюшкова и «Арап Петра
Великого» Пушкина//Временник Пушкинской комиссии / Р.И. Белкин [Текст]. –
Л., 1988. – Вып. 22. – С. 121-130.
134. Колесова, С.Н. «Песнь Гаральда Смелого» Батюшкова в аспекте
структуры и жанра//Дискурс / С.Н. Колесова [Текст]. – М., 2005. – № 12/13. –
С.214-224.
135. Луцевич, Л.Ф. Обоснование «легкой поэзии» М. Муравьевым и К.
Батюшковым // Литература и время / Л.Ф. Луцевич [Текст]. – Кишинев, 1987. –
С. 9 – 19.
136. Луцевич, Л.Ф. К проблеме литературно-теоретических взглядов М.Н.
Муравьева и К.Н. Батюшкова//Венок поэту: Жизнь и творчество К.Н. Батюшкова/
Л.Ф. Луцевич [Текст]. – Вологда, 1989. – С.28-37.
137. Степанова,
Е.В. Древнескандинавские мотивы в
поэзии К.Н.
Батюшкова//Утренняя заря: Молодеж. литературовед. альм. / Е.В. Степанова
[Текст]. – М., 2006. – С.16-22.
Карамзин Н.М.
138. Алпатова, Т.А.
Проза Н.М. Карамзина: поэтика повествования/
Т.А. Алпатова [Текст]. – М.: МГОУ, 2012. – 560 с.
139. Алпатова, Т.А. Ночь в ряду универсалий русского сентиментализма
(к проблеме текстопорождающего
потенциала ночи в
Карамзина)//Универсалии русской литературы /
творчестве Н.М.
Т.А. Алпатова [Текст]. –
Воронеж, 2011.
140.
Алпатова, Т.А. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина
и традиция аллегорического романа-путешествия//Восьмые международные
141
Виноградовские чтения. Проблемы истории и теории литературы и фольклора.
Материалы конференции 23-25 марта 2004 г. /Т.А. Алпатова [Текст]. – М., 2004.
141. Алпатова, Т.А. А.П. Сумароков и Ш.-Л. Монтескье (к вопросу о
генезисе политической концепции трагедии «Дмитрий Самозванец»)//Творчество
А.П. Сумарокова в контексте мировой литературы: Сборник научных работ,
подготовленный по материалам конференции, посвященной творчеству А.П.
Сумарокова (17 декабря 2008 года)/Отв. ред. С.Н. Травников / Т.А. Алпатова
[Текст]. – М., 2009.
142. Алпатова, Т.А. Карамзин-повествователь: диалог с историей на
страницах
«Писем
русского
путешественника»//Текст
и
контекст
в
литературоведении: Сборник научных статей по материалам Международной
научной конференции XI Виноградовские чтения. Т.2. / Т.А. Алпатова [Текст]. –
М., 2009.
143. Алпатова, Т.А. Н.М. Карамзин-повествователь: вхождение в историю
(к вопросу об организации повествования в «исторической повести» МарфаПосадница, или Покорение Новагорода») // Литература и история. Вып. 4 /
Т.А. Алпатова [Текст]. – М.: МГОУ, 2006.
144. Берков, П.Н. Макогоненко, Г.П. Жизнь и творчество Н.М. Карамзина
// Карамзин Н.М. Избранные сочинения: В 2 т. Т. 1 / П.Н. Берков, Г.П.
Макогоненко [Текст]. – М.; Л., 1964. – С. 5-76.
145. Берштейн, Е.В. О политических настроениях Карамзина в 1793 году //
Русс.лит. / Е.В. Берштейн [Текст]. – 1988. №1. – С. 172-174.
146. Берков, П.Н. Державин и Карамзин в истории русской литературы
конца XVIII - начала XIX в. // XVIII век. Сб. 8. Державин и Карамзин в
литературном процессе конца XVIII – начала XIX в./ П.Н. Берков [Текст]. – Л.,
1969. – С. 5-17.
147. Берков, П.Н. Жизнь и творчество Н.М.Карамзина // Карамзин Н.М.
Избр. Соч.: в 2 т./ П.Н. Берков [Текст]. – М.; Л., 1964. Т. 1. – С. 5-76.
142
148. Боева, Л. Сентиментальная повесть Н.М.Карамзина // Проблемы стиля
и жанра в русской литературе XIX века/ Л. Боева [Текст]. – Екатеринбург, 1994. –
С. 3-10.
149. Бухаркин, Петр Евгеньевич. Н.М. Карамзин - человек и писатель - в
истории русской литературы / П.Е. Бухаркин [Текст]. – СПб. , 1999. – 26 с.
150. Виноградов, В.В. Проблема Карамзина в истории стилей русской
литературы // Виноградов В.В. Проблема автора и теория стилей / В.В.
Виноградов [Текст]. – М., 1961. – С. 221-245.
151. Галузо, А.В. Две повести Н.М. Карамзина (О разнородных стилевых
тенденциях сентиментальной повести) // Жанр и стиль художественного
произведения: Межвуз. сб./Казах, пед. ин-т. / А.В. Галузо [Текст]. – Алма-Ата,
1982. – С. 3-10.
152. Глухов, В.И. Повести Карамзина и просветительская литературная
традиция // Писатель и время / Ульян, гос. пед. инс-и им. И.Н. Ульянова / В.И.
Глухов [Текст]. – Ульяновск, 1975. Вып. 1. – С. 26-28.
153. Грот, Я.К. Очерк деятельности и личности Карамзина // Труды Я.К.
Грота/ Я.К. Грот [Текст]. – СПб., 1899. Т. 2. – С. 672-687.
154. Гурвич, И.А. Диалогический элемент в творческом мышлении
Карамзина // Художественный мир писателя и литературный процесс / И.А.
Гурвич [Текст]. – Ташкент, 1980. – С. 123-128.
155. Гуковский, Г.А. Карамзин // История русской литературы: 10 т. / Г.А.
Гуковский [Текст]. – М.; Л., 1941. Т. 5. Ч. 1. – С. 55-105.
156. Дьюи, Г. Сентиментализм в исторических произведениях Н.М.
Карамзина // IV Международный съезд славистов: Материалы дискуссии. Т. 1. / Г.
Дьюи [Текст]. – М., 1962. – С. 240-242.
157. Жесткова, Е.А. Художественный компонент в повествовательной
структуре «Истории государства российского» Н.М. Карамзина / Е.А. Жесткова
[Текст]. – Арзамас, 2012. – 127 с.
143
158. Жесткова, Е.А. Концепция истории и вопросы сюжетосложения
«Истории
государства
российского»
Н.М.
Карамзина//Труды
Самарской
Гуманитарной академии / Е.А. Жесткова [Текст]. – М., 2010. № 3. – С.129-141.
159. Иванов, М.В. Проблемы истории и французская революция в
творчестве Карамзина 1790-х гг. // Русская литература/ М.В. Иванов [Текст]. –
1974. № 2. – С. 24-31.
160. Канунова, Ф.З. Историко-литературное значение повести Н.М.
Карамзина. Статья 1: Общая постановка проблемы // Ученые записки / Томский
ун-т. Выпуск 45: Вопросы метода и стиля/Ф.З. Канунова [Текст]. – Томск, 1963. –
С. 3-17.
161. Канунова, Ф.З. Историко-литературное значение повести Н.М.
Карамзина. Статья 2. (Период «Московского журнала») // Уч. зап. / Томск, ун-т.
Вып. 48: Вопросы метода и стиля / Ф.З. Канунова [Текст]. – Томск, 1964. – С. 152173.
162. Канунова, Ф.З. К эволюции сентиментализма Н.М. Карамзина
(«Марфа-посадница») // Уч. зап. / Томск, ун-т. Вып. 50: Вопросы метода и стиля/
Ф.З. Канунова [Текст]. – Томск, 1965. – С. 3-13.
163. Канунова, Ф.З. Карамзин и Стерн // XVIII век. Сб. 10: Русская
литература XVIII века и ее международные связи /Ф.З. Канунова [Текст]. – Л.,
1975. – С. 258-264.
164. Канунова, Ф.З. Об эволюции стернианства Н.М. Карамзина //
Проблемы метода и жанра / Ф.З. Канунова [Текст]. – Томск, 1977. Вып. 4. – С. 312.
165. Канунова, Ф.З. Н.М. Карамзин в историко-литературной концепции
В.А. Жуковского // XVIII век / Ф.З. Канунова [Текст]. – Сб. 21. СПб., 1999. –
С. 337-349.
166. Канунова, Ф.З. Из истории русской повести XIX в. Историколитературное значение повестей Н.М. Карамзина/ Ф.З. Канунова [Текст]. – Томск,
1968. – 272 с.
144
167. Карамзинский сборник. Творчество Н.М. Карамзина и литературный
процесс / отв. ред. С.М. Шаврыгин. – Ульяновск, 1996. – 154 с.
168. Карлова, Т.С. Эстетический смысл истории в творческом восприятии
Карамзина // XVIII век. Сб. 8: Державин и Карамзин в литературном движении
XVIII- начала XIX века / Т.С. Карлова [Текст]. – Л., 1969. – С. 281-289.
169. Кислягина, Л.Г. Формирование идеи самодержавия в политической
концепции Н.М. Карамзина // Вопросы методологии и истории исторической
науки / Л.Г. Кислягина [Текст]. – М., 1977. – С. 134-156.
170. Кислягина, Л.Г. Формирование общественно-политических взглядов
Н.М. Карамзина (1785-1803 гг.)/ Л.Г. Кислягина [Текст]. – М., 1976. – 198 с.
171. Ключевский, В.О. Н.М. Карамзин. // Ключевский В.О. Исторические
портреты/ В.О. Ключевский [Текст]. – М., 1990. – С. 488-489.
172. Кочеткова, Н.Д. Формирование исторической концепции Карамзина
писателя и публициста. // XVIII век. Сб. 13: Проблемы историзма в русской
литературе. Конец XVIII-начало XIX века / Н.Д. Кочеткова [Текст]. – Л., 1981. –
С. 132-155.
173. Кочеткова, Н.Д. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина и «Даша, деревенская
девушка» П.Ю. Львова//От Карамзина до Чехова / Н.Д. Кочеткова [Текст]. –
Томск, 1992. – С. 8-12.
174. Кочеткова, Н.Д. Идейно-литературные позиции масонов 80-90-х гг.
XVIII в. и Н.М. Карамзин // XVIII век Сб. 6. / Н.Д. Кочеткова [Текст]. – М.; Л.,
1964.
175. Кочеткова, Н.Д. Русский сентиментализм (Н.М. Карамзин и его
окружение) // Русский романтизм/ Н.Д. Кочеткова [Текст]. – Л., 1978. – С. 176196.
176. Кочеткова, Н.Д. Формирование исторической концепции Карамзина
писателя и публициста // XVIII век. Сб. 13 / Н.Д. Кочеткова [Текст]. – Л., 1981. –
С. 132-155.
177. Крестова, Л.В. Романтическая повесть Н.М. Карамзина «Наталья,
145
боярская дочь» и русские семейные предания
XVIII века // Древнерусская
литература и ее связи с новым временем. Исследования
и материалы по
древнерусской литературе / Л.В. Крестова [Текст]. – М., 1967. – С. 237-259.
178. Кулакова, Л.И.
Эстетические взгляды Карамзина // Русская
литература XVIII века. Эпоха классицизма/ Л.И. Кулакова [Текст]. – М.; Л., 1964.
– С. 146-176.
179. Лавровский, Н.А. Карамзин и его литературная деятельность/ Н.А.
Лавровский [Текст]. – Харьков, 1866.
180. Лебедева, О.Б. Эстетика и поэтика повествовательной прозы Н.М.
Карамзина // Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века. Учебник для
вузов/ О.Б. Лебедева [Текст]. – М., 2003.
181. Лотман, Ю.М. Черты реальной политики и позиции Карамзина 1790-х
гг. (К генезису исторической концепции Карамзина) // XVIII век. Сб. 13.
Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII - начало XIX вв. / Ю.М.
Лотман [Текст]. – Л., 1991. – С. 1-2-131.
182. Лотман, Ю.М. Карамзин: Сотворение
Карамзина.
Статьи
и
исследования 1957-1990. Заметки и рецензии / Ю.М. Лотман [Текст]. – СПб.,
1997. – 830 с.
183. Лузянина, Л.М. К вопросу о формировании взглядов Карамзина на
историю. // Вестн. Ленинг. ун-та. 1972. № 8. Сер. История, яз., лит. Вып. 2./
Л.М. Лузянина [Текст]. – С. 81-85.
184. Лузянина, Л.М. Об особенностях изображения народа в «Истории
государства Российского» Н. М. Карамзина. // Русская литература XIX XX веков /
Л.М. Лузянина [Текст]. – Л., 1971. – С. 3-17.
185. Лузянина, Л.М. Проблемы историзма в творчестве Карамзина автора
«Истории государства российского». // XVIII век. Сб. 13: Проблема историзма в
русской литературе / Л.М. Лузянина [Текст]. – Л. 1981. – С. 156-166.
186. Лузянина, Л.Н. «История государства российского» Н.М. Карамзина
146
и трагедия Пушкина «Борис Годунов» (К проблеме характера летописца) //
Русская литература / Л.Н. Лузянина [Текст]. – 1971. №1. – С. 45-57.
187. Лузянина, Л.Н.
Принципы художественного повествования в
«Истории государства российского» Н. М. Карамзина. // История русской
литературы: В 4 т. Т. 2.: От сентиментализма к романтизму и реализму / Ред. тома
Е. Купреянова /Л.Н. Лузянина [Текст]. – Л., 1981. – С. 80-87.
188. Макогоненко, Г.П. Литературная позиция Карамзина в XIX веке //
Русская литература/ Г.П. Макогоненко [Текст]. – 1962. № 1.
189. Макогоненко, Г.П. Повести Николая Карамзина // Карамзин Н.М.
Избр. Соч.: в 2 т. / Г.П. Макогоненко [Текст]. – М.; Л., 1969.
190. Мезин, С.А. Н.М. Карамзин и историческое сознание русского
общества второй половины XVIII первой четверти XIX века // Исторические
воззрения как форма общественного сознания / С.А. Мезин [Текст]. – Саратов,
1995. Ч. 1.
191. Минеева, С.В. Об использовании житийного источника Н.М.
Карамзиным // Русская литература XIX века и христианство: Сб. ст./ С.В.
Минеева [Текст]. – М.: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 1997. – С. 246- 256.
192. Моисеева, Г.Н. М.М. Щербатов и Н.М. Карамзин (записка «О
повреждении нравов в России») // XVIII век. Сб. 14. Русская литература XVIII –
начала XIX вв. в общественно-культурном контексте / Г.Н. Моисеева [Текст]. –
Л., 1983. – С. 80-92.
193. Осетров, Е.И. Три жизни Карамзина / Е.И. Осетров [Текст]. – М.,
1989. – 286 с.
194. Павлович, С.Э. Пути развития русской сентиментальной прозы XVIII
века / С.Э. Павлович [Текст]. – Саратов, 1974. – 223 с.
195. Платонов, С.Ф. Н.М. Карамзин / С.Ф. Платонов [Текст]. – СПб.,1912.
196. Подлесова, С.Е. Автор, герой и рассказчик в сентиментально
147
исторических
повестях
Н.М.
Карамзина//Русский
язык
в
контексте
межкультурной коммуникации / С.Е. Подлесова [Текст]. – Самара, 2011. – С.94102.
197. Полинковский, А.Э. Сентиментализм и Карамзин как представитель
этого направления / А.Э. Полинковский [Текст]. – Одесса, 1912.
198. Пономарев С.И., Материалы для библиографии литературы
о
Карамзине Н.М. / С.И. Пономарев [Текст]. – СПб., 1883.
199. Розова, З.Г. «Новая Элоиза» Руссо и «Наталья, боярская дочь»
Карамзина // Русская литература/ З.Г. Розова [Текст]. – 1966. № 4. С. 149-153.
200. Сапченко, Л.А. Судьба «Бедной Лизы» // Филологические науки / Л.А.
Сапченко [Текст]. – 2002. № 5. – С. 53-63.
201. Серман, И.З. Литературное дело Карамзина/ И.З. Серман [Текст]. –
М., 2005. – 328 с.
202. Сигида, Л.И. Маска и подлинность личности персонажей у Пушкина
и Карамзина («Борис Годунов» и «История государства российского»)//XVIII век:
театр и кулисы/ Л.И. Сигида [Текст]. – М., 2006. – С.101-107.
203. Сигида, Л.И. Карамзин и Рылеев о культуре Древней Руси // Мир
культуры: история и современность/ Л.И. Сигида [Текст]. – М., 2006. – С. 183194.
204. Сигида, Л.И. Сюжет об Олеге Правителе в «Истории государства
Российского» Н.М. Карамзина и «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина//Другой
XVIII век / Л.И. Сигида [Текст]. – М., 2002. – С. 273-282.
205. Сигида, Л.И. «Н.М. Языков и Н.М. Карамзин:
Об интерпретации
сюжетов «Истории государства российского» в статьях «Олег» и «Н. Языков и
русская литература» / Л.И. Сигида [Текст]. – М., 2004. – С.16-36.
206. Топоров, В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. К 200летию. Со дня выхода в свет/ В.Н. Топоров [Текст]. – М., 1995. – 512 с.
207. Успенский, Б.А. Из истории русского литературного языка XVIII –
начала XIX века. Языковая п рограмма Карамзина и ее исторические корни /
148
Б.А. Успенский [Текст]. – М., 1985. – 215 с.
208. Уханов, В.П.
Карамзин
и Жуковский как представители двух
направлений в нашей отечественной литературе - сентиментализма и романтизма/
В.П. Уханов [Текст]. – Кострома, 1888.
209. Эйдельман, Н.Я. Последний летописец / Н.Я. Эйдельман [Текст]. –
М., 1983. – 256 с.
Львов П.Ю.
210. Кауркин, Р.В. Исторические корни представлений об идеальном
обществе М.Д. Чулкова, В.А. Левшина и П.Ю. Львова // Вестник Липецкого
гос. пед. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. / Р.В. Кауркин [Текст]. – Липецк, 2010.
Вып.3. – С. 178-189.
211. Ревелли, Дж. Образ «Марии, российской Памелы» П.Ю. Львова и его
английский прототип//XVIII в. Сб. 21. / Дж. Ревелли [Текст]. – СПб., 1999. –
С. 296-302.
212. Субботина, Г.В. Масонские мотивы в повести П.Ю. Львова «Храм
истины, видение Сезостриса, царя египетского» (1790): К истории масонской
прозы в русской литературе конца XVIII в.//Актуальные проблемы современной
науки. / Г.В. Субботина [Текст]. – М., 2002. № 6. – С.79-81.
Муравьев М.Н.
213. Жилякова, Э.М. В.А. Жуковский и М.Н. Муравьев // Библиотека В.А.
Жуковского в Томске. Ч. 1. / Э.М. Жилякова [Текст]. – Томск, 1978. – С. 71-104.
214. Кулакова, Л.И. <Эстетические взгляды М.Н. Муравьева> // Очерки
истории русской эстетической мысли XVIII века / Л.И. Кулакова [Текст]. –
Л.,
1968. – С. 191-206.
215. Кулакова, Л.И. М.Н. Муравьев // Ученые записки Ленинградского
университета. Сер. Филологических наук. Вып. 4. № 47 / Л.И. Кулакова [Текст]. –
Л., 1939. – С. 4-42.
149
216. Пашкуров, А.Н.
Миф М.Н. Муравьева в русской литературной
культуре: истоки // Михаил Муравьев и его время. Сборник статей и материалов
Четвертой Всероссийской научно-практической конференции. Посвящение Союзу
трех поэтов: Гаврилы Державина, Николая Львова и Михаила Муравьева/ А.Н.
Пашкуров [Текст]. – Казань, 2013. – С. 61-70.
217. Федосеева, Т.В. «Оскольд»
М.Н. Муравьева
в
контексте
предромантического жанра «старинной повести» // Михаил Муравьев и его время.
Сборник статей и материалов Четвертой Всероссийской научно-практической
конференции. Посвящение Союзу трех поэтов: Гаврилы Державина, Николая
Львова и Михаила Муравьева / Т.В. Федосеева [Текст]. – Казань, 2013. – С. 53-60.
Нарежный В.Т.
218. Арбузова, Г.В. Пространственно-временные характеристики в романе
В.Т. Нарежного «Славенские вечера»//Проблемы языковой картины мира на
современном этапе / Г.В. Арбузова [Текст]. – Н. Новгород, 2010. – С. 8-11.
219. Ваенская, Е.Ю. «Славенские вечера» В.Т. Нарежного: (К проблеме
жанра «вечеров»)//Классика и современность / Е.Ю. Ваенская [Текст]. –
Архангельск, 2003. – Вып. 2. – С.30-37.
220. Ваенская, Е.Ю. Образ русского пространства в цикле В.Т. Нарежного
«Славенские вечера»//Проблемы литературы XX века: в поисках истины / Е.Ю.
Ваенская [Текст]. – Архангельск, 2003. – С.21-27.
221. Вокин, М.Р. Мотив богатырства в «Славенских вечерах» В.Т.
Нарежного и в
«Тарасе Бульбе» Н.В. Гоголя // Забытые и второстепенные
писатели XVII-XIX веков как явление европейской культурной жизни / М.Р.
Вокин [Текст]. – Псков, 2002. – Т.1. – С. 247-253.
222. Грихин В.А. Проблематика и особенности поэтики «Славенских
вечеров» В.Т. Нарежного//Фил. Науки. – М., 1986. № 1. – С. 72-75.
223. Киселев, В.С. Концепция личности в цикле В.Т. Нарежного
150
«Славенские вечера»//Вест. Том.гос. пед. ун-та / В.С. Киселев [Текст]. – Томск,
2004. – Вып. 3. – С. 27-32.
224. Киселев, В.С. Жанровые модификации конфликта в «Славенских
вечерах» В.Т. Нарежного// Вест. Том.гос. пед. ун-та / В.С. Киселев. – Томск, 2005.
– Вып. 6. – С.23-27.
225. Рублева, Л.И. Проблема «человек и история» в прозе В.Т. Нарежного//
Филол. журн. / Л.И. Рублева [Текст]. – Южно-Сахалинск, 2004. – Вып. 12. – С. 1821.
226. Рублева, Л.И. Нарежный и Гоголь // Филол. журн./ Л.И. Рублева
[Текст]. – Южно-Сахалинск, 2010. – Вып. 17. – С.15-21.
227. Федосеева, Т.В. «Славенские вечера» В.Т. Нарежного в контексте
предромантического осмысления духовно-нравственного пути народа//Забытые и
малоизвестные писатели как феномен русской культуры / Т.В. Федосеева [Текст].
– Елабуга, 2009. – Вып. 1. – С. 59-70.
Диссертации и авторефераты
228. Белова, Н.Е. Функции исторического анекдота в жанровой системе
повествовательной прозы 1800-1830-х гг. Диссертация кандидата филол. наук/
Н.Е. Белова [Текст]. – Томск, 2000.
229. Биткинова, В.В.
Творчество Н.М.Карамзина 1780-сер. 1790-х гг. К
проблеме предромантизма в русской литературе. Дисс. … канд. филол. наук/ В.В.
Битникова [Текст]. – Саратов, 2004.
230. Дергунова, Н.Г. Эволюция русской романтической исторической
повести первой трети XIX века (Ф. Глинка, Н. Бестужев, А. Бестужев, А.
Корнилович). Автореф. на соис.учен.степ.канд.филол.наук / Н.Г. Дергунова
[Текст]. – Н. Новгород, 1994.
231. Иванов, М.В. Карамзин и проблемы русской сентиментальной прозы
1790-1800-х гг. Диссертация … канд. филол. наук / М.В. Иванов [Текст]. – Л.,
1976.
151
232. Ищенко, Л.И. Сатира в русской литературе конца 70-80-х годов XVIII
века: (Журнал «Собрание новостей», «Санкт-петербургский вестник», «Утро»,
«Лекарство от скуки и забот» и др.): Дис. канд. фил.наук. / Л.И. Ищенко [Текст]. –
М., 1984. – 204 с.
233. Капитанова, Л.А. Жанр повести в творчестве М.П. Погодина (20-30-е
годы XIX века). Атореф. на соиск. учен.степ.канд.филол.наук / Л.А. Капитанова
[Текст]. – М., 1980.
234. Красникова, М.Н. Роль фольклорной традиции в становлении типа
исторического повествования. Диссертация… кандидата филол. наук / М.Н.
Красникова [Текст]. – Астрахань, 2011.
235.
Лёвшина:
Курышева, Л.А.
Повести о богатырях в «Русских сказках» В.А.
сказочно-историческая
модель
повествования.
Диссертация…
кандидата филол. наук/ Л.А. Курышева [Текст]. – Новосибирск, 2004.
236. Логунова, Е.В. Поэтика русского исторического повествования 20-х
годов XVII века: Топика и библеизмы. Диссертация… кандидата филол. наук /
Е.В. Логунова [Текст]. – М., 2006.
237. Лузянина, Л.М.
Проблемы истории в русской истории первой
четверти XIX века. Автореф. дис. канд. филол. наук / Л.М. Лузянина [Текст]. – Л.,
1972.
238. Малиновская, М.К. Проблема личности в прозе Н.М. Карамзина.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук/ М.К.
Малиновская [Текст]. – М., 1986.
239. Позднякова, Е.Г. Фольклоризм прозы Н.М. Карамзина. Диссертация
канд. филол. наук / Е.Г. Позднякова [Текст]. – М., 1993.
240. Подлесова, С.Е. Исторические повести Н.М. Карамзина «Наталья,
боярская дочь» и «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода»: особенности
жанра, поэтика. Диссертация… кандидата филол. наук / С.Е. Подлесова [Текст]. –
Самара, 2008.
241. Севостьянов, А.Н. Сословное расслоение русской художественно
152
публицистической литературы и ее аудитория в последней трети XVIII века: Дис.
канд. фил.наук / А.Н. Севостьянов [Текст]. – М., 1983. – 327 с.
242. Сигида, Л.И. Эволюция жанра повести Н.М. Карамзина. Дисс. ... канд.
филол. наук / Л.И. Сигида [Текст]. – М., 1992.
243.
Сковорода, Е.В.
Балладный
«элемент» в структуре русской
романтической повести первой трети XIX века. Диссертация… кандидата филол.
наук/ Е.В. Сковорода [Текст]. – Псков, 2001.
244.
Субботина, Г.В. Жанр русской повести конца ХVIII-начала XIX века:
Вопросы типологии и «чистоты» жанра. Диссертация… кандидата филол. наук/
Г.В. Субботина [Текст]. – М., 2003.
245. Сурков, Е.В. Русская повесть в историко-литературном процессе
XVIII - первой трети XIX века: становление, художественная система, поэтика.
Диссертация… кандидата филол. наук/ Е.В. Сурков [Текст]. – СПб., 2007.
246. Тираспольская, А.Ю. Повести Н.М. Карамзина 1790-х годов:
проблемы повествования. Диссертация… канд. филол. наук / А.Ю. Тираспольская
[Текст]. – СПб., 2005.
247. Утехин, Н.П. Принципы типологии этических форм и проблема жанра
повести: Дис. канд. фил.наук / Н.П. Утехин [Текст]. – Л., 1975. – 198 с.
248. Федоров, В.И.
характеристике
Исторические
повести
литературно-общественных
Н.М.
взглядов
Карамзина
Карамзина
и
(к
его
современников). Диссертация ... кандидата филол. наук / В.И. Федоров [Текст]. –
М., 1955. – 307 с.
249. Фильченкова, Е.М. «Третьесословная» проза и ее роль в развитии
русской литературы последних десятилетий XVIII века: Дис. канд. фил.наук /
Е.М. Фильченкова [Текст]. – М., 1990. – 217 с.
250. Царева, В.П. Становление романа в русской литературе 60-90-х годов
XVIII века: Дис. канд. фил.наук / В.П. Царева [Текст]. – Л., 1977. – 218 с.
251. Юсупов, Т.Ж. Развитие русской прозы XVIII века: (Проблематика,
153
поэтика, восточные мотивы). Автореферат диссертации д-ра филол. наук / Т.Ж.
Юсупов [Текст]. – М., 1995. – 32 с.
Справочные и библиографические издания
252. Европейская
поэтика от античности до
эпохи Просвещения:
энциклопедический путеводитель / под общ. ред. Е.А. Цургановой, А.Е. Махова.
– М.: изд. Кулагиной – Интрада, 2010. – 512 с.
253. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред.
А.Н.Николюкина. – М.: НПК «Интерлак», 2003. – 1600 стб.
254. Литературоведческие термины (материалы к словарю) / ред.-сост.
Г.В.Краснов. – Коломна, КПИ, 1997. – 55 с.
255. Н.М. Карамзин. Библиографический указатель /Сост. И.Н.Никитенко,
В.А. Сукайло. – Ульяновск, 1990.
256. Николай Михайлович Карамзин. Указатель трудов, литературы о
жизни и творчестве. 1883-1993 / Отв. ред. А.А. Либерман. М., 1999.
257. Пономарев С.И. Материалы для библиографии литературы о Н.М.
Карамзине. 1783-1883. – СПб., 1883.
258. Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь. Т. 1-5. М.:
Советская энциклопедия, 1989-2007.
259. Современное зарубежное литературоведение (Страны Западной
Европы и США): концепции, школы, термины: Энциклопедический справочник /
отв. ред А.Е. Махов. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – М.: Интрада, - ИНИОН, 1999.
154