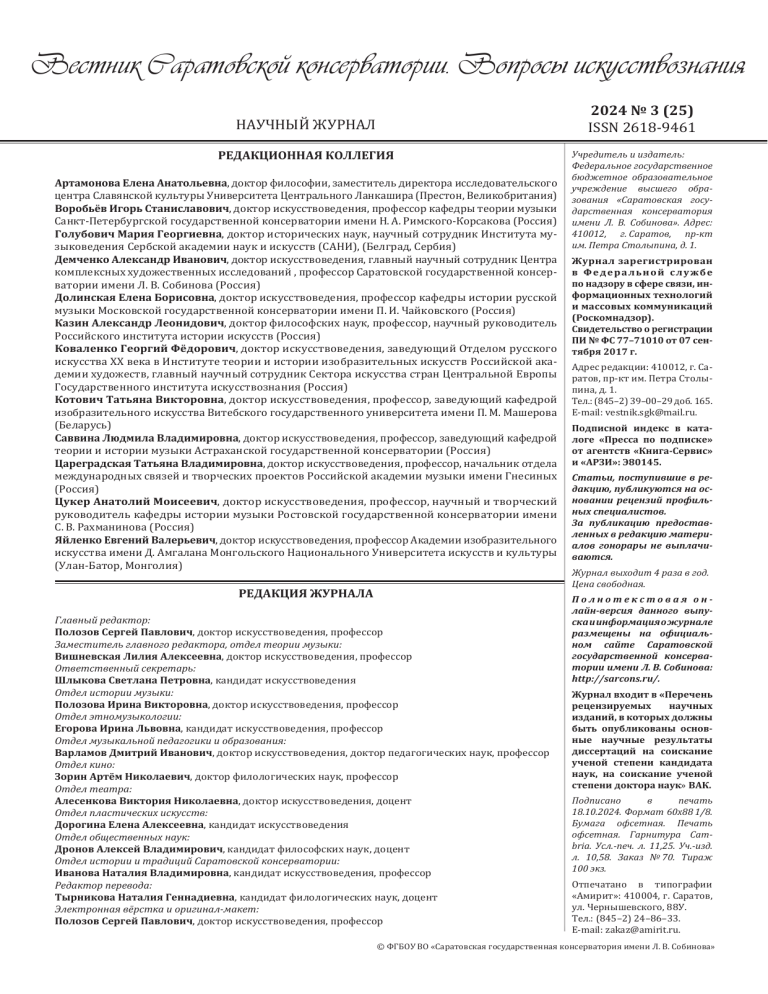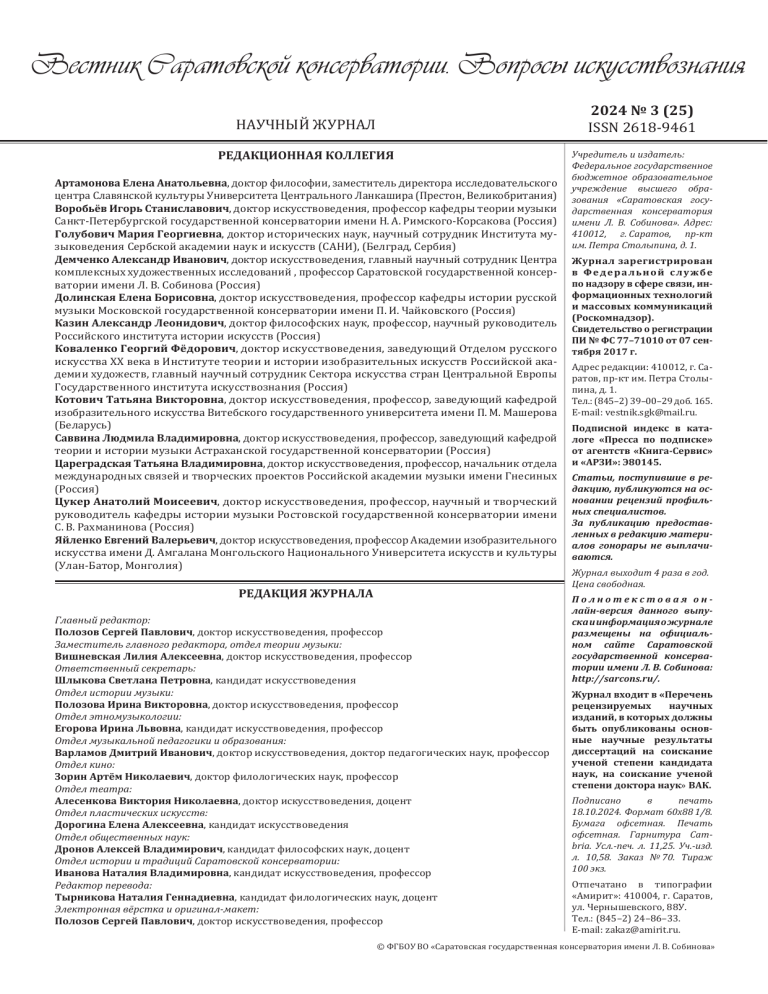
Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Артамонова Елена Анатольевна, доктор философии, заместитель директора исследовательского
центра Славянской культуры Университета Центрального Ланкашира (Престон, Великобритания)
Воробьёв Игорь Станиславович, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (Россия)
Голубович Мария Георгиевна, доктор исторических наук, научный сотрудник Института музыковедения Сербской академии наук и искусств (САНИ), (Белград, Сербия)
Демченко Александр Иванович, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Центра
комплексных художественных исследований , профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова (Россия)
Долинская Елена Борисовна, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории русской
музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (Россия)
Казин Александр Леонидович, доктор философских наук, профессор, научный руководитель
Российского института истории искусств (Россия)
Коваленко Георгий Фёдорович, доктор искусствоведения, заведующий Отделом русского
искусства ХХ века в Институте теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, главный научный сотрудник Сектора искусства стран Центральной Европы
Государственного института искусствознания (Россия)
Котович Татьяна Викторовна, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой
изобразительного искусства Витебского государственного университета имени П. М. Машерова
(Беларусь)
Саввина Людмила Владимировна, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой
теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории (Россия)
Цареградская Татьяна Владимировна, доктор искусствоведения, профессор, начальник отдела
международных связей и творческих проектов Российской академии музыки имени Гнесиных
(Россия)
Цукер Анатолий Моисеевич, доктор искусствоведения, профессор, научный и творческий
руководитель кафедры истории музыки Ростовской государственной консерватории имени
С. В. Рахманинова (Россия)
Яйленко Евгений Валерьевич, доктор искусствоведения, профессор Академии изобразительного
искусства имени Д. Амгалана Монгольского Национального Университета искусств и культуры
(Улан-Батор, Монголия)
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
Главный редактор:
Полозов Сергей Павлович, доктор искусствоведения, профессор
Заместитель главного редактора, отдел теории музыки:
Вишневская Лилия Алексеевна, доктор искусствоведения, профессор
Ответственный секретарь:
Шлыкова Светлана Петровна, кандидат искусствоведения
Отдел истории музыки:
Полозова Ирина Викторовна, доктор искусствоведения, профессор
Отдел этномузыкологии:
Егорова Ирина Львовна, кандидат искусствоведения, профессор
Отдел музыкальной педагогики и образования:
Варламов Дмитрий Иванович, доктор искусствоведения, доктор педагогических наук, профессор
Отдел кино:
Зорин Артём Николаевич, доктор филологических наук, профессор
Отдел театра:
Алесенкова Виктория Николаевна, доктор искусствоведения, доцент
Отдел пластических искусств:
Дорогина Елена Алексеевна, кандидат искусствоведения
Отдел общественных наук:
Дронов Алексей Владимирович, кандидат философских наук, доцент
Отдел истории и традиций Саратовской консерватории:
Иванова Наталия Владимировна, кандидат искусствоведения, профессор
Редактор перевода:
Тырникова Наталия Геннадиевна, кандидат филологических наук, доцент
Электронная вёрстка и оригинал-макет:
Полозов Сергей Павлович, доктор искусствоведения, профессор
2024 № 3 (25)
ISSN 2618-9461
Учредитель и издатель:
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория
имени Л. В. Собинова». Адрес:
410012, г. Саратов, пр-кт
им. Петра Столыпина, д. 1.
Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77–71010 от 07 сентября 2017 г.
Адрес редакции: 410012, г. Саратов, пр-кт им. Петра Столыпина, д. 1.
Тел.: (845–2) 39–00–29 доб. 165.
E-mail: vestnik.sgk@mail.ru.
Подписной индекс в каталоге «Пресса по подписке»
от агентств «Книга-Сервис»
и «АРЗИ»: Э80145.
Статьи, поступившие в редакцию, публикуются на основании рецензий профильных специалистов.
За публикацию предоставленных в редакцию материалов гонорары не выплачиваются.
Журнал выходит 4 раза в год.
Цена свободная.
Полнотекстовая онлайн-версия данного выпуска и информация о журнале
размещены на официальном сайте Саратовской
государственной консерватории имени Л. В. Собинова:
http://sarcons.ru/.
Журнал входит в «Перечень
рецензируемых
научных
изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание
ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой
степени доктора наук» ВАК.
Подписано
в
печать
18.10.2024. Формат 60х88 1/8.
Бумага офсетная. Печать
офсетная. Гарнитура Cambria. Усл.-печ. л. 11,25. Уч.-изд.
л. 10,58. Заказ № 70. Тираж
100 экз.
Отпечатано в типографии
«Амирит»: 410004, г. Саратов,
ул. Чернышевского, 88У.
Тел.: (845–2) 24–86–33.
E-mail: zakaz@amirit.ru.
© ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова»
СОДЕРЖАНИЕ
Полозов С. П.
Исследование творчества Альфреда Гарриевича Шнитке в Саратовской консерватории .................................... 3
Теория и история искусства
Кекова С. В., Измайлов Р. Р.
Тринитарный символизм в вокальном цикле Альфреда Шнитке «Drei Gedichte von Viktor Schnittke»
(«Три стихотворения Виктора Шнитке») для голоса и фортепиано ................................................................................... 8
Зорина Э. Э., Зорин А. Н.
Überstil: полистилистика киномузыки А. Г. Шнитке. Вариативность исследовательских подходов ............ 15
Музыкальное искусство
Алексеева И. В.
«Две маленькие пьесы для органа» Альфреда Шнитке: звуковой и художественный мир ................................ 23
Высоцкая М. С.
О категории внемузыкального у Шнитке ......................................................................................................................................... 29
Денисов А. В.
О цитатах в финале Первой симфонии А. Шнитке ....................................................................................................................... 34
Лебедев А. Е.
А. Г. Шнитке глазами современных исследователей ................................................................................................................. 40
Савенко С. И.
Оперы Альфреда Шнитке в контексте позднего стиля композитора .............................................................................. 46
Чигарева Е. И.
Воспоминания об Альфреде Гарриевиче Шнитке ....................................................................................................................... 54
Шабшаевич Е. М.
Роль одного мотива в творчестве Альфреда Шнитке, или Aimez-vous Brahms .......................................................... 62
Рыбкова И. В.
«Стихи покаянные» А. Г. Шнитке: черты композиции .............................................................................................................. 71
Хачаянц А. Г., Мальцева В. Ю.
Вторая симфония Альфреда Шнитке: к вопросу жанровой контаминации ................................................................. 77
Изобразительное искусство
Дорогина Е. А.
Памятник Альфреду Шнитке: от идеи до воплощения ............................................................................................................. 84
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-3-7
Полозов Сергей Павлович, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и композиции Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова
Polozov Sergey Pavlovich, Dr. Sci. (Arts), Professor at the Theory of Music and Composition Department of Saratov
State Conservatoire named after L. V. Sobinov
E-mail: sppolozov@mail.ru
ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛЬФРЕДА ГАРРИЕВИЧА ШНИТКЕ В САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Статья посвящена обзору исследований творчества Альфреда Гарриевича Шнитке, проводимых в Саратовской консерватории. В ней представлены некоторые научные мероприятия, реализуемые консерваторией в рамках чествования 90-летия
со дня рождения композитора. Приводится перечень основных научных исследований, проводимых сотрудниками консерватории и посвящённых изучению творческого наследия композитора. Представлена многовекторность направлений
научных поисков, охватывающих как исторический, так и теоретический аспекты, а также как отдельные произведения, так
и творчество композитора в целом. В завершении статьи дано разъяснение по поводу подготовки специального выпуска
журнала «Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания» с подбором материала для публикации статей,
посвящённых Альфреду Гарриевичу Шнитке. Редакция журнала выражает благодарность всем авторам, предоставившим
статьи в данный выпуск журнала.
Ключевые слова: Альфред Гарриевич Шнитке, Саратовская консерватория, научные исследования, творчество, музыковедение.
A STUDY OF ALFRED SCHNITTKE'S WORK AT THE SARATOV CONSERVATORY
The article presents a review of research on the work of Alfred Harrievich Schnittke conducted at the Saratov Conservatory. It
presents some of the scientific events held by the Conservatory as part of the celebration of the 90th anniversary of the composer's
birth. The list of the main scientific research conducted by the staff of the Conservatory and devoted to the study of the composer's
creative heritage is given. The multi-vector nature of research directions is presented, covering both historical and theoretical aspects,
separate works and the composer's work as a whole. At the end of the article, the author tells about the preparation of a special issue
of the journal «Journal of Saratov Conservatoire. Issues of Arts» with articles dedicated to Alfred Harrievich Schnittke. The editorial
board of the journal express their gratitude to all the authors who submitted articles to this issue of the journal.
Key words: Alfred Garrievich Schnittke, Saratov Conservatory, scientific research, creativity, musicology.
В 2024 году исполняется 90 лет со дня рождения
А. Шнитке. В этой связи по всей России запланированы
и проводятся многочисленные мероприятия в честь
нашего выдающегося соотечественника. Юбилей композитора отмечается в разных регионах страны, фактически достигнув всероссийского масштаба.
В связи с тем, что Альфред Гарриевич родился на саратовской земле, в городе Энгельсе, саратовцы ощущают особую духовную причастность к творчеству
композитора. Поэтому Саратовская государственная
консерватория имени Л. В. Собинова активно включилась в чествование юбилея композитора, предложив
серию творческих, научных и просветительских проектов, всесторонне освещающих творческое наследие
Альфреда Гарриевича [18].
Важную часть реализуемых юбилейных проектов
составляют научные мероприятия, среди которых выделим XVI Международный форум «Диалог искусств и
арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART XVI» (28 сентября 2024) и Международные научные чтения «Проблемы художественного творчества», посвященные
Б. Л. Яворскому и приуроченные к 90-летию со дня
рождения А. Г. Шнитке (13–15 ноября 2024). К участию
в этих мероприятиях привлечены ведущие музыковеды
и музыканты-исполнители для обсуждения как обще-
эстетических проблем современного искусства, так и
вопросов стилистики, техника композиции и исполнительской интерпретации музыки Альфреда Гарриевича
Шнитке.
Следует отметить, что исследование творчества
Альфреда Гарриевича в Саратовской консерватории
имеет достаточно внушительный опыт. Наверное, сейчас
трудно найти музыковеда — исследователя современной академической музыки, который тем или иным
образом не соприкасался бы с творчеством Шнитке. Действительно, творческая личность Альфреда Гарриевича
столь велика и масштабна, что, пожалуй, вряд ли имеется
хотя бы одна актуальная на сегодня музыковедческая
проблема, к которой Шнитке был бы абсолютно непричастен. При этом, на наш взгляд, если ранее для проведения исследования его творчества была необходима
определённая смелость, то в настоящее время — особая
ответственность. Оставив в стороне многочисленные
частные случаи обращения к творческой деятельности
Альфреда Гарриевича Шнитке, сосредоточим внимание
на некоторых специализированных исследованиях,
непосредственно посвящённых изучению творческого
наследия композитора.
Среди саратовских музыковедов наибольший вклад
в исследование творчества Альфреда Гарриевича Шнит-
3
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
ке внёс доктор искусствоведения, профессор Александр
Иванович Демченко, написавший о композиторе несколько десятков статей и монографий. В своих трудах
он рассуждает о природе гения как яркого представителя эпохи, описывает все превратности его судьбы,
раскрывает его особую жизненную позицию. В качестве
центрального элемента творчества композитора он
выводит полистилистику, которая позволила отразить
в музыке многомерную картину мира в его прошлом,
настоящем и будущем. Среди объёмного исследовательского материала, посвящённого творчеству Альфреда
Гарриевича Шнитке, отметим только две монографии,
выпущенные в текущем 2024 году: «Наш Альфред Шнитке» [14] и «Четыре взгляда из XXI столетия: к 90-летию
со дня рождения А. Шнитке» [15].
Важный вклад в исследование творчества Альфреда
Гарриевича Шнитке внесла кандидат искусствоведения,
профессор Елена Ивановна Вартанова. С 1994 года она
стала одним из активных деятелей организованного в Саратовской консерватории «Шнитке-центра» и
пропагандистом творчества композитора. Ею написаны достаточно мощные и глубокие теоретические
аналитические труды, посвящённые как отдельным
сочинениям, так творчеству композитора в целом:
«Об одном свойстве полистилистики А. Шнитке» [5],
«Психологические модусы аллюзийности в музыке
Шнитке» [6], «Творческая система А. Шнитке в ракурсе
проблемы этнической идентичности» [7], «А. Шнитке.
Четвертая симфония (еще один опыт интертекстуального анализа)» [3], «Вторая симфония А. Г. Шнитке: опыт
феноменологического анализа» [4].
Мы привели основные фундаментальные исследования творчества Альфреда Гарриевича Шнитке исторического и теоретического плана. Однако сотрудниками
консерватории также проводились многочисленные
исследования, нацеленные на освещение частных искусствоведческих проблем. Среди наиболее значимых
трудов отметим публикации С. Я. Вартанова («Альфред Шнитке и Иосиф Бродский» [2], «А. Шнитке “Пять
Афоризмов”: Прием Перепада» [1]), А. А. Виниченко
(«А. Шнитке. Фортепианная соната № 1: традиции и
новаторство. Опыт исполнительского комментария» [8],
«Полистилистика в музыке Альфреда Шнитке. Концерт
для фортепиано и струнного оркестра (1979). Соната
для фортепиано in D (1987): стилевое и драматургическое наполнение» [9]), Н. Н. Владимирцевой («Возрожде-
ние традиции: А. Шнитке “Стихи покаянные”» [10]),
Э. И. Волынского («Некоторые особенности фактурного ритма в Четвертой симфонии А. Шнитке» [11]),
Н. В. Королевской («Образы слова в Четвертой симфонии А. Г. Шнитке: к проблеме взаимодействия слова и
музыки» [17], «К проблеме отношений слова и музыки
у А. Г. Шнитке» [16]), Е. В. Пономарёвой («Размышления А. Шнитке об оперном реализме “Пиковой дамы”
П. И. Чайковского в контексте современных исследовательских интерпретаций» [19]), И. В. Рыбковой («Тембровые пласты в кантате “История доктора Иоганна Фауста”
А. Г. Шнитке» [21], «Метафора в сценической композиции
“желтый звук” В. В. Кандинского и А. Г. Шнитке» [20],
«Трансформационные процессы в художественном творчестве отечественных композиторов-эмигрантов XX века
на примере позднего творчества А. Г. Шнитке» [22]),
Л. А. Севостьяновой («Градации христианской символики в квартетном творчестве А. Г. Шнитке (на примере
Второго и Третьего квартетов)» [24], «“Алмазный мой
венец” или венец терновый? (парадоксы имяславия
в Третьем квартете А. Г. Шнитке)» [23]), А. Г. Хачаянц
(«Прочтение средневековой покаянной поэзии в хоровом цикле Альфреда Шнитке “Стихи покаянные”» [25]).
Приведённый перечень научных трудов, посвящённых творчеству композитора, естественно, не является
полным. При этом он даёт представление о многовекторности проводимых в Саратовской консерватории
исследований творчества Альфреда Гарриевича Шнитке.
Журнал «Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания» не мог остаться в стороне
от юбилейных мероприятий, и данный выпуск мы решили посвятить 90-летию со дня рождения композитора1. Мы пригласили к участию в выпуске свыше
десяти видных учёных-музыковедов, которые занимаются исследованием творчества Альфреда Гарриевича
Шнитке. К сожалению, не все из них в силу различных
обстоятельств смогли откликнуться на нашу просьбу.
Вместе с тем, узнав о подготовке нами специального
выпуска, появилось несколько предложений от других
авторов, которые мы, безусловно, приняли.
Редакция журнала выражает свою благодарность
всем авторам, предоставившим статьи в настоящий
выпуск журнала, посвящённый 90-летнему юбилею
нашего великого композитора Альфреда Гарриевича
Шнитке.
Литература
1. Вартанов С. Я. А. Шнитке «Пять Афоризмов»: Прием
Перепада // Проблемы музыкальной науки. 2011. № 2 (9).
С. 99–105.
2. Вартанов С. Я. Альфред Шнитке и Иосиф Бродский //
Музыковедение. 2004. № 1. С. 28–37.
3. Вартанова Е. И. А. Шнитке. Четвертая симфония (еще
Кстати, на страницах журнала можно найти несколько ранее опубликованных статей, посвящённых творчеству Альфреда
Гарриевича Шнитке [12; 13; 20; 22].
1
4
один опыт интертекстуального анализа) // Альфред Шнитке:
художник и эпоха: к 75-летию композитора: Сборник статей
по материалам научных чтений 12 декабря 2009 года. Саратов:
СГК им. Л. В. Собинова, 2010. С. 55–61.
4. Вартанова Е. И. Вторая симфония А. Г. Шнитке: опыт
феноменологического анализа // Приношение Альфреду
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Гарриевичу Шнитке: сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных 80-летию со дня
рождения композитора (23–24 октября 2014 г.). Саратов:
Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2015. С. 14–21.
5. Вартанова Е. И. Об одном свойстве полистилистики
А. Шнитке // Учёные записки Саратовской государственной
консерватории им. Л. В. Собинова. Вып. 1: Теоретическое и
историческое музыкознание и исполнительство. Саратов:
Изд-во Сарат. ун-та, 2000. С. 8–10.
6. Вартанова Е. И. Психологические модусы аллюзийности
в музыке Шнитке // Альфреду Шнитке посвящается: К 65-летию со дня рождения: Из собр. «Шнитке-центра». Вып. 2. М.:
МГИМ им. А. Шнитке, 2001. С. 172–175.
7. Вартанова Е. И. Творческая система А. Шнитке в ракурсе
проблемы этнической идентичности // Вопросы психологии
творчества. Вып. 7. Саратов: Тип. Аврора, 2005. С. 162–166.
8. Виниченко А. А. А. Шнитке. Фортепианная соната № 1:
традиции и новаторство. Опыт исполнительского комментария // Исполнительское искусство и педагогика: история,
теория, практика: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (23 мая 2014 г.).
Саратов: Саратовская государственная консерватория имени
Л. В. Собинова, 2015. С. 84–92.
9. Виниченко А. А. Полистилистика в музыке Альфреда
Шнитке. Концерт для фортепиано и струнного оркестра (1979).
Соната для фортепиано in D (1987): стилевое и драматургическое наполнение: учебное пособие. Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2020. 38 с.
10. Владимирцева Н. Н. Возрождение традиции: А. Шнитке
«Стихи покаянные» // Великая победа: наследие и наследники.
Саратов: Саратовская митрополия, 2020. С. 32–38.
11. Волынский Э. И. Некоторые особенности фактурного
ритма в Четвёртой симфонии А. Шнитке // Учёные записки
Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова. Вып. 2: Творчество Альфреда Шнитке. К 65-летию
со дня рождения. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000. С. 30–37.
12. Занорин А. Г., Мальцева В. Ю. Отражение христианского мировосприятия в сочинениях с хором 1970–1980-х гг.
А. Г. Шнитке // Вестник Саратовской консерватории. Вопросы
искусствознания. 2023. № 2 (20). С. 86–90.
13. Демченко А. И. «Многообразная музыкальная реальность». К 85-летию со дня рождения А. Г. Шнитке // Вестник
Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2019.
№ 4 (6). С. 36–47.
14. Демченко А. И. Наш Альфред Шнитке. Саратов: Издательский дом «Волга», 2024. 176 с.
15. Демченко А. И. Четыре взгляда из XXI столетия: к 90-летию со дня рождения А. Шнитке. Саратов: Саратовская гос.
консерватория им. Л. В. Собинова, 2024. 76 с.
16. Королевская Н. В. К проблеме отношений слова и музыки
у А. Г. Шнитке // Альфред Шнитке: художник и эпоха: к 75-летию композитора: Сборник статей по материалам научных
чтений 12 декабря 2009 года. Саратов: СГК им. Л. В. Собинова,
2010. С. 68–73.
17. Королевская Н. В. Образы слова в Четвертой симфонии
А. Г. Шнитке: к проблеме взаимодействия слова и музыки //
Творчество А. Г. Шнитке в контексте отечественной и мировой
культуры. Саратов: Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2006. С. 23–30.
18. Кулапина О. И., Полозова И. В. Человек великого духа,
чистой совести и глубокой веры (к 90-летию А. Шнитке) //
Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2023. № 3 (21). С. 3–6.
19. Пономарева Е. В. Размышления А. Шнитке об оперном
реализме «Пиковой дамы» П. И. Чайковского в контексте современных исследовательских интерпретаций // Приношение
Альфреду Гарриевичу Шнитке: сборник статей по материалам
Всероссийских научных чтений, посвященных 80-летию со дня
рождения композитора (23–24 октября 2014 г.). Саратов:
Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2015. С. 135–140.
20. Рыбкова И. В. Метафора в сценической композиции
«желтый звук» В. В. Кандинского и А. Г. Шнитке // Вестник
Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2022.
№ 2 (16). С. 17–23.
21. Рыбкова И. В. Тембровые пласты в кантате «История
доктора Иоганна Фауста» А. Г. Шнитке // Музыковедение. М.,
2019. № 12. С. 14–20.
22. Рыбкова И. В. Трансформационные процессы в художественном творчестве отечественных композиторов-эмигрантов XX века на примере позднего творчества А. Г. Шнитке //
Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2024. № 1 (23). С. 52–57.
23. Севостьянова Л. А. «Алмазный мой венец» или венец терновый? (парадоксы имяславия в Третьем квартете
А. Г. Шнитке) // Альфред Шнитке: художник и эпоха: к 75-летию композитора: Сборник статей по материалам научных
чтений 12 декабря 2009 года. Саратов: СГК им. Л. В. Собинова,
2010. С. 62–67.
24. Севостьянова Л. А. Градации христианской символики
в квартетном творчестве А. Г. Шнитке (на примере Второго
и Третьего квартетов) // Учёные записки Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова. Вып. 2:
Творчество Альфреда Шнитке. К 65-летию со дня рождения.
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000. С. 50–59.
25. Хачаянц А. Г. Прочтение средневековой покаянной поэзии в хоровом цикле Альфреда Шнитке «Стихи покаянные» //
Музыкальная академия. 2020. № 4. С. 133−151.
References
1. Vartanov S. Ya. A. Shnitke «Pyat Aforizmov»: Priem Perepada [A. Schnittke «Five Aphorisms»: The Method Of The Drop] //
Problemy muzykalnoj nauki [Problems of musical science]. 2011.
№ 2 (9). P. 99–105.
2. Vartanov S. Ya. Alfred Shnitke i Iosif Brodskij [Alfred Schnittke and Joseph Brodsky] // Muzykovedenie [Musicology]. 2004.
№ 1. P. 28–37.
3. Vartanova E. I. A. Shnitke. Chetvertaya simfoniya (eshhe odin
opy`t intertekstual`nogo analiza) [A. Schnittke. The 4th Symphony
(one more experience of intertextual analysis)] // Al`fred Shnitke:
hudozhnik i epoha: k 75-letiyu kompozitora [Alfred Schnittke:
the artist and the epoch: on the 75th anniversary of the composer]: Sbornik statej po materialam nauchnyh chtenij 12 dekabrya
2009 goda. Saratov: SGK im. L. V. Sobinova, 2010. P. 55–61.
4. Vartanova E. I. Vtoraya simfoniya A. G. Shnitke: opyt fenomenologicheskogo analiza [A. G. Schnittke's Second Symphony:
the experience of phenomenological analysis] // Prinoshenie
Alfredu Garrievichu Shnitke [An offering to Alfred Harrievich
Schnittke]: sbornik statej po materialam Vserossijskih nauchnyh
chtenij, posvyashhennyh 80-letiyu so dnya rozhdeniya kompozitora
5
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
(23–24 oktyabrya 2014 g.). Saratov: Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni L. V. Sobinova, 2015. P. 14–21.
5. Vartanova E. I. Ob odnom svojstve polistilistiki A. Shnitke
[On one property of polystylistics by A. Schnittke] // Uchyonye
zapiski Saratovskoj gosudarstvennoj konservatorii im. L. V. Sobinova. Vy`p. 1: Teoreticheskoe i istoricheskoe muzy`koznanie i
ispolnitel`stvo [Scientific notes of the Saratov State Conservatory
named after L. V. Sobinov. Issue 1: Theoretical and Historical Musicology and Performance]. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 2000. P. 8–10.
6. Vartanova E. I. Psihologicheskie modusy allyuzijnosti
v muzyke Shnitke [Psychological modes of allusion in Schnittke's
music] // Alfredu Shnitke posvyashhaetsya: K 65-letiyu so dnya
rozhdeniya: Iz sobr. «Shnitke-tsentra» [Dedicated to Alfred Schnittke: On the 65th anniversary of his birth: From the collection
of The Schnittke Center]. Vyp. 2. M.: MGIM im. A. Shnitke, 2001.
P. 172–175.
7. Vartanova E. I. Tvorcheskaya sistema A. Shnitke v rakurse
problemy etnicheskoj identichnosti [A. Schnittke's creative system
from the perspective of the problem of ethnic identity] // Voprosy
psihologii tvorchestva [Issues of the psychology of creativity].
Vyp. 7. Saratov: Tip. Avrora, 2005. P. 162–166.
8. Vinichenko A. A. A. Shnitke. Fortepiannaya sonata № 1: traditsii i novatorstvo. Opyt ispolnitelskogo kommentariya [A. Schnittke.
Piano Sonata No. 1: Tradition and Innovation. The experience
of performing commentary] // Ispolnitel`skoe iskusstvo i pedagogika: istoriya, teoriya, praktika [Performing Arts and Pedagogy:
history, theory, practice]: sbornik statej po materialam Vserossijskoj
nauchno-prakticheskoj konferencii (23 maya 2014 g.). Saratov:
Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni L. V. Sobinova, 2015. P. 84–92.
9. Vinichenko A. A. Polistilistika v muzyke Alfreda Shnitke.
Kontsert dlya fortepiano i strunnogo orkestra (1979). Sonata
dlya fortepiano in D (1987): stilevoe i dramaturgicheskoe napolnenie [Polystylistics in the music of Alfred Schnittke. Concerto
for Piano and String Orchestra (1979). Sonata for Piano in D (1987):
stylistic and dramatic content]: uchebnoe posobie. Saratov: Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni L. V. Sobinova,
2020. 38 p.
10. Vladimirtseva N. N. Vozrozhdenie traditsii: A. Shnitke «Stihi pokayannye» [Revival of tradition: A. Schnittke «Penitential
Poems»] // Velikaya pobeda: nasledie i nasledniki [The Great
Victory: Legacy and Heirs]. Saratov: Saratovskaya mitropoliya,
2020. P. 32–38.
11. Volynskij E. I. Nekotorye osobennosti fakturnogo ritma
v Chetvyortoj simfonii A. Shnitke [Some features of the textured
rhythm in A. Schnittke's Fourth Symphony] // Uchyonye zapiski
Saratovskoj gosudarstvennoj konservatorii im. L. V. Sobinova.
Vyp. 2: Tvorchestvo Alfreda Shnitke. K 65-letiyu so dnya rozhdeniya
[Scientific notes of the Saratov State Conservatory named after
L. V. Sobinov. Issue 2: The work of Alfred Schnittke. On the 65th anniversary of his birth]. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 2000. P. 30–37.
12. Zanorin A. G., Maltseva V. Yu. Otrazhenie hristianskogo mirovospriyatiya v sochineniyah s horom 1970–1980-h gg. A. G. Shnitke
[Reflection of the Christian worldview in the works with the choir
of the 1970s and 1980s by A. G. Schnittke] // Vestnik Saratovskoj
konservatorii. Voprosy` iskusstvoznaniya [Journal of Saratov Conservatoire. Issues of Arts]. 2023. № 2 (20). P. 86–90.
13. Demchenko A. I. «Mnogoobraznaya muzykalnaya realnost».
K 85-letiyu so dnya rozhdeniya A. G. Shnitke [«A diverse musical
reality». On the 85th anniversary of the birth of A. G. Schnittke] //
Vestnik Saratovskoj konservatorii. Voprosy iskusstvoznaniya
[Journal of Saratov Conservatoire. Issues of Arts]. 2019. № 4 (6).
P. 36–47.
14. Demchenko A. I. Nash Alfred Shnitke [Our Alfred Schnittke].
6
Saratov: Izdatel`skij dom «Volga», 2024. 176 p.
15. Demchenko A. I. Chetyre vzglyada iz XXI stoletiya: k 90-letiyu
so dnya rozhdeniya A. Shnitke [Four views from the XXI century:
on the 90th anniversary of the birth of A. Schnittke]. Saratov:
Saratovskaya gos. konservatoriya im. L. V. Sobinova, 2024. 76 p.
16. Korolevskaya N. V. K probleme otnoshenij slova i muzyki
u A. G. Shnitke [On the problem of the relationship between word
and music in works of A. G. Schnittke] // Alfred Shnitke: hudozhnik
i epoha: k 75-letiyu kompozitora [Alfred Schnittke: the artist and
the epoch: on the 75th anniversary of the composer]: Sbornik
statej po materialam nauchnyh chtenij 12 dekabrya 2009 goda.
Saratov: SGK im. L. V. Sobinova, 2010. P. 68–73.
17. Korolevskaya N. V. Obrazy slova v Chetvertoj simfonii
A. G. Shnitke: k probleme vzaimodejstviya slova i muzyki [Images
of the Word in A. G. Schnittke's Fourth Symphony: on the problem
of the Interaction of Word and Music] // Tvorchestvo A. G. Shnitke v kontekste otechestvennoj i mirovoj kultury [The work
of A. G. Schnittke in the context of national and world culture]. Saratov: Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya im. L. V. Sobinova, 2006. P. 23–30.
18. Kulapina O. I., Polozova I. V. Chelovek velikogo duha, chistoj
sovesti i glubokoj very (k 90-letiyu A. Shnitke) [A man of great spirit,
pure conscience and deep faith (on the occasion of A. Schnittke's
90th birthday)] // Vestnik Saratovskoj konservatorii. Voprosy
iskusstvoznaniya [Journal of Saratov Conservatoire. Issues of Arts].
2023. № 3 (21). P. 3–6.
19. Ponomareva E. V. Razmyshleniya A. Shnitke ob opernom
realizme «Pikovoj damy» P. I. Chajkovskogo v kontekste sovremennyh issledovatelskih interpretatsij [A. Schnittke's Reflections
on the Operatic Realism of Tchaikovsky's The Queen of Spades
in the context of modern research interpretations] // Prinoshenie Alfredu Garrievichu Shnitke [An offering to Alfred Harrievich
Schnittke]: sbornik statej po materialam Vserossijskih nauchnyh
chtenij, posvyashhennyh 80-letiyu so dnya rozhdeniya kompozitora
(23–24 oktyabrya 2014 g.). Saratov: Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni L. V. Sobinova, 2015. P. 135–140.
20. Rybkova I. V. Metafora v stsenicheskoj kompozitsii «zhelty
zvuk» V. V. Kandinskogo i A. G. Shnitke [Metaphor in the stage composition «yellow sound» by V. V. Kandinsky and A. G. Schnittke] //
Vestnik Saratovskoj konservatorii. Voprosy iskusstvoznaniya
[Journal of Saratov Conservatoire. Issues of Arts]. 2022. № 2 (16).
P. 17–23.
21. Rybkova I. V. Tembrovye plasty v kantate «Istoriya doktora Ioganna Fausta» A. G. Shnitke [Timbre layers in the cantata
«The Story of Dr. Johann Faust» by A. G. Schnittke] // Muzykovedenie [Musicology]. M., 2019. № 12. P. 14–20.
22. Rybkova I. V. Transformatsionnye protsessy v hudozhestvennom tvorchestve otechestvennyh kompozitorov-emigrantov
XX veka na primere pozdnego tvorchestva A. G. Shnitke [Transformational processes in the artistic work of Russian emigrant
composers of the 20th century on the example of the late work
of A. G. Schnittke] // Vestnik Saratovskoj konservatorii. Voprosy
iskusstvoznaniya [Journal of Saratov Conservatoire. Issues of Arts].
2024. № 1 (23). P. 52–57.
23. Sevostyanova L. A. «Almaznyj moj venets» ili venets ternovyj?
(paradoksy imyaslaviya v Tretem kvartete A. G. Shnitke) [«My
diamond crown» or the crown of thorns? (paradoxes of the Name
of Glory in the Third Quartet by A. G. Schnittke)] // Alfred Shnitke:
hudozhnik i epoha: k 75-letiyu kompozitora [Alfred Schnittke:
the artist and the epoch: on the 75th anniversary of the composer]: Sbornik statej po materialam nauchnyh chtenij 12 dekabrya
2009 goda. Saratov: SGK im. L. V. Sobinova, 2010. P. 62–67.
24. Sevostyanova L. A. Gradatsii hristianskoj simvoliki v kvartetnom tvorchestve A. G. Shnitke (na primere Vtorogo i Tretego
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
kvartetov) [Gradations of Christian symbolism in the quartet
work of A. G. Schnittke (on the example of the Second and Third
Quartets)] // Uchyonye zapiski Saratovskoj gosudarstvennoj konservatorii im. L. V. Sobinova. Vyp. 2: Tvorchestvo Alfreda Shnitke.
K 65-letiyu so dnya rozhdeniya [Scientific notes of the Saratov
State Conservatory named after L. V. Sobinov. Issue 2: The work
of Alfred Schnittke. On the 65th anniversary of his birth]. Saratov:
Izd-vo Sarat. un-ta, 2000. P. 50–59.
25. Khachayants A. G. Prochtenie srednevekovoj pokayannoj
poezii v horovom tsikle Alfreda Shnitke «Stihi pokayannye» [Reading medieval Penitential Poetry in Alfred Schnittke's Choral cycle
«Penitential Poems»] // Muzykalnaya akademiya [Music Academy].
2020. № 4. P. 133−151.
Информация об авторе
Information about the author
Сергей Павлович Полозов
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова»
Саратов, Россия
Sergey Pavlovich Polozov
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
Saratov, Russia
7
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Теория и история искусства
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-8-14
Кекова Светлана Васильевна, доктор филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова
Kekova Svetlana Vasilyevna, Dr. Sci. (Philology), Professor at the Humanities Department of the Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov
E-mail: kekova@yandex.ru
Измайлов Руслан Равилович, кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин
Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова
Izmailov Ruslan Ravilovich, PhD (Philology), Professor at the Humanities Department of the Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov
E-mail: ruslanizmajloff@yandex.ru
ТРИНИТАРНЫЙ СИМВОЛИЗМ В ВОКАЛЬНОМ ЦИКЛЕ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ
«DREI GEDICHTE VON VIKTOR SCHNITTKE» («ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ВИКТОРА ШНИТКЕ»)
ДЛЯ ГОЛОСА И ФОРТЕПИАНО
Статья посвящена анализу стихотворений Виктора Шнитке, которые являются основой вокального цикла композитора и
брата поэта Альфреда Шнитке. Вокальный цикл «Drei Gedichte von Viktor Schnittke» («Три стихотворения Виктора Шнитке»)
для голоса и фортепиано написан Альфредом Шнитке в период его духовного укоренения в христианской традиции. В статье
обрисован поэтический мир Виктора Шнитке. Он раскрывается перед читателем пространством христианского осмысления
мира и жизни человека. Это явлено в стихах, написанных как на русском языке, так и на немецком. К юбилею брата композитор выбирает немецкоязычные стихотворения, которые, с одной стороны, являют единство их семейного союза, а с другой
стороны, соответствуют новому духовному состоянию композитора и соответствуют христианскому мировоззрению Альфреда Шнитке. Три стихотворения Виктора Шнитке становятся проводником христианского тринитарного миропонимания
и мирочувствия композитора.
Ключевые слова: Виктор Шнитке, Альфред Шнитке, вокальный цикл, три стихотворения Виктора Шнитке, тринитарный
символизм.
TRINITARIAN SYMBOLISM IN THE VOCAL CYCLE BY ALFRED SCHNITTKE
«DREI GEDICHTE VON VIKTOR SCHNITTKE» («THREE POEMS BY VICTOR SCHNITTKE»)
FOR VOICE AND PIANO
The article is devoted to the analysis of Victor Schnittke's poems, which are the basis of the vocal cycle of the composer and poet's
brother Alfred Schnittke. The vocal cycle «Drei Gedichte von Viktor Schnittke» («Three poems by Viktor Schnittke») for voice and
piano was written by Alfred Schnittke during his spiritual rooting in the Christian tradition. The article describes the poetic world
of Viktor Schnittke that reveals to the reader the space of Christian understanding of the world and human life. This is manifested
both in poems written in Russian and in German. For the anniversary of his brother, the composer chooses German-language poems
that, on the one hand, show the unity of their family, and, on the other hand, correspond to the composer's new spiritual state and
to the Christian worldview of Alfred Schnittke. Three poems by Viktor Schnittke become a guide to the Christian trinitarian worldview
as well as to the composer's worldview.
Key word: Victor Schnittke, Alfred Schnittke, vocal cycle, three poems by Victor Schnittke, trinitarian symbolism.
В 1988 году Альфред Шнитке создаёт вокальный
цикл «Drei Gedichte von Viktor Schnittke» («Три стихотворения Виктора Шнитке») для голоса и фортепиано. Это
был подарок родному брату, поэту Виктору Шнитке к его
юбилею — 50-летию (родился 31 января 1937 года).
Надо отметить, что восьмидесятые годы для Аль-
8
фреда Шнитке — это очень плодотворный и духовно
напряжённый период жизни и творчества. В 1983 году
композитор находит для себя духовную, религиозную
пристань, окончательно утвердившись «на камени
веры Христовой»1. После этого, можно сказать, до конца
десятилетия музыка композитора пытается охватить,
1
Летом 1983 года в Вене накануне премьеры кантаты «История доктора Фауста», эквиритмический перевод которой был
осуществлён братом Виктором, Альфред Шнитке в католической церкви св. Августина (промыслительно, что именно в этой
церкви, так как св. Августин единый святой и для католической, и для православной церкви) принимает таинство крещения. По возвращении в Москву Альфред Шнитке стал духовным чадом уже не католического священника, а православного,
о. Николая Ведерникова, который его духовно окормлял, исповедовал и причащал. Таинство Причастия, согласно канонам
Православной церкви, возможно только для православных. Ни один священник не нарушит это правило. Отсюда мы можем
сделать вывод, что Альфред Шнитке или прошёл чин присоединения к Православию, или же о. Николай завершил таинство
крещения (оно признаётся Православной церковью независимо от того, кто его совершал: католик, лютеранин, англиканин,
Теория и история искусства
освоить пространство христианских образов, знаков и
символов. Приведём список произведений этого периода, наполненных христианскими смыслами.
1984 год — Симфония № 4 для солистов и камерного
оркестра. В этой симфонии композитор опирался на три
основных направления христианства — православное,
католическое, протестантское. Симфония основана
на традиционных 15 тайнах Розария Римско-католической церкви, в которых рассказывается о жизни Иисуса
глазами его матери Марии.
В этом же году композитор пишет произведение
для смешанного хора a cappella. Это произведение состоит из трёх православных молитв: «Богородице Дево
радуйся»; «Господи Иисусе Христе», «Отче наш».
1984–1985 годы — Концерт для смешанного хора
в четырёх частях на стихи Григора Нарекаци. «Книга
скорбных песнопений» Григора Нарекаци — величайшее
творение христианской Армении, шедевр мировой литературы. Человеческая душа, через покаяние устремляющаяся к Богу, и Бог, спасающий душу, — главная тема
книги. Композитор выбирает для своего произведения
первые три части третьей главы.
1987 год — «Стихи покаянные» для смешанного хора
без сопровождения в 12 частях. Произведение написано
к 1000-летию крещения Руси. Тексты, которые использует Альфред Шнитке, — это духовные стихи XVI века.
1989 год — «Eröffnungvers zum 1. Festspielsonntag»
(«Вступление к первому воскресному празднику»)
для четырёхголосного смешанного хора и органа.
Помимо этих произведений, композитором создано за эти годы множество и других, но именно в них
наиболее ярко, так сказать, эксплицитно выражено
постижение христианского мирочувствия и миропонимания через музыку. Причём Альфред Шнитке именно
в этих произведениях пытается охватить различные
христианские традиции: и западную католическую,
и армянскую, и русскую православную. Характерно,
что большинство из этих сочинений — хоровые и вокальные, то есть композитор работал со словом. Слово,
напитанное духовными, христианскими соками, вело
его за собой. И вот в этом силовом поле рождается цикл
на стихи брата, Виктора Шнитке. Это не только акт
братской любви, не только подарок ко Дню рождения.
Цикл является абсолютно «законной кометой» среди
вокальных произведений «христоцентричного десятилетия». Попробуем это показать.
Как было сказано, цикл «Drei Gedichte von Viktor
Schnittke» («Три стихотворения Виктора Шнитке»)
для голоса и фортепиано был написан в 1988 году. Первое исполнение было, по воспоминаниям А. И. Каца,
в 1989 году в Нижнем Новгороде [4, с. 103]. Три стихотворения Виктора Шнитке написаны на немецком
языке. Поэт вообще писал стихи на трёх языках: русском,
английском и немецком. Прежде чем понять, почему
Альфред Шнитке выбрал именно эти стихи, необходимо
проникнуть в поэтический мир Виктора Шнитке, поэта,
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
обладающего «своим стилем, поэтическим голосом и
взглядом на изображаемый мир» [5, с. 3].
Следует отметить, что в целом творчество Виктора
Шнитке практически не исследовано. Единственный
сборник поэта («Стихотворения»), вышедший в Москве
в 1996 году, не дошёл до читателя (его тираж — 2 000
экземпляров), не появилось ни критических статей,
ни литературоведческих исследований, посвящённых
поэзии Виктора Шнитке, хотя в предисловии к книге
стихотворений О. Клинг называет поэта ярчайшим, неповторимым лириком [5, с. 3]. Не было сделано попыток
включить творчество поэта в какую-либо традицию,
хотя такой замечательный поэт, как Арсений Тарковский, высоко ценил поэзию Шнитке. Стихи на русском
языке вообще при жизни Шнитке не были опубликованы, а сам сборник, о котором идёт речь, включает
в себя, кроме «русских» стихов, стихи на немецком языке
(большинство из которых было извлечено из рабочих
тетрадей) и на языке английском.
Немецкоязычному творчеству Виктора Шнитке посвящено исследование Е. И. Зейферт «Философская поэзия Виктора Шнитке: “Stimmen des Schweigens” (“Голоса
молчания”)». Наш анализ стихов поэта, написанных
на немецком языке, естественно, будет опираться на
эту статью.
Именно Е. Зейферт в беседе с вдовой поэта Екатериной Георгиевной Казённовой-Шнитке сказала: «Кажется, что немецкоязычные и русскоязычные стихотворения Виктора Шнитке концептуально отличаются
друг от друга. В немецких стихотворениях лирический
герой — зачастую ребенок, лирическое действие протекает в прошлом, в поволжской деревне, чрезвычайно
важны фигуры родителей, в русских стихах — герой
взрослый, в настоящем времени, в Москве, выпукло
подан образ возлюбленной…» [2]. С этой мыслью вдова
полностью согласилась. Тем не менее, и русские стихи, и
немецкие составляют единое целое поэтического мира
Виктора Шнитке, единый путь, ведущий в вечность:
«Я иду. Пусть сомкнуты глаза — / светел в вечность
уводящий след» [7, с. 7].
Сосредоточим внимание на русскоязычном наследии поэта. Проблемы духовного устроения мира
и собственной души волновали поэта уже в ранних
стихах 50–60 годов. При всей своей аполитичности, он
чувствовал и видел, что в окружающем физическом и
метафизическом пространстве что-то не так, как до́ лжно,
«тьма египетская (языческая)» окутала нашу страну:
В Покров не ведут электричества —
в Покрове только восемь дворов.
Покров погружён в язычество
керосиновых ламп и костров.
Его христианское прошлое,
осердясь, сокрушил динамит.
Под кровавым кирпичным крошевом,
кальвинист и т. д., главное, чтобы крещён был «во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа») таинством Миропомазания (у католиков
это Конфирмация, её Шнитке не проходил). Таким образом, Альфред Шнитке стал православным христианином с именем Алфей.
9
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
вдавлен в землю, Исус лежит [7, с. 11].
И только музыка ещё способна преодолевать эту
тьму и хаос: «Немые созвездия звуков — / в звенящей
галактике дней / над хаосом стонов и стуков / гармонии
Кассиопей» [7, с. 10].
По свидетельству вдовы, Виктор Шнитке «был верующим человеком» [2]. Пространство духовных смыслов
в его поэзии было христианским. И, несмотря на то
что «к церкви как к институту имел небольшое отношение» [2], глубоко понимал та́ инственную сущность
Церкви. В стихотворении «Каждая церковь освящена»
поэт создаёт поразительный образ Церкви, абсолютно
точный с догматической точки зрения. Сердцем церковного богослужения является таинство Евхаристии.
В этом таинстве хлеб (просфора) и вино прелагаются
в Тело и Кровь Спасителя, Которыми затем причащаются христиане.
Каждая церковь освящена
тысячью таинств, в ней совершенных,
тысячью тысяч молитв, вознесенных
Богу в стенах ее, кровью вина,
плотью просфор, превращенных в кровь,
в тело Спасителя древним обрядом.
Царство небесное — вот оно, рядом,
в свете алтарных лампад. Не готовь
слов для молитвы. Священник и хор
знают печали твои и тревоги.
Верь лишь: твое воскресение — в Боге,
в Боге — вселенский покой и простор [7, с. 16].
У Виктора Шнитке было какое-то врождённое чувство святыни, чувство Церкви. Выражение «Царствие
Божие внутрь вас есть» воспринято им не внешне, а
каким-то глубоким духовным инстинктом. Возможно,
это шло от глубоко верующей бабушки-католички,
которая свершала, как вспоминал Альфред Шнитке,
«смертный грех»: читала Библию на немецком языке,
Лютерову Библию (до Второго Ватиканского собора мирянам-католикам вообще запрещалось читать Библию,
а уж чтение Библии в переводе на национальный язык
являлось грехом сугубым). Виктор Шнитке абсолютно
трезво и здраво в стихах засвидетельствовал, что «Бог
не в брёвнах, а в рёбрах», при этом «брёвна» не отвергаются, они служат оградой для «рёбер»:
Ни неф и ни алтарь, ни свет лампад в пролетах,
ни свечи, ни святые в блеске рам,
ни барабан, ни купол с позолотой,
ни крест над ним — еще не Божий храм.
Для нас, чьи отношенья с Богом смутны,
значенье церкви, может быть, не в том,
что близостью Его сиюминутной
как будто дышит этот странный дом.
Бог растворен в веках и расстояньях,
как в космосе сияние светил.
Какой удел системе мирозданья
Он каждому из нас определил —
10
Теория и история искусства
не знаем мы, но вопреки сомненьям,
иронии, неверью вопреки,
мы все вступаем в тёмное теченье
к нему от церкви рвущейся реки [7, с. 31].
«Пространство любви» поэтом воспринимается тоже
как сакральное, священное. Любовь земная свята, потому
что она восходит к любви небесной. Только пред лицом
Бога она обретает свою подлинную сущность, так как
осознаёт себя частицей Его любви. Пусть внешняя советская действительность на все лады кричит о том, что
Бога нет, любовь, благословлённая свыше, опровергает
все эти безумные крики:
Повенчаемся в церкви, пред Богом, которого нет.
Две свечи да священник, да в окнах — открытое поле.
В нас войдут навсегда предвечерний, мерцающий свет
и безгласный Отец в алтаре на небесном престоле.
Повенчаемся тихо. Священник не спросит имён.
Он поймёт: Мы бесправны, как царь на небесном престоле.
Освятит нашу тайну пред ликами вещих икон
и отпустит нас в вечность
живого вечернего поля [7, с. 47].
В 1972 году после болезни умирает мать братьев.
Боль от утраты бесконечно родного и любимого человека войдёт в сердце поэта и останется там до конца:
«Мы странного исхода того дня / все не приемлем. Время
множит годы, / но в смутный час душевной непогоды /
твой смертный час нас жжёт сильней огня» [7, с. 24].
Духовная пуповина, соединявшая сына и мать при её
жизни, сохраняется и после ухода «за край земли»: «Я
приподниму, как одеяло, / дерн твоей могилы и сойду /
в тишину извечного начала / в теплую коричневую
тьму» [7, с. 16]. Потерянный рай детства станет теперь
ассоциироваться с образом матери. Родной город Энгельс (Покровская слобода), в который Виктор неоднократно приезжал, был дорог ему прежде всего тем, что
он знал и помнил его маму живой!
Я видел город детства. Освещённый
уже нежарким, предзакатным солнцем,
он был всё тот же: низкий, деревянный,
в глухих заборах. Заросли паслёна
цвели в проулках. Тяжело катились
в пыли дорог скрипучие подводы,
и те же баржи, чёрными бортами
почти черпая воду, шли по Волге…
Всё было так, но на скрещеньях улиц
вздымались в небо белые соборы,
в дворы вливалась степь, дыша полынью,
колодцы были полны, и — живая —
ты с нами шла домой [7, с. 22–23].
Интересным является тот факт, что, по мысли
Е. И. Зейферт, в «немецких» стихах Шнитке образ матери присутствует в ещё большей степени. Практически
воспоминания о матери встречаются в каждом стихотворении. Зейферт пишет: «Мать описана полной любви,
красивой, скромной, но не робкой, вечно любимой.
Теория и история искусства
Шнитке создаёт редкий по своей силе и пронзительности панегирик матери. Лирический герой испытывает
жестокую боль из-за вечной разлуки с матерью, понимая,
что “любимая мать” не узнает ни о его славе, ни о его
падении, в разлуке с ней ощущая себя человеком сверходиноким, противопоставленным всему миру, который “пристально смотрит в глаза” (“Jetzt kann ich Dürer
werden…” [“Сейчас могу я стать Дюрером…”])» [3]. Этот
фрагмент анализа «немецкого» стихотворения Шнитке
ставит перед нами несколько важных вопросов, ответ
на которые мы не находим в названном исследовании
Е. Зейферт. Один из них — вопрос о том, почему именно
имена Дюрера, Моцарта и Томаса Манна называет Виктор Шнитке в первых двух строках стихотворения. Один
из вариантов ответа, безусловно, связан с проблемой
подтекста стихотворения, который создаётся самими
именами великих творцов. Если обратиться к духовному
облику крупнейшего немецкого художника Дюрера, то
следует отметить, что, как пишет искусствовед Отто Бенеш, «его чувства к семье и его преданность родителям
были почти религиозными» [1, с. 57]. Бенеш отмечает,
что Дюрер записывал факты, которые связаны с событиями в лоне его семьи, в особую книжку, и делает вывод
о том, что любовь к семье, глубокое почитание отца и
матери коренилось в религиозных представлениях,
«согласно которым горестная земная жизнь — только
переход к более счастливой загробной» [1, с. 57]. Дюрер
описывает кончину своей матери, заканчивая это описание молитвой: «Господи Боже, пошли и мне блаженный конец, и пусть Бог со своей небесной ратью и мой
отец и мать присутствуют при моей кончине, и пусть
Всемогущий Бог дарует нам вечную жизнь. Аминь» [1,
с. 57]. Глубоко укоренённый не только в русской, но и
в немецкой культуре, Виктор Шнитке, конечно, хорошо знал не только творчество, но и факты биографии
Альбрехта Дюрера, и подобное отношение к матери,
отцу и всему роду было естественным для самого поэта и не могло не отразиться в его творчестве — как
русскоязычном, так и в немецкоязычном.
Второй важный вопрос тесно связан с первым. Само
отношение к смерти как к рождению в вечность, вера
в бессмертие, как мы уже отметили выше в нашем анализе, — один из доминантных мотивов поэзии Виктора
Шнитке. Однако в тексте анализируемого стихотворения
присутствует нота «окончательного разрыва» любящей
человеческой души с близкими, ушедшими «в путь всея
земли». Что перевешивает на «весах Иова» в контексте
творчества Шнитке в целом — вера в будущую встречу
или трагизм земного существования без близких? Ответ
на этот вопрос требует особого исследования.
Е. Зейферт отмечает «пронзительную» автобиографичность поэзии Виктора Шнитке. Лирический герой,
воплотившийся в немецкоязычной поэзии Шнитке,
по мысли исследователя, трагически глубоко переживает «вечную разлуку с умершими родственниками…» [3].
Добавим, что не только близкие родственники, но и
ушедшие в вечность друзья — одна из ключевых тем
в поэзии Шнитке. Так, в стихотворении 1974 года «Па-
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
мяти друзей» мы читаем: «Но в вечной мерзлоте давно
уж стынут / мои друзья. Друзья друзей моих / в безмолвье гор, в молчании пустыни / сложили жизнь и свой
последний стих. / Им были святы ветер, поле, злаки, /
изгиб души, вселенной целина. / Их нет давно, а в мире
светят маки, / горит закат и плавится луна» [7, с. 17].
Однако безусловным является тот факт, что именно
образ матери находится в центре поэтического мира
Виктора Шнитке. Образ отца, если сравнивать его с образом матери, в «немецких» стихах Виктора Шнитке
более сложен и противоречив. Поэт как бы продолжает
какой-то диалог, возможно, спор, который остался незавершённым: по мысли Е. Зейферт, лирический герой
Виктора Шнитке, испытывая чувство вины перед умершими родственниками, интуитивно часть своей вины
перекладывает на отца. Дело в том, что семья Шнитке
не была депортирована во время Великой Отечественной войны потому, что Гарри Викторович Шнитке был
еврей, а не немец. Родственники же по немецкой линии матери: дяди, тёти, двоюродные братья и сёстры,
были выселены в Казахстан, и многие из них погибли.
Но в то же время через образ отца поэт приближается
к Богу. Анализируя немецкоязычные стихи Шнитке,
Е. И. Зейферт приходит к выводу, что «именно через
образ отца лирический герой находит успокоение: обращение “Vater” в стихотворении “Vater, wie kommt es…”
двупланово (это и отец, и Отец, Бог), подобное сопряжение смыслов снимает острое духовное напряжение
лирического героя» [3].
Религиозные мотивы в немецкоязычной книге поэта
звучат даже в большей степени, чем в русских стихах.
Скорее всего, это объясняется тем, что на немецком
языке автор «отключал» советскую автоцензуру и говорил то, что велит сердце. Е. И. Зейферт, анализируя
немецкоязычную книгу Виктора Шнитке, пишет о том,
что количество библейских реминисценций нарастает
во второй половине книги: Шнитке не только использует
ветхозаветные (Адам, Моисей) и новозаветные (Спаситель Господь Иисус Христос и Его предатель Иуда Искариот) имена, но и обращается к Господу с поэтической
молитвой о прощении человечества и снисхождении
к нему [3].
«Библейский ракурс» восприятия себя и мира позволяет поэту обрести «пророческие» зрение и слух,
о которых нам поведал А. С. Пушкин в стихотворении
«Пророк». Ему внятны голоса и молчание природы, голоса усопших предков. Его собственный голос оказывается проводником их мыслей и чувств. Даже зеркальное
отражение в воде лирического героя (самого поэта)
становится таинственным проводником, выводящим
из царства теней усопших предков:
***
Das sanfte Regenwasser im Fass
glich einem stillen Teich.
Ich langte hinein ins kühle Nass,
ein Langen dem Tauchen gleich.
11
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Das dunkle knabenhafte Gesicht,
das mir entgegensah,
schien mir vertraut, doch ich kannt’ es nichtwar es zu ernst, zu nah?
Blickte ich einem Vorfahren tief
ins Auge? War es ein Traum?
War es die Zukunft, die in mir schlief?Ich weiß es auch heute kaum.
***
В бадье, где дождевая вода,
как в тихом пруду темно.
Я только хотел заглянуть туда,
и словно канул на дно.
Этот темный мальчишеский лик,
что отразила бадья,
кто это — ребенок или старик,
я это, или не я?
Словно какой-то пращур мой
глядел на меня сквозь тьму.
Это мой рок? Или сон немой?
Я и теперь не пойму (Перевод В. Куприянова) [8].
Обрисовав в общих чертах поэтический мир Виктора Шнитке, обратимся теперь конкретно к стихотворениям, входящих в вокальный цикл. В нашу задачу
не входит музыковедческий анализ цикла. Он проведён
в диссертационном исследовании Полины Юрьевны
Цветковой «Камерно-вокальная музыка Альфреда Шнитке: стилевой и жанровый аспекты» [6]. Отметим лишь
одну важную мысль, которую приводит в своей работе
исследователь: «Из-за отсутствия развернутого фортепианного сопровождения слово в цикле выделяется
особо» [6, с. 39]. То есть в этом цикле первично слово,
музыка лишь помогает выявлению смыслов, заложенных в стихотворениях.
Мы попытаемся раскрыть духовно-эстетический
смысл стихотворений2, а, следовательно, и некий
сакральный смысл всего музыкально-поэтического
произведения. Первое стихотворение цикла — «Wer
Gedichte macht, ist ein einsamer Mann» («Сочинитель
стихов всегда одинок»).
***
Wer Gedichte macht, ist ein einsamer Mann.
Er fängt mit dem Dichten aus Einsamkeit an
und ist dann einsam mit seinem Werk.
Seine Welt hat weder Vers noch Reim
und stürzt beim leisesten Beben ein.
Aus Trümmern muß er sie täglich erbaun.
2
12
Теория и история искусства
***
Сочинитель стихов всегда одинок.
Он один в окружении собственных строк
и творить продолжает один.
Но мир его рифм и ритма лишен,
от легкой встряски рушится он.
И поэт вновь творит из руин (Перевод В. Куприянова).
Стихотворение — самооткровение поэта, Виктора
Шнитке. Поэт творит свой мир в одиночестве, и всё, что
составляет этот мир, населяет его, — это всё равно сам
поэт. И мир поэтический очень хрупок. Одно неверное
слово, один ложный образ, один неправильный звук — и
стихотворение разрушается, остаются только обломки
слов и смыслов, но из этих руин поэт вновь воссоздает
храм стихотворения.
Это стихотворение Виктора Шнитке перекликается
со стихотворением «Поэт» австрийского поэта начала
XX века Райнера Мария Рильке (он был одним из любимых поэтов Виктора Шнитке):
Der Dichter
Du entfernst dich von mir, du Stunde.
Wunden schlägt mir dein Flügelschlag.
Allein: was soll ich mit meinem Munde?
mit meiner Nacht? mit meinem Tag?
Ich habe keine Geliebte, kein Haus,
keine Stelle auf der ich lebe
Alle Dinge, an die ich mich gebe,
werden reich und geben mich aus.
Поэт
Миг меня покидает жестоко.
И наносит мне раны крылом.
Что мне делать с душой одинокой
Неспокойной ни ночью, ни днём?
Ни любви не имею, ни крова.
Неприкаян я в мире стою.
Всем вещам я себя раздаю,
Вещи дальше несут моё слово (Перевод Р. Измайлова).
Очевидна перекличка мотива одиночества и страдания, отсылающая к евангельскому образу Христа.
В Евангелии от Матфея дан ответ Иисуса Христа одному
книжнику, который сказал, что пойдёт за Ним, куда
бы Он ни пошёл: «И говорит ему Иисус: лисицы имеют
норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий
не имеет, где приклонить голову» (Мф 8:20).
Итак, первое стихотворение, которое выбирает
Альфред Шнитке, — это стихотворение в котором дан
образ поэта, несущего «граду и миру» «благую весть»,
спасающую мир от хаоса и разрушения, но это путь
страдания, это личная Голгофа поэта.
Стихотворения и переводы взяты из указанного диссертационного исследования П. Ю. Цветковой.
Теория и история искусства
Второе стихотворение цикла — «Der Geiger» («Скрипач»).
Der Geiger
Wenn er den feinsten Faden dehnt
und dehnt
und fasern läßt und ihn auf höhrer
Stufe
im Klang verklärt und dehnt und
dehnt, dann rufe
ich stummen Mundes: Gott!
Was ich ersehnt
als Heim und Wahrheit, es ist da,
es lebt,
solang er sinnt, solang er führt
den Bogen,
solange tief in sich
zurückgezogen
er unbeirrt sein strenges Ziel
erstrebt.
Скрипач
Когда он тянет напряженно звук,
Растрепывая волокно смычка,
И повышает тон, и снова тянет, тянет,
Тогда кричу безмолвно я:
О Боже!
Что я искал, ту Истину, тот Дом,
Оно всё тут,
живет,
пока он держит звук,
Пока ведет смычком, пока,
в себя ушедши,
Он движется к своей
бескомпромиссной цели! (Перевод С. Баева).
Очевидно, что второе стихотворение связано с музыкой и музыкантом. Музыка тоже несёт весть об истине.
Музыкант подобен поэту-пророку. Здесь лирический герой композитором воспринимается как его собственное
alter ego. Музыка в своём подлинном источнике напитана
музыкой «высших сфер», она на невербальном уровне
несёт откровение свыше, несёт Истину. Дух музыки
оживотворяет нашу жизнь, наполняя её смыслом, даруя
ей истинный смысл и цель. А цель временной жизни
человека — обрести вечную жизнь, обрести подлинный
Дом, в котором мы родились, из которого мы ушли, как
блудные дети, и куда мы должны вернуться, то есть
вернуться в наше Небесное Отечество.
Третье стихотворение цикла «Dein Schweigen» («Твоё
молчание»):
Dein Schweigen
Ich neige mich zum Bach,
und eisiges Kristall
presst mir die Hand
im harten Gruß der Herbstes.
Die Bäume streuen Laub.
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Im fahlen Himmel zieht
der Habicht seine langgedehnten
Kreise.
Schon fünfzehn Herbste sind ins
Land gegangen
seit jenem Tag. Dein Schweigen
ist so tief.
Твоё молчание
К ручью склоняюсь я,
и ледяной хрусталь
приветствует меня
рукопожатием осенним крепким.
Деревья рассыпают листья.
В поблекшем небе ястреб
протяжными кругами чертит путь.
С тех самых пор сменялась осень
Пятнадцать раз… Как тяжело
твое молчание (Перевод Ю. Куимова).
Это стихотворение — воспоминание о матери. Пятнадцать лет прошло после её кончины, но боль от разлуки не покидает поэта. Желание разговора, диалога
с дорогим любимым человеком с годами не исчезает.
На все вопросы вот уже пятнадцать лет ответом служит
молчание. Перевод Юрия Куимова несколько искажает
смысл стихотворения. Слово «tief» переводится как
«глубоко», а не как «тяжело», то есть правильно будет
так: «Как глубоко твоё молчанье». Совсем другие смыслы открываются в такой фразе. Она перестаёт быть
однозначной. Молчание покойной матери становится
некой тайной, которая приоткрывается поэту. А может,
это молчание не только молчание матери? Может быть,
это молчание Того, к Кому обращаются в молитвах?
И если образ отца соединялся с образом Бога у поэта,
то мы можем предположить, что и образ матери тоже
соединяется с Его образом? Учитывая религиозно-философскую направленность поэзии Виктора Шнитке,
стихотворение вполне прочитывается и по этому коду.
В результате получается примечательная символическая троичность цикла. В образах первого стихотворения
приоткрывается тайна рождения поэзии, поэтического слова. А в Евангелии от Иоанна Словом (Логосом)
названо второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий,
Иисус Христос. Во втором музыка как невидимый, но
слышимый дух открывает истину и наполняет смыслом жизнь. Третье лицо Пресвятой Троицы согласно
христианскому учению — Дух Святой. В третьем же
стихотворении образ матери опосредовано соединяется
с образом Бога, Творца, для детей их родители, конечно,
являются творцами.
Таким образом, светское произведение обретает духовный, религиозный, молитвенный подтекст, при этом
никуда не исчезает и символ семьи: брат, сам Альфред
и мать. Просто всё свершается в этом мире во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа.
Совсем не случайно композитор берёт именно эти
три стихотворения. Символика троичности проявляется
13
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
на нескольких уровнях. Первый уровень — это образ
семьи, кровного родства. Первое стихотворение являет
нам поэта Виктора Шнитке, второе — композитора
Альфреда Шнитке, третье посвящено их матери. Второй
уровень символичности связан с искусством. Первое
стихотворение являет нам Поэта и Поэзию как таковую,
второе Музыку и Музыканта, третье стихотворение —
это порождающее начало (через образ матери), источник и Поэзии, и Музыки. И третий уровень смыслов
Теория и история искусства
реализуется, как было показано выше, в религиозном
ключе. Три стихотворения становятся проводниками
христианского откровения о Боге, Который открывается
как Троица, как Отец, и Сын, и Дух Святой.
Вокальный цикл «Drei Gedichte von Viktor Schnittke»
(«Три стихотворения Виктора Шнитке») для голоса
и фортепиано выявляет духовное родство братьев,
общность их духовных поисков, единство творческих
устремлений.
Литература
1. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М.: «Искусство», 1973. 222 с.
2. Зейферт Е. В гостях у Шнитке. Беседа со вдовой поэта
Екатериной Георгиевной. URL: https://ru.mdz-moskau.eu/vgostyah-u-shnitkebeseda-so-vdovoj-poeta-ekaterinoj-georgievnoj/
(дата обращения 17.05.2024).
3. Зейферт Е. Философская поэзия Виктора Шнитке: «Stimmen des Schweigens» («Голоса молчания»). URL: https://studylib.
ru/doc/550130/e.i.-zejfert--filosofskaya-poe-ziya-viktora-shnitke-%E2%80%9Cstimmen (дата обращения 19.05.2024).
4. Катц А. Из воспоминаний художественного руководителя Саратовской филармонии А. Г. Шнитке // Альфреду
Шнитке посвящается. Вып. 10. М.: Композитор, 2016. С. 103.
5. Клинг О. Предисловие // Шнитке В. Стихотворения.
Gedichte. Poems. М.: Международный союз немецкой культуры, 1996. С. 3–4.
6. Цветкова П. Камерно-вокальная музыка Альфреда
Шнитке: стилевой и жанровый аспекты. Дис. … канд. искусствоведения. М., 2018.
7. Шнитке В. Стихотворения. Gedichte. Poems. М.: Международный союз немецкой культуры, 1996. 128 с.
8. Шнитке В. Три стихотворения. (Перевод Вячеслава
Куприянова). URL: https://stihi.ru/2014/02/21/10882 (дата
обращения 19.05.2024).
References
1. Benesh O. Iskusstvo Severnogo Vozrozhdeniya [The Art
of the Northern Renaissance]. M.: «Iskusstvo», 1973. 222 p.
2. Zejfert E. V gostyah u Shnitke. Beseda so vdovoj poeta Ekaterinoj Georgievnoj [Visiting Schnittke. A conversation with the poet's widow Ekaterina Georgievna]. URL: https://ru.mdz-moskau.
eu/v-gostyah-u-shnitkebeseda-so-vdovoj-poeta-ekaterinoj-georgievnoj/ (Accessed date: 17.05.2024).
3. Zejfert E. Filosofskaya poeziya Viktora Shnitke: «Stimmen des
Schweigens» («Golosa molchaniya») [Philosophical poetry of Victor Schnittke: «Stimmen des Schweigens» («Voices of silence»)].
URL: https://studylib.ru/doc/550130/e.i.-zejfert--filosofskaya-poe-ziya-viktora-shnitke--%E2%80%9Cstimmen (Accessed
date: 19.05.2024).
4. Katcz A. Iz vospominanij hudozhestvennogo rukovoditelya
Saratovskoj filarmonii A. G. Shnitke [Memoires of the Artistic director of Saratov A. G. Schnittke philarmonics// Alfredu Shnitke
posvyashhaetsya [Dedicated to Alfred Schnittke]. Vyp. 10. M.:
Kompozitor, 2016. P. 103.
5. Kling O. Predislovie [Preface] // Shnitke V. Stihotvoreniya.
Gedichte. Poems [Poems. Gedichte. Poems]. M.: Mezhdunarodny
soyuz nemetskoj kultury, 1996. P. 3–4.
6. Tsvetkova P. Kamerno-vokalnaya muzyka Alfreda Shnitke:
stilevoj i zhanrovy aspekty [Chamber vocal music by Alfred Schnittke: stylistic and genre aspects]. Dis. … kand. iskusstvovedeniya.
M., 2018.
7. Shnitke V. Stihotvoreniya. Gedichte. Poems [Poems. Gedichte.
Poems]. M.: Mezhdunarodny soyuz nemetskoj kultury, 1996. 128 p.
8. Shnitke V. Tri stihotvoreniya. (Perevod Vyacheslava Kupriyanova) [Three poems. (Translated by Vyacheslav Kupriyanov)]. URL: https://stihi.ru/2014/02/21/10882 (Accessed date:
19.05.2024).
Информация об авторах
Information about the authors
Светлана Васильевна Кекова
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова»
Саратов, Россия
Svetlana Vasilyevna Kekova
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
Saratov, Russia
Руслан Равилович Измайлов
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова»
Саратов, Россия
14
Ruslan Ravilovich Izmaylov
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
Saratov, Russia
Теория и история искусства
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-15-22
Зорина Эвелина Эдуардовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова
Zorina Evelina Eduardovna, PhD (Arts), Associate Professor at the Department of the Сhamber ensemble and Аccompaniment of Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov
E-mail: evelina1506@mail.ru
Зорин Артем Николаевич, доктор филологических наук, профессор кафедры общего литературоведения и журналистики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, профессор кафедры мастерства актера Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова
Zorin Artem Nikolaevich, Dr. Sci. (Philology), Professor at the Department of General Literary Studies and Journalism of
the Saratov State University, Professor at the Acting Department of the Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov
E-mail: art-zorin@yandex.ru
ÜBERSTIL: ПОЛИСТИЛИСТИКА КИНОМУЗЫКИ А. Г. ШНИТКЕ.
ВАРИАТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПОДХОДОВ
Киномузыка А. Г. Шнитке в теоретическом и практическом музыкознании представлена широким, но сегментированным кругом подходов отечественных и зарубежных искусствоведов к его композиторским стратегиям. Западные ученые
связывают формирование полистилистики в творчестве Шнитке непосредственно с работами композитора в кино, отмечая
кинематографичность его мышления и схожесть приемов использования стилей в музыкальных сочинениях с монтажными
принципами советского киноавангарда и целостной традицией советского искусства экрана. В отечественном музыковедении киномузыка композитора стала привлекать внимание исследователей только в последние десятилетия. Методология
изучения киномузыки, требующая междисциплинарного подхода, все еще остается достаточно мало разработанной и находится в стадии становления, постепенно обогащаясь новыми вариантами трактовки композиторского стиля. Анализ киномузыки к нескольким ключевым для Шнитке произведениям — «Вызываем огонь на себя» (1964), «Похождения зубного
врача» (1965), «Стеклянная гармоника» (1968), «Восхождение» (1976), — раскрывает полистилистические приемы композитора в создании многоуровневой семантической структуры кинотекста. Уже в первых кинокартинах, снятых в 60-е годы,
композитору удавалось добиваться сильнейшего по психологической глубине воздействия на зрителя. Так, в музыке к фильму «Восхождение» Л. Шепитько за аллюзией на фортепианную прелюдию К. Дебюсси «Шаги на снегу» раскрывается композиторская стратегия семантического углубления при воссоздании новозаветных сюжетов. Анализ музыки к отдельным
фильмам говорит о том, что в основе каждой работы Шнитке лежит глубоко продуманная концепция.
Ключевые слова: А. Шнитке, киномузыка, полистилистика. изучение киномузыки, Л. Шепитько, «Восхождение», «Вызываем огонь на себя».
ÜBERSTIL: POLYSTYLISTICS OF CINEMATIC MUSIC BY A. G. SCHNITTKE.
VARIABILITY OF RESEARCH APPROACHES
Film music by A. G. Schnittke in theoretical and practical musicology is represented by a wide, but segmented range of approaches of domestic and foreign art historians to his compositional strategies. Western scholars associate the formation of polystylistics
in Schnittke's work directly with the composer's works in cinema, noting the cinematic nature of his thinking and the similarity
of the techniques of using styles in musical compositions with the montage principles of the Soviet avant-garde cinema and the integral tradition of Soviet screen art. In domestic musicology, the composer's film music began to attract the attention of researchers only
in recent decades. The methodology of studying film music, which requires an interdisciplinary approach, still remains rather poorly
developed and is in the process of formation, gradually being enriched with new options on interpreting the composer's style. An analysis of the film music for several of Schnittke's key works — «Call Fire for Ourselves» (1964), «The Adventures of a Dentist» (1965),
«The Glass Harmonica» (1968), «The Ascent» (1976) — reveals the composer's polystylistic techniques in creating a multi-level semantic structure of the film text. Already in his first films, shot in the 1960s, the composer managed to achieve a very strong psychological impact on the viewer. Thus, in the music for the film «The Ascent» by L. Shepitko, behind the allusion to C. Debussy's piano
prelude «Steps in the Snow», the composer's strategy of semantic deepening in recreating New Testament stories is revealed. Analysis
of the music for individual films suggests that each of Schnittke's works is based on a deeply thought-out concept.
Key words: A. Schnittke, film music, polystylistics, film music study, L. Shepitko, «The Ascent», «Call Fire for Ourselves».
«В Америке есть профессия composer, и Hollywood-composer — это совершенно другая профессия.
На современном Западе ни один приличный, уважающий
себя композитор в кино не работает» [5, с. 124]. Такая
оценка самим А. Г. Шнитке противоречивости фигуры
кинокомпозитора в эпоху блокбастеров и экспансии
15
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
на экраны эксплуатационных фильмов отразилась и
в оценке его собственной киномузыки. Исследовательские подходы к творчеству А. Г. Шнитке в нашей стране
и за рубежом различны. Рецепция его творчества вариативна, о чем свидетельствуют многочисленные научные
работы отечественных и зарубежных ученых. В СССР
Шнитке — в «тройке» с С. Губайдулиной и Э. Денисовым — считался одним из главных авангардистов, в то
время как в контексте европейской музыкальной культуры его относили к представителям консервативного
направления [21]. Ситуацию осложняет практически
полная изолированность российских и зарубежных
исследований творчества композитора, о чем пишут
авторы по разные стороны океана [3; 21].
Метод полистилистики, как и постижение ее структурных принципов, располагает к появлению разнообразных научных ракурсов. Анализируя работы зарубежных музыковедов, можно выделить ряд оригинальных
исследовательских подходов к творчеству Шнитке, но
можно отметить и общие тенденции. В частности, в зарубежном музыковедении принято более смело и непосредственно связывать формирование полистилистики
в творчестве Шнитке с его работой в кино, особенно —
с авангардными принципами монтажа, зародившимися
в советском кинематографе еще в 1920-е годы [21]. Эта
точка зрения во многом оправдана — начало творческого пути Шнитке в оттепельные шестидесятые совпало
с переосмыслением новаторских принципов классиков
раннего отечественного кино — Дзиги Вертова, Сергея
Эйзенштейна, Эсфири Шуб, вновь вышедших на первый
план после десятилетий доминирования в искусстве
большого сталинского соцреалистического стиля. Широкий зритель может судить об этом по насыщенности
отсылов к эпохе немого кино в классических советских
кинокомедиях 1960-х.
Многие ведущие зарубежные ученые, занимающиеся исследованием творчества Шнитке близки к такой
позиции в оценке генезиса его авторского стиля. Питер
Шмельц (Peter Schmelz), опираясь на высказывания самого композитора в беседе с Харлоу Робинсоном (1983) и
другие интервью, утверждает, что сам Шнитке объяснял
полистилистику природой кино, «поскольку при создании фильма множество разнообразных элементов
объединяются, образуя художественное целое» [19,
р. 48]. Исследователь обращает внимание на то, что
в своих рассуждениях о сути полистилистики Шнитке
часто прибегает к аналогиям с кино, и это не может
быть случайным совпадением [20, p. 237].
Рейнхард Флендер (Reinhard Flender), немецкий
музыковед и композитор, в ходе дискуссии за круглым
столом, посвященной творчеству Шнитке [18], вспоминает, что на занятиях в консерватории в Гамбурге1, где
композитор преподавал в последние годы жизни, он
неоднократно подчеркивал, что киномузыка сыграла
важную роль в его творчестве, что это была для него
лучшая школа, научившая обращаться в том числе и
1
16
Hochschule für Musik und Theater Hamburg.
Теория и история искусства
со временем [18, s. 87]. Флендер также артикулирует
важнейшую мысль: европейские кинокомпозиторы
работают в коммерческой сфере, их не воспринимают
всерьез, используя музыку в основном как иллюстративный фон, и, в конце концов, такая работа приводит
к творческому выгоранию. Это коррелирует с высказыванием самого Шнитке конца 60-х, когда он высоко
оценивает работу Феллини с музыкой в кино, но критикует созданный композитором звуковой материал
ряда фильмов [12, с. 99].
В отличие от западного кино, находящегося во власти
продюсеров, советский кинематограф не был коммерческим и эксплуатационным, но зависел от стратегии
конкретной студии — ее художественного совета из корифеев искусства экрана, прежде всего заботящихся
о качестве кинопродукции, а не коммерческом успехе.
В советском художественном кино была востребована
сложная музыка, при этом в распоряжении кинокомпозитора находился большой оркестр с разнообразным
набором тембров, отсутствующих в симфоническом
составе. Другой нетипичной для европейского искусства особенностью советской киномузыки становится
ее генетическая связь с театром, оперой и музыкой
к драматическому спектаклю, а не с развлекательным
аттракционом — эта связь ясно ощущается и у Шостаковича, Прокофьева, и у композиторов более позднего
времени, в том числе, у Шнитке. Возможно, именно этим
особым отношением к киномузыке в мировой исследовательской традиции (где киномюзикл выделяется как
важнейший прорывный этап в истории кино, в отличие
от отечественной традиции) и объясняется столь пристальное внимание и высочайший интерес крупных
зарубежных исследователей к киномузыке советского
композитора. Хотя признается, что «в истории киноискусства сделанное Альфредом Шнитке составило важный, ценнейший этап» [2, с. 37], многие отечественные
музыковеды порой снисходительно относятся к работам
Шнитке в кино, вспоминая, в первую очередь, о «побеге»
Шнитке из этой сферы в 80-е годы.
В отечественной исследовательской традиции обращение к киномузыке как объекту научного интереса
только в последние годы стало обретать значимые
масштабы. Эта, как казалось ранее, прикладная сфера
композиторского творчества не интересовала музыковедов вне пересечения с академической музыкой
Шнитке и не становилась предметом последовательного
системного анализа. В последние годы наука, используя
инструментарий междисциплинарных областей знания, стремится к выработке особых методологических
подходов к исследованию киномузыки, в то время как
практики — режиссеры и композиторы — пытаются
выработать универсальную модель взаимодействия
в художественном процессе. Подводя итоги фестиваля
KINOREX (Москва, 2021), А. С. Рыжинский и Г. Р. Консон пишут о том, что музыка может брать на себя роль
«аналога этической концепции фильма» [11, с. 207],
Теория и история искусства
увеличивая «когнитивную емкость» режиссерского
кинотекста.
Если обратиться к классическим монографиям, посвященным творчеству Шнитке, в них можно обнаружить
достаточно краткие сведения о работе композитора
в кино, оцениваемой, как правило, в негативном ключе — как коммерческую деятельность, на которую он
вынужден был идти, отнимавшую много творческих
сил и отвлекавшую от главного. В масштабной монографии В. Н. Холоповой, написанной в соавторстве
с Е. И. Чигаревой [14], практически не рассматривается эта сфера творчества композитора. Труд посвящен
исключительно сочинениям академических жанров.
Однако в «Очерках» Е. И. Чигарева отмечает, что роль
работы в кино как толчка, послужившего открытию
полистилистики в музыке, — на тот момент факт уже
общепризнанный [15, с. 32]. И все же автор делает важную оговорку: «Да, это был очень мощный импульс, но
только импульс» [15, с. 32].
В широко цитируемой монографии В. Н. Холоповой есть глава о киномузыке. Реконструируя сложный
творческий путь композитора в поиске собственного
стиля, Холопова отмечает, что прорыв к «полистилистике оказался неотрывен также и от кинокомпозиторской деятельности» [13, с. 95], которая была не чужда
«безграничному океану стилевой широты» [13, с. 95].
«Если подойти к киномузыке Шнитке с академической
позиции (выделено нами. — Э. З., А. З.), его работа в кино
представляется великой жертвой. Она отнимала очень
много времени и сил, почти ничего не оставляя для его
основного творчества» [13, с. 142]. В главе о киномузыке
содержится множество тонких наблюдений над сущностью феномена музыки Шнитке для кино, а также
формируется представление о значимости этой стороны
творчества композитора для отечественного кинематографа, где в полной мере реализовался его «второй
талант», не менее сильный и редкий, чем первый.
Сам Шнитке в разные периоды жизни высказывал
подчас противоречащие друг другу мысли о работе
в кино. В одном из ранних текстов, относящемся к концу
1960-х годов, — анкете для молодого исследователя
Г. Троицкой [12], где начинающий кинокомпозитор зафиксировал свое отношение к этой сфере музыкального
творчества, немало искренней заинтересованности:
«Кино дает композитору возможность экспериментировать — пробовать различные сочетания инструментов,
необычные звучания и, главное, тут же слышать результаты (что редко удается в “своей” музыке — от момента
окончания музыкального произведения до первого
исполнения проходят месяцы и даже годы). Кроме того,
работа в кино требует от композитора быть чем-то вроде
актера — писать музыку применительно к различным
ситуациям, различным характерам действующих лиц —
что всегда интересно» [12, с . 97].
В интервью Елене Петрушанской в 1980-е годы, оглядываясь на продолжительный период работы в кино,
Шнитке подводит некоторые позитивные творческие
итоги: «Я испробовал все то, что потом пригодилось
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
в “автономных” сочинениях. Кино предоставляет композитору большие возможности: в грубых, схематических
чертах опробовать оркестровые, фактурные, тембровые
идеи» [10, с. 92], а завершает диалог необычайно емкая
мысль: «Кино и современную музыку объединяет идея
пространственной и смысловой суперполифонии» [10,
c. 96]. В этой беседе композитор выделил две картины,
которые отличают «особые, очень тонкие взаимоотношения музыки и кино» — «Восхождение» Л. Шепитько
и «Агонию» Э. Климова.
Уже в 1984 году он писал с некоторым сожалением: «Жизнь сложилась так, что в течение примерно
семнадцати лет я работал в кино гораздо больше и
чаще, чем бы это следовало, и вовсе не только в тех
фильмах, которые мне были интересны. <…> Композитор, работающий в кино, неизбежно подвергается
риску. <…> Кино не может не диктовать композитору
своих условий» [5, c. 124].
А вот в беседах с А. В. Ивашкиным, которые начались
после 1985 года, Шнитке, отвечая на реплику интервьюера о кажущейся неприязни, которую вызывает у него
сам процесс работы в кино, уже напрямую говорит: «Да,
я себя сам загнал в какую-то клетку. <…> Мне надо было
из кино бежать, что я и сделал» [5, с. 56]. «Из двадцати
лет, в течение которых я вынужден был писать киномузыку, я провёл на кинофабрике не менее двенадцати
лет, это точно» [5, c. 123].
Не раз собеседники возвращались к этой сложной
теме, своеобразным подытоживающим высказыванием
можно считать такие слова: «Когда я пятнадцать лет
писал преимущественно киномузыку (хотя мне было
интересно её писать, и работа была во многих случаях
очень интересной), я всё же это ощущал как вторую свою
задачу и слишком мало времени и условий имел для реализации главной. <…> Но: когда я начинаю думать,
каким бы в итоге был — нормально развивавшийся
композитор, не связанный с киномиром, освобождённый
от перегрузок, но неизбежно потерявший бы также и
преодолённые перегрузки? Я думаю, что соотношение
плюса и минуса в моей жизни в итоге — так как оно
меня не согнуло совсем — оказалось полезным» [5,
c. 152–153].
Противоречия в оценке этой особой страницы творчества Шнитке его биографами и исследователями
во многом обусловлены высказываниями самого автора,
относящимися к разным периодам жизни. Несомненно,
кино оказало воздействие на формирование творческого
метода и стиля Шнитке, но количество работ — а их
в художественном, документальном, анимационном
кино и театре более 70 — привело на определенном
этапе к опасности перерастания этой области поиска
в рутину, исчерпанию оригинальности и формированию
авторского штампа. Именно от этого он и хотел бежать
в 80-е, в чем признавался сам. Именно на этом этапе уже
известный композитор привлек внимание биографов и
исследователей, и, возможно, именно эмоциональная
усталость Шнитке от кино в тот период обусловила
осторожное отношение музыковедов к этой обширной
17
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
сфере его творчества. К тому же академическая музыка и
киномузыка не имеют общего аналитического/методологического инструментария (с подобным сталкивается
литературоведение, анализируя авторские пьесы, но
дистанцируясь от изучения сценария и инсценировки).
Это самостоятельные области, требующие различных
аналитических подходов. Киномузыка не может рассматриваться вне художественного целого, вне концепции фильма и эстетики режиссера, в отрыве от всего
комплекса средств художественной выразительности,
а потому требует мультидисциплинарного подхода,
методология которого и в наши дни находится в стадии
становления.
В музыкальной науке новый этап масштабного исследования киномузыки, связанный с поисками новых
методологических установок, с привлечением инструментария разных областей гуманитарных наук, был открыт уже на рубеже ХХ–XXI веков рядом искусствоведов.
Среди них можно выделить масштабную работу Т. К. Егоровой — одного из первых авторов, последовательно обратившихся к музыке в отечественном кино [4], научные
работы Т. Ф. Шак [16; 17], серию публикаций в рамках
диссертационного исследования А. Ф. Мирошкиной,
посвященного киномузыке А. Г. Шнитке [6–8].
Наиболее последовательное и полное исследование
киномузыки Шнитке на сегодняшний день представлено
в работах А. Ф. Мирошкиной, автора диссертации (2016)
и ряда значимых научных работ, посвященных отдельным киномузыкальным партитурам композитора. Важнейший методологический принцип, обозначенный
автором, заключается в необходимости обращения
в процессе анализа киномузыки не только к звучащей
в кинофильме звуковой дорожке, но также к композиторской партитуре, которая, как правило, имеет более
или менее существенные отличия от итоговой версии
в фильме, сценарию и — при наличии — литературному
первоисточнику. Исследование киномузыки значительно осложняет малая доступность партитур, которые,
будучи рабочим материалом киностудий, не издаются, а
хранятся в архивах кинокомпаний. И далеко не каждый
ученый может получить к ним доступ. Среди ценных
результатов исследования А. Ф. Мирошкиной — сводная
таблица всех работ Шнитке для кино, телевидения и театра (72 наименования), номерная структура отдельных
киномузыкальных партитур, найденных исследователем в архивах, подробная расшифровка музыкального
ряда в отдельных кинокартинах, а также публикация
фрагментов архивных документов — партитур из Госфильмофонда — в виде факсимиле и расшифровок.
Автору диссертации удалось обнаружить 26 партитур
в архивах, но в рамках исследования А. Ф. Мирошкина
ограничивает круг материалов, анализируя подробно
12 кинофильмов, созданных в тандеме с режиссерами
И. Таланкиным, Э. Климовым, Ю. Карасиком, А. Михалковым-Кончаловским.
Продуктивная методологическая установка была
предложена в статье Т. Ф. Шак и О. В. Масич [17], где
представлен обзор мигрирующих тем в творчестве
Шнитке. Авторы выделяют схожий тематизм в киномузыке и автономных сочинениях композитора, в поле
зрения попадают кинофильмы «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил», «Агония», «Сказка странствий»,
анимационные фильмы «Стеклянная гармоника»,
«Бабочка» и «автономные произведения» Шнитке —
Concerto Grosso № 1, Концерт для альта с оркестром
№ 1. Авторы выделяют в соответствии с хронологией
темы-источники и их варианты в более поздних сочинениях, где они могут выступать как автоцитаты либо
интонационные аллюзии. На примере сопоставления
расшифровок тематического материала исследователи
демонстрируют интонационное родство и схожесть
приемов темообразования.
Развивая обозначенный аналитический ракурс, можно предположить, что не менее ценные результаты принесет анализ предлагаемой авторами хронологической
цепочки миграции тем с учетом их внешних источников.
Глубоко разработанный принцип взаимодействия своего/чужого лежит в основе полистилистики в творчестве
Шнитке, предполагающей включенность композитора
в широкий культурно-исторический контекст, поэтому
анализ всей цепочки: внешний источник — миграция
внутри творчества — заимствования иными авторами — мог бы открыть новые перспективы в ракурсе
обозначенной темы.
Не менее важно в связи с киномузыкой обратить
внимание на смещение акцентов в творческом методе
Шнитке, где тематизм утрачивает свои главенствующие позиции. Еще в апреле 1968 года, в период активных творческих поисков, Шнитке писал Анри Пуссеру
о том, что мечтает найти «überstil», где, подобно темам
и тональностям, будут взаимодействовать различные
стили (см.: [21, р. 50]). Значимым композиционным
элементом для него становится стилевая модель.
При этом оригинальность тематизма в контексте нового
метода способна вступать в противоречие с формой.
В интервью Е. Баранкину в 1979 году Шнитке очень
точно высказался о роли интонационного единства
в полистилистической композиции: «Соединяя разнородные по стилю темы, я всегда стараюсь, чтобы
была интонационная связь, иначе будет произвол. <…>
Связь такая: либо это интонации секундовые, либо это
интонации секстотерцовые — сочетание секунд, секст
и терций все держит» [1, с. 66]. Секундовые интонации
для Шнитке имеют особое значение, составляя основу
монограммы B-A-C-H, которая многократно появлялась
в сочинениях композитора — как академических, так и
прикладных жанров (среди них музыка к мультфильму
«Стеклянная гармоника», кинофильму «Как царь Петр
арапа женил», Концерт для альта с оркестром, Вторая
соната для скрипки и фортепиано)2. О том, что Шнитке
видел основной потенциал нового творческого метода
во взаимодействии элементов разных стилей, написано
Подробнее об использовании этой монограммы как формы постоянного диалога с музыкой великого немецкого композитора см.: [9, с. 82–87].
2
18
Теория и история искусства
Теория и история искусства
немало, но интересно проследить, как авторский метод
претворялся в кинотексте.
При всей значимости композиционной техники,
по словам самого Шнитке, «внешний способ изложения
мысли является лишь некоей конструкцией, сетью, которая помогает поймать замысел, неким вспомогательным
инструментом, но не самим носителем замысла. Вот
почему становится ясным, что технологическим анализом нельзя до конца раскрыть никакое произведение,
и возникает соблазнительное предположение, что разумнее анализировать сочинение по другим признакам,
например, по его угадываемой философской концепции.
Но ведь такой анализ не может охватить произведение
полностью. Если произведение действительно несет
в себе некий замысел, оно неисчерпаемо» [5, с. 65].
Уже в первых кинокартинах, снятых в 60-е годы,
композитору удавалось добиваться сильнейшего по психологической глубине воздействия на зрителя, анализ
звуковой дорожки отдельных фильмов говорит о том,
что в основе каждой работы Шнитке лежит глубоко
продуманная концепция. Так, в «Похождениях зубного
врача» Э. Климова (1965), именно благодаря парадоксальному сочетанию стилей в музыкальной партитуре
кинофильма, возникает сложный полифонический смысловой план. Использовав отсылы к стилевым моделям
итальянской музыки эпохи барокко, композитор словно
прочерчивает параллели между образами советского
врача и Доктора — героя классической комедии дель
арте, вписывая сюжет в широкий культурно-исторический контекст и тем самым создавая многомерность
смысловой структуры кинофильма, обретающей благодаря музыке надвременные характеристики.
Для сложнейшего по своей стилевой структуре визуального ряда анимационного фильма «Стеклянная
гармоника» А. Хржановского по сценарию Г. Шпаликова, создаваемого в конце 1960-х в одно время с легендарными анимационными скетчами Терри Гиллиама
из «Монти Пайтона» и «Желтой подводной лодкой»
The Beatles (реж. Джордж Даннинг), Шнитке в качестве объединяющего вневременного символа избрал
тему-монограмму B-A-C-H, вокруг которой словно сконцентрирован весь разнообразный визуальный ряд и
музыкальный материал3.
Еще интереснее в этом плане выглядит стилевая
структура музыки к первому отечественному телесериалу «Вызываем огонь на себя» С. Колосова, которая
крайне редко попадает в поле зрения исследователей.
Для характеристики трех главных действующих сил —
гитлеровская армия, русские жители оккупированных
территорий и диверсанты, в число которых входят чешский офицер и польские рабочие, — композитор выбирает сочетание нескольких стилевых моделей, и это решение далеко от стереотипного. Немцы охарактеризованы
с помощью песенных форм — это немецкие народные
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
песни и городской фольклор, причем преимущественно
в ансамблевом или хоровом звучании, а также маршей
и танго. В финальной серии в сферу музыкальных характеристик немцев включена классическая музыка.
В противовес немецким темам в противоборствующем
блоке много сложной атональной музыки, Шнитке активно использует авангардные («польские») техники
письма, с которыми он экспериментировал в академических жанрах в 60-е годы4. Польские композиторы
находились тогда в центре авангардных экспериментов,
и неудивительно, что для Шнитке музыкальный образ
поляков оказался связан с установившимся в 60-е годы
образом смелого авангарда. Вопреки сложившимся
в киномузыке того времени традициям, атональная
музыка характеризует не хаос войны, не немецких
захватчиков, а смелых героев, вступающих в схватку
с системой и взрывающих ее изнутри. В этой стилевой
структуре просматривается и автобиографический мотив. В 60-е годы Шнитке занимался изучением новой
музыки, авангардных композиторских техник письма,
используя все возможные каналы связи с зарубежными
коллегами. Вместе с Э. Денисовым он участвовал в написании статей для нового учебника по композиции,
который, к сожалению, так и не был издан. Сложный
путь к новой музыке в академическом мире, борьба
с изжившими себя традициями были зашифрованы
в звуковой партитуре телефильма, где новая музыка
была носителем смелых созидательных идей.
Середина 60-х годов была для Шнитке периодом
формирования собственного стиля, о чем композитор
не раз говорил и писал. В это время он пытался периодами преодолевать свой интерес к чужому, вырабатывая
оригинальный стиль, но в итоге в этой восприимчивости
и нашел свой неповторимый музыкальный язык.
Кинематографичность мышления органично вошла
в композиторский стиль Шнитке. В своих рассуждениях
он часто прибегает к ассоциациям с искусством экрана — то отмечая схожесть языка Л. Берио с итальянским
кино [5, с. 145], то рассуждая о «монтажно-кинематографической незавершенности» в симфонии Г. Канчели [5,
с. 95], то проводя параллели между полистилистикой и
документальной хроникой [5, с. 146]. Кинематографичность — неотъемлемая черта сознания композитора,
воспитанного в советской социокультурной среде, где
авторское киновысказывание было одной из важнейших составляющих культурного багажа образованного
человека.
Выбор стилевых моделей для кинофильмов является
концептуальным для Шнитке. Композитор, рассуждая
о полистилистике, отмечал, что она предъявляет новые требования и к слушателю: «Игра стилей должна
быть им осознана как намеренная» [5, с. 145]. Хотя его
творчество находилось вне возникающих в 1960-е годы
постмодернистских теорий и концептов, Шнитке интуи-
3
Созвучная идея почти в то же время, в 1969 году, вдохновила Э. Морриконе при работе над музыкой к культовому фильму
Анри Вернёя «Сицилийский клан», в саундтреке которого также использована тема-монограмма B-A-C-H.
4
Говоря о работе над этим фильмом, Шнитке отмечал: «Я там испробовал довольно много из “польской” техники. Кластеры,
алеаторика, полиритмия, остинато» [4, с. 56].
19
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
тивно двигался по пути освоения такого рода эстетики,
осторожно экспериментируя с разрушительной силой
иронии.
Сам Шнитке полагал, что «в последнее время полистилистика оформилась в сознательный приём, —
даже не цитируя, композитор часто заранее планирует
полистилистический эффект, будь то эффект шока
от коллажного столкновения музыкальных времён,
гибкое скольжение по фазам музыкальной истории
или тончайшие, как бы случайные аллюзии» [5, с. 145].
Удивительной по своей парадоксальности выглядит «встреча» жанрового кино о партизанах Великой
Отечественной войны с эстетикой импрессионизма.
В кинофильме Л. Шепитько «Восхождение» (1976) в роли
интонационной основы музыкального ряда и стилевой
модели выступает фортепианная прелюдия К. Дебюсси
«Шаги на снегу». Импрессионистичное звучание музыкальной партитуры созвучно кинематографическому
языку Ларисы Шепитько. Восхождение — как движение
в застывшем заснеженном пространстве — трактовано и
как физическое действие, шаг за шагом приближающее
героев к трагическому финалу, и как духовное движение,
возносящее их к вершинам сакрального переживания,
и в звуковом плане кинофильма это восхождение рифмуется композитором с минималистичным образом,
найденным Дебюсси в прелюдии, — секундовые интонации шагов, окруженные паузами — созвучны статике
ледяного пейзажа визуального плана картины и образу
движения сквозь преодоление, требующего невероятных физических и духовных усилий. В начале прелюдии
Дебюсси стоят словесные ремарки: «expressif et douloureux» («выразительно и скорбно»), «Ce rythme boit avoir
la valeur sonore d’un fond de paysage triste et glacé» («Этот
ритм должен иметь звуковое значение фона печального
и обледенелого пейзажа»). В визуальном плане кинокартины они словно обретают зримое воплощение.
Главная музыкальная тема «Восхождения» впервые
звучит в драматичный для героев момент: после пленения их везут — как пойманных животных в силках —
по снежной равнине, сани въезжают в замерший от страха и холода оккупированный немцами городок. Этот
долгий проезд — прощание с застывшим в заснеженной
красоте миром и свободой бесконечных пространств,
развернутая музыкальная тема (чуть больше полутора
минут) звучит у деревянных духовых инструментов
в сопровождении струнных с щемящей тоской. Дальше — темный подвал, допросы, пытки и смерть. Музыкальная тема будет возвращаться, когда герои начнут
по-новому ощущать себя в этом бесконечном белом
просторе, который невозможно ограничить заборами
и колючей проволокой. В традициях европейской культуры ледяная пустыня — олицетворение последнего
круга ада (лимб), предназначенного в «Божественной
комедии» Данте Алигьери для предателей. И в «Восхождении» каждый должен сделать выбор — остаться
ли навечно в снежной пустыне, но в душевном аду,
или решиться на акт самопожертвования и совершить
духовное восхождение.
20
Теория и история искусства
Остинатные секундовые интонации снежной фортепианной прелюдии вызывают цепь ассоциаций, создавая
глубину и многоплановость содержания. Неожиданные сопряжения стилей выводят восприятие зрителя
за пределы событийного плана сюжета. Шнитке крайне
экономно расставляет звуковые акценты в фильме.
Шаги — секундовые интонации, сопровождают лишь
сцены, связанные с образом движения. Во второй раз
они зазвучат, когда после исповеди героев, брошенных
дожидаться своей участи в подвальную тьму, мрачное
подземелье озарит свет, словно исходящий от лица
(лика) Сотникова. Это один из ключевых моментов
фильма, знаменующий момент духовного восхождения
героев, и здесь многослойное сонористическое звучание
темы создает картину нереальности происходящего,
пограничного состояния между мирами. Деформированные секундовые интонации будут сопровождать и
восхождение приговоренных героев к месту казни, и
подъем на эшафот. Но в момент, когда взгляд Сотникова
отыщет в толпе силуэт мальчика в буденовке, зазвучат
трубы и колокола, символизирующие внутреннюю
силу, торжество духовности, надмирность вознесшегося
образа главного героя.
Шнитке не использует в музыкальном решении точной цитаты, его музыка скорее аллюзийно отсылает
к узнаваемому музыкальному образу. Позже Прелюдия Дебюсси «Шаги на снегу» будет звучать в фильме
«Покаяние» Т. Абуладзе (композитор Н. Джанелидзе)
в трагическом контексте [20]. Перекличка названий
(«Восхождение»/«Покаяние») обозначит и перекличку
музыкального материала. В «Покаянии» обращение
к теме Дебюсси (почти современной для героев сюжетов
отечественных фильмов) подчеркивает глубину одиночества и силу духовного стоицизма человека в момент
столкновения с демонической тоталитарной силой.
Ассоциативная тема Шнитке в фильме «Восхождение» отсылает зрителя к осмыслению европейским
искусством в зимнем пейзаже трагического экзистенциального опыта — от Рублева и Брейгеля до Дебюсси
и Тарковского. Минималистичная тема подчеркивает
особый импрессионистический настрой фильма Шепитько, созвучный строгому графичному и одновременно
хроникальному воспроизведению ландшафта, протяженным эпизодам с перемещениями героев в большом
заснеженном пространстве. Сцена снежной Голгофы
Шепитько восходит к эпизоду «Андрея Рублева» Тарковского, в котором визуализируется задуманный героем
живописный образ снежного Христа. Опасно апокрифичная для русской иконической традиции образность
в эстетике Тарковского и Кончаловского перекликается
с апокалиптичными снежными образами на полотнах художников ренессансной Европы, такими как «Охотники
на снегу», «Поклонение волхвов на снегу» и «Избиение
младенцев» Питера Брейгеля-старшего, переносящего
новозаветный сюжет в актуальный хронотоп и объединяющего духовную основу сюжета с отчаянным
бытовизмом повседневности.
Сама логика визуального отсыла режиссера «Вос-
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Теория и история искусства
хождения» к Брейгелю словно бы располагает к открытым музыкальным аллюзиями на стыке эстетики
Возрождения и классики. Но Шнитке отказывается
от решений, лежащих на поверхности, — обращение
к Баху могло бы напрямую соотнести киноэстетику Шепитько с «баховским» пейзажем «Зеркала» и «Соляриса»
Тарковского. Эта аллюзийность, как отмечалось выше,
в фильме ощущается, но носит характер не прямого
наследования, а особого творческого продолжения
великой темы. В музыкальном решении «Восхождения»
Бах присутствует как своего-рода минус-прием (термин
Ю. М. Лотмана) — как опосредованное ожидание музыкальной аллюзии, закономерной для сопровождения
брейгелевского пейзажа, и ее подмена через еще одну
актуализированную эпоху-посредника (Европа накануне
Первой мировой войны), раскрывает надвременную
доминанту духовного осмысления трагического.
Шнитке не только помогает режиссеру завершить
образ ледяной пустыни как предельного круга ада, визуальной аллюзии на образы живописной классики, он
полифонизирует этот аллюзийный прием, проецируя
его на более сложный круг культурных феноменов,
создавая своего рода «круги на воде».
Многообразие подходов к изучению киномузыки
Шнитке позволяет глубже оценить его творческую
лабораторию на пути создания принципов полистилистики. Осознание взаимодополняемости методов и
акцентов в трактовке его кинокомпозиторского творчества может помочь в дальнейшем исследовать его
кинопартитуры внутри большого художественного
целого отечественной культуры как сложные высказывания, обладающие значительным исполнительским и
эстетическим потенциалом.
Литература
1. Баранкин Е. Альфред Шнитке. Соединяя несоединимое //
Искусство кино. 1999. № 2. С. 54–66.
2. Демченко А. И. «Многообразная музыкальная реальность». К 85-летию со дня рождения А. Г. Шнитке // Вестник
Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2019.
№ 4 (6). С. 35–47.
3. Егорова Т. К. Музыка кино: направления исследований
в отечественном и мировом искусствоведении (на примере
изучения подходов американо-европейской и советско-российской школ) // Музыковедение. 2018. № 1. С. 30–37.
4. Егорова Т. К. Музыка советского фильма (историческое
исследование). Дис. … д-ра искусствоведения. М., 1998. 463 с.
5. Ивашкин А. В. Беседы с Альфредом Шнитке. М.: РИК
«Культура», 1994. 304 с.
6. Мирошкина А. Ф. Киномузыка А. Шнитке: аспекты комплексного анализа // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 1 (127). URL: https://research-journal.
org/archive/1-127-2023-january/10.23670/IRJ.2023.127.102
(дата обращения: 26.08.2024).
7. Мирошкина А. Ф. Киномузыка Альфреда Шнитке: опыт
исследования. Дис. … канд. искусствоведения. Оренбург, 2016.
256 с.
8. Мирошкина А. Ф. Музыка фильма «Горячий снег»: к изучению творческого метода А. Шнитке // Театр. Живопись.
Кино. Музыка. 2021. № 2. С. 137–152.
9. Мэгуми Х. И. С. Бах — А. Г. Шнитке: цитата как форма
диалога в музыке анимационного кино // Opera musicologica.
2024. Т. 16. № 1. С. 76–97.
10. Петрушанская Е. Из бесед о работе в кино // Музыкальная академия 1999. № 2 (667). С. 91–96.
11. Рыжинский А. С., Консон Г. Р. Союз кино и музыки: О Первом киномузыкальном фестивале «KINOREX» в контексте
проблемы взаимодействия музыки и кино начала XXI века //
Наука телевидения. 2021. Т. 17. № 4. С. 174–217.
12. Троицкая Г. Несколько страниц из личного архива //
Музыкальная академия. 1999. № 2. С. 97–101.
13. Холопова В. Н. Композитор Альфред Шнитке. СПб.:
Планета музыки, 2023. 328 с.
14. Холопова В. Н., Чигарева Е. И. Альфред Шнитке: Очерк
жизни и творчества. М.: Советский композитор, 1990. 350 с.
15. Чигарева Е. И. Художественный мир Альфреда Шнитке.
Очерки. СПб.: Композитор СПб., 2012. 368 с.
16. Шак Т. Ф., Масич О. В. О некоторых принципах структурирования тематизма в музыке кино // Культурная жизнь
юга России. 2016. № 1. С. 55–61.
17. Шак Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста (на материале художественного и анимационного кино). Дис. … д-ра
искусствоведения. Краснодар, 2010. 464 с.
18. Flechsig A. Alfred Schnittke in Hamburg: Aspekte einer
transnationalen Biographie und späten Schaffensphase. Hildesheim:
Georg Olms Verlag AG, 2023. 205 s.
19. Schmelz P. J. Sonic Overload: Alfred Schnittke, Valentin
Silvestrov and polystylism in the late USSR. Oxford: Oxford University Press, 2021. 408 р.
20. Schmelz P. J. The Full ilusion of reality: Repentance, polystylism, and the late Soviet oundscape // Sound, speech, music in Soviet
and Post-Soviet cinema / Еd. by L. Kaganovsky and M. Salazkina.
Bloomington: Indiana University Press, 2014. Р. 230–251.
21. Schnittke Studies / Ed. by G. Dixon. L.: Taylor & Francis,
2016. 302 p.
References
1. Barankin E. Alfred Schnittke. Soyedinyaya nesoyedinimoye
[Alfred Schnittke. Connecting the Unconnectable] // Iskusstvo kino
[Art of Cinema]. 1999. №. 2. Р. 54–66.
2. Demchenko A. I. «Mnogoobraznaya muzykal'naya real'nost».
K 85-letiyu so dnya rozhdeniya A. G. Shnitke [«Diverse musical
reality». To the 85th anniversary of A. G. Schnittke] // Vestnik
Saratovskoy konservatorii. Voprosy iskusstvoznaniya [Journal
of Saratov Conservatoire. Issues of Arts]. 2019. № 4 (6). P. 35–47.
3. Egorova T. K. Muzyka kino: napravleniya issledovaniy
v otechestvennom i mirovom iskusstvovedenii (na primere
izucheniya podkhodov amerikano-yevropeyskoy i sovetsko-rossiyskoy shkol) [Film music: research directions in domestic and
world art criticism (based on the study of approaches of the American-European and Soviet-Russian schools)] // Muzykovedenie
21
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
[Musicology]. 2018. № 1. P. 30–37.
4. Egorova T. K. Muzyka sovetskogo fil'ma (istoricheskoye
issledovanie) [Music of Soviet film (historical research)]. Dis. …
d-ra iskusstvovedeniya. M., 1998. 463 p.
5. Ivashkin A. V. Besedy s Alfredom Schnittke [Conversations
with Alfred Schnittke]. M.: RIK «Kultura», 1994. 304 р.
6. Miroshkina A. F. Kinomuzyka Alfreda Schnittke: aspekty
kompleksnogo analiza [Film music by Alfred Schnittke: aspects
of complex analysis] // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatelskij zhurnal [International Research Journal]. 2023. № 1 (127).
URL: https://research-journal.org/archive/1-127-2023-january/10.23670/IRJ.2023.127.102 (Accessed: 26.08.2024).
7. Miroshkina A. F. Kinomuzyka Alfreda Schnittke: opyt issledovaniya [Film music by Alfred Schnittke: a research experience].
Dis. … kand. iskusstvovedeniya. Orenburg, 2016. 256 p.
8. Miroshkina A. F. Muzyka filma «Goryachij sneg»: k izucheniyu
tvorcheskogo metoda A. Shnitke [Music of the film «Hot Snow»:
To the study of creative method of A. Schnittke] // Teatr. Zhivopis.
Kino. Muzyka [Theatre. Fine Arts. Cinema. Music]. 2021. №. 2.
P. 137–152.
9. Megumi H. I. S. Bah — A. G. Shnitke: tsitata kak forma dialoga
v muzyke animatsionnogo kino [I. S. Bach — Alfred Schnittke:
Quotation as a Form of a Dialogue in Music for Animated Films] //
Opera musicologica. 2024. Vol. 16. № 1. Р. 76–97.
10. Petrushanskaya E. Iz besed o rabote v kino [From conversations about working in cinema] // Muzykalnaya akademiya
[Music Academy]. 1999. № 2 (667). Р. 91–96.
11. Ryzhinskiy A. S., Konson G. R. Soyuz kino i muzyki: O Pervom
kinomuzykalnom festivale «KINOREX» v kontekste problemy vzaimodejstviya muzyki i kino nachala XXI veka [Alliance of Cinema
and Music: The First KINOREX Film Music Festival in the Context
of Interaction between music and cinema in the early 21st century] // Nauka televideniya [The Art of Television]. 2021. Vol. 17.
№ 4. P. 174–217.
12. Troitskaya G. Neskol'ko stranits iz lichnogo arkhiva [Several
pages from a personal archive] // Muzykalnaya akademiya [Music
Academy]. 1999. № 2. P. 97–101.
13. Kholopova V. N. Kompozitor Alfred Schnittke [Composer
Alfred Schnittke]. SPb.: Planeta muzyki, 2023. 328 p.
14. Kholopova V. N., Chigareva E. I. Alfred Schnittke: Ocherk
zhizni i tvorchestva [Alfred Schnittke: Essay on life and work]. M.:
Sovetskyy kompozitor, 1990. 350 p.
15. Chigareva E. I. Khudozhestvennyy mir Alfreda Schnittke.
Ocherki [The Artistic World of Alfred Schnittke. Essays]. SPb.:
Kompozitor SPb., 2012. 368 p.
16. Shak T. F., Masich O. V. O nekotorykh printsipah strukturirovaniya tematizma v muzyke kino [On some principles of structuring
music themes in the music of the movie] // Kulturnaya zhizn yuga
Rossii [Cultural Studies of Russian South]. 2016. № 1. P. 55–61.
17. Shak T. F. Muzyka v strukture mediateksta (na materiale
khudozhestvennogo i animatsionnogo kino) [Music in the structure
of media text (based on feature and animated films)]. Dis. … d-ra
iskusstvovedeniya. Krasnodar, 2010. 464 p.
18. Flechsig A. Alfred Schnittke in Hamburg: Aspekte einer
transnationalen Biographie und späten Schaffensphase. Hildesheim:
Georg Olms Verlag AG, 2023. 205 s.
19. Schmelz P. J. Sonic Overload: Alfred Schnittke, Valentin
Silvestrov, and Polystylism in the Late USSR. Oxford: Oxford University Press, 2021. 408 р.
20. Schmelz P . J. The full illusion of reality: Repentance, polystylism, and the late soviet soundscape // Sound, speech, music
in Soviet and Post-Soviet cinema / Еd. by L. Kaganovsky and M. Salazkina. Bloomington: Indiana University Press, 2014. Р. 230–251.
21. Schnittke Studies / Ed. by G. Dixon. L.: Taylor & Francis,
2016. 302 p.
Информация об авторах
Information about the authors
Эвелина Эдуардовна Зорина
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова»
Саратов, Россия
Evelina Eduardovna Zorina
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
Saratov, Russia
Артем Николаевич Зорин
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н. Г. Чернышевского»
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова»
Саратов, Россия
22
Теория и история искусства
Artem Nikolaevich Zorin
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky»
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
Saratov, Russia
Музыкальное искусство
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-23-28
Алексеева Ирина Васильевна, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой теории музыки
Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова
Alekseeva Irina Vasilyevna, Dr. Sci. (Arts), Professor, Head of the Music Theory Department of the Ufa State Institute
of Arts named after Zagir Ismagilov
E-mail: alexeevaiv@mail.ru
«ДВЕ МАЛЕНЬКИЕ ПЬЕСЫ ДЛЯ ОРГАНА» АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ: ЗВУКОВОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР
Статья посвящена сочинению для органа одного из крупнейших композиторов XX века. Поднимается актуальная проблема
обращения Альфреда Шнитке к инструменту, имеющему многовековую историю, а также к семантическим моделям западноевропейского барокко. Во взаимодействии создателя «Двух маленьких пьес для органа» с далёким прошлым рассматривается
специфика обновления звукового и музыкального текстов. Её осмысление осуществляется посредством разработанной отечественными учёными теории музыкального текста, семантического анализа. Автор опирается на исследования музыковедов
в области барочной риторики и новой звуковой материи, открытой композиторами XX века. Постижение творческого процесса
смысловой организации музыкального текста «Двух маленьких пьес для органа» Шнитке происходит сквозь призму напряжённого диалога эпох. Изучается тембровая, интонационная, фактурно-динамическая драматургия сочинений. Выявляется
оригинальная трактовка риторических фигур в их направленности на формирование особого художественного мира композитора. С помощью анализа темпа, агогики, артикуляции и динамики рассматривается специфика интерпретации сочинений
первым исполнителем «Двух маленьких пьес для органа» Олегом Янченко. Выявляются оригинальные смысловые акценты
музыканта, расширяющие представление о глубинной структуре музыкального текста композитора. Статья адресована музыкантам-профессионалам, а также читателям, интересующимся музыкальным искусством XX века.
Ключевые слова: Альфред Шнитке, орган, семантика, звук, художественный мир, исполнительская версия, Олег Янченко.
«TWO SMALL PIECES FOR ORGAN» BY ALFRED SCHNITTKE: SOUND AND ART WORLD
The article is devoted to the organ composition by one of the greatest composers of the 20th century Alfred Schnittke. The topical
issue of Schnittke’s addressing the centuries-old instrument, as well as to the semantic models of Western European Baroque, is raised.
In the interaction of the creator of «Two Small Pieces for Organ» with the distant past, the specifics of updating sound and musical
texts are considered. It is comprehended through the theory of musical text and semantic analysis developed by domestic scientists.
The author relies on the musicological research in the field of baroque rhetoric and new sound matter discovered by composers
of the 20th century. Creative process of the semantic organization of the musical text of «Two Small Pieces for Organ» by Schnittke is
viewed through the prism of an intense dialogue of eras. The timbre, intonation, texture and dynamic dramaturgy of the works are
studied. An original interpretation of rhetorical figures is revealed in their focus on the formation of the composer’s special artistic
world. Based on the analysis of tempo, agogics, articulation and dynamics, the specifics of the interpretation of the works by the first
performer of the «Two Small Pieces for Organ», Oleg Yanchenko, are examined. The original semantic accents of the musician are
revealed, expanding the understanding of the deep structure of the composer’s musical text. The article is addressed to professional
musicians, as well as to readers interested in the musical art of the 20th century.
Key words: Alfred Schnittke, organ, semantics, sound, artistic world, performance version, Oleg Yanchenko.
Прошло свыше четверти века с тех пор, как Альфред
Шнитке ушёл из жизни. За это время его музыка стала
своего рода классикой. Но попытки постижения творчества композитора учёными, музыкантами-практиками
не прекращаются. Неизменно привлекают внимание его
сочинения масштабных жанров симфонии, концерты,
оперы, кантаты. Исследователи считают, что симфония — «кардинальный жанр, обобщающий художественное мышление композитора и прошедший сквозь весь
его творческий путь» [4, с. 3], называют композитора
«мастером симфонии-драмы» [9, с. 15], «личностью
множественных измерений» [8, с. 7], а его творчество
представляют сквозь призму «всеобщей этической диады добра и зла» [1, с. 4]. Всё это, бесспорно, так. Однако,
на наш взгляд, не менее интересны его миниатюры, микрокосмос которых отображает грандиозное содержание
и безграничные художественные миры композитора.
В этом смысле показательны его «Две маленькие пье-
сы для органа», созданные в 1980 году. Рассмотрим их
художественный мир сквозь призму семантического
анализа глубинных структур музыкального текста.
В контексте кардинальных перемен всех аспектов
музыкального мышления XX века и расширения горизонтов искусства обращение Альфреда Шнитке к органу,
с его традиционной и статуарной конструкцией и сложившимся лексическим «словарём», стало своего рода
вызовом. С одной стороны композитор генетически принимает и закрепляет культовую семантику органного
тембра, а с другой — экспериментирует со «звучащим
телом» инструмента. Расширение границ фонической
идеи словно ниоткуда возникающего звука мануалов
органа происходит посредством новой музыкальной
эстетики обращения с тоном как самодостаточным
акустическим феноменом. «Звук перестал быть объективной данностью, предлагаемой традиционными
источниками», — отмечает М. И. Катунян, — поскольку
23
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
«для Новой музыки нет готовых звуков, нет готовых
тембров. Звук <…> стал предметом композиторской
работы» (цит. по: [7, с. 52]). В этой связи интересно,
что поиски нового звучания никак не связаны со ставшими уже традиционными в музыке второй половины
XX века экспериментами с темперацией и высотой звука, поскольку конструкция органа и его акустические
возможности остались в полной неизменности. В пьесах
отсутствуют и ультрасовременные техники письма,
а также исполнительские приёмы нетрадиционного
звукоизвлечения и звуковедения на имеющем многовековую историю музыкальном инструменте. Что же
привело к необычной «свежей» трактовке инструмента?
В отечественной музыке названного периода орган
как солист используется достаточно редко, а композиторы и исполнители XX века новые тембровые краски
находят в его сочетании с ансамблем или оркестром.
Среди таких сочинений «Detto-I» для органа и ударных,
«In croce» для органа и виолончели С. Губайдуллиной;
«In deo speravit» для скрипки, гитары и органа, Соната
для скрипки и органа Э. Денисова и другие. Здесь главными становятся эксперименты с плотностью и объёмом
тембрового звучания, сонорные эффекты со-интонирования органа с иными участниками ансамбля или
оркестра. Шнитке продолжает обозначенную тенденцию
в «Реквиеме» и Второй симфонии для солистов, хора
и инструментов; кантате «История доктора Иоганна
Фауста» для контратенора, контральто, тенора, баса,
смешанного хора и оркестра; «Звук отзвук» для тромбона и органа и др. А «Две маленькие пьесы для органа»
являются скорее исключением, поскольку написаны
для органа соло1. Они составляют микроцикл (1980),
который стал «отголоском пребывания композитора
в Вене, где он жил в специально оборудованной келье монастыря, с роялем» [8, с. 156]. К этому времени
Шнитке был уже мастером различных музыкальных
жанров — балета, реквиема, инструментального концерта, камерной, оркестровой хоровой и киномузыки.
В их контексте уникально лаконичными по предельной
концентрации музыкальной мысли в воплощении масштабной художественной концепции стали органные
миниатюры.
Как известно, звучание органа, начиная с барокко,
являлось носителем сакральной и духовной символики.
В этой связи в последующие эпохи воплощённые инструментом художественные темы становились символами
высокой нравственности и морали. На это настраивали хоральное «перетекание» пролонгированных и
задержанных тонов в неторопливом темпе; устремлённые ввысь, они вызывали ассоциации с величием
архитектурных сооружений. Весомость каждого тона,
«дление» звучания воссоздавали погружение слушателя
в возвышенное и лишённое всего суетного состояние
покоя и медитативности. А чередование или многопластовое совмещение (со-положение) фрагментов текста,
контрастных по звучанию интонационной лексики
1
24
Музыкальное искусство
(инструментальной и вокально-хоровой этимологии),
мануалов и педали, сформировало своеобразный органный метатекст. Его семантика связана с отображением
сосуществования мира «небесного» и «земного».
В «Двух маленьких пьесах для органа» Шнике холодновато-мистический, религиозный и возвышенный
тон органа, отшлифованный веками в пространстве
церкви, отображает явления вселенского масштаба. Обе
медитативного характера миниатюры представляют
собой, по словам В. Н. Холоповой, «два размышления
вслух над органом» [8, с. 156]. Звучание погружает
слушателей в русло раздумий и осмысления бытийных вопросов, а уникальное тембровое пространство
органа способствует расширению границ сознания.
Свободное от всего суетного и чувственно открытого
интонационное развёртывание обусловливает эффект
пролонгирования одного трансцендентного состояния. Этот тип миропостижения медитирующего «я»,
по мнению В. В. Медушевского, проявляет себя в музыке,
лишённой изобразительных напоминаний. Для его воссоздания идеально подходит звук органа, «способный
к бесконечному длению, не ограниченный ни дыханием,
ни смыслом, невозмутимо ровный по громкости, тембру
и высоте» [6, с. 87].
Составляющие цикл миниатюры близки по образному строю и вызывают аллюзию эстетики западноевропейского барокко с идеями страдания, экстатического
обращения к Богу, поиском духовного смысла жизни
человеком, а также надеждой на обретение вечного
покоя. Вместе с тем, мистичность, инфернальность
общего звучания рождают в восприятии сумрачные
мыслеобразы. Они отображены в изобилующих диссонансами резких, предельно напряжённых интонационных «высказываниях», которые, тем не менее,
не противоречат взаимосвязи двух эпох, а напротив,
дают новую возможность их диалога.
Подобно барочным опусам, в пьесах художественный
мир разделяется на «земной» и «небесный». Однако композитор расширяет его границы до «подземного» мира,
словно опускается в глубины подсознания. А вопросы
о бытии отдельного человека зеркально преломляются
сквозь призму проблем вселенского масштаба, и те и
другие по-прежнему остаются открытыми.
Единая художественная тема пьес обусловливает
слитную драматургию цикла. Вся музыкальная ткань
сочинений прорастает из одного интонационного комплекса, рождающегося одновременно в горизонтальном
и вертикальном аспектах. Однако его развёртывание
происходит своеобразно внутри каждой пьесы, которые
вступают в своеобразный диалог.
В основе микроцикла лежат четыре интонационные формулы. При этом только две из них являются
«ключевыми», противостоящими друг другу по смыслу
(прим. 1, средняя строка). Одна представлена малосекундовым ходом — интонацией lamentо с традиционной семантикой скорби и печали. Она пронизывает
Пьесы первоначально предназначались для рояля, а затем были переложены для органа.
Музыкальное искусство
музыкальную материю обеих пьес, появляясь в разных
вариантах: восходящем и нисходящем, в увеличении,
в уменьшении, в горизонтальном и вертикальном сочетаниях с другими её вариантами и новыми интонациями.
Среди таких вариантов — интонация секундовой трели
(прим. 1, т. 3, верхний голос) и фигура креста (прим. 1,
т. 5, нижний голос), которые в дальнейшем обретают
самостоятельную драматургическую роль.
Пример 1. Шнитке А. «Две маленькие пьесы для органа» (фрагмент)
Другая, противоположная по смыслу lamentо, интонация тритона опирается на сложившуюся ещё в западноевропейском барокко семантику и свидетельствует
о присутствии или вторжении потустороннего мира.
Она становится символом злого рока.
Логика драматургии первой пьесы выстраивается посредством постепенного расширения тембро-регистрового пространства органных мануалов, полифонические
слои которого заполняют напряжённые деривационные
преобразования ставших автономными интонаций. Вторая организована по принципу диалога — перекличек
разных фактурных, интонационных пластов, регистров,
а также звучания и беззвучия с ведущей ролью педали.
Остановимся подробнее на каждой из миниатюр.
Первая пьеса открывается одновременным соче-
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
танием интонаций lamento и тритона. Восходящее,
а затем нисходящее движение lamento словно ставит
перед слушателем вопросы бытия. Обе напряжённо
пульсирующие фигуры звучат в низкой тесситуре чрезвычайно тихо и затаённо, будто издалека. Совместно они
формируют эффект погружения человека, находящегося на грани жизни и смерти, в мучительные раздумья
о Вечном. Резкое и громкое возникновение секундовой
трели в высоком флейтовом пронзительном (лабиальном) регистре сигнализирует о вторжении зловещего
начала. Здесь она является знаком тёмных, потусторонних сил, враждебных по отношению к человеку.
Словно назойливая мысль, трель возвращается вновь
и вновь в разных голосах и регистрах, создавая эффект
предельного напряжения. Складывается впечатление,
что она входит в жизнь и сознание человека, определяя
его судьбу. При этом оппозицию высокой «сверлящей»
трели образует фигура креста, звучащая приглушённо
в низкой тесситуре. Она олицетворяет здесь силу веры,
которая даже в самое тяжёлое время жизни человека
остаётся непоколебимой.
Стремление к кульминационному пику формирует
passus duriusculus в обращении — восходящий хроматический ход, каждый звук которого развёрнут в виде
«зловещей» трели. Семантическая фигура медленно
поднимается вверх, словно стремясь преодолеть инерцию земного притяжения. Ей противостоит спрессовывающий пространство хроматический спуск интонационного инварианта. Одновременно с восходящей
интонационной волной в низком «дребезжащем» регистре в партии педали вступает тритон, производящий эффект вибрирования «самого сердца Земли».
Результатом оппозиции интонационных устремлений
становится кульминация как неизбежная и неотвратимая для человека участь.
Достаточно яркая и сильная динамика является
неотъемлемой частью звукообраза инструмента, и, как
отмечает Б. Б. Бородин, «распространяя своё влияние
на громадные пространства, орган вместе с тем наводняет эти пространства с подавляющей и непреклонной
мощью» [3, с. 81]. В пьесе Шнитке динамическая волна
увенчивается «взрывами» — продолжительными сокрушительными ударами аккордов на фортиссимо,
верхним слоем которых «завладела» безостановочно
восходящая «назойливая» трель (прим. 2).
Пример 2. «Две маленькие пьесы для органа» (фрагмент)
Посткульминационный спад не приводит к исчезновению гнетущего состояния. Трель по-прежнему «руко-
25
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
водит» интонационной драматургией и не отпускает
напряжения до конца пьесы. Как отмечает Н. А. Эскина,
сформированная в кантатах западноевропейского барокко и направленная на иллюстрацию слов «покой» и
«тишина» трель в органных сочинениях часто «выступает как символ статизации» [10, с. 112]. Однако трель
в пьесах Шнитке вовсе не статична, она достаточно
агрессивно врывается и вибрирует в органном пространстве-времени. А реминисценция интонационной
оппозиции lamentо и тритона кристаллизуется в почти
беззвучных «повисших» и оставшихся без ответов аккордовых гроздьях-вопросах.
Драматургия второй миниатюры формируется
иначе, она воплощает рефлексию на отображённые
в первой пьесе события. Идея игры внеличного начала
с человеком — игры тени и света — персонифицируется
в диалогах различных пластов фактуры, а также темброво-регистровых контрастах звучания мануалов и педали.
В тексте тончайшим образом сменяются регистровка и
динамические нюансы, рождая яркие и противоположные друг другу звукорегистровые эффекты.
В отличие от первой миниатюры, здесь интонационная материя преимущественно спрессована в вертикаль. При этом смысловая логика сосредоточена
на сопровождаемом частыми громкостными перепадами
контрасте мощных аккордовых «сгустков» с «говорящими» паузами. А ключевая роль в этом принадлежит
фигуре креста, пронизывающей музыкальную ткань
всей пьесы.
Начало миниатюры рождается из одного звука, к которому постепенно присоединяются другие, формируя
аккорд-кластер (прим. 3). В нём зашифрована фигура
креста в обращении. Новый деривационный виток
связан с добавлением низких гудящих звуков педали, которые словно взывают из бездны (т. 2). В эпоху барокко
музыка, исполняемая на педали в храме, заполняла всё
пространство, «возникала ниоткуда и воспринималась
как внеличное и вечное божественное слово. Озвученная на ножной клавиатуре музыкальная “информация”
имела максимальную возможность вступать в резонанс
с душой верующего» [2, с. 34]. В сочинении Шнитке,
напротив, интонации в партии педали символизируют
неумолимый рок, экзистенциальное зло. При этом сначала они звучат вместе с аккордом, а затем автономно
от него остаётся и обретает всё бо́ льший вес нижайший
«подземный» звук. По словам Е. М. Акишиной, именно
тембры низких инструментов (часто медных духовых)
лежат в основе персонификации образов инфернального
Пример 3. Шнитке А. «Две маленькие пьесы для органа» (фрагмент)
26
Музыкальное искусство
зла «Das Bose» [1, с. 25]. Остановка — фигура aposiopesis,
следующая после мощного многоголосного звучания,
как известно, в музыке барокко выражала идею смерти,
вечности. Аналогичное значение имеет в пьесе Шнитке
многозначительная пауза, наступившая за семантическим комплексом — фигурой креста с вибрирующим
звуком низкой педали.
Она становится главным «действующим лицом»
второй пьесы, исполняющим преимущественно продолжительные, тянущиеся звуки в нижней тесситуре,
символизирующие голос из бездны. Именно тембр
педали дважды грозно и назидательно озвучивает фигуру креста, которая проводит основную идею пьесы —
ответственности художника перед Богом. И вновь как
попытка преодоления человеком роковой предопределённости восхождение в партии педали квинтово
уплотнённой фигуры passus duriusculus упирается в интонацию lamento, «перетекающую» в фигуру креста.
Образуется тематическая арка-идея с первой пьесой.
В завершении интонационное движение возвращает
слушателя к первоистоку, а вечные раздумья о бытийных вопросах так и остаются без ответа.
Впервые оригинальные сочинения были исполнены
в 1988 году выдающимся российским органистом Олегом Янченко. Медленный темп и разреженность пространства-времени, отсутствие моторно-двигательных
компонентов, предельный лаконизм средств выражения
и концентрация внимания на мельчайших деталях, где
каждый звук или созвучие обретает глубочайший смысл,
обусловливают сложность концепции микроцикла и
требуют высочайшего профессионального мастерства
и таланта от музыканта-исполнителя. Именно такими
качествами обладает интерпретация «Двух маленьких
пьес для органа» Олегом Янченко.
Во время звучания органного исполнения первой
пьесы в сознание слушателя проникают тягостные и
печальные мыслеобразы. Начальное сочетание lamento
и тритона доносится так тихо, как только возможно
на органе, словно голос «потустороннего» мира. Впечатление инфернальности усиливается более медленным,
по сравнению с указанием в нотах, темпом. В связи
с этим тяжёлая интонационная поступь низкого регистра становится ещё более устрашающей. А звучание
доминирующей в музыкальной материи секундовой
трели (для выделения которой на органе меняется
регистр, мануал и выключается педаль) достигает
поистине катастрофических пределов благодаря отличающимся резкой пронзительностью язычковым
регистрам мануалов.
Особый смысл в исполнении Янченко обретают паузы между различными сегментами текста. Музыкант их
заметно подчёркивает, передерживая продолжительность. Пауза во всех голосах и ярусах фактуры передаёт
взгляд одинокого человека в пропасть, безжизненную
пустоту.
Как отмечалось, интонационное содержание партии
педали всегда, начиная с музыки барокко, несло глубокую идею в органных сочинениях. Также происходит
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
и в «Двух маленьких пьесах для органа» Шнитке, где
партию педали буквально подчиняет себе «предвестница» катастрофы фигура тритона. Несмотря на то что
вступление партии педали всегда очень яркое событие,
перед появлением «демонической» фигуры Янченко делает короткую артикуляционную паузу, будто
подготавливая слушателя к восприятию вторжения
неизвестной инфернальной и неотвратимо опасной
для мира силы.
Постепенное затихание снова приводит к низким и
тишайшим звукам в конце первой пьесы. Они передаются органистом настолько тонко, что возникает ощущение, будто слушатель погружается в новое разреженно
безжизненное звучащее пространство. Завершающие
миниатюру аккорды в исполнении музыканта звучат
предельно тихо, создавая эффект растворения непрерывно длящегося напряжения в бездне неизвестности.
По контрасту угасающим в завершении первой пьесы
аккордам в пространстве зала начало второй миниатюры в органной интерпретации отличается бо́ льшей
динамикой и громкостью. Из первых звуков, постепенно
собирающихся в аккорд, вырисовывается фигура креста. Янченко выделяет её отчётливой артикуляцией,
достигая почти зримой скульптурности.
Удивительно тонко передаются в органном исполнении темброво-регистровые перемещения риторических
фигур из мануалов в партию педали, передающие «диалог» добра и зла. При этом Янченко словно опровергает неспособность органа варьировать громкостную
динамику, поскольку мастерство смены тембровых
регистров обусловливает градации звука от громогласного фортиссимо до тишайшего пианиссимо.
В органном исполнении акцентируется большая
смысловая роль последовательно появляющихся в пьесе
пауз. Возникая между различными сегментами текста,
они образуют «звучащую» тишину, подобную эффекту
«перенасыщения поля (звукового. — И. А.) энергией» или
«сгустка медленно рассеивающейся незвучащей энергии», по М. А. Кокжаеву [5, с. 54]. А остановка звучания
во всех голосах рождает впечатление конца времени.
Как уже отмечалось, во второй пьесе звукоинтонации
органа персонифицированы и включены в контраст
партий мануалов и педали, передающий «диалог» двух
миров. Пронзительные полиаккорды воплощают «земной», а самые низкие и глубокие звуки — мир «потусторонний». И в исполнении Янченко кажется, что этот
«диалог» может длиться вечно, но его обрывает на два
форте восходящий хроматический ход в партии педали.
А дальше… напряжённое движение к небесам растворяется в аккорде на пианиссимо, принося умиротворение
и успокоение после тяжёлого духовного преодоления.
Музыкант дважды на меццо форте акцентирует
на клавишах педали каждый звук фигуры креста,
за которым появляется интонация lamento из первой
миниатюры, и всё словно замыкается, возвращается
на круги своя. Повторяющиеся звукообразы первой
миниатюры во второй пьесе создают впечатление возвратной «петли времени», которая останавливает его
течение и поворачивает вспять. Так, по словам М. А. Кокжаева, «увеличение количества музыкального вещества
влечёт за собой сворачивание музыкального времени
в точку, что воспринимается как его остановка» [5, с. 51].
Постепенно замедляя темп, органист создаёт эффект
растворения и исчезновения звуковой материи, переводя её в энергетический поток.
Исполнительские версии «Двух маленьких пьес для
органа» Альфреда Шнитке автономны по трактовке.
Однако их объединяет особый подход, связанный с детализацией и минималистичностью миниатюр, а также
с особым деривационным принципом сквозного интонационного становления. Исполнитель предельно
деликатен и изобретателен в обращении с тоном-звуком, который концентрирует в себе глубокий смысл.
Подчёркнутая тембро-регистровая многослойность и
скульптурность драматургического решения формируют
смысловую полифонию, передающую диалог человека
с миром небесным и инфернальным. Главной становится
тема вселенского одиночества, а человек является лишь
песчинкой в безграничном мире.
Таким образом, художественный мир сочинения
Альфреда Шнитке неразрывно связан с историей и
перекидывает мост памяти к инструментальному барокко, устанавливая напряжённый диалог. Актуализируя духовную концептуальную природу органа, его
акустическую специфику, риторику интонационного
и тембрового пластов, композитор не реставрирует
опыт прошлого, а даёт ему новую жизнь. Риторические
фигуры барокко в медитативно отстранённой звуковой
материи инструмента обретают новый смысл и повышенно экспрессивный градус выражения мысличувства,
устремлённого к небесам и заглядывающего в бездну.
Оно будто вмещает в себя катастрофу и боль всего мира.
Проведённое исследование позволило лишь ещё раз
приоткрыть завесу композиторского процесса. Однако
тайна звуко-творчества гения остаётся вне времени.
Литература
1. Акишина Е. М. Семантические аспекты анализа творчества А. Шнитке: автореф. дис. … канд. искусствоведения.
М., 2003. 39 с.
2. Алексеева И. В. Бассо-остинато и его роль в смысловой
организации инструментальной музыки барокко. Уфа: Гилем,
Башк. энцикл., 2013. 304 с.
3. Бородин Б. Б. Три тенденции в инструментальном ис-
полнительском искусстве. Екатеринбург: Банк культурной
информации, 2004. 222 с.
4. Дзюн Тиба. Симфоническое творчество Альфреда Шнитке: опыт интертекстуального анализа: автореф. дис. … канд.
искусствоведения. М., 2003. 19 с.
5. Кокжаев М. А. Типология музыкального пространства.
М.: Изд. дом «Композитор», 2004. 87 с.
27
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
6. Медушевский В. В. К анализу художественного мира
и выразительных средствах в инструментальной музыке
И. С. Баха // Полифоническая музыка: Вопросы анализа /
ГМПИ им. Гнесиных: Сб. науч. тр. Вып. 75. М., 1984. С. 83–107.
7. Теория современной композиции: учеб. пособие / отв.
ред. В. С. Ценова. М.: Музыка, 2007. 624 с.
8. Холопова В. Н., Чигарёва Е. И. Альфред Шнитке: очерк
Музыкальное искусство
жизни и творчества. М.: Сов. композитор, 1990. 350 с.
9. Чигарёва Е. И. Художественный мир Альфреда Шнитке.
СПб.: Композитор, 2012. 368 с.
10. Эскина Н. А. Органное творчество Д. Букстехуде в контексте немецкой культуры XVII века: дис. … канд. искусствоведения. М., 1983. 224 с.
References
28
1. Akishina E. M. Semanticheskie aspekty analiza tvorchestva
A. Shnitke [Semantic aspects of A. Schnittke’s creativity analysis]:
avtoref. dis. … kand. iskusstvovedeniya. M, 2003. 39 p.
2. Alekseeva I. V. Basso-ostinato i ego rol' v smyslovoj organizatsii instrumental'noj muzyki barokko [Basso ostinato and its
role in the semantic organization of baroque instrumental music].
Ufa: Gilem, Bashk. encikl., 2013. 304 p.
3. Borodin B. B. Tri tendentsii v instrumental'nom ispolnitel'skom iskusstve [Three trends in instrumental performing arts].
Ekaterinburg: Bank kul'turnoj informatsii, 2004. 222 p.
4. Dzyun Tiba. Simfonicheskoe tvorchestvo Alfreda Shnitke:
opyt intertekstualnogo analiza: avtoref [Symphonic works of Alfred
Schnittke: attempt of intertextual analysis]: avtoref. dis. … kand.
iskusstvovedeniya. M., 2003. 19 p.
5. Kokzhaev M. A. Tipologiya muzykalnogo prostranstva [Typology of musical space]. M.: Izd. dom «Kompozitor», 2004. 87 p.
6. Medushevskij V. V. K analizu hudozhestvennogo mira i vyrazi-
tel'nyh sredstvah v instrumental'noj muzyke I. S. Baha [On the analysis of the artistic world and means of expression in the instrumental music of J. S. Bach] // Polifonicheskaya muzyka: Voprosy
analiza [Polyphonic music: Issues of analysis] / GMPI im. Gnesinyh:
Sb. nauch. tr. Vyp. 75. M., 1984. P. 83–107.
7. Teoriya sovremennoj kompozitsii: ucheb. posobie [Theory
of modern composition: textbook] / otv. red. V. S. Cenova. M.:
Muzyka, 2007. 624 p.
8. Holopova V. N., Chigaryova E. I. Alfred Shnitke: ocherk zhizni
i tvorchestva [Alfred Schnittke: an essay on life and work]. M.: Sov.
kompozitor, 1990. 350 p.
9. Chigaryova E. I. Hudozhestvenny mir Alfreda Shnitke [Art
world of Alfred Schnittke]. SPb.: Kompozitor, 2012. 368 p.
10. Eskina N. A. Organnoe tvorchestvo D. Bukstekhude v kontekste nemetskoj kultury XVII veka [Organ creativity of D. Buxtehude
in the context of German culture of the 17th century]: dis. … kand.
iskusstvovedeniya. M., 1983. 224 p.
Информация об авторе
Information about the author
Ирина Васильевна Алексеева
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова»
Уфа, Россия
Irina Vasilyevna Alekseeva
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Ufa State Institute of Arts named after Zagir Ismagilov»
Ufa, Russia
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-29-33
Высоцкая Марианна Сергеевна, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой современной
музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Vysotskaya Marianna Sergeevna, Dr. Sci. (Arts), Professor, Head at the Department of Contemporary Music at Tchaikovsky
Moscow State Conservatory
E-mail: anna_mari@mail.ru
О КАТЕГОРИИ ВНЕМУЗЫКАЛЬНОГО У ШНИТКЕ
Статья посвящена рассмотрению функции внемузыкального компонента в творчестве Альфреда Шнитке. В опоре на оте­
чественные музыковедческие исследования дана краткая характеристика феномена внемузыкального, лежащего в основе
процесса семантизации музыкального знака и в отдельных случаях выступающего в качестве заданной извне структурной
(композиционной) модели. Высказывая гипотезу о ключевой роли в творчестве Шнитке данного фактора, определяющего
характер прекомпозиционной работы и композиционную структуру целого ряда сочинений, автор предлагает классификацию его основных структурно-семантических типов: «сюжетный», жанровый и жанрово-стилевой, риторический, анаграмматический, буквенно-числовой (символический). В свете обозначенной проблематики рассмотрен комплекс внемузыкальных компонентов фортепианной пьесы Шнитке «Импровизация и фуга», включающий такие аспекты, как моделирование
барочного полифонического цикла и барочной риторической диспозиции, использование упорядочивающей функции числа
и выстраивание условно-сюжетной конструкции.
Ключевые слова: внемузыкальное, Шнитке, семантика, модель, риторические принципы.
ABOUT SCHNITTKE'S CATEGORY OF THE EXTRA-MUSICAL
The article deals with the consideration of the function of the extra-musical component in the work of Alfred Schnittke. Based
on domestic musicological research, a brief description of the extra-musical phenomenon underlying the process of semantization
of a musical sign and in some cases acting as an externally specified structural (compositional) model is given. Hypothesizing about
the key role of this factor in Schnittke's work, which determines the nature of pre-compositional work and the compositional structure
of a number of works, the author proposes a classification of its main structural and semantic types: «plot», genre and genre-style,
rhetorical, anagrammatic, alphanumeric (symbolic). In the context of this problem, a complex of extra-musical components of Schnittke's piano piece «Improvisation and Fugue» is considered, including such aspects as the modeling of a baroque polyphonic cycle and
baroque rhetorical disposition, the use of the ordering function of number and the construction of a conditional plot structure.
Key words: extra-musical, Schnittke, semantics, model, rhetorical principles.
Я хочу попытаться утешиться примером Малера,
который имел в виду нечто литературное в своей музыке.
Мы уже не обращаемся к литературному,
оно как бы лежит в самой музыке.
(Альфред Шнитке)
Диалектика имманентно музыкального и внемузыкального всегда была важнейшим генератором композиционных процессов. Сама идея воплощения «содержания» предполагает семантизацию музыкальных
языка и речи, то есть выход к структурно-смысловому
измерению музыки и условное «опредмечивание» в тексте произведения того неуловимого, что составляет её
духовную сущность и её тайну.
Внемузыкальное входит в композицию с вербаль-
ным текстом или зрительным рядом, с жанровыми,
программными или иными паратекстуальными атрибутами, его функциональность и степень значимости
варьируются в диапазоне от внешнего импульса к сочинению1 до построения целостной идеи-концепции.
Выводимая из контекста взаимодействия искусств
и широко понятого игрового начала театральность
музыки2 является одним из проявлений внемузыкального, будучи претворена во всём спектре жанровых
В известном исследовании о музыкальной семантике М. Г. Арановский описывает её «экстрамузыкальную» часть как
выход к «феноменам сугубо психической природы (допустим, к эмоциям, чувствам и т. п.) или же к психическим отражениям
внешней реальности (например, к зрительным образам, ассоциациям, синестезиям и т. п.)» [1, с. 318].
2
В отечественном музыкознании этот феномен рассмотрен на разном историческом материале. Так, В. Дж. Конен, предваряя
исследование венской классической симфонии анализом в историческом масштабе процесса отбора и совершенствования
выразительных средств (лежащих, главным образом, в сферах интонации и формообразования), делает ценное наблюдение
о периодичности смен эпох доминирования внемузыкальных (прежде всего словесных, литературных) и музыкальных
факторов: «Нам представляется, что непрерывная смена “программной” и “чистой” музыки или, точнее, процесс перехода
первой во вторую является одной из кардинальных и устойчивых закономерностей музыкального искусства» [7, с. 21‒22].
1
29
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
форм ― от «синтетических» до «чистых». В русле этой
эстетики может быть осмыслена и универсальная для художественного творчества концепция диалога, столь
плодотворно разработанная в отечественной философии
культуры3 и спроецированная на музыку разных эпох.
В области «абсолютной» музыки связь с внемузыкальным компонентом актуальна до того момента,
пока накопленный ею ассоциативный опыт не позволит завершить процесс семантизации музыкального
знака. Именно тогда музыка полностью освобождается
от «подпорки» в облике слова, сценического действия
или декларируемой программы. Со сменой исторических
эпох этот алгоритм вытеснения и преодоления внемузыкального воспроизводится вновь и вновь, всякий раз
осуществляясь в иных языковых и стилевых условиях.
Продвигаясь от внешнего уровня композиции к её
глубинным слоям и интонационной логике, исследователь всё ближе к денотативному значению музыкального знака. И напротив, восходя от мельчайших элементов
структуры музыкального текста к синтаксису более
масштабного свойства, он удаляется от абстракции
в сферу коннотативной семантики. Так при анализе
музыкальной композиции работает схема «снятия» и
«подключения» параметра внемузыкального.
Особый интерес представляют формы внемузыкальных творческих импульсов, которые оказывают
непосредственное воздействие на характер прекомпозиционной работы творца, выстраивая композиционную
структуру сочинений. Задаваемая извне структурная
(композиционная) модель может определяться сводом
правил или графической схемой, представлять собой
математическую формулу или «техноморфный» образец, симулирующий ту или иную электроакустическую
процедуру4. В редчайших случаях, когда моделирование
макро- и микрокомпозиционных процессов одного
музыкального опуса осуществляется в строгом соответствии с архитектонической схемой другого, этот последний тоже как бы переходит в разряд внемузыкальных
факторов, осуществляя своего рода категориальную
«трансгрессию». Примером носителя подобной дополнительной функции является партитура веберновской
Симфонии ор. 21, выступившая структурным аналогом
сразу двух сочинений: Concerto grosso памяти А. Веберна
Фараджа Караева и Первой камерной симфонии ор. 21
Николая Каретникова5.
Наследие Альфреда Шнитке демонстрирует мощный
30
Музыкальное искусство
конструктивный потенциал внемузыкального, стимулирующего и концептуализирующего музыкальные процессы. В творчестве композитора этот фактор обретает
значение своего рода универсалии, во многом определяя
характер прекомпозиционной работы и композиционную структуру сочинений. Интонационно-жанровые и
жанрово-композиционные модели, стилевые диалоги
в диапазоне от использования риторических формул
до культурологического метода «мышления стилями» ― всё это, по мысли Шнитке, составляет основу
структурной упорядоченности музыки, «“запрятанную” в музыку» и столь необходимую ей «подводную
часть» [5, с. 62]. Интегрируя компоненты «интонационного словаря эпохи» (термин Б. В. Асафьева), «переплавляя» и наделяя их в контексте собственного творчества
устойчивыми характеристиками, композитор, по сути,
трансформирует внемузыкальный конструкт в элемент
музыкального нарратива.
О семантике музыкального языка Шнитке написано
немало, и одной из последних по времени обобщающих
разработок этой темы стал соответствующий раздел
монографии Е. И. Чигарёвой [12, с. 219‒342]. Последовательно продвигаясь от интонационного уровня
к уровню формы, исследователь выстраивает системную
иерархию используемых композитором стилистических
моделей.
Неоднократно возвращается к размышлениям
на тему о роли внемузыкального начала у Шнитке и
А. В. Ивашкин, называя этот фактор «двигателем музыкального», который «“распирает” старые музыкальные
законы и незаметно создаёт новые» [5, с. 11].
Не претендуя на открытие новых горизонтов в этой
достаточно освоенной музыковедами теме, обозначим
основные структурно-семантические типы внемузыкального у Шнитке.
1. «Сюжетная» модель, предполагающая выстраивание драматургии на основе ассоциативного соотнесения
с фабулой литературного произведения, литургической
«программой» или по условной канве авторской «истории»: примеры ― «Pianissimo» и «(K)ein Sommernachtstraum» для симфонического оркестра, Концерт для гобоя
с оркестром, Второй концерт для скрипки с оркестром,
Четвёртая симфония, «Три сцены» для голоса и ударных,
«Moz-Art» (версия для инструментального секстета) и
другие сочинения;
2. Жанровая и жанрово-стилевая модели, включая
И далее: «Постепенное обособление, отпочкование “чистой выразительности” в пределах того или иного жанра и стиля от её
первоначальной, почти всегда программной основы — общая закономерность музыкального искусства» [7, с. 26].
О новых проявлениях и импульсах театральности в музыке применительно к искусству ХХ века повествует Т. А. Курышева,
делая акцент в том числе и на зрелищном факторе, реализуемом в категориях музыкальной персонификации и пластичности [8, с. 97‒137].
3
См., в частности, труды М. М. Бахтина, В. С. Библера, А. Я. Гуревича, Ю. М. Лотмана.
4
Более подробно и на конкретных образцах ― от следования стратегическим законам ораторской речи в малом полифоническом цикле северонемецкого барокко до объединения разных типов моделей в пьесе Ф. Леру «VOI(REX)» ― данная
систематика рассмотрена в статье автора [2].
5
См. об этом: [3, с. 144‒162; 10]. Нелишне вспомнить здесь и ещё об одном веберновском произведении, ставшем прототипом концептуальной партитуры: «“Metamusica” ор. 27» С. Загния представляет собой копию фортепианных Вариаций ор. 27
со «снятой» звуковысотностью.
Музыкальное искусство
принцип обобщения через жанр и вариант «семантической инверсии»6: примеры ― кантата «История доктора Иоганна Фауста» («негативный пассион»), Вторая
скрипичная соната («антисоната»), Первая симфония
(«антисимфония»7), Серенада для пяти музыкантов,
«Minnesang» для 52 хористов (мотет, кводлибет), Реквием, Концерт для скрипки, альта, виолончели и струнных
с фортепиано (раннеклассическая концертная симфония), Пассакалья для симфонического оркестра, Вторая
симфония (месса), шесть оркестровых Concerti grossi и
другие сочинения;
3. Риторические фигуры и риторические принципы:
примеры использования ― «Гимны» для камерно-инструментального ансамбля, «Стихи покаянные» и Концерт на стихи Г. Нарекаци для смешанного хора, Реквием,
Вторая симфония, кантата «История доктора Иоганна
Фауста», опера «Джезуальдо» и другие сочинения.
Риторические принципы организации в музыке
Шнитке реализуются преимущественно в опоре на диалектику сонатной формы во всём спектре отклонений
от традиционной схемы — вплоть до попытки «написать
сонату ― но при этом не написать её»8. В контексте
широко понимаемой «сонатности» следует рассматривать и систему стилевых противоположностей /
стилистических противопоставлений, и принцип производного контраста9, и в целом ― всё многообразие
форм представления «контрастно-диалогического»
мышления (определение композитора [13, с. 94]) как
основы драматургии конфликтного типа;
4. Анаграммирование: примеры — Фортепианный
квинтет, Третья симфония, Третий и Четвёртый концерты для скрипки с оркестром, Первая скрипичная
соната, Вторая соната для скрипки и фортепиано, Concerto grosso № 1, Прелюдия памяти Д. Шостаковича для
2-х скрипок и другие сочинения;
5. Математические прогрессии, пропорции, буквенная
и числовая символика: примеры — «Pianissimo» для оркестра, Первая скрипичная соната, «Жизнеописание»
для ансамбля ударных, инструментальный Септет,
Второй концерт для виолончели с оркестром и другие
сочинения.
На перекрёстке различных векторов внемузыкального находится и фортепианная пьеса «Импровизация
и фуга» (1965), написанная для очередного, Третьего
Международного конкурса имени П. И. Чайковского.
Композиция представляет собой вариативную модель
малого полифонического цикла, свободно реализую-
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
щую принципы барочной риторической диспозиции10.
В основе организации музыкального материала ― двенадцатитоновая всеинтервальная серия в высотной
позиции от fis (прим. 1).
Пример 1. Серия
Число 12 диктует структурный закон для открывающего Импровизацию начального построения: наслоение
мелодических линий образует 12-голосный серийный
канон, параллельно росту аккордики ― от октавного
удвоения к 12-звучной вертикали-кластеру11 (прим. 2).
Пример 2. Импровизация. Тт. 1‒7
Отражённая в заглавии семантическая оппозиция
двух разделов усилена внутрициклическим стилевым
контрастом. Притом что доминантой композиционного
письма является техника додекафонии, обусловившая
генетическую взаимосвязь всех основных тематических
образований пьесы, их жанровое наклонение и характер
изложения значительно разнятся. Своим нетрадиционным обликом основная тема Фуги (далее ― Тема 1)
в значительной степени обязана синкопированному
ритму, который привносит в музыку латиноамериканский акцент12 (прим. 3).
Пример 3. Фуга. Тт. 1‒5. Тема 1
В ритмике производных от неё тем-«родственников» (далее ― Тема 2 и Тема 3) также ощутимо влияние
танцевального «жеста» (прим. 4, 5).
Открывающая разработочный раздел музыка (далее ― Тема 4) ассоциируется с джазовой импровизацией солиста, разворачивающейся на фоне ритмически
Термин А. В. Денисова, предложенный им в аналитическом эссе о «фаустианской» кантате Шнитке [4].
Авторские термины Шнитке.
8
Комментарий Шнитке по поводу Второй скрипичной сонаты [5, с. 213]. В беседе с А. В. Ивашкиным композитор говорит
об «отсвете сонаты», о «внутреннем следовании сонате» даже в «несонатных» жанрах своего творчества [5, с. 53].
9
По Шнитке, «контраста через связь» [13, с. 91].
10
Диалектика формообразования пьесы вполне соответствует логической схеме шестичастной dispositio с функциональной дифференциацией разделов, согласно которой части exordium и narratio относятся к Импровизации, а части propositio,
confutation, confirmatio и peroratio ― к Фуге.
11
Аналогичные кластерные комплексы звучат в конце Фуги, перед кодой, возвращая материал Импровизации и образуя
арку к началу пьесы (раздел Maestoso).
12
Характеризуя жанровую принадлежность этой темы, В. Н. Холопова говорит о ритмоформуле румбы [11, с. 25].
6
7
31
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
Пример 4. Фуга. Тт. 12‒15. Тема 2
Пример 6. Фуга. Тт. 47‒49. Тема 4
Пример 5. Фуга. Тт. 34‒36. Тема 3
устойчивого хода баса (прим. 6).
Вопреки жанровому обозначению, во второй части
цикла Шнитке нет жёсткой привязки к форме-схеме ―
это достаточно свободная в структурном отношении
пьеса13, по словам композитора, «скорее моторное сочинение с контурами фуги, нежели она сама» [13, с. 41].
Схема 1
Импровизация
Такты
Зона
тематического
действия
1–11
1
«Экспозиция»
12–20
2
21–33
1
Фуга
34–46
3
47–56
4
57–69
2
/
2
Итоговость репризных контрапунктов Фуги усилена
проведением в зоне её кульминации начального материала Импровизации14, ― Шнитке-симфонист не изменяет
себе, выстраивая чёткую, драматургически обоснованную арочную конструкцию, пронизанную динамикой
тематических преобразований. Характеризуемая типичным для этого автора качеством «отсутствия финала»,
Фуга истаивает в механически прокручиваемом арабеске, который, по мысли композитора, символизирует
«звучание хаотических колоколов» [13, с. 41] (прим. 7).
Пример 7. Фуга. Тт. 125‒126
Рассмотренная в аспекте неявного, но, тем не менее, ощутимого действия комплекса внемузыкальных
факторов, композиция Шнитке словно выскальзывает
из рамок, диктуемых жанром виртуозной концертной
пьесы, и оказывается текстом в тексте, обретает дополнительное смысловое измерение ― ту «глубину бархата»,
о которой в своё время писал А. В. Ивашкин, ссылаясь
на известную метафору М. К. Мамардашвили [5, с. 11]. Де-
«Разработка»
70–80
4
/
1
81–87
3
/
1
88–90
3
/
2
91–93
4
3
2
«Реприза»
94–106
1
/
4
2–3
/
4
107–112
Импр.
/
2–3
Кода
113–126
Импр.
монстрируя опору на различные типы внемузыкального,
как-то: моделирование барочного полифонического
цикла и барочной риторической диспозиции, использование упорядочивающей функции числа и выстраивание
условно-сюжетной конструкции, ― «Импровизация и
фуга» вместе с тем аккумулирует детерминанты стиля,
сущностные черты метода композитора. Прежде всего,
это организующие драматургию симфонические принципы интонационного роста и производного контраста,
яркая, почти театрализованная подача тематического
материала, динамичное, насыщенное контрастами движение к иллюзорному финалу как воплощению идеи
«незамкнутого круга», «спирального витка» [6, с. 8].
Немаловажным оказывается и стилевой параметр, включающий аллюзии на жанр (12-тоновый «хорал» в начале Импровизации ― прим. 2, «румба» в основной теме
Фуги ― прим. 3, «джазовая импровизация» ― прим. 6) и
на конкретную музыкальную тему (ассоциации с бетховенской сонатой ор. 53 («Аврора») в Теме 3 ― прим. 5).
На подобном пересечении и сопряжении явлений,
имеющих чисто музыкальную природу, и внешнего
музыке ассоциативного контекста основано мышление
Шнитке-творца ― композитора, к которому в полной
мере применимы слова С. И. Савенко, высказанные в отношении Д. Шостаковича: «Его музыка действительно
Нетрадиционное для классической фуги строение имеют и экспозиция, и реприза. Тема 4 по сути выполняет функции
«эпизода в разработке», а значимость в процессе развития Темы 2, поначалу воспринимаемой в качестве интермедии, сообщает ей статус равновеликого основной теме «контр-сюжета».
14
Сходным образом устроен двухчастный додекафонный «Концерт-буфф» (1964) для камерного оркестра С. Слонимского
с обратным порядком частей ― 1. «Каноническая фуга», 2. «Импровизации» ― и финальным объединением всех тем в «многоэтажных» контрапунктах.
13
32
Обращают на себя внимание интенсивность и масштаб
мотивно-тематического развития, выходящего за рамки
срединного раздела и захватывающего области экспозиции и репризы Фуги. Наблюдение над этапами этого
процесса позволяет под маской исторического жанра
распознать рассказываемую автором «историю» ― разыгрываемый условными персонажами метафорический
сюжет о стремлении к восстановлению утраченной
целостности, о попытке примирения разного в движении к единому.
Нижеследующая схема иллюстрирует потактовую
диспозицию тематического материала (схема 1).
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
говорит, или, точнее, нам кажется, что она говорит
о совершенно определённых вещах. И тот факт, что
эти вещи, укоренённые в культуре своего времени и
места, уже уходят одновременно со сменой поколений,
по-видимому, ничего не меняет: будущим слушателям
она скажет что-то иное, но, как нам представляется,
скажет в любом случае» [9].
Литература
1. Арановский М. Г. Музыкальный текст: структура и свойства. М.: Композитор, 1998. 343 с.
2. Высоцкая М. С. Композиционная модель в музыке: к вопросу об эволюции понятия // Музыкальная академия. 2021.
№ 4. С. 152‒165.
3. Высоцкая М. С. Между логикой и парадоксом: композитор
Фарадж Караев. М., 2012. 568 с.
4. Денисов А. В. Кантата А. Шнитке «История доктора Иоганна Фауста»: диалог Средневековья с ХХ веком // Денисов А. В. Семантические этюды. СПб.: Издательство РГПУ имени
А. И. Герцена, 2017. С. 125‒148.
5. Ивашкин А. В. Беседы с Альфредом Шнитке. М.: Классика-XXI, 2003. 320 с.
6. Ивашкин А. В., Гудкова Т. А. Слово об Альфреде Шнитке //
Альфред Шнитке. Статьи, интервью. Воспоминания о композиторе / сост. А. Ю. Хржановский. М.: ARCADIA, 2014. С. 8‒17.
7. Конен В. Дж. Театр и симфония (роль оперы в формировании классической симфонии). Изд. 2-е. М.: Музыка, 1975. 376 с.
8. Курышева Т. А. Театральность и музыка. М.: Советский
композитор, 1984. 200 с.
9. Овчинников И. С. Дмитрий Шостакович. URL: https://
meloman.ru/composer/shostakovich-dmitrij/ (дата обращения
25.06.2024).
10. Тарнопольский В. В. Диалог Второго русского авангарда
со Второй венской школой: Камерная симфония op. 21 Николая
Каретникова в зеркале Симфонии op. 21 Антона Веберна //
Студенческое научно-творческое общество в истории Московской консерватории. М.: «Московская консерватория»,
2020. С. 160‒173.
11. Холопова В. Н., Чигарёва Е. И. Альфред Шнитке. М.: Советский композитор, 1990. 350 с.
12. Чигарёва Е. И. Художественный мир Альфреда Шнитке.
СПб.: Композитор, 2012. 368 с.
13. Шульгин Д. И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке.
Беседы с композитором. М.: Деловая лига, 1993. 110 с.
References
1. Aranovskij M. G. Muzykalnyj tekst: struktura i svojstva [Musical text: structure and properties]. M.: Kompozitor, 1998. 343 p.
2. Vysotskaya M. S. Kompozitsionnaya model' v muzyke: k voprosu ob evolyutsii ponyatiya [Compositional model in music:
on the question of the evolution of the concept] // Muzykal'naya
akademiya [Music Academy]. 2021. № 4. P. 152‒165.
3. Vysotskaya M. S. Mezhdu logikoj i paradoksom: kompozitor
Faradzh Karaev [Between logic and paradox: composer Faraj
Karaev]. М., 2012. 568 p.
4. Denisov A. V. Kantata A. Schnittke «Istoriya doktora Ioganna
Fausta»: dialog Srednevekov'ya s XX vekom [A. Schnittke's cantata
«The History of Doctor Johann Faust»: dialogue between the Middle
Ages and the 20th century] // Denisov A. V. Semanticheskie etyudy
[Semantic studies]. SPb.: Izdatel'stvo RGPU imeni A. I. Gercena,
2017. P. 125‒148.
5. Ivashkin A. V. Besedy s Alfredom Schnittke [Conversations
with Alfred Schnittke]. M.: Klassika-XXI, 2003. 320 p.
6. Ivashkin A. V., Gudkova T. A. Slovo ob Al'frede Schnittke
[A word about Alfred Schnittke] // Alfred Schnittke. Stat'i, interv'yu. Vospominaniya o kompozitore [Alfred Schnittke. Articles,
interviews. Memories of the composer] / sost. A. Yu. Hrzhanovskij.
M.: ARCADIA, 2014. P. 8‒17.
7. Konen V. Dzh. Teatr i simfoniya (rol' opery v formirovanii
klassicheskoj simfonii) [Theater and symphony (the role of opera
in the classical symphony formation)]. Izd. 2-e. M.: Muzyka, 1975.
376 p.
8. Kurysheva T. A. Teatral'nost i muzyka [Theatricality and
music]. M.: Sovetskij kompozitor, 1984. 200 p.
9. Ovchinnikov I. S. Dmitrij Shostakovich [Dmitry Shostakovich]. URL: https://meloman.ru/composer/shostakovich-dmitrij/
(Accessed date: 25.06.2024).
10. Tarnopol'skij V. V. Dialog Vtorogo russkogo avangarda
so Vtoroj venskoj shkoloj: Kamernaya simfoniya op. 21 Nikolaya
Karetnikova v zerkale Simfonii op. 21 Antona Veberna [Dialogue
of the Second Russian Avant-Garde with the Second Viennese
School: Chamber Symphony op. 21 by Nikolai Karetnikov in the mirror Symphony op. 21 by Anton Webern] // Studencheskoe nauchno-tvorcheskoe obshchestvo v istorii Moskovskoj konservatorii
[Student Scientific and Creative Society in the history of the Moscow Conservatory]. M.: «Moskovskaya konservatoriya», 2020.
P. 160‒173.
11. Holopova V. N., Chigaryova E. I. Alfred Schnittke [Alfred
Schnittke]. M.: Sovetskij kompozitor, 1990. 350 p.
12. Chigaryova E. I. Hudozhestvennyj mir Alfreda Schnittke
[The Alfred Schnittke's artistic world]. SPb.: Kompozitor, 2012.
368 p.
13. Shul'gin D. I. Gody neizvestnosti Al'freda Schnittke. Besedy
s kompozitorom [The years of obscurity of Alfred Schnittke. Conversations with the composer]. M.: Delovaya liga, 1993. 110 p.
Информация об авторе
Information about the author
Марианна Сергеевна Высоцкая
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»
Москва, Россия
Marianna Sergeevna Vysotskaya
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Tchaikovsky Moscow State Conservatory»
Moscow, Russia
33
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-34-39
Денисов Андрей Владимирович, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории зарубежной музыки
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова
Denisov Andrey Vladimirovich, Dr. Sci. (Arts), Professor at the Department of the Foreign Music History of St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory
E-mail: denisow_andrei@mail.ru
О ЦИТАТАХ В ФИНАЛЕ ПЕРВОЙ СИМФОНИИ А. ШНИТКЕ
Трактовка семантики цитат в финале Первой симфонии Шнитке имеет ряд уникальных особенностей. Их многочисленность, крайняя разнородность первоисточников (в отношении как жанрово-стилевой, так и исторической перспективы)
обусловлены общей концепцией сочинения — отражение гетерогенности звучащего Бытия. Лежащие в основе этой концепции идеи волновали композиторов и до ХХ в. (таков, например, программный замысел Четвертой симфонии Л. Шпора), вызывая к жизни сходные композиционные приемы. Контрапунктическое соединение семи цитат с противоположной семантикой (образы Жизни и Смерти) напоминает о жанре quodlibet, который еще в эпоху Ренессанса нередко был связан с карнавальным началом. Далее показана специфика интерпретации использованных Шнитке григорианских хоралов, также
образующих семантическую антитезу — Dies Irae и Sanctus. Окончание Первой симфонии, представляющее уход музыкантов
под фонограмму последних тактов «Прощальной симфонии» Й. Гайдна, имеет свой исторический аналог — Симфонию in D
П. Враницкого (помимо сходного решения окончания, ее третья часть содержит множество цитат из популярных сочинений,
представляя собой quodlibet). В завершении статьи сказано о соотношении решения финала Первой симфонии Шнитке с его
эстетическими позициями; кроме того — о его положении среди полицитатных симфонических опусов других авторов.
Ключевые слова: цитата, коллаж, полистилистика, пародия, quodlibet, семантика.
ABOUT QUOTES IN THE FINAL OF A. SCHNITTKE’S FIRST SYMPHONY
The interpretation of the quotations’ semantics in the finale of Schnittke's First Symphony has a number of unique features. Their
multiplicity and extreme heterogeneity of primary sources (in relation to both genre-style and historical perspectives) are inextricably
linked with the general concept of the work as a whole — a reflection of the heterogeneity of the sounding Universe. The ideas underlying this concept attracted attentions of composers before XX century (such as, for example, the programmatic plan of L. Spohr's Fourth
Symphony), giving rise to similar compositional techniques. The contrapuntal combination of seven quotes with opposite semantics
(images of Life and Death) recalls the quodlibet genre, which in the Renaissance was often associated with the carnival principle. Then
the author analyzes features of Schnittke's Gregorian chants interpretation, which also has antithetic semantics: Dies Irae and Sanctus.
The ending of Schnittke's First Symphony, representing the departure of the musicians to the sounds of audio recording of the last bars
of Haydn's Farewell Symphony, has its own historical analogue — the Symphony in D by P. Vranitsky (in addition to a similar ending,
it also contains many quotes from popular compositions, in manner of quodlibet). At the end of the article, it is said about the relationship between decision of the Schnittke’s First Symphony finale and his aesthetic positions, as well as about its position among
polyquotation symphonic opuses of other authors.
Key words: quote, collage, polystylistics, parody, quodlibet, semantics.
Первая симфония А. Шнитке вызвала множество
неоднозначных и эмоциональных откликов сразу после
премьеры1. Однако отзвуки полемики, развернувшейся вокруг этого сочинения, не утихают и в наши дни.
Сами вопросы, волнующие исследователей, обрели
открытый характер, выводя их обсуждение в достаточно широкую перспективу. Среди них можно выделить
три магистральных: проблема жанра симфонии и его
обновления (или же отрицания2), диалог массовой и
академической культур, наконец — обращение к чужому
материалу в разных формах (от стилизации до цитирования). В настоящей статье мы обратимся только
к последнему вопросу. При этом речь пойдет исключительно о семантике цитат3 в финале произведения.
Как известно, сам композитор подробно охарактеризовал строение заключительной части и использованные в ней цитаты в автокомментарии, который дал
Д. Шульгину [16, с. 65–66]. Раскрывая драматургическую
идею, которая могла бы объяснить их использование,
Шнитке отметил: «Сама по себе жизнь, все, что нас
См., например, материалы дискуссии, развернувшейся через два года после премьеры Симфонии на страницах одного
из ведущих отечественных периодических музыкальных изданий: [11].
2
Весьма симптоматично название раздела работы, посвященной интертекстуальным взаимодействиям в этом сочинении:
«Первая симфония: “похороны жанра”» [6, с. 60].
3
Подчеркнем, что в настоящей статье анализируется только принцип цитирования как воспроизведение фрагмента другого текста, но не различные формы стилизации.
1
34
Посвящается светлой памяти доктора искусствоведения
Владислава Олеговича Петрова
Музыкальное искусство
окружает, настолько пестро, а ключа у нас догматического нет ни к чему, что мы будем более честны, если
попытаемся все это отразить» [16, с. 66]. Этой идее
вполне отвечает и выбор цитируемого материала, и
его количество. В отличие от предшествующих частей
Симфонии, именно финал (точнее — его отдельные
разделы) буквально насыщен цитатами, звучащими
подчас симультанно и образующими невообразимый
коллаж, а кроме того, представляющими разные эпохи
истории музыки (от средневековья до ХХ в.) и ее жанровые плоскости (от высокой литургической сферы
до эстрады). Добавим, что ни в одном другом своем
сочинении Шнитке не использовал цитаты в таком количестве и качестве4, хотя ряд композиционных приемов
обращения с ними (например, коллажный контрапункт
цитат) можно обнаружить как в ранее написанных
сочинениях, так и в появившихся позже.
Слушателям и исследователям Симфонии общий
смысл этих цитат был понятен, как и явно гротескная
манера их репрезентации. Так, по мнению Ю. Корева,
фрагменты чужих сочинений в Симфонии «рассчитаны
на массового слушателя, и в этом своем расчете композитор отнюдь не склонен к тонкостям. Его цитаты —
эстетические знаки — “площадные”, адресованные
широкой аудитории, они лежат на поверхности ее содержательно-ассоциативных потенций, они фактически
однозначны и в своей исходной, изначальной выразительности, и — когда это нужно автору — в своей пародийности, гротесковости» [11, с. 24]. А М. Арановский
характеризовал все сочинение так: «Симфония Шнитке
воссоздает многогранный звуковой портрет современной Цивилизации» [2, с. 161].
Но помимо портрета Цивилизации, Симфония воссоздает и образ самого человеческого Бытия, точнее — его
разных полюсов, как во временно́ м, так и вертикальном,
иерархическом измерении. Напомним, что вереницу
цитат в финале (с ц. 2 по ц. 8) открывают темы, имеющие однозначную связь с образами смерти, траура и
скорби (третья часть из Второй фортепианной сонаты
Ф. Шопена, причем звучат оба ее раздела5, «Смерть Озе»
Э. Грига и похоронный марш, который сам Шнитке никак
не атрибутировал). Вряд ли нужно комментировать то
обстоятельство, что они представлены в максимально
мрачном тембровом решении. Им противопоставлены и
в фактурном, и в метроритмическом отношении последующие три цитаты, возвещающие о триумфе жизни,
и здесь особенно выделяется материал знаменитого
Первого фортепианного концерта П. Чайковского.
Как у современников первых исполнений сочинения,
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
так и в более позднее время он вызывал устойчивый
круг ассоциаций: «энергический, полный жизни и движения» (Г. Ларош) [8, с. 97]; «в нем композитор более
чем где-либо далек от трагического постижения жизни.
Он еще в солнце, в празднике…» (Б. Асафьев) [3, с. 281];
«здесь, в этом произведении, нашла свое прекрасное
выражение его любовь к жизни» (А. Николаев) [10,
с. 133]; тема вступления: «вся она — мощь, торжество,
ослепительный свет. Перед нами величавый монументальный Гимн жизни, подобный пушкинской Вакхической песне» (А. Альшванг) [1, с. 214].
Тем более показательно, что цитируя его, композиторы в ХХ–ХХI вв. были склонны противопоставлять этот
материал образам смерти, причем в откровенно пародийно-гротескном контексте. Так, в опере Б. Мадерны
«Сатирикон» он характеризуется как часть Реквиема /
трубный глас Страшного суда (слова Тримальхиона: «вот
моя личная Tuba mirum»), а в вокальном цикле Б. Гецелева «Вечерний полет» (№ 6 — «Опыт биографии») та
же самая тема вступления к первой части громогласно
звучит в контексте откровенно пародийного описания
«прощания» с П. Чайковским после его «похорон».
Все звучащие темы в Симфонии подключаются постепенно, контрапунктически соединяясь с появившимися
ранее и образуя в результате quodlibet6 — жанр, еще
в эпоху Ренессанса нередко воплощавший карнавальное
начало. В нем могли появиться григорианский хорал и
известная песня любовного содержания, использоваться
откровенно комические приемы, да и само число цитат
иногда было весьма большим, причем соотношение
их значений подчас имело антитетический характер.
У Шнитке в данном разделе их всего семь: помимо описанных выше, с цитатой Концерта Чайковского сочетаются еще две танцевальные темы — из вальса «Сказки
Венского леса» И. Штрауса-сына и «Летка-Енка».
Их полиметрический контрапункт невольно заставляет вспомнить об известной сцене из первого акта
«Дон Жуана» В. Моцарта, в которой соединяются три
контрастных танца. Впоследствии та же идея была воплощена в Симфонии № 4 Л. Шпора: в ее второй части
(Andantino) соединяются танцевальные темы в разном
размере и характере. Программа этого сочинения непосредственно связана с поэмой К. Пфайфера «Освящение
звука» («Die Weihe der Töne»), содержание которой
удивительным образом корреспондирует с замыслом
Первой симфонии Шнитке. Поэма возвещает о безграничном разнообразии звучащего Бытия, сопровождающего жизнь человека от рождения до смерти, пронизывающего и мир природы, и повседневный быт, и
Исключение — «Lebenslauf» для четырех метрономов, трех ударников и фортепиано. Это сочинение представляет собой
своеобразную музыкальную автобиографию композитора, в которой цитаты и автоцитаты (всего их не менее 30!) почти
точно отображают события жизни Шнитке (от событий детства и военных лет до бракосочетаний и премьер сочинений).
5
Приведем выразительную характеристику И. Барсовой: «Звучащий в начале финала у духового оркестра коллаж —
Похоронный марш Шопена — продолжает оставаться “за рампой” симфонии как жанра, несмотря на то что 90 лет назад
был написан марш Малера в манере Калло. Потому что это — музыка Шопена, которая как бы ушла из профессионального
музицирования в быт и затем вернулась в него, неся с собой неповторимую, чудовищную смесь трагических ассоциаций и
комически-карикатурной манеры исполнения» [11, с. 15].
6
См. о нем, например [7; 19].
4
35
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
сакральный язык, обращенный к Богу. Есть в Симфонии
Шпора и цитаты хоралов, причем противоположного
содержания — хвалебный гимн «Herr Gott, dich loben
alle wir» («Господь Бог, тебя мы восхваляем») в третьей
части и погребальный «Nun lasst uns den leib begraben»
(«Теперь мы предадим тело земле») в финале.
Следующие разделы с цитатами у Шнитке решены
в техническом отношении еще более необычно, одновременно транспонируя восприятие полюсов бытия
из земного в надмирное измерение. Их первоисточники — григорианские хоралы, также образующие
семантическую антитезу. Во-первых, это эпизоды,
содержащие цитату секвенции из реквиема — Dies Irae.
Накопив к ХХ в. весьма разнообразный спектр значений (от образов Страшного суда и возмездия за грехи
до пляшущей нечистой силы и Смерти), в творчестве
Шнитке она не обрела однозначной семантической «расшифровки»7. Показательно, что композитор был вовсе
не склонен подвергать ее гротескной жанровой модификации8 (как до него это было осуществлено Г. Берлиозом,
К. Сен-Сансом и Д. Шостаковичем). В разделе с ц. 14 она
проводится у первого контрабаса в виде cantus firmus,
однако фактически почти не слышна (на что указывал
и сам автор), будучи окруженной нагромождением
партий остальных контрабасов, деревянных духовых
и ударных. А в другом разделе (с ц. 40) она, напротив,
звучит как «трубный глас» Второго пришествия — мощный ансамбль медных, где каждый тон хорала тянется,
наслаиваясь на другие и образуя жесткие диссонантные
созвучия (прим. 1).
Пример 1. А. Шнитке. Симфония № 1, IV часть, ц. 40,
тт. 1–4
После первого раздела с Dies Irae (ц. 14), переходящего в алеаторический раздел, звучит резко контрастирующий эпизод (с ц. 34), в котором Шнитке у струнных divisi
одновременно соединяет множество григорианских
мелодий Sanctus9. Символично, что они напоминают
о явлении Вечного царства Бога10 (в видении пророка
Исаии прославляющий Творца гимн Sanctus воспевают
серафимы — см. книгу пророка Исаии, 6:3), причем
следуют после коллажа цитат и какофонии оркестра,
смысловую кульминацию которой и представляет «конец света» — Dies Irae.
В то же время решение раздела с цитатами Sanctus
также необычно. Во-первых, Шнитке использует мелодии, предназначенные для разных дней/периодов
церковного календаря. В данном разделе симфонии
его линейная временна́ я перспектива сворачивается:
как и в литургическом времени отстоявшие когда-то
друг от друга события церковной истории существуют
одновременно в царстве Вечности. Во-вторых, сами цитаты на слух невозможно дифференцировать (как почти
невозможно в итоге различить все использованные
цитаты в описанном выше разделе ц. 2–8). Вместе они
воспринимаются как звуковой поток, неподвластный
детализации для человеческого восприятия — как не может быть ему до конца ясна подлинная сущность Бога.
В итоге контрапункт григорианских «Sanctus» сливается в кластер, после которого и следует второй эпизод
с Dies Irae (ц. 40). И лишь после значительной по масштабу зоны, в которой вновь торжествует стихия alea,
вновь появляется материал, объединяющий характерные интонации напевов «Sanctus», звучавших ранее
в ц. 34 — он вступает по схеме имитации, от проведений
у низких струнных (ц. 90) до лучезарного кульминационного звучания у труб и тромбонов (ц. 95 — прим. 2).
Пример 2. А. Шнитке. Симфония № 1, IV часть, ц. 95,
тт. 2–6
Наиболее многозначительной выглядит цитата,
завершающая весь финал. Это последние 14 тактов
из Симфонии № 45 Й. Гайдна, представленные в виде
магнитофонной записи на фоне тянущегося кластера
оркестра, сопровождающего уход музыкантов за сцену. Напомним, что хотя сам Гайдн не оставил никаких
свидетельств о внемузыкальном замысле «Прощальной
симфонии», по отношению к ней давно существуют разные версии интерпретации — вплоть до романтического
Помимо Первой симфонии, он использовал ее только в «Lebenslauf» и Фортепианном квинтете.
В то же время сам Шнитке свидетельствовал о важности интонационных связей между начальным малосекундовым
мотивом Dies Irae и остальными темами Симфонии (см.: [4, с. 20].
9
Первоисточник: Graduale de Tempore et de Sanctis. — Ratisbonae, 1877, р. 8*–54* (см.: [13, с. 84]).
10
Именно часть Sanctus является центральной в Ординарии католической мессы, непосредственно предшествуя пресуществлению Святых Даров. Секвенция же звучит в предшествующей части мессы — Литургии Слова, между чтениями
Священного писания.
7
8
36
Музыкальное искусство
Музыкальное искусство
образа «прощания с жизнью»11. У Шнитке смысл этой
цитаты правомерно рассматривать как образ «исчезновения музыки», ее растворения в небытии, подобно
тому, как появление музыкантов на сцене в первой
части представляет ее рождение из звукового хаоса.
По иронии судьбы эта идея была «предсказана» еще
в 1838 г. Р. Шуманом: «Ведь неизвестно, не случится ли
обратное тому, что происходит в известной гайдновской
симфонии, а именно не будет ли к нам постепенно прибавляться один инструмент за другим, не вырастет ли
из маленького четырехлистника (то есть квартета. —
А. Д.) целый оркестр, вооруженный всем необходимым
для исполнения симфонии» [17, с. 134].
Что же касается завершения Первой симфонии Шнитке12, то ее решение, как это ни парадоксально, имеет
свой исторический аналог. Это Симфония in D П. Враницкого, третья часть которой представляет quodlibet,
основанный на материале популярных песен и фрагментов известных опер (в их числе — «Mama mia non mi
gridate»; каватина «Nel cor piu non mi sento» из второго
акта «Мельничихи» Дж. Паизиелло; ария Фигаро «Non piu
andrai» из первого акта «Свадьбы Фигаро» В. Моцарта;
марш из оперы «Ричард Львиное сердце» А. Гретри;
увертюра из «Волшебной флейты» В. Моцарта; квартет
(№ 28) из второго акта оперы «Пальмира» А. Сальери, и
т. д.)13. А финал симфонии решен так же, как и окончание
Симфонии № 45 Й. Гайдна — музыканты постепенно
покидают сцену. И хотя сочинение П. Враницкого вряд
ли могло быть известно Шнитке, сходство общих идей
выглядит симптоматичным: уже в конце XVIII — начале
XIX вв. жанр симфонии мог становиться пространством
для экспериментов, подчас довольно необычных. Они
затрагивали как эстетический аспект (например, с точки
зрения использования гетерогенного по происхождению тематизма), так и технический, предполагавший
максимальное усложнение структурной организации
сочинения (наиболее яркий пример оказывается одновременно и самым известным — Симфония № 41
В. Моцарта).
То, что окончание Симфонии № 45 Гайдна звучит
в магнитофонной записи, также довольно симптоматично. Одна из существенных драматургических идей
Первой симфонии Шнитке заключается в противопоставлении организованного, четко оформленного звучания и дезорганизованного, вплотную приближающегося
к точке распада звуковой материи и превращения ее
в хаос14. Все первоисточники, использованные Шнитке,
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
взятые по отдельности, репрезентируют мир гармонии,
упорядоченности, но их конкретное воплощение (контрапунктическое наслоение множества тем, например)
переводит восприятие именно в область разрушения
художественной материи.
При этом в каждой части Симфонии есть своего рода
зоны максимального прояснения звучания, которые
воплощают в первую очередь именно цитаты. В первой части (ц. 102–103) — это начало финала Пятой
симфонии Л. Бетховена, во второй (начало и далее) и
третьей (ц. 4) — Балет и Фуга из «Сюиты в старинном
стиле» самого Шнитке, в финале — «комбинированная»
мелодия Sanctus в ц. 9515. Везде после этих зон вновь наступает распад и хаос. В этом контексте цитата из «Прощальной симфонии» предстает как измерение бытия,
существующее вне системы координат мира симфонии;
кажется, что над ним его законы не имеют власти. Но и
этому измерению суждено исчезнуть в полной тишине
опустевшей концертной сцены.
В заключение кратко скажем о том, как соотносится
решение финала с эстетическими позициями Шнитке. Как известно, проблема диалога с «чужим словом»
волновала композитора достаточно часто. В частности,
в одной из своих работ он отметил: «Мне мерещится
утопия единого стиля, где фрагменты “E” и “U”16 представляются не шуточными вкраплениями, а элементами
многообразной музыкальной реальности: элементы,
которые в своем выражении реальны, хотя ими можно и
манипулировать — будь то джаз, поп, рок или серия (так
как также и авангардистское искусство стало товаром).
Для художника есть только одна возможность уйти
от манипулирования — подняться в своих индивидуальных стремлениях над материальными табу, которыми
манипулируют извне, и получить право к собственному,
свободному от сектантских предрассудков отражению
музыкальной ситуации (как, например, у Малера и Айвза)» [15, с. 103]. При этом обращение к полистилистике
для самого композитора было связано, в первую очередь, с необходимостью живого музыкального контакта
с уже существующим музыкальным опытом: «Связь
с предшественниками предопределена всеми теми
полистилистическими “играми”, которые я позволяю
уже много лет. <…> У меня есть постоянный интерес
к музыке предыдущих эпох» [14, с. 128].
Конечно, Первая симфония Шнитке — далеко
не единственное сочинение, в котором нашли отражение
эти принципы. Как было показано выше, некоторые
11
См.: [9, с. 32–33]. Добавим, что Стендаль, отталкиваясь от книги о Гайдне Дж. Карпани, писал об этой симфонии вовсе
как о «комическом произведении», приводя анекдоты об интерпретациях ее замысла [12, с. 73].
12
Аналогичный прием (уход музыкантов за сцену) был использован автором также в «Moz-Art à la Haydn», где он имеет
скорее игровой, чем философский смысл.
13
«Sinfonia di Paolo Wranizky», Austrian National Library Sm. 11086. Написана не ранее 1798 г. Подробнее о сочинении и
использованном в нем материале см.: [18].
14
Исследователи характеризовали эту особенность в разных аспектах, например, Дзюн Тиба отмечает, что основная идея
всей симфонии — «противоположность между атональностью и тональностью» [6, с. 66].
15
Напомним, что ее появление здесь в ясно слышимом облике, как и ранее Dies Irae в ц. 40, подготавливают разделы, где
и этот хорал, и мелодии Sanctus почти не различимы на слух.
16
«E» (Ernst) — серьезная музыка, «U» (Unterhaltung) — развлекательная музыка.
37
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
из них были предугаданы еще в музыке XVIII–XIX вв.,
правда, в другом художественном и техническом воплощениях. Собственно в ХХ в. появилось множество других,
причем очень разных симфонических композиций, в которых активно использовались полицитатные приемы.
Среди них Симфония Л. Берио, «Лунный источник, или
Приглашение к…» Х. Доннера, Симфония № 4 Н. Корн­
дорфа, «Метамузыка» В. Сильвестрова, «Диалоги» и
«Photoptosis» и Б. Циммермана, «Symphonia germanica»
Э. Шульхофа.
Методы обращения с цитатами Шнитке оказываются
весьма близкими тем приемам, которые использовал
Циммерман. В первую очередь, это контрапункт цитат
Музыкальное искусство
(воспроизведенных с высокой степенью точности),
сопоставляемых по принципу коллажа, применение
виртуальных цитат (термин М. Высоцкой17), значительная роль внемузыкальной семантики первоисточников.
Различимы параллели с идеями Циммермана и в отношении оперирования элементами «E» и «U». В Первой
симфонии Шнитке оно достигло наиболее радикального
воплощения, имеющего почти абсурдистские очертания.
Благодаря этому карнавальный мир Симфонии и обретает терпкий оттенок иронии и скептицизма, чуждый
пафосу полного отрицания, но и бесконечно далекий
от оптимизма полного обновления.
Литература
1. Альшванг А. П. И. Чайковский. М.: МУЗГИЗ, 1959. 702 с.
2. Арановский М. Симфонические искания: Проблемы
жанра симфонии в советской музыке 1960–1975 гг.: Исследовательские очерки. Л.: Советский композитор, 1979. 287 с.
3. Асафьев Б. Инструментальное творчество Чайковского // Асафьев Б. О музыке Чайковского. Л.: Музыка, 1972.
С. 234–290.
4. Бараш Е., Урбах Т. Симфонии Альфреда Шнитке: Мысли
композитора и аналитический комментарий. М.: Композитор, 2009. 248 с.
5. Высоцкая М. Между логикой и парадоксом: композитор Фарадж Караев. М., 2012. 568 с.
6. Дзюн Тиба. Симфоническое творчество Альфреда
Шнитке: Опыт интертекстуального анализа. М.: Композитор, 2004. 157 с.
7. Ким С. Фрикасе в музыкальной культуре Франции эпохи Возрождения: некоторые особенности жанра // Исполнительское искусство и музыкальная педагогика: история,
теория, практика: Сборник статей. Саратов: Саратовская
государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2017.
С. 179–187.
8. Ларош Г. Избранные статьи. Вып. 2. П. И. Чайковский.
Л.: Музыка, 1975. 368 с.
9. Михеева Л., Кенигсберг А. 111 симфоний: Справочник-путеводитель. СПб.: Культ Информ Пресс, 2000. 672 с.
10. Николаев А. Фортепианное наследие Чайковского. М.Л.: МУЗГИЗ, 1949. 207 с.
11. Обсуждаем симфонию А. Шнитке: И. Барсова, Б. Гецелев, А. Курченко, М. Якубов, Ю. Корев // Советская музыка.
1974. № 10. С. 12–26.
12. Стендаль. Письма о прославленном композиторе
Гайдне // Стендаль. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том 8. М.: Правда, 1959. С. 7–159.
13. Холопова В., Чигарева Е. А. Шнитке: Очерк жизни и
творчества. М.: Советский композитор, 1990. 350 с.
14. Шнитке А. Из беседы с Н. Шахназаровой и Г. Головинским // Беседы с Альфредом Шнитке. М.: Издательский дом
«Классика-ХХI», 2014. 320 с.
15. Шнитке А. О Concerto grosso I // Шнитке А. Статьи
о музыке. М.: Композитор, 2004. С. 103–104.
16. Шульгин Д. Годы неизвестности Альфреда Шнитке:
Беседы с композитором. М.: Деловая лига, 1993. 109 с.
17. Шуман Р. Квартетные утренники. III // Шуман Р.
О музыке и музыкантах: Собрание статей: Том IIA. М., 1978.
С. 127–140.
18. LaRue J. A «Hail and Farewell» Quodlibet Symphony //
Music & Letters. 1956. Vol. 37. № 3. P. 250–259.
19. Maniates M. «Quodlibet Revisum» // Acta Musicologica.
1966. Vol. 38, fasc. 214 (Apr.-Dec.). P. 169–178.
References
1. Al'shvang A. P. I. Chaykovskiy [P. I. Tchaikovsky]. M.: MUZGIZ, 1959. 702 p.
2. Aranovskiy M. Simfonicheskie iskaniya: Problemy zhanra
simfonii v sovetskoy muzyke 1960–1975 gg.: Issledovatel'skie
ocherki [Symphonic quests: Problems of the symphony genre
in soviet music in 1960–1975: Research essays]. L.: Sovetskyi
kompozitor, 1979. 287 p.
3. Asaf'ev B. Instrumental'noe tvorchestvo Chaykovskogo [Tchaikovsky's instrumental works] // Asaf'ev B. O muzyke
Chaykovskogo [About Tchaikovsky's music]. L.: Muzyka, 1972.
P. 234–290.
4. Barash E., Urbakh T. Simfonii Al'freda Shnitke: Mysli kompozitora i analiticheskiy kommentariy [Symphonies of Alfred
Schnittke: thoughts of the composer and analytical commen17
38
tary]. M.: Kompozitor, 2009. 248 p.
5. Vysotskaya M. Mezhdu logikoy i paradoksom: kompozitor
Faradzh Karaev [Between logic and paradox: composer Faradg
Karaev]. M., 2012. 568 p.
6. Dzyun Tiba. Simfonicheskoe tvorchestvo Al'freda Shnitke: Opyt intertekstual'nogo analiza [Symphonic works of Alfred
Schnittke: Experience of intertextual analysis]. M.: Kompozitor,
2004. 157 p.
7. Kim S. Frikase v muzykal'noy kul'ture Frantsii epokhi
Vozrozhdeniya: nekotorye osobennosti zhanra [Fricassee
in the musical culture of Renaissance France: some features
of the genre] // Ispolnitel'skoe iskusstvo i muzykal'naya pedagogika: istoriya, teoriya, praktika: Sbornik statey [Performing
arts and music pedagogy: history, theory, practice: Collection
Имеются в виду цитаты, зафиксированные в нотном тексте, но фактически не различимые на слух [5, с. 59].
Музыкальное искусство
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
of articles]. Saratov: Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni L. V. Sobinova, 2017. P. 179–187.
8. Larosh G. Izbrannye stat'i. Vyp. 2. P. I. Chaykovskiy [Selected articles. Vol. 2. P. I. Tchaikovsky]. L.: Muzyka, 1975. 368 p.
9. Mikheeva L., Kenigsberg A. 111 simfoniy: Spravochnik-putevoditel [111 Symphonies: A Guidebook]. SPb.: Kul't Inform Press, 2000. 672 p.
10. Nikolaev A. Fortepiannoe nasledie Chaykovskogo
[Tchaikovsky's piano heritage]. M.-L.: MUZGIZ, 1949. 207 p.
11. Obsuzhdaem simfoniyu A. Shnitke: I. Barsova, B. Getselev,
A. Kurchenko, M. Yakubov, Yu. Korev [Discussing A. Schnittke’s
symphony: I. Barsova, B. Getselev, A. Kurchenko, M. Yakubov,
Yu. Korev] // Sovetskaya muzyka [Soviet music]. 1974. № 10.
P. 12–26.
12. Stendal'. Pis'ma o proslavlennom kompozitore Gaydne
[Letters about the famous composer Haydn] // Stendal'. Sobranie sochineniy v 15 tomakh. Tom 8 [Collected works in 15 volumes. Vol. 8]. M.: Pravda, 1959. P. 7–159.
13. Kholopova V., Chigareva E. A. Shnitke: Ocherk zhizni i
tvorchestva [A. Schnittke: Essay on life and work]. M.: Sovetskiy
kompozitor, 1990. 350 p.
14. Shnitke A. Iz besedy s N. Shakhnazarovoy i G. Golovinskim
[From a conversation with N. Shakhnazarova and G. Golovinsky] // Besedy s Al'fredom Shnitke [Conversations with Alfred
Schnittke]. M.: Izdatel'skiy dom «Klassika-XXI», 2014. 320 p.
15. Shnitke A. O Concerto grosso I [About Concerto grosso I] // Shnitke A. Stat'i o muzyke [Articles about music]. M.:
Kompozitor, 2004. P. 103–104.
16. Shul'gin D. Gody neizvestnosti Alfreda Shnitke: Besedy s
kompozitorom [Alfred Schnittke's years of obscurity: Conversations with the composer]. M.: Delovaya liga, 1993. 109 p.
17. Shuman R. Kvartetnye utrenniki. III [Quartet matinees.
III] // Shuman R. O muzyke i muzykantakh: Sobranie statey:
Tom IIA [About music and musicians: Collection of articles: Volume IIA]. M., 1978. P. 127–140.
18. LaRue J. A «Hail and Farewell» Quodlibet Symphony //
Music & Letters. 1956. Vol. 37. № 3. P. 250–259.
19. Maniates M. «Quodlibet Revisum» // Acta Musicologica.
1966. Vol. 38, fasc. 214 (Apr.-Dec.). P. 169–178.
Информация об авторе
Information about the author
Андрей Владимирович Денисов
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская
государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова»
Санкт-Петербург, Россия
Andrey Vladimirovich Denisov
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«St. Petersburg State Conservatory named after N. A. Rimsky-Korsakov»
St. Petersburg, Russia
39
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусств
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-40-45
Лебедев Александр Евгеньевич, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории и теории исполнительского искусства и музыкальной педагогики Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова
Lebedev Alexander Evgenievich, Dr. Sci. (Arts), Professor at the History and Theory of Performing Arts and Music Pedagogy Department of the Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov
E-mail: zhadmin@mail.ru
А. Г. ШНИТКЕ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Статья посвящена изучению творческого наследия А. Г. Шнитке в контексте влияния культурной среды поволжских немцев, а также музыкальной культуры Саратова. Выявлены факторы становления творческого облика композитора, в числе
которых полиязычная семья, европейские музыкальные традиции, влияние русской композиторской школы. В числе основных стилевых характеристик музыки композитора — концепционная масштабность, эволюционность, инструментальная
выразительность и стилевой демократизм, что особенно отчетливо проявляется в скрипичной музыке, а именно в жанре
сонаты и концерта. Отдельное внимание уделено сотрудничеству А. Г. Шнитке с музыкантами-исполнителями, в процессе
которого отчетливо проявляется сотворческий компонент, усиливается адресность, ярче проявляется стремление композитора к выявлению выразительных качеств солирующих инструментов. Выявлены факторы, ставшие препятствиями на пути
создания сочинений для народных инструментов и, в частности, для баяна и аккордеона.
Ключевые слова: Шнитке, немцы Поволжья, Саратов, музыка, музыкант-исполнитель, соната, концерт, универсальный
музыкальный язык.
A. G. SCHNITTKE THROUGH THE EYES OF MODERN RESEARCHERS
The article is devoted to the study of the creative heritage of A. G. Schnittke in the context of the influence of the cultural environment of the Volga Germans, as well as the musical culture of Saratov. The factors of the formation of the composer's creative image are
revealed, including a multilingual family, European musical traditions, and the influence of the Russian school of composition. Among
the main stylistic characteristics of the composer's music are conceptual scale, evolutionism, instrumental expressiveness and stylistic
democracy, which is especially clearly manifested in his violin music, namely in the genre of sonata and concerto. Special attention is
paid to the collaboration of A. G. Schnittke with performing musicians, in the process of which the co-creative component is clearly
manifested, the targeting is enhanced, the composer's desire to identify the expressive qualities of solo instruments is more clearly
manifested. The factors that have become obstacles to the creation of compositions for folk instruments particularly for the button-accordion and accordion are revealed.
Key words: Schnittke, Germans of the Volga region, Saratov, music, performing musician, sonata, concerto, universal musical language.
Творчество А. Г. Шнитке стало яркой и самобытной
страницей в истории отечественной и мировой музыкальной культуры. 90-летие со дня рождения композитора, одним из центров празднования которого стал
Саратов, вновь и вновь обращает внимание исследователей к этой фигуре, а музыка композитора все чаще
звучит на концертной эстраде, привлекая внимание
слушателей своей концептуальностью, обостренным
чувством современности, стремлением поднимать актуальные общественные темы.
Цель статьи: раскрыть творческое наследие
А. Г. Шнитке с позиции исследователя музыкально-исполнительского искусства, в контексте сотрудничества
композитора с исполнителями и их роли в создании тех
или иных сочинений.
Задачи статьи:
• выявить особенности влияния немецкой культурной среды саратовского Поволжья на становление
личности А. Г. Шнитке;
• определить характерные стилевые черты музыки
композитора;
40
• рассмотреть новаторство А. Г. Шнитке с точки зрения выявления выразительного потенциала солирующих инструментов;
• изучить сотрудничество композитора с исполнителями и выявить характер их влияния.
Творчество А. Г. Шнитке не раз становилось объектом научных исследований. В их числе монография и
ряд статей В. Н. Холоповой, Е. И. Чигаревой, сборники
бесед и воспоминаний под редакцией А. В. Ивашкина,
Д. И. Шульгина, статьи Ю. Н. Бычкова, Е. Б. Долинской,
Л. С. Дьячковой, В. И. Горлинского, Н. С. Гуляницкой,
Г. М. Цыпина и других авторов. Неоднократно обращались к творчеству композитора и саратовские исследователи. Среди таких работ отметим масштабные труды
А. И. Демченко, статьи Е. И. Вартановой, Н. В. Королевской, Т. Ф. Малышевой, Е. В. Пономаревой, Т. А. Свистуненко, Л. В. Севостьяновой и других.
В числе фундаментальных исследований творчества
А. Г. Шнитке, появившихся в последние годы, отметим
книгу «Наш Альфред Шнитке» известного исследователя творчества композитора, Почетного гражданина
Музыкальное искусств
Саратова, доктора искусствоведения, руководителя
Международного Центра комплексных художественных
исследований Саратовской консерватории А. И. Демченко. Труд привлекает своей идеей, в основе которой
стремление осмыслить творчество А. Г. Шнитке в широком культурном контексте, в единстве предопределивших его как сугубо национальных, так и социальных,
общехудожественных, а также региональных факторов.
Основная его часть, посвященная композитору, имеет три раздела: Прелюдия, Фуга и Постлюдия. Первая
репрезентирует культурный ландшафт региона, деятельность немецких переселенцев, их художественные
и образовательные традиции и их влияние на юного
композитора. Во второй детально раскрывается творческий путь А. Г. Шнитке, его движение от традиционной
эстетики в сторону экспериментов, поиска «универсального языка» и далее в направлении обретения
«новой простоты». В последнем разделе собраны статьи
и высказывания саратовских музыкантов, ученых, тесно
общавшихся с композитором, исполнявших его музыку
и продвигавших его творчество.
Среди основных первопричин, во многом определивших своеобразие личности композитора, безусловно,
его национальные корни. Приведем известную фразу
самого композитора: «Я не русский, а полунемец, полуеврей, родина которого — Россия» (цит. по [3, с. 26]).
Отсюда, по словам А. И. Демченко, мучительная дилемма
«национального самоопределения», преследовавшая
композитора всю его жизнь.
Родившись в Энгельсе, в семье потомков немецких переселенцев, А. Г. Шнитке во многом находился
под влиянием немецкой культуры, причем в некотором
смысле «законсервированной» немцами Поволжья, сохранявшей многие черты, свойственные их этносу еще
с XVIII–XIX веков. Помимо очевидного влияния семьи,
для которой немецкая культура была родной, на юного
композитора влияло и окружение, общественная среда
того времени. С появлением в 1918 году сначала Автономной коммуны немцев Поволжья, а затем в 1922 году
и одноименной республики начинает функционировать
радиостанция, вещавшая на немецком языке, в Энгельсе
появляется Немецкая государственная филармония,
Немецкий государственный педагогический институт,
Музыкальное училище, функционируют театры, большое количество библиотек, издаются газеты и журналы
на немецком языке.
Вместе с тем, в развитии молодой республики присутствовали и негативные тенденции. Как указывает
А. А. Герман, «немцы долго и сложно адаптировались
к большевистской власти, не воспринимая идеи классовой борьбы и коллективизма. Европейская специфика их
ментальности вызывала, как правило, более негативную
реакцию немцев на большевистские эксперименты
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
и действия, более упорное сопротивление попыткам
сломать традиционный образ жизни. А это, естественно, приводило к более жестоким карательным мерам
со стороны режима» [2, с. 121].
Ликвидация Автономной республики немцев Поволжья в 1941 году и их насильственное переселение
в другие регионы положила конец государственности
немцев в СССР и свело к минимуму влияние этого этноса
на развитие региона. Последовавший затем отъезд семьи
А. Г. Шнитке в Вену, а затем в Москву стал для композитора началом нового этапа его творческого пути. Тем
не менее рационализм его творческого мышления, немецкая педантичность и проистекавший из этого особый
интеллектуализм станут отличительными чертами его
композиторского метода. Как указывает А. И. Демченко,
«интеллектуальная составляющая личности Альфреда
Шнитке ярко заявила о себе в его чрезвычайно широком
кругозоре, в глубоком, проницательном ви́ дении происходящего в искусстве и окружающей жизни» [3, с. 48].
А. Г. Шнитке ярко заявил о себе и как теоретик-музыковед. Он одним из первых узнавал о появлении
какой-либо музыкальной теории, техники композиции,
глубоко знал музыку своих современников, а также
передовых композиторов Западной Европы. По словам В. Н. Холоповой, «только непрерывная занятость
сочинением музыки не позволила ему представить
написанные им теоретические труды в качестве диссертаций» [6, с. 22].
Композитор регулярно выступал с докладами
на съездах союза композиторов, участвовал в обсуждениях новых сочинений в печати, работе студии
электронной музыки при Московской консерватории.
Незаурядный интеллект и широкая эрудированность
музыканта проявлялась буквально во всем. Как пишет
Ф. Р. Липс, «Шнитке облекал свои мысли в такую законченную форму, <…> что даже бытовой разговор обретал
высокий стиль. Его речь, любое высказывание можно
было, условно говоря, публиковать сразу, без предварительной редакции» [5, с. 191].
Первым сочинением композитора стал неопубликованный Концерт для аккордеона. Об этом свидетельствуют слова композитора, сказанные в беседе с Ф. Р. Липсом.
В ответ на просьбу написать оригинальное произведение для баяна композитор ответил: «Для сольной
пьесы должна родиться какая-то идея. Пока ее у меня
нет. А вообще, Вы знаете, самый мой первый опыт сочинительства — Концерт для аккордеона. Наша семья
после войны жила в Австрии, в Вене, и под рукой, кроме аккордеона, из музыкальных инструментов ничего не было» [5, с. 190]1. Ноты сочинения композитор
не сохранил, посчитав его, видимо, незрелым опусом
начинающего музыканта.
Новаторские опусы композитора появились
1
Общение с А. Г. Шнитке баянист вспоминает с большой теплотой. Отчасти их сблизило то, что родители Ф. Р. Липса были
родом из немецкой колонии Бальцер (ныне Красноармейск) Саратовской области, что недалеко от Энгельса. Об уровне доверительности свидетельствует курьезный момент, произошедший в завершение уже первой встречи музыкантов. В ответ
на вопрос баяниста относительно отчества композитора, А. Г. Шнитке ответил: «Зовите меня Алик!». На возражения Ф. Р. Липса
композитор вновь повторил: «Просто Алик» [5, с. 191].
41
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
в 1960‑е годы — период заметных общественно-политических сдвигов в СССР, ослабления идеологического пресса и некоторой демократизации общества.
В развитии европейской музыки этот период характеризуется «разрывом культуры на множество обособленных субкультур» [6, с. 37–38]. Множественная
несоединимость различных музыкальных языков стала
во многом следствием многочисленных социальных
«трещин», культурного расслоения общества, активного
наступления массовой культуры. «Выход из стилевого
дискорданса композитор нашел в методе полистистики,
художественно соединяющем субкультуры в одном
произведении» [6, с. 39].
Эксперименты в сфере музыкального языка порой
приобретали весьма радикальные формы, вплоть до полного отрицания официально принятых канонов и традиций. Весьма показательно творчество 1963–1964 годов,
ставшее «экспериментальным, додекафонно-серийным
этапом» (В. Н. Холопова). «Экстремистский» характер
экспериментов композитора А. И. Демченко связывает с его стремлением освободиться от сковывавших
идеологических рамок, наличием абсолютно четкой
жизненной позиции, в основе которой — неприятие
тоталитаризма и какого-либо давления извне. Как указывает исследователь, «в этой фронде, доходившей
порой до нигилистического радикализма, без труда
угадывались задрапированные в художественные формы идеи диссидентского движения» [3, с. 54]. Примечательно сказал об этом сам А. Г. Шнитке в одном из своих
интервью: «Художника можно сравнить с пружиной.
Некоторое давление на него даже необходимо: да, он
сжимается под действием внешней среды, но, распрямляясь, творит» (цит. по [3, с. 55]). Композитор указывал
на то, что идеологическое давление сплачивало прогрессивно мыслящих творческих людей и наполняло
их жизнь смыслом.
Наиболее ярко и отчетливо становление композиторского стиля можно проследить на примере скрипичной
музыки, а именно жанров скрипичной сонаты и концерта. Скрипка стала для композитора излюбленным
инструментом, выразителем его дум и чувствований,
его личным авторским голосом. Инструмент привлекал
композитора своей нетемперированностью, мелодической гибкостью, возможностью использовать микрохроматику, трель (как «трепещущий нерв») и различные
оттенки вибрато (вплоть до полного его отсутствия).
Подтверждением этому являются три сонаты и четыре
концерта для скрипки, написанные в разные периоды творчества и демонстрирующие основные стилистические черты музыки А. Г. Шнитке: концепционную
масштабность, эволюционность, инструментальную
выразительность и стилевой демократизм.
Отметим стремление А. Г. Шнитке к поиску универсального музыкального языка, что сам композитор объяснял потребностью в преодолении разрыва между
«серьезной» и «легкой» музыкой. Как подчеркивал
музыкант, «необходимо — не только мне, исходя из моей
личной ситуации, но в принципе — этот разрыв пре-
42
Музыкальное искусств
одолеть. Музыкальный язык должен быть единым,
каким он был всегда, он должен быть универсальным»
(цит. по [3, с. 69]). К подобному убеждению композитора подтолкнула многолетняя работа в кино, где им
создана музыка для нескольких десятков кинофильмов.
Это была своего рода лаборатория по поиску новых
художественных решений и апробации оркестровых
звучаний, открывшая возможность дальнейшей «миграции» созданного материала в другие сочинения. Как
указывает А. И. Демченко, «работая в этой сфере, композитор учился точности смыслового посыла, умению
создавать яркий и острый звуковой рельеф» [3, с. 68].
К этому добавим и громадную роль подготовительной работы, в ходе которой композитор знакомился
с историческими материалами, кинохроникой, документальными свидетельствами происходивших событий. Так, работа над Первой симфонией по времени
совпала с сочинением музыки к фильму М. И. Ромма «Я
верю» («Мир сегодня»). Композитор вспоминал: «Вместе
со съемочной группой я просмотрел тысячи метров
документального материала. Постепенно они складывались во внешне хаотическую, но внутренне строго
организованную хронику XX в., воплотившую в новом
отражении гениальные гиперболы древних — прометеевская дерзость научных и технических завоеваний,
грандиозные военные и социальные потрясения, борьба
сатанинского зла и непреклонного самоотверженного
духа» (цит. по [6, с. 75]).
Активные эксперименты в области киномузыки и их
активная проекция на крупные симфонические произведения стали для А. Г. Шнитке средством преодоления
разрыва между «низменным» и «высоким», важнейшим
инструментом отыскания того самого универсального
музыкального языка. В своих крупных сочинениях композитор, по словам А. В. Ивашкина, соединяет не только разностилевые, но и разномасштабные элементы
культуры, демонстрирует «бесстрашное отношение
к банальностям, к использованию клише в качестве
многомерного символа» [4, с. 13]. Последний в руках
композитора превращается в знак, вбирающий «свет
истории».
Было в планах композитора создание оригинального сочинения для баяна. Приведем фрагмент беседы
А. Г. Шнитке с Ф. Р. Липсом, в которой композитор отвечает на очередную просьбу подумать над созданием
баянного концерта: «У меня много заказов, я расписан
на несколько лет вперед. Знаете что, у меня есть лист,
где расписана очередность заказов. <…> Здесь в конце
стоит Альтовый концерт для Юры Башмета, запланированный на 1983 год. Чтобы от слов перейти к делу,
я вписываю Вас на 1984 год с Баянным концертом» [5,
с. 193]. Затем у композитора случился первый инсульт
и его планы поменялись. Как пишет Ф. Р. Липс, «я чувствовал, что к идее с баяном он уже может не вернуться.
Наступил в его жизни период, когда “нужно успеть”» [5,
с. 194].
Думается, однако, что причиной оттягивания момента обращения к баяну стало именно отсутствие «идеи»,
Музыкальное искусств
что лишний раз подчеркивает глубокую концепционность мышления композитора. Об этом свидетельствует
разговор А. Г. Шнитке с Ф. Р. Липсом после концертов
в Бостоне (США) в 1988 году: «Понимаете, <…> почти все,
что звучит на баяне, звучит бытово. Вот единственно
Соне Губайдулиной удалось достичь нового качества,
у нее бытовизм совершенно не ощущается» [5, с. 195].
В ответ на доводы баяниста о том, том баян — многоплановый инструмент и может звучать и как орган, и
как клавесин, как духовые или бандонеон, композитор
ответил: «Вот меня и смущает, что он вроде бы может
все: и гармошкой звучать, и органом, и клавесином, а
где же у него свое, оригинальное лицо? Меня пугает
отсутствие своего лица у баяна». И после некоторых
раздумий: «А быть может, отсутствие своего лица и есть
его собственное лицо?!» [5, с. 195].
Итогом разговора стало предложение композитора
Ф. Р. Липсу сделать редакцию для баяна «Двух маленьких
пьес для органа» и исполнить их, что и было сделано
в сольном концерте баяниста в Амстердаме. Планам создания концерта для баяна так и не суждено было сбыться. Вот как пишет об этом Ф. Р. Липс: «Мне бесконечно
жаль, я даже чувствую определенную степень вины
в том, что моя, вероятно, недостаточная активность
(недодавил, не смог увлечь, заинтересовать, убедить!?)
не привела к результату; порой охватывает отчаяние
и бессилие перед очевидным, ставшим достоянием
истории фактом: гений XX столетия Альфред Шнитке
не написал ни одного сочинения для баяна» [5, с. 197].
Отдельно остановимся на сотрудничестве композитора с исполнителями. Большую часть своих крупных
сочинений композитор создавал в контакте с ведущими музыкантами того времени. В их числе дирижер
Г. Н. Рождественский, скрипачи Г. М. Кремер, О. М. Каган, М. Д. Лубоцкий, Р. Д. Дубинский, виолончелисты
В. А. Берлинский, Н. Г. Гутман, М. Л. Ростропович, альтист
Ю. А. Башмет, пианист В. В. Крайнев, флейтист А. В. Корнеев, кларнетист Л. Н. Михайлов и другие.
Условия «заказа» композитор комментирует так:
«Исполнитель оговаривает только свой инструмент,
состав, но не характер. Он в принципе согласен сыграть
все, что ему предлагаешь» [7, с. 81]. Однако художественные детали опуса неизбежно ориентированы на того
или иного исполнителя. Как говорил композитор, «я
все-таки знаю всегда, для кого пишу. Скажем, сейчас
я буду писать концерт для Кремера (двойной концерт
для двух скрипок), и это будет совершенно другая музыка, чем та, что писалась для Лубоцкого, потому что я
не могу не учитывать характера исполнителя: Кремер
инструментально-технически гораздо сильнее, что же
касается напряженности исполнительской, интонационной, то здесь глубже Лубоцкий» [7, с. 81]. Подобная
адресность как нельзя лучше способствует выявлению
заложенной композитором идеи, раскрытию выразительного потенциала солирующего инструмента,
стимулирует исполнителя к собственному творческому
поиску. Факт посвящения сочинения какому-либо исполнителю дополнительно мотивирует солиста, позволяет
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
спрогнозировать дальнейшую концертную «судьбу»
сочинения, способствует укреплению творческих связей
между композитором и исполнителем.
Наиболее тесные контакты сложились у А. Г. Шнитке
именно с Г. М. Кремером и М. Д. Лубоцким, для которых
написано весьма значительное количество сочинений. Вот как воспоминает о композиторе Г. М. Кремер:
«Для меня Альфред всегда оставался человеком, который не стеснялся быть тем, кто он есть, который
не боялся своих попыток сделать что-то иначе; скорее
он боялся успеха. Он оставался верным самому себе» [1,
с. 241]. Рассуждая о его творчестве, музыкант подчеркивает стремление А. Г. Шнитке найти дорогу к слушателю,
постоянный поиск путей выхода на аудиторию. Немаловажную роль в этом сыграл его во многом вынужденный
опыт работы в киномузыке, в которой он оттачивал свое
мастерство симфониста и оркестровщика.
Скрипач всегда активно пропагандировал и продолжает продвигать музыку А. Г. Шнитке. Подобную
«верность» можно объяснить лишь искренней любовью
к творчеству композитора, неподдельным интересом
к экспериментам автора и его взглядам. Свой опыт исполнения музыки А. Г. Шнитке Г. М. Кремер описывает
так: «Вторую скрипичную сонату (Quasi una Sonata) я
играл очень много, играл всюду, где мог, а иногда и
не мог, как в том случае в Риге, где ее не хотели слушать
и предлагали мне сыграть Бетховена. Но где мог —
играл, и она производила шокирующее воздействие
на аудиторию. Но это входило в мои планы — будоражить слушателя, не оставлять его дремлющим» [1,
с. 238].
Весьма ценным стал для композитора опыт сотрудничества с ансамблем духовых инструментов Большого
симфонического оркестра. Как вспоминал А. Г. Шнитке,
«[Серенада для пяти музыкантов] написана в 1968 году
для ансамбля, организованного флейтистом А. Корнеевым. <…> Вместе с тем я учитывал просьбу кларнетиста
Л. Михайлова (и скорее это было для Михайлова, чем
для Корнеева) дать им сочинение, где бы он солировал.
Серенада была посвящена всем ансамблистам: Михайлову, скрипачу Мельникову, контрабасисту Габдулину, пианисту Боре Берману. Корнеевский ансамбль исполнил
его на фестивале в Вильнюсе и Каунасе — это был один
раз случившийся и более не повторившийся фестиваль
современной музыки, причем международный» [7, с. 48].
Глубокая взаимная симпатия установилась
у А. Г. Шнитке с М. Л. Ростроповичем, который впервые
исполнил Второй виолончельный концерт композитора
на фестивале в Эвиане. Свое отношение к музыке композитора виолончелист описывает исключительно как
влюбленность. О работе же исполнителя над этим сочинением композитор вспоминает следующим образом:
«То, как играл Ростропович, вырастало от репетиции
к репетиции. Ведь я писал, совершенно не думая о том,
удобно или не удобно это будет для виолончели. В итоге он все это выучил. Мы жили на одном этаже, и мы
все время слышали, как он занимался. Он говорил, что
ничего технически более сложного не играл» [1, с. 183].
43
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Возможно, наиболее тесный творческий контакт
установился у композитора с Г. Н. Рождественским,
ставшим исполнителем многих сочинений А. Г. Шнитке.
Вот как дирижер говорит о композиторе: «Для меня
любая музыка Альфреда — это прорыв, взрыв. Такое
впечатление у меня было всегда. В этом смысле тоже
можно провести параллель с Шостаковичем и его ранними вещами» [1, с. 248]. Совместную работу дирижер
описывает как процесс сотворчества, в котором возникали новые идеи, а, порой, и изменения в текстах партитур. Г. Н. Рождественский вспоминает: «Я делал сюиту
из Ревизской сказки с одобрения и под наблюдением
Альфреда, я сделал вторую часть Музыки к воображаемому спектаклю — для четырех флейт, взяв за основу
его мотив — опять-таки, после того, как Альфред сказал,
что он с этим согласен» [1, с. 250]. Известно предложение
Г. Н. Рождественского завершить Первую симфонию
не уходом музыкантов со сцены (как планировал автор), а повтором начала симфонии, что существенно
изменило первоначальный замысел, промаркировало
идею «отрицания отрицания» (В. Н. Холопова).
В дальнейшем совместная работа композитора и
дирижера продолжилась в процессе исполнения Пятой симфонии, в которой по предложению Г. Н. Рождественского были дублированы партии медных духовых
инструментов, возникла идея звукоусиления партий
клавесина и челесты в Первом виолончельном концерте
и другие новации. Подобное сотрудничество лишний
раз подчеркивает сотворческую природу музыкального
искусства, полезность, а порой, и необходимость творческого контакта композитора и исполнителя на этапе
создания музыки.
Весьма интересным стало сотрудничество А. Г. Шнитке с саратовскими музыкантами. Одним из наиболее
активных пропагандистов музыки композитора стал
пианист А. И. Катц, а также Л. О. Корчмар, работавший
некоторое время главным дирижером Саратовского
симфонического оркестра. Так, в декабре 1981 года
в Саратове состоялись авторские концерты композитора.
В Большом зале консерватории прозвучали Квинтет,
пьеса «Moz-art» для двух скрипок, один из «Гимнов»,
Импровизация и фуга, Concerto grosso № 1 и Концерт
для фортепиано и струнных. В дневниках А. И. Катца находим следующее: «А. Г. оказался милейшим человеком,
удивительно скромным и абсолютно не избалованным
своей мировой славой, даже несколько стесняющимся
ее» (цит. по [3, с. 124]). Дальнейшее общение музыкантов
продолжалось в основном в Москве и Горьком, куда пианист регулярно ездил на премьеры новых сочинений.
Визит в Саратов в декабре 1981 года стал для композитора первым возвращением на родину после
долгого перерыва. Как высказывался о той поездке
сам А. Г. Шнитке, «когда-то было ощущение — ну, затрапезная провинция, глубинка российская, не поймешь что. Теперь я стал понимать, как много получил
для себя от этих корней, от этой почвы» (цит. по [3,
с. 148]). Находясь на зрелом этапе своего творчества,
композитор все чаще стал думать о простых людях, ря-
44
Музыкальное искусств
дом с которыми когда-то жил и которым также нужна
академическая музыка — не замкнутая в узком кругу
знатоков, а обращенная к широкой слушательской аудитории. Немаловажную роль в этом сыграли детские
впечатления, память о своей малой родине, уважение
к ее традициям и людям.
Теплые дружеские отношения сложились
у А. Г. Шнитке с А. И. Демченко, под руководством которого было подготовлено одно из первых исследований
творчества композитора (дипломная работа Г. Соболевской). А. Г. Шнитке консультировал композиторов из Саратова, делился секретами композиторского мастерства,
помогал саратовским музыкантам и исследователям
ближе знакомиться с его сочинениями. В своих трудах
А. И. Демченко многократно подчеркивает простоту и
скромность композитора, его открытость к общению,
готовность поддерживать коллег по цеху.
А. Г. Шнитке заявил о себе как о фигуре планетарного
масштаба, став уже в 1970-е годы лидером отечественного и во многом европейского композиторского движения. Соединив в себе еврейские и немецкие корни,
он ощущал бесспорную принадлежность русской культуре, о чем неоднократно говорил сам. Это сделало его
«гражданином мира», позволило по-новому осмыслить
европейское и мировое художественное пространство,
соединить различные субкультуры, создать свой неповторимый музыкальный язык.
Характерными чертами его композиторского стиля
становятся концепционная масштабность, эволюционность, инструментальная выразительность и стилевой
демократизм. Именно стремление к концепционности
и глубокой передаче выразительных качеств каждого
конкретного инструмента позволило композитору создать сочинения, прочно закрепившиеся в концертном
репертуаре ведущих музыкантов-исполнителей, завоевать сердца слушателей во все мире, стать для многих
ярких исполнителей-солистов наиболее желанным
автором. Это же во многом стало препятствием к созданию сочинений для баяна, а также для струнных
щипковых инструментов. Композитор не смог в полной мере ощутить их специфику, увидеть их «лицо»,
что во многом обусловлено господствовавшими в то
время стереотипами, имиджем исключительно «народных» инструментов. К этому добавим и стремление
композитора получить долгожданное признание после
многих лет замалчивания у себя на родине. Несмотря
на активную гастрольную деятельность Ф. Р. Липса, его
опыт в продвижении современной музыки и авторитет
в академической среде, композитор так и не обратился
к баяну, полагая, видимо, что баянная музыка не сможет дать ему необходимый общественный резонанс,
привлечь к его творчеству внимание как в России, так
и за рубежом.
Все это лишний раз подчеркивает и актуализирует
роль исполнителя в творческой деятельности композитора. Яркий, незаурядный исполнитель в некотором
смысле становится сподвижником автора, дает жизнь
произведению, во многом определяет его концертную
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусств
«судьбу». Такими сподвижниками стали для А. Г. Шнитке Г. Н. Рождественский, Г. М. Кремер, М. Д. Лубоцкий,
Ю. А. Башмет, М. Л. Ростропович, а также многочисленные ценители его таланта в различных регионах страны,
исполнявшие его музыку, исследовавшие и пропагандировавшие ее вопреки запретам и попыткам замолчать.
Одним из таких регионов стал Саратов, где благодаря
энтузиастам, педагогам консерватории, представителям
музыкального сообщества музыку А. Г. Шнитке исполняли, слушали, любили, говорили о ней.
Музыка А. Г. Шнитке устремлена в окружающую по-
вседневность, мир реальных людей, прошедших через
перипетии XX века, испытавших лишения, боль утрат и
радость созидания. Композитор кардинально расширил
горизонты выразительности академического музыкального искусства, привнес в него то новое, что дала
человечеству европейская культура и чего не решались
сделать многие его современники. В своих сочинениях он апеллирует к опыту самой широкой аудитории,
общается со слушателями на их языке, и этот язык
во многом универсален.
Литература
1. Беседы с Альфредом Шнитке. Сост. А. В. Ивашкин. М.:
РИК «Культура», 1994. 302 с.
2. Герман А. А. Образы исторического прошлого как фактор
формирования настоящего (на материалах истории российских
немцев и их общественного движения в конце ХХ в.) // Ежегодник международной ассоциации исследователей истории
и культуры российских немцев. 2020. № 2 (8). С. 119–127.
3. Демченко А. И. Наш Альфред Шнитке. Саратов: Издательский дом «Волга», 2024. 176 с.
4. Ивашкин А. В. Глубина бархата // Альфреду Шнитке
посвящается. К 65-летию со дня рождения. Из собраний Шнитке-центра. Вып. 1. М.: МГИМ им. А. Г. Шнитке, 1999. С. 12–18.
5. Липс Ф. Р. Кажется это было вчера. М.: Музыка, 2018. 336 с.
6. Холопова В. Н., Чигарева Е. И. Альфред Шнитке: Очерк
жизни и творчества. М.: Сов. Композитор, 1990. 350 с.
7. Шульгин Д. И. Беседы с композитором. М.: «Деловая
Лига», 1993. 110 с.
References
1. Besedy s Alfredom Shnitke [Conversations with Alfred Schnittke]. Sost. A. V. Ivashkin. M.: RIK «Kultura», 1994. 302 p.
2. German A. A. Obrazy istoricheskogo proshlogo kak faktor
formirovaniya nastoyashchego (na materialakh istorii rossijskikh
nemtsev i ikh obshchestvennogo dvizheniya v kontse XX v.) [Images
of the historical past as a factor in the formation of the present
(based on the materials of the history of Russian Germans and
their social movement at the end of 20th century)] // Ezhegodnik mezhdunarodnoj assotsiatsii issledovatelej istorii i kultury
rossijskikh nemtsev [Yearbook of the International Association
of Researchers of the History and Culture of Russian Germans].
2020. № 2 (8). P. 119–127.
3. Demchenko A. I. Nash Alfred Shnitke [Our Alfred Schnittke].
Saratov: Izdatelskij dom «Volga», 2024. 176 p.
4. Ivashkin A. V. Glubina barkhata [The depth of the velvet] //
Alfredu Shnitke posvyashchaetsya. K 65-letiyu so dnya rozhdeniya.
Iz sobranij Shnitke-centra. Vyp. 1. [Dedicated to Alfred Schnittke. On the 65th anniversary of his birth. From the collections
of the Schnittke Center. Issue 1]. M.: MGIM im. A. G. Shnitke, 1999.
P. 12–18.
5. Lips F. R. Kazhetsya ehto bylo vchera [It seems like it was
yesterday]. M.: Muzyka, 2018. 336 p.
6. Kholopova V. N., Chigareva E. I. Alfred Shnitke: Ocherk zhizni
i tvorchestva [Alfred Schnittke: An essay on life and creativity]. M.:
Sov. Kompozitor, 1990. 350 p.
7. Shulgin D. I. Besedy s kompozitorom [Conversations
with the composer]. M.: «Delovaya Liga», 1993. 110 p.
Информация об авторе
Information about the author
Александр Евгеньевич Лебедев
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова»
Саратов, Россия
Alexanrd Evgenyevich Lebedev
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
Saratov, Russia
45
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-46-53
Савенко Светлана Ильинична, доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник Сектора
истории музыки Государственного института искусствознания
Savenko Svetlana Ilyinichna, Dr. Sci. (Arts), Professor, Leading Researcher at the Music History Sector of the State Institute for Art Studies
E-mail: savenkosi@mail.ru
ОПЕРЫ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ В КОНТЕКСТЕ ПОЗДНЕГО СТИЛЯ КОМПОЗИТОРА
Предметом исследования в статье являются три оперы А. Шнитке, как известно, написанные и поставленные в сравнительно сжатый период 1990–1995 годов. Три опуса («Жизнь с идиотом», «Джезуальдо» и «История доктора Иоганна Фауста»)
составили то, что называется оперным творчеством Шнитке, и именно в них в полной мере раскрылся его поздний стиль.
История создания каждой из опер оказалась при этом различной. Первая и третья имеют российское происхождение, причем
в случае «Фауста» оно давнее: в 1983 году Шнитке закончил кантату под тем же названием, которая стала впоследствии финалом оперы. «Джезуальдо» был создан последним, и в его стилистике выразилась финальная стадия позднего стиля. В статье описываются специфические черты музыкального языка оперы, такие как аскетическая скупость оркестрового письма
в сочетании с господствующим экспрессионистским тоном вокальных партий, а также умеренная роль полистилистической
драматургии. В разделах, посвященных двум другим операм, рассматриваются особенности музыкального материала, более
пестрого и разнообразного по своему составу, чем в «Джезуальдо». Основной акцент сделан на общности стилистики трех
сочинений, а также на процессах формирования позднего стиля. В статье подчеркнута классическая типология композиторской эволюции Шнитке: сочинение любого жанра должно иметь в основе полноценный мелодико-гармонический материал.
Ключевые слова: Три оперы Шнитке, Джезуальдо, Виктор Ерофеев, Фауст, полистилистика, вокальное письмо, экспрессионизм, аскетизм, поздний стиль.
OPERAS OF ALFRED SCHNITTKE IN THE CONTEXT OF THE COMPOSER'S LATE STYLE
The subject of the research are three operas by A. Schnittke, written and staged in a relatively short period of 1990–1995. Three
works («Life with an Idiot», «Gesualdo» and «The Story of Dr. Johann Faust») made up what is called Schnittke's operatic work, and it
was in them that his late style was fully revealed. The history of the creation of each of the operas turned out to be different. The first
and third ones are of Russian origin, and in the case of «Faust» it is a long history: in 1983, Schnittke finished a cantata of the same
name, which later became the finale of the opera. «Gesualdo» was created last, and the final stage of the late style was expressed in it.
The article describes the specific features of the musical language of the opera, such as the ascetic stinginess of orchestral writing
combined with the dominant expressionistic tone of the vocal parts, as well as the moderate role of polystylistics. The sections devoted
to other two operas consider peculiarities of the musical material, which is more colorful and diverse than in «Gesualdo». The main
emphasis is placed on the common stylistics of the three works, as well as on the processes of formation of the late style. The article
emphasizes the classical typology of Schnittke's compositional evolution: a composition of any genre should be based on full-fledged
melodic and harmonic material.
Key words: Three operas by Schnittke, Gesualdo, Viktor Yerofeyev, Faust, polystylistics, vocal writing, expressionism, asceticism,
late style.
Творческое наследие крупнейшего отечественного
композитора Альфреда Шнитке поражает не только
своим объемом и весом, но и жанровым универсализмом. Подобно классическим композиторам прошлого,
Шнитке работал во всех существовавших в его эпоху
видах музыки, крупных и камерных масштабов, обращаясь к разнообразным исполнительским средствам.
Однако не менее очевидна количественная диспропорция в соотношении инструментальных сочинений и
опусов, созданных для музыкального театра. Отчасти
она компенсировалась жанрами кино и театра, откуда
нередко материал проникал в произведения чистой
музыки. Можно предположить, что прикладные жанры
в какой-то степени служили выходом для тех творческих импульсов композитора, которые не находили
прямого выражения в «чистой» музыке. Но главная
46
причина диспропорции имеет иную природу. Жанровое неравновесие во многом было связано с условиями
музыкальной жизни советских времен.
Творческий облик Шнитке сформировался довольно
рано, вскоре после достижения рубежа тридцатилетия,
когда композитор продолжал еще числиться в «молодых». К тому времени им заинтересовались и профессионалы, и любители. Его друзьями стали выдающиеся
музыканты — скрипач Марк Лубоцкий и члены квартета
имени Бородина, с которыми связаны премьеры важнейших сочинений 1960-х годов: Первого струнного
квартета, Второй сонаты для скрипки и фортепиано,
Второго скрипичного концерта. Дальше на его горизонте появились исполнители первого ряда, такие как
Геннадий Рождественский, Олег Каган и Гидон Кремер,
Наталия Гутман и Юрий Башмет: все они очень хотели
Музыкальное искусство
играть Шнитке. У композитора постепенно образовалось
нечто вроде очереди из звездных музыкантов1. Кроме
того, Шнитке регулярно получал заказы от зарубежных фестивалей и исполнителей, среди которых также
преобладали первоклассные мастера — такие, например, как швейцарский виртуоз-гобоист и композитор
Хайнц Холлигер. Всё это происходило на фоне почти
полного отсутствия инициативы со стороны советских
официальных структур: сочинения Шнитке не заказывались и не приобретались закупочными комиссиями
Минкульта, хотя отдельные произведения со временем
начали издаваться.
В подобных условиях, разумеется, не могло быть
и речи о том, чтобы написать оперу, даже для благоволившего к современным композиторам Камерного
музыкального театра (открыт в Москве в 1972). Опера
была бы обречена на ожидание счастливого случая,
покоясь в ящике стола композитора. В таком положении
находился не только Шнитке. Известна судьба целого
ряда сочинений советского периода, в том числе стилистически весьма умеренных, которые годами не могли
пробиться на театральные подмостки.
Единственным опытом оперного жанра у Шнитке
долго оставалась двухактная опера «Одиннадцатая
заповедь», на либретто Марины Чуровой, Григория
Ансимова и композитора (1962). В ней рассказывалось
о судьбе летчика, сбросившего атомную бомбу, который
постепенно приходит к осознанию собственной ответственности за совершенное преступление. Постановка
задумывалась как мультимедийная и многожанровая,
но до реального осуществления дело не дошло, и автор
не стал писать партитуру. Опера осталась в клавире2.
Шнитке и сам был ею недоволен и, насколько известно,
впоследствии не делал попыток вернуться к сочинению.
В итоге три состоявшихся оперных замысла были
осуществлены лишь в 1990-е годы — фактически подряд, почти «залпом». Мировые премьеры состоялись
13 апреля 1992 («Жизнь с идиотом», Амстердам), 26 мая
1995 («Джезуальдо», Вена) и 22 июня 1995 («История
доктора Иоганна Фауста», Гамбург). Три опуса составили то, что называется оперным творчеством Шнитке,
и именно в них в полной мере раскрылся его поздний
стиль.
История создания каждой из них оказалась при этом
различной. Первая и третья имеют российское происхождение, причем в случае «Фауста» оно давнее:
в 1983 году Шнитке закончил кантату под тем же названием, которая стала впоследствии финалом оперы.
Проект «Джезуальдо» возник за пределами России,
после переселения Шнитке в Гамбург (1990). Он был
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
предложен в 1991 году Венской государственной оперой, в которой подобные события случались не часто
(предыдущий заказ относится к 1976 году). В преамбуле
к спектаклю этот факт был специально отмечен: «Впервые за долгое время в Венской государственной опере
предстоит мировая премьера, благодаря инициативе
ее главного драматурга Рихарда Блетшахера. Стоит
также отдать должное директору Эберхарду Вехтеру,
который заключил контракт с Альфредом Шнитке, —
несмотря на то, что к тому времени тот не сочинил
ни одной оперы и был автором лишь немногих вокальных опусов (“Жизнь с идиотом” была поставлена лишь
год спустя)» [9]. Акцент был сделан и на самом сюжете:
«Автор либретто Блетшахер и композитор избрали тему,
как ни удивительно, ни разу еще не представленную
в музыке: историю знаменитого своими сочинениями
князя Карло Джезуальдо да Веноза, который убил свою
жену и ее любовника на месте преступления» [9].
Последнее замечание особенно любопытно, если
вспомнить, что как раз в 1990-е годы возник своего
рода «джезуальдовский бум» на оперной сцене: идея
музыкально-театрального сочинения о Джезуальдо
буквально носилась в воздухе. Не исключено, что грядущая венская премьера тоже сыграла здесь свою роль.
Приводим примерный перечень опер на тот же сюжет:
Франческо д’Авалос, Мария ди Веноза (1992)3; Франц
Хуммель «Джезуальдо» (1998); Скотт Глазго «Принц
Венозы» (1998); Сальваторе Шьяррино «Luci mie traditrici» (1998)4; Бо Холтен «Тени Джезуальдо» (2003); Лука
Франческони «Джезуальдо считают убийцей» (2004);
Марк-Андре Дальбави «Джезуальдо» (2010)5.
Интерес к захватывающей жизненной драме композитора развивался в процессе освоения его наследия,
как известно, опередившего свое время лет на триста.
Два лика Джезуальдо, гения и злодея, загадочно совместившиеся в одной человеческой судьбе, бросали вызов
этический и эстетический в одно и то же время. «Множество гораздо более кровавых преступлений забыто:
именно взаимосвязь высокого искусства и отвратительного зрелища захватывает наше воображение» [10].
Действительно, подобное сочетание было новшеством в истории европейской оперы. Злодеи существовали в ней всегда; что касается творцов, то они, если
не считать Орфея, появились сравнительно в недавние времена, отчасти заменив прежних мифологических героев и фигуры из древней истории. К тому же
принадлежность к творческому цеху обычно служила
всего лишь дополнительной краской, знаком благородства, как у Бенвенуто Челлини Берлиоза, Каварадосси
из пуччиниевской «Тоски», или даже у Альвы, тоже
1
Спустя два десятилетия это превратилось в проблему, когда композитор стал получать чуть ли не каждый день предложения написать новое сочинение.
2
Комментарий композитора об «Одиннадцатой заповеди» см.: [7, с. 10–11].
3
Автор — потомок рода Авалос, к которому принадлежала первая жена Джезуальдо Мария, убитая вместе с любовником.
4
«Лживый свет моих очей» (итал.). В 2012 опера была поставлена также в России, на Малой сцене МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.
5
Алекс Росс упоминает об одиннадцати подобных сочинениях, добавляя, в частности, камерную оперу «Джезуальдо»
Майкла Уайтикера (1987) [10].
47
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
художника, в «Лулу» Альбана Берга. Движение вглубь
темы обозначили произведения, где героями стали исторические фигуры, подобно опере «Палестрина» Ханса
Пфицнера или «Художник Матис» Пауля Хиндемита.
Во второй из них творчество Матиаса Грюневальда,
создателя знаменитого Изенгеймского алтаря входит
в саму музыкальную ткань, образуя самостоятельную
драматургическую линию. Иначе устроен внутренний мир более раннего создания Хиндемита — оперы
«Кардильяк». В ней ипостаси вдохновенного творца и
жестокого убийцы не просто сосуществуют в личности
заглавного героя — они взаимно зависимы, обусловливают друг друга. Это уже близко к «случаю Джезуальдо».
Не требует особых доказательств очевидный факт,
что тема оперы «Джезуальдо» максимально отвечала
творческой личности ее создателя. Осмелимся предположить, чтò именно предполагал получить от композитора театр: захватывающую криминально-психологическую драму, при этом стилизованно-костюмную,
с достоверным портретом не только героя-убийцы, но
и его музыки, с яркими драматическими контрастами
любви и ревности под знаком смерти. Всё это заложено в добротном либретто Блетшахера, с его богатым
ассоциативным рядом, подсказывающим слушателю
классические источники — «Отелло», «Фауста», «Тристана», «Воццека» (на последнем настаивал сам Шнитке). И
всё это в опере присутствует, однако далеко не всегда
в ожидаемом виде.
Лишь эпизодично показан Джезуальдо — счастливый
новобрачный, ослепленный красотой невесты, творец,
силой искусства поднимающийся над тесной земной
жизнью. Скорее он ищет в нем спасения6. Главным в его
оперной судьбе становится одержимость местью, слепая
ярость, толкающая, кроме всего прочего, на собственноручную расправу над сыном-младенцем — коллизия,
отзывающаяся «Невинным» д’Аннунцио — Висконти7.
Эта сцена завершает оперу, не оставляя надежды на просветление — герой побежден адом безумия8.
Зло мира, разные его формы и проявления — одна
из главных тем творчества Шнитке. В поздних сочинениях она крепнет и находит новое музыкальное выражение. Если раньше зло ассоциировалось с несовершенством мира — с земной пошлостью, ложной красотой
шлягера, деградирующей в красивость, с торжеством
насилия в бряцании триумфальных медных маршей и
другими подобными образами (см. об этом: [1, с. 155–
156]), что составляло основной смысл полистилистического конфликта, то в поздних операх зло вырастает
до метафизического измерения, воплощенное в образе
смерти как природного абсолюта. В «Джезуальдо» нет
красоты любви, пусть минутной, знающей свою обре-
48
Музыкальное искусство
ченность. Лирическая кульминация встречи Марии и
Фабрицио поднимается до гибельного пафоса, оттененная танцем смерти, тарантеллой (2 картина, финал). Предельное напряжение предсмертного свидания
любовников предстает как экстаз смерти, выраженный
звучанием голосов на грани физически возможного,
в сочетании с мелодическим аскетизмом (5 картина,
пятая сцена). Но странным образом эта потусторонняя «монотония крика» завораживает, в ней есть своя
магия, приковывающая слух — она не дает оторваться
от действия, заставляя всматриваться и вслушиваться
в происходящее и в музыку Шнитке, которая стала иной,
не такой, как раньше.
Новое, естественно, вырастает из прошлого стиля
Шнитке. Преемственность в «Джезуальдо» заметна
прежде всего в трех ансамблево-хоровых эпизодах,
образующих точки опоры всей конструкции: Прологе,
Эпилоге и Мадригале (первая сцена 4 картины). В них
очевидна ориентация композитора на стилистику Джезуальдо, вплоть до буквальных касаний9. Однако во всех
трех случаях признаки полистилистического диалога
отсутствуют. Печальный мадригал четвертой картины
звучит мягко-диссонантно, повторяющиеся на манер
псалмодии аккорды фа минора затуманены вкраплениями побочных тонов, невозможных в строго трезвучной
гармонии Джезуальдо, но гармонирующих с его знаменитым хроматическим стилем. Звучания как будто
слегка расплываются в акустическом пространстве,
уподобляясь сонорам темброфактурной композиции.
В обрамляющих хорах Шнитке использует иной
метод. Пролог, где история Джезуальдо вспоминается как далекое событие городской хроники («О Неаполь, город замков и песнопений, город смеха, шуток
и празднеств…») поначалу звучит в архаическом тоне
модальной гармонии, однако постепенно всё сильнее
склоняется в сторону экспрессивного начала («Стыдишься ты своих властителей бесстыдных. <…> От крови
слуги, стеная, с воплями пол и пороги отмывают»), —
близкого Концерту для хора и особенно «Стихам покаянным». По словам одного из рецензентов, это «парящие
между Ренессансом и современностью мадригальные
песнопения, полные высокой красоты» [13]. Подобная
музыкально-драматургическая линия выстраивается и
в Эпилоге, горестной эпитафии герою: «О, Джезуальдо!
Камнем надгробным венчаешь ты холм лугов плодородных, как символ греха и проклятья».
В самом действии оперы тоже можно различить
признаки топосов разного происхождения, вызванных
ассоциативным потоком композиторского сознания.
Например, в вершинный момент возникшего между
Марией и Фабрицио любовного влечения вспыхивает
6
«Без музыки моей мне жизнь была бы непонятным сном. Сверлящая тоска изгрызла бы из глубины нутра, пав на уста
отравой» (картина 5). Здесь и далее перевод А. Парина.
7
Родившийся в браке Джезуальдо и Марии д’Авалос сын Эмануэле (1588–1613) погиб на охоте, меньше чем за месяц
до кончины отца. Согласно одной из версий, он был отравлен второй женой Джезуальдо Элеонорой д’Эсте.
8
Для сравнения упомянем, что аналогичный эпизод в «Леди Макбет Мценского уезда» Н. Лескова не вошел в оперу Д. Шостаковича.
9
«Начало Эпилога — практически дословная цитата из мадригала Джезуальдо “Io parto” (“Я ухожу”, 1611)» [2, с. 63].
Музыкальное искусство
кульминация в веристском духе (сцена 2, четвертая
картина). Ухо может наткнуться и на неожиданные параллели, вроде обнаруженной Л. С. Дьячковой квазицитаты главной темы Фортепианного концерта Р. Шумана,
в самом начале Пролога [2, с. 63–64 (нотный пример)].
Но вряд ли стоит искать в этом какой-то особый смысл.
Подобные «попадания» в чужой материал драматургически случайны, оставаясь в сфере подсознательного. И
не стоит забывать, что «музыка стилистически стерильная была бы мертвой» (цит. по: [1, с. 145]), как говорил
композитор еще в 1971 году.
На фоне подобных «пост-полистилистических» аллюзий заметно выделяется манера письма, избранная
композитором для сольных партий. Опера населена
разными персонажами: в общей сложности здесь заняты полтора десятка солистов — три сопрано, два
меццо-сопрано, контральто, три тенора, три баритона
и три баса, плюс ансамбль мадригалистов (альт, два
контратенора, тенор и бас). Действие представляет
собой цепь кратких сцен10; при этом текст либретто
ориентирован на сугубо речитативный тип интонирования. Ансамбли практически отсутствуют: исключением
является эпизодическое дуэтное пение, а также нечто
вроде терцета, в котором к Марии и Фабрицио присоединяется главный герой (пятая сцена 4-й картины, где
Джезуальдо становится невольным свидетелем встречи
любовников). Подобная «реалистическая» мотивация
оперных форм неожиданно напоминает о русских прототипах вроде «Каменного гостя» Даргомыжского, при
полном несходстве музыкального материала.
Специфической оказывается в «Джезуальдо» подача
текста. В опере преобладает силлабическая манера
музыкального произнесения (слог равен ноте); отсутствует не только кантилена, но и почти всякий намек
на распевание слова. При этом мелодический рисунок
в целом не ориентирован на подражание речи или на ее
промежуточные формы типа Sprechstimme. Вокальные
партии «Джезуальдо» — безусловно пение, с точной
высотой и определенностью линии. Моделью вокализации является здесь экспрессивное интонирование
на грани крика, истерии, подобно застывшей лаве отлитое в четкие звуковысотные формулы11. Безраздельно
господствуют широкие ходы инструментального характера, тесситурные контрасты, жесткая интервалика
с опорой на тритон и на «пустые» консонансы — кварту
и квинту12. В подобном интонационном мире обитают
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
практически все персонажи, которые по этой причине сильно теряют в индивидуальной характерности.
Зато на первый план выступает обсессивная атмосфера
действия: о чем бы ни говорили участники, особенно
главные герои, подспудно речь идет словно бы об одном и том же — о преступлении и смерти, как в фильме
ужасов, где всё пропитано ощущением надвигающейся
катастрофы13.
Несомненно, что подобное музыкальное решение
было намеренным. Оно не явилось ни просчетом композитора, ни следствием его болезненного состояния,
как предполагали некоторые рецензенты14. Экстремальные требования к вокалистам, которые привели
в ужас российских критиков15, также не свидетельствовали о неумении Шнитке писать для голосов. Его целью
(по-видимому, вполне сознательной) было создание
оригинальной оперной мелодики, опирающейся на традицию и в то же время индивидуальной, не отягощенной
реставраторским грузом.
Вокальные партии «Джезуальдо» ориентированы на горизонталь, на линеарное инструментальное
письмо, парадоксально соединившееся с предельной
экспрессией интонирования. Резко прочерченные линии голосов скупо поддержаны инструментами, как
правило, лишь педалирующими звуки мелодии, напоминая выписанную реверберацию. Заметным приемом
развития становится вариантное повторение, местами
принимающее характер остинато. Мелодика оперы провоцирует на аналогии с полифоническим тематизмом:
эта идея интересно развита в статье Л. С. Дьячковой16.
Однако принять ее полностью мешает господствующее
у Шнитке «одноколейное» письмо, далекое от всякого
полифонического склада. Единственным исключением оказываются упомянутые выше «дуэты» в тритон,
которые слышатся как некий потусторонний органум.
Л. С. Дьячкова полагает, что в сцене любви тритон — это
«слуховой след тристан-аккорда — символ романтического любовного томления» [2, с. 77]. Аналогия кажется
искусственной. Мертвенное тритоновое дублирование
несет в себе замороженный аффект ужаса смерти, семантически ассоциируясь с временами, когда этот интервал
считался «дьяволом в музыке». К тому же тритоновая
диафония появилась в музыке Шнитке раньше «Джезуальдо» и в ином контексте, а именно, в завершении
оперы «Жизнь с идиотом» (см. об этом ниже).
Линеарный тематизм описанного типа, равно как
Общее их число — тридцать две; они сгруппированы в семь картин.
Мы не рискуем согласиться с мнением В. Н. Холоповой, что в «Джезуальдо» «перед нами высокий классический вокал,
не только в смысле тесситуры голосов, а по своему высокому эстетическому смыслу» [8, с. 226].
12
Кварта с секундовым опеванием постепенно выдвигается на первый план как мотив надвигающейся насильственной
смерти: последний перед убийством диалог Марии и Фабрицио целиком основан на этой интонации (картина 5, пятая сцена).
13
Согласно терминологии Г. В. Заднепровской, «Джезуальдо» — опера-триллер (см. [5, с. 3]).
14
«Уже на первом представлении у меня было чувство, что Шнитке недостает необходимой силы, чтобы воплотить в музыке этот сюжет, с его историческим величием и жестокостью» [13].
15
«Парадокс оперы Шнитке — в ее вопиющей антивокальности. <…> Эта музыка не для голоса»; «вокальные партии
просто-таки опасны для жизни певцов, <…> [они] каждую минуту рискуют окончательно и бесповоротно сорвать связки».
Западные критики отнеслись к вокальному письму оперы спокойнее.
16
«Кристаллизация тематизма на основе имитационной техники в ренессансной полифонии нашла прямое отражение
в опере: в ней она трансформируется в структурные особенности мелодической линии» [2, с. 74].
10
11
49
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
и аскетический способ его оформления — стилистическая константа позднего творчества Шнитке, общая
для вокальных и инструментальных сочинений. В этом
парадоксально проявилась классическая типология
его композиторской эволюции: музыка любого жанра
должна иметь основой полноценный мелодико-гармонический материал, который несет в себе истинную
«интонацию», в асафьевском смысле слова. Эволюция
Шнитке наглядно свидетельствует об этом.
Еще в 1975 году композитор говорил об «интонационном голоде», об «“истраченности” тематических
ресурсов и необходимости поисков новых мелодических
возможностей» [7, c. 259]. «Можно, конечно, спасаться
от реальности в застрахованных районах традиционного
академического тематизма или в монастырской тиши
интервальной алхимии. А можно признать критичность
ситуации и искать выхода из нее» [7, c. 259]. В то время выходом стало расширение круга интонационных
источников, которое обеспечивал полистилистический
метод, от «коллажного» варианта постепенно модулировавший к более цельному письму, в своего рода
новую моностилистику [6, с. 42]. Ее художественным
осуществлением стал панорамный охват прошлого и
настоящего, высокого и низкого, раскрывшийся в музыкальном языке Шнитке 1980-х годов как гармоничное
сочетание новизны и традиции. Дальнейшая эволюция
привела к постепенному «снятию слоев», — к аскетизму,
скупому энигматическому письму, к черно-белой графике, пришедшей на смену краскам безграничного мира.
Мелодические формулы «Джезуальдо», с их интервальным структурированием, обнаруживают аналогии
с некоторыми другими, подчас далекими образцами
оперного письма. Неожиданные параллели возникают,
например, с оперой Оливье Мессиана «Святой Франциск
Ассизский» (1983), где речитативно-силлабические
вокальные линии, в духе «Пеллеаса и Мелизанды» Дебюсси, вписаны в формулы специфических мессиановских ладов. Мелодика предстает как фигурирование
аккордики, демонстрируя полное высотное единство
вертикали и горизонтали. Излишне говорить, что трудно
вообразить нечто более далекое друг от друга, нежели
«Джезуальдо» и «Франциск», — однако конструктивное сходство в организации музыкального материала
обеих опер, на наш взгляд, несомненно. Общей основой
является принцип интонационного единства, у Шнитке
восходящий к 12-тоновой серийности, у Мессиана к модальности, — который можно представить как своего
рода гипер-лейтмотивизм.
Признаки подобного письма наметились и сформировались до «Джезуальдо» — в предыдущих операх
50
Музыкальное искусство
Шнитке «Жизнь с идиотом» и «История доктора Иоганна
Фауста». Первая из них, на либретто Виктора Ерофеева,
имела богатую сценическую историю, она ставилась
неоднократно, в том числе в России, и о ней писали
больше, чем о двух других. Интерес к «Жизни идиота»
со временем не угас17.
Согласно воспоминаниям В. Ерофеева, написанный
в 1980 году рассказ «Жизнь с идиотом» он впервые
прочитал публично «в начале перестройки». Там его и
услышал Шнитке: «Он подошел ко мне после вечера и
сказал, что, пожалуй, напишет оперу на этот текст» [3,
с. 234]. Скорее всего, это произошло немного раньше.
О ерофеевском сюжете, как и о будущей работе для Джона Ноймайера, я слышала от Альфреда еще в доперестроечные времена. Он спрашивал тогда, какой источник из двух ему выбрать для балета, «Пер Гюнт» или
что-то из Чехова: сам он решил обратиться к Ибсену,
но ему хотелось укрепиться в своем мнении. Тогда же
он пересказывал фабулу «Жизни с идиотом», считая
рассказ идеальным оперным материалом, хотя и ему,
и всем окружающим было ясно, что на советской сцене
такой сюжет абсолютно невозможен18. Всё это происходило не позднее первой половины 1985 года (потом
ему пришлось существенно ограничить общение из-за
последствий болезни). Новым стимулом к работе над сочинением стало полученное в 1987 письмо М. Л. Ростроповича, который обратился с просьбой не только
о виолончельном концерте (будущий Второй, 1990),
но и относительно оперы: «Я мечтаю — и не отнимите
у меня эту мечту — об опере. Пишите ее столько лет,
сколько потребуется» [1, с. 184–185]. Получив согласие
композитора, Ростропович довел проект до успешного
воплощения. Опера была заказана голландским фондом
Эдуарда ван Бейнума, постановка осуществлена в Национальном оперном театре в Амстердаме. Ростропович
дирижировал премьерными спектаклями, в которых
участвовал как актер, виолончелист и пианист. По его
инициативе Шнитке добавил в партитуру вальс и танго19.
Бòльшая часть «Жизни с идиотом» была завершена
к июлю 1991 года — в беловом автографе партитуры
есть пометка «2.6.91», относящаяся к первой картине,
а также ремарка «I акт — июль 1991 г.» после третьей
картины. Но 19 июля у Шнитке случился второй инсульт, из-за которого ему пришлось прекратить работу
на три месяца, до начала октября 1991 года. Оставшаяся четвертая картина создавалась в ускоренном
темпе, и премьеру удалось провести в назначенный
срок. При этом финальная часть заметно отличается
от предыдущих трех. К концу в ней слышится будущий
17
После мировой премьеры в Амстердаме опера «Жизнь с идиотом» в ближайшие десять лет была поставлена в Вене,
Москве, Вуппертале/Гельзенкирхене, Лондоне, Турине, Мадриде, Лиссабоне, Бремене, Глазго, Дрездене, Буэнос-Айресе и Дармштадте. Спектакль Новосибирского оперного театра (2003) был также показан на гастролях в Германии. В 2017 состоялась
постановка в Гиссене. Ближайшая премьера назначена на 3 ноября 2024 в Цюрихском оперном театре (режиссер и сценограф
Кирилл Серебренников).
18
Альфред даже предлагал его тогда другим композиторам, в частности Луиджи Ноно.
19
Танго в опере — двойная автоцитата: Шнитке заимствовал его из Concerto grosso № 1, куда оно попало из музыки
к фильму «Агония». В виде отдельной пьесы Танго стало хитом.
Музыкальное искусство
«Джезуальдо» — аскетическое «одноколейное» письмо,
прозрачное «малоголосие», при котором вокальную
партию сопровождает один инструмент, порой дублируя ее в унисон, «истончение “музыкальной массы”» [8,
с. 219]. Всё это пришло на место акустической и смысловой стереофонии начальных картин. Самое начало,
с ключевого рефрена «Жизнь с идиотом полна неожиданностей», провозглашаемого унисоном мужского
хора и струнных, с внушительной поддержкой литавр
и фортепиано, несло в себе абсурдистский конгломерат искривленных смыслов. По словам А. В. Ивашкина,
в общем звучании слышались «интонации помпезного
пролога к некой большой эпической опере, типа “Войны
и мира” Прокофьева» [1, с. 207]. В тексте проступала
пародия на название советского фильма20. В мелодике — цитата начального хора «Страстей по Матфею»
И. С. Баха [12, S. 1439]21, но с взвивающимся в штопор
окончанием. Дальше возникал живой шевелящийся
мир инструментов, с разнообразными фактурными
реакциями на сольные и хоровые звучания, меняющимися педалями, имитациями, мелодическими контрапунктами, издевательскими глиссандо. Истерически
визгливое сопрано и гротескный фальцет супружеской
пары дополняли картину ассоциациями с «Носом» Шостаковича и другими русскими прототипами (например,
голосящим Генералом из «Игрока» Прокофьева).
Почти всё это к концу оперы ушло. Хор, двойник
героя, ограничился повествовательными репликами, и
от прежней «соцартовской» роли осталось лишь «Грачи
прилетели» в стиле бодрых пионерских песен. Сцены
избиения и обезглавливания Жены представлены в аскетических тонах скупой фактуры. Оставшись одинокой,
мелодическая линия обрела лейтинтонационную специфику будущего «Джезуальдо»: в ней концентрируются кварто-тритоновые обороты с малосекундовыми
опеваниями, взлеты по квартам, и под конец появляется тритоновое двухголосие (см. о нем выше). Оно
сопровождает мотив «Во поле береза стояла», глумливо
распеваемый героем, перевоплотившимся в персонаж
из дурдома, — того самого парня, «который кусается».
Происхождение тритоновой диафонии здесь не подлежит сомнению — она происходит от плясовой «Ах вы,
сени мои, сени» из финальной картины «Петрушки»
Стравинского.
Но когда действие окончательно проваливается
в пустоту безумия, и все три солиста застывают в угасающих осколках своих реплик, становится ясным, что
именно эта исчезающая материя и обеспечивает наиболее адекватное завершение всей истории. Шелуха
политических аллюзий и злободневных намеков слетела, остался хрупкий ад человеческого существования,
где «каждый живет со своим собственным идиотом» [3,
c. 234]. И «катарсиса там не ждите» [4].
В «Истории доктора Иоганна Фауста» сложилась
несколько иная, но в принципе родственная стили-
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
стическая картина. Это сочинение, по-видимому, с самой длинной в творчестве Шнитке историей создания.
Композитор считал ее своим важнейшим сценическим
проектом, а фаустовскую тему — ключевой для своего
творчества. «Бывают такие темы, <…> которыми всю
жизнь занимаешься и никак не можешь довести их
до конца» [1, с. 208]. «Фауст — это как зеркало, отражавшее изменения, происходившие с человечеством
за последнее время» [1, с. 162]. Из высказываний композитора можно заключить, что этой темы он внутренне
опасался, его пугало близкое соприкосновение с обликом
дьявольского зла. По свидетельству В. Н. Холоповой,
добыв подлинную книгу доктора Фауста, Шнитке боялся ее открывать. «Он видел здесь бездну. “Я боюсь
читать это, смотрю, но не читаю. Не уверен, что найду
границу, до которой хватит моего трезвого сознания”»
(цит. по: [8, с. 176]).
Первым воплощением сюжета о Фаусте стала кантата на оригинальный немецкий текст «Народной
книги» («Seid nüchtern und wachet…» [«Бодрствуйте и
бдите…»], 1983), написанная для фестиваля в Вене —
одна из вершин творчества Шнитке. До этого в 1980 году
был получен заказ на оперу о Фаусте от Гамбургского
оперного театра, но его директор Кристоф фон Донаньи покинул театр, и проект был отменен. Затем около
1988 года возникла перспектива постановки оперы
во Франкфурте, и к 1991 два новых акта оперы были
закончены в клавире. Однако дирижер Гари Бертини
был вынужден уйти из театра, и с «Фаустом» вновь
ничего не вышло. В 1992 году Гамбургская опера вновь
проявила инициативу: весной Шнитке рассказывал, что
«Фауст» «вчерне написан весь <…>, но то, что написано,
оказывается, слишком длинно <…> — в этом виде опера
будет длиться шесть часов, а надо вдвое меньше» [1,
с. 207]. В 1994 Шнитке завершил оркестровку «Истории
доктора Иоганна Фауста» [14, с. 27].
Запись премьерного спектакля длится около ста
минут.
Стилистическим камертоном оперы неизбежно стала
музыка кантаты — шедевр полистилистики Шнитке,
многократно описанный в литературе. На ее основе
определились тематические сферы двух предшествующих актов и, соответственно, оперы в целом. Во-первых,
это хоровые «пассионные» эпизоды, эпические и драматически действенные (первый хор оперы, повторяющийся затем в «кантатном» финале, воспроизводит начало
баховских «Страстей по Матфею», но еще в серьезном,
не пародийном ключе, как это будет в «Жизни идиота»). В хорах преобладает простое тональное письмо и
внятная имитационная полифония: это голос толпы,
сочувствующей, ужасающейся и свидетельствующей.
Во-вторых, это партии Рассказчика-«евангелиста» и
самого Фауста: обе развиваются в общем поле речитативного письма, но интонационно артикулированы
по-разному. В партии Рассказчика заметны рудименты
«Улица полна неожиданностей» (1957, режиссер Сергей Сиделёв, киностудия «Ленфильм») — цветная кинокомедия
о работниках бухгалтерского цеха и розовощеком милиционере.
21
На баховский первоисточник указывали также авторы газетных рецензий.
20
51
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
риторических фигур пассионного повествования; Фауст
же изъясняется в манере экспрессионистской оперы
(в этой связи принято упоминать «Воццека» Берга и
«Солдат» Б. А. Циммермана). В-третьих, это обширная
область жанровой и хара́ ктерной, в театральном смысле,
музыки. Ее сердцевиной является банальная красивость
дьявольского антимира, клише поп-музыки, «райский»
до мажор, буквальный и условный. В комментариях
композитора всё это, в духе «Народной книги», ассоциируется с дьявольской пагубой: «Я не вижу другого
способа выражения зла в музыке, чем шлягерность» [1,
с. 155]. Наказание Фауста не просто смертью, но падением в бездну унижения, — ошеломляющее музыкальное
открытие Шнитке в кантате, воплотившееся в знаменитом танго — готовится в опере с первых ее событий,
когда дьявол, якобы повинуясь воле Фауста, на самом
деле обманывает его самым постыдным способом.
За каждой его фантастической «услугой» проступает
будущая расплата, и всплывающий временами ритм
Музыкальное искусство
танго напоминает об этом.
Интонационный мир «Истории доктора Иоганна
Фауста» насыщен и разнообразен, прежде всего благодаря полистилистической множественности источников. Как и в двух других операх, в сольных вокальных
партиях доминирует речитативное письмо. Хотя в нем
слышен общий генезис экспрессионистского мелоса,
партии Фауста и Мефистофеля весьма характеристичны
и различимы не только благодаря контрасту певческих
тембров. Но то, что поют оба героя в двух первых актах, уходит на дальний план и почти забывается, когда
начинается финал. «В третьем акте достигается такой
драматический подъем, какого не было в немецкой
опере со времен смерти Берга» [11]. С другой стороны,
драматургический эффект финала «Фауста» парадоксально перекликается с заключениями двух других
опер — «Жизни с идиотом» и «Джезуальдо». Во всех трех
случаях композитору удалось создать впечатляющее
завершение столь непохожих музыкальных творений.
Литература
1. Беседы с Альфредом Шнитке. Сост. А. В. Ивашкин. М.:
РИК «Культура». 1994. 304 c.
2. Дьячкова Л. С. Опера А. Шнитке «Джезуальдо»: параллели и инверсии художественных систем Ренессанса и современности // Альфреду Шнитке посвящается… Выпуск 5.
Ред.-сост. А. В. Богданова, Е. Б. Долинская. М.: Издательский
дом «Композитор». 2006. С. 56–78.
3. Ерофеев В. Жизнь с идиотом. Рассказы. М., 2005. 288 с.
4. «Жизнь с идиотом» или испытание ужасом. URL: https://
www.newsinfo.ru/articles/2004-03-18/item/523306/ (дата
обращения: 20.09.2024).
5. Заднепровская Г. В. Отечественный музыкальный театр
рубежа ХХ–ХХI вв.: в поисках обновления оперного жанра.
Дис. … док. искусствоведения. Т. 2. М., 2023. 322 с.
6. Савенко С. Портрет художника в зрелости // Советская
музыка. 1981. № 9. С. 35–42.
7. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. Очерк жизни
и творчества. М.: Советский композитор. 1990. 350 с.
8. Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. Челябинск:
«Аркаим», 2003. 253 с.
9. Kryspin D. Alfred Schnittke: «Gesualdo» Uraufführung
der Wiener Staatsoper // Österreichische Musikzeitschrift. 1995.
№ 5 (50). S. 316–318.
10. Ross A. Gesualdo «The Prince of Darkness» // The New
Yorker. 2011. Dec. 19 and 26.
11. Ross A. Schnittke's Faust // New York Times. 1995. July 6.
12. Schreiber U. Leben mit einem Idioten // Csampai Attila,
Dietmar Holland. Opernführer. E-Book. Rombach Verlag, Freiburg
im Breisgau. 2015. S. 1437–1441.
13. Troger D. Gesualdo ist kein Vorbild für das Lösen von Ehekrisen. URL: http://www.operinwien.at/werkverz/schnittke/agesu.
htm (дата обращения: 20.09.2024).
14. Weitzman R. Schnittke's «Faust» in Hamburg // Tempo.
1995. № 194. October. P. 27–30.
References
1. Besedy s Alfredom Shnitke [Conversations with Alfred Schnittke]. Ed. A. V. Ivashkin. M.: Kul’tura, 1994. 304 p.
2. Dyachkova L. S. Opera A. Shnitke «Dzhezualdo»: paralleli i
inversii hudozhestvennyh sistem Renessansa i sovremennosti [Opera A. Shnitke «Gesualdo»: parallels and inversions of Renaissance
and modern art systems] // Alfredu Shnitke posvyashchaets’a…
[Dedicated to Alfred Schnittke…]. Vyp. 5. Ed. A. V. Bogdanova,
E. B. Dolinskaya. M.: Kompozitor, 2006. P. 56–78.
3. Jerofeev V. Zhisn s idiotom. Rasskazy [Life with an Idiot.
Stories ]. M., 2005. 288 p.
4. «Zhisn’ s idiotom» ili ispytanie uzhasom [«Life with an Idiot», or The ordeal of horror]. URL: https://www.newsinfo.ru/
articles/2004-03-18/item/523306/ (accessed 20.09.2024).
5. Zadneprovskaya G. V. Otechestvennyj muzykalny teatr rubezha
XX–XXI vv.: v poiskax obnovleniya opernogo zhanra [The Russian
musical theater on the turn of the XX–XXI centuries: in search
of an update of the opera genre]. Dis. … dok. iskusstvovedeniya.
52
Vol. 2. М., 2023. 322 p.
6. Savenko S. Portret hudozhnika v zrelosti [Portrait of the artist
in maturity] // Sovetskaya musyka [Soviet music]. 1981. № 9.
P. 35–42.
7. Kholopova V., Chigareva E. Alfred Shnitke. Ocherk zhizni i
tvorchestva [Alfred Shnitke. An essay on life and creativity]. M.:
Sovetsky compozitor, 1990. 350 p.
8. Kholopova V. Kompozitor Alfred Shnitke [Composer Alfred
Shnitke]. Chelyabinsk: «Arkaim», 2003. 253 p.
9. Kryspin D. Alfred Schnittke: «Gesualdo» Uraufführung
der Wiener Staatsoper // Österreichische Musikzeitschrift. 1995.
№ 5 (50). S. 316–318.
10. Ross A. Gesualdo «The Prince of Darkness» // The New
Yorker. 2011. Dec. 19 and 26.
11. Ross A. Schnittke's Faust // New York Times. 1995. July 6.
12. Schreiber U. Leben mit einem Idioten // Csampai Attila,
Dietmar Holland. Opernführer. E-Book. Rombach Verlag, Freiburg
Музыкальное искусство
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
im Breisgau. 2015. S. 1437–1441.
13. Troger D. Gesualdo ist kein Vorbild für das Lösen von Ehekrisen. URL: http://www.operinwien.at/werkverz/schnittke/agesu.
htm (accessed: 20.09.2024).
14. Weitzman R. Schnittke's «Faust» in Hamburg // Tempo.
1995. № 194. October. P. 27–30.
Информация об авторе
Information about the author
Светлана Ильинична Савенко
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Государственный институт искусствознания»
Москва, Россия
Svetlana Ilyinichna Savenko
Federal State-Financed Scientific Institution «State Institute for
Art Studies»
Moscow, Russia
53
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-54-61
Чигарева Евгения Ивановна, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Московской государственно консерватории имени П. И. Чайковского
Chigareva Evgeniya Ivanovna, Dr. Sci. (Arts), Professor of the Music Theory Department at the Tchaikovsky Moscow
State Conservatory
E-mail: echigareva@yandex.ru
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЬФРЕДЕ ГАРРИЕВИЧЕ ШНИТКЕ
Статья включает в себя воспоминания автора об Альфреде Гарриевиче Шнитке. Она состоит из трех разделов: «“Годы
учения” у Альфреда Гарриевича Шнитке», «Каким я знала Альфреда Шнитке» и «Похороны Альфреда Гарpиевича Шнитке».
В первом разделе А. Г. Шнитке представлен как педагог, одухотворяющий своей деятельностью учеников. Во втором разделе
творческий облик А. Г. Шнитке описан сквозь призму личного творческого общения композитора с автором статьи. В третьем разделе приведены воспоминания автора статьи о похоронах А. Г. Шнитке. В целом «основной тон» личности А. Г. Шнитке, каким он видится автору, представляется как светлый и щемящий, пронизывающий насквозь, острый, трагический и
прекрасный.
Ключевые слова: Альфред Гарриевич Шнитке, композитор, музыкальная педагогика, музыкальное творчество, полистилистика.
MEMORIES OF ALFRED HARRIEVICH SCHNITTKE
The article includes the author's memoirs about Alfred Harrievich Schnittke. It consists of three sections: «The Years of Study
with Alfred Harrievich Schnittke», «Alfred Schnittke as I knew him» and «The Funeral of Alfred Harrievich Schnittke». In the first
section, A. G. Schnittke is presented as a teacher who inspires students with his activities. In the second section, the creative image
of A. G. Schnittke is described through the prism of the composer's personal creative communication with the author of the article.
The third section contains the memoirs of the author of the article about the funeral of A. G. Schnittke. In general, the «basic tone»
of A. G. Schnittke's personality, as seen by the author, is bright and aching, piercing through, sharp, tragic and beautiful.
Key words: Alfred Garrievich Schnittke, composer, musical pedagogy, musical creativity, polystylistics.
Мне выпало счастье лично знать Альфреда Гарриевича Шнитке и общаться с ним. В памяти всегда живет его
прекрасная музыка, его светлый человеческий облик,
беседы с ним. Мне захотелось поделиться с читателем
этими воспоминаниями, которые написаны в разное
время и по разным поводам.
«ГОДЫ УЧЕНИЯ» У АЛЬФРЕДА ГАРРИЕВИЧА ШНИТКЕ
Я занималась у А. Г. Шнитке в классе чтения партитур
и инструментовки в 1964–67 годах. Первоначально я
подала заявление к Инне Алексеевне Барсовой, которую
хорошо знала. Однако у нее уже не было мест и меня
распределили к А. Г. Шнитке, о котором я ничего не слышала. Я была в отчаянье, плакала и упрашивала Инну
Алексеевну взять меня к себе дополнительно. И она
первая сказала мне о Шнитке: «Да что, Вы, Жанна (мое
домашнее имя. — Е. Ч.), Альфред Гарриевич — талантливый молодой композитор, замечательный музыкант
и педагог, идите к нему!» Тем не менее, когда я впервые
вошла к нему в класс, он мне не понравился: слишком
красивый, ухоженный, аккуратно подстриженный и
причесанный (даже «височки»!). «Просто открыточная
внешность! — Разве бывают такие композиторы?» —
подумала я (а было тогда ему 30 лет, а мне — 25). Само
собой разумеется, что после первого же занятия мнение
мое изменилось. И потом я неоднократно благодарила
54
Бога, что стала ученицей А. Г. Шнитке, с которым в общей
сложности была связана более 30 лет.
В то время занятия инструментовкой состояли из нескольких моментов. Прежде всего, партитуры — то есть
переложение фортепианных сочинений для оркестра.
Обучение теоретиков умению писать партитуры, которые никто никогда не исполнит и не услышит, — дело
не слишком перспективное, оно невольно вызывало
скептическое отношение Шнитке-композитора, который
говорил: «Если, действительно, хотите этому научиться,
надо идти в оркестр и все изучать там». Тем не менее,
иногда в процессе занятий он увлекался и по-композиторски четко размечал будущую партитуру, подсказывая
то или иное решение, которое студент добросовестно
фиксировал и выполнял. На следующем уроке, видя уже
написанную партитуру, Шнитке восклицал: «А это интересно!», забыв, конечно, что идея принадлежала ему.
Мы при этом благоразумно молчали. Но главное — как
он играл партитуры — наши и не наши: рояль под его
пальцами, поистине, звучал как оркестр!
В целом же Альфред Гарриевич, как и его коллеги,
не особенно обольщался по поводу возможностей своих
учениц на данном поприще. Например, на экзамене он и
Э. В. Денисов, относящиеся к предмету как композиторы,
любящие и чувствующие оркестр, с интересом изучали
переложения одних и тех же сочинений, сделанные их
учениками, и, забывая о нашем присутствии, иногда
Музыкальное искусство
деловито замечали: «У тебя так? А у меня по-другому!»
Вообще обстановка на экзаменах была самая доброжелательная. Не последнюю роль здесь, пожалуй, играл
мужской состав кафедры инструментовки (за исключением И. А. Барсовой, отнюдь не противоречащей общему тону, а лишь добавляющей к нему более мягкие и
светлые обертоны) — почти все композиторы (без теоретического «занудства»), притом молодые (самым
старшим — Ю. А. Фортунатову и Е. П. Макарову — тогда
было не так уж много лет) и преобладающий женский
(девический) состав теоретического отделения. Наверное, наши экзаменаторы считали, что научить искусству
инструментовки девочек-«теоретичек» — дело довольно-таки безнадежное, и были предельно великодушны
и снисходительны. Помню, например, как на экзамене по чтению партитур Георгий Иванович Сальников
(у которого когда-то еще до поступления в училище я
брала уроки композиции), сидя рядом со мной, около
инструмента, подсказывал мне ужасно трудную для
меня партию духовых в транспортах; или как во время
письменного экзамена по инструментовке Ю. А. Фортунатов, прохаживаясь между рядами, заглядывал в наши
партитуры и шепотом давал «ценные указания».
Однако, кроме написания партитур, в курс инструментовки входило еще одно, очень важное, и делал это
Альфред Гарриевич, как и Эдисон Васильевич, по собственной инициативе: он собирал своих учеников и
давал слушать музыку в звукозаписи — прежде всего,
современных композиторов, которых мы тогда совсем
не знали. Это был не только необходимый для нас «ликбез», но и фактор музыкального воспитания. Помню, как
я слушала в классе у Шнитке «Пассакалью» А. Веберна.
Я не имела в то время опыта восприятия современной
музыки и, в частности, совсем не знала сочинений Веберна и как-то не сразу поняла даже этот его первый
опус. Поэтому, когда Альфред Гарриевич спросил меня:
«Ну как?» — я с «умным видом» ответила: «Надо бы
посмотреть партитуру», и тогда он мне сказал простые
слова, которые я, тем не менее, запомнила на всю жизнь:
«Музыка пишется не для музыкантов», имея в виду,
что для суждения о произведении видеть ноты совсем
не обязательно. Слуховое восприятие сочинения как
основа суждения о нем — этому принципу, как мне
представляется, Шнитке не изменял на протяжении
всей своей жизни. Много лет позже, когда я уже работала
в Консерватории, я приехала к нему домой — по договоренности, в определенный час, но пришла немного
раньше назначенного срока: я звонила в дверь, но тщетно. Наконец, минуты через три, Шнитке открыл мне и
спокойно сказал, что он слушал музыку и должен был
дослушать до конца. И я поняла, что для него это свято.
Вернусь к студенческим временам. Прослушивание
музыки в классе Шнитке и Денисова очень высоко ценилось, собиралось немало народу. Помню, что прослушивания у Шнитке происходили в определенный день
недели и в определенный час, что на беду совпадало
с лекциями по эстетике С. Х. Раппопорта. Я ни на минуту
не сомневалась в выборе, пропустив в результате все
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
лекции профессора и получив потом «2» (единственную не «5» за время моего обучения в Консерватории,
которую, правда, потом пересдала на «5»).
Иногда на наши прослушивания приходила и Ирина Шнитке — тогда совсем молодая (как мы или даже
моложе), и, как всегда, очень красивая. Подтянутая,
серьезная, даже строгая — она показалась мне тогда
совершенно иной, чем та добрая, радушная, душевная
Ирина, какой я узнала ее потом. Однако я с уважением
подумала: «Наверное, такой должна быть жена композитора».
Еще одна область, в которой проявлялось наше обучение в классе инструментовки, — это написание курсовой работы. Эти работы никогда не ограничивались
узкой специализацией, связанной именно с инструментовкой; на опыте мы постигали мысль о том, что
знание о музыке может быть только комплексным, и
инструментовка не существует вне формы, звуковысотной структуры и т. д. — вообще вне музыкального контекста. Так, я писала у Альфреда Гарриевича курсовую
работу об инструментовке в Симфонии А. Веберна op. 21.
Работа над темой, которой мы оба увлеклись, вылилась
в полный (серийный, звуковысотный, композиционный) анализ сочинения. Я открывала для себя новый
мир, но и Альфред Гарриевич занимался с настоящим
вдохновением, не скрывая своего восхищения красотой
этого мира, равно великого и на структурно-атомарном уровне, и на уровне конструкции целого. Для этой
курсовой он даже принес мне однажды для изучения
на ночь (!) из издательства «Музыка» «Письма» Антона
Веберна, которые переводил его брат Виктор Шнитке.
Так что эту замечательную книжечку, еще в рукописи, я прочитала раньше других. Увлечение курсовой
явно не укладывалось в учебный процесс и даже пошло
вразрез с ним, так как накануне экзамена педагог и
студентка, оба с удивлением обнаружили, что помимо
курсовой работы есть еще и партитуры, которые надо
представить экзаменационной комиссии и которые
почти все оказались недописанными, — что мне и пришлось срочно, в последнюю ночь, сделать. Все обошлось
благополучно.
В дальнейшем из этой курсовой работы я, по предложению Альфреда Гарриевича, сделала статью, которую
он рекомендовал в издательство «Музыка» для сборника «Музыка и современность», переживавшего тогда
расцвет и бывшего центром передовой мысли о современной музыке благодаря, в первую очередь, Татьяне Александровне Лебедевой. Это была моя первая
статья, которая так и осталась неопубликованной, так
как музыковедческая «оттепель» 60-х годов подходила
к концу, и вскоре сборник «Музыка и современность»
был разгромлен и, в конце концов, прекратил свое существование.
Знаю, что и другие курсовые по инструментовке
в классе Альфреда Гарриевича нередко перерастали свой
жанр и оказывались стимулом к дальнейшей творческой
работе студентов. Например, Лариса Горбунова (Бубенникова) писала курсовую работу о музыке Шостаковича
55
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
к спектаклям Мейерхольда — и это вылилось потом
в дипломную и далее (в какой-то мере) и диссертационную работу. О Веберне (ранние оркестровые пьесы)
писала в классе Шнитке и Ирина Андреевна Бобыкина
(ныне покойная), она стала в дальнейшем прекрасным
редактором, много лет проработала в издательстве
«Советский композитор» и всегда с теплым чувством
и благодарностью вспоминала годы учебы у Шнитке.
Могу сказать, что Альфред Гарриевич никогда не был
«академическим» педагогом, занятия со студентами
строились как свободные беседы, размышления, нередко речь заходила о литературе, жизненных событиях.
Из этих бесед я поняла, что Шнитке (вообще человек
широко образованный, прекрасно знающий русскую и
европейскую литературу) любит Достоевского, и это
для меня, по первому образованию филолога, специалиста по Достоевскому, было очень важно. Например,
мы говорили о «Бесах» Достоевского и об исповеди
Ставрогина, не опубликованной в советском издании —
10-томном собрании сочинений, которую Альфред Гарриевич, однако, прочел по-немецки. Он сказал об этом
просто: «Там всё правда».
Отношения Шнитке со студентами перерастали профессиональные рамки и порой превращались в настоящие творческие контакты. Большая радость для меня,
что Альфред Гарриевич, еще в годы моей учебы оказывал мне доверие, делясь своими творческими планами.
Например, однажды он дал мне прочитать свою статью
«Парадоксальность как черта музыкальной логики Стравинского». Это была одна из многих статей, которые он
писал всего лишь как методические работы по кафедре
инструментовки. Очевидно, он не придавал им особенного значения, большинство из них при его жизни не было
опубликовано; многие из этих прекрасных работ были
извлечены из забвенья стараниями Валентины Николаевны Холоповой, разыскавшей их в читальном зале,
после чего они стали доступны в качестве своего рода
«музыковедческого самиздата», и лишь в настоящее
время они, наконец, изданы [12]. Когда я прочитала эту
блистательную статью о Стравинском1 — с ее каскадом
мыслей, отнюдь не традиционных (здесь схвачена самая суть музыкального мышления Стравинского!) и
выраженных отнюдь не академическим, но прекрасным
литературным языком, свободно и ярко, — я просто
пришла в восторг. Таких теоретических статей я тогда
не встречала, и, как начинающий теоретик, относящийся к своей миссии очень серьезно, я сказала слова, которые теперь, на временной дистанции в шесть
десятилетий, могу воспринять лишь как нахальство
и самоуверенность молодости (надо еще учесть, что
особой дистанции тогда между нами не было, даже
в возрастном плане — разница в 5 лет). Итак, я сказала:
«Альфред Гарриевич, Вам надо писать!» На что он, почти обидевшись, ответил: «Вы хотите сказать, что мне
надо перестать писать музыку?» Я была ошеломлена
и впервые задумалась над тем, какой разный смысл
1
56
Потом опубликовано: [11].
Музыкальное искусство
композитор и музыковед вкладывают в слово «писать»,
и что, на самом деле, важнее…
Бывали и комические эпизоды (ведь Альфред Гарриевич обладал большим чувством юмора). Так, однажды
он загадочно, с серьезным видом (но с веселыми искорками в глазах) сказал мне в начале урока: «Жанна,
хотите, я угощу Вас тем единственным, чего не хватает
советскому человеку?» «…?!» И протянул мне конфетку
«Птичье молоко» (тогда они только появились).
Естественно, что речь заходила и о политических
проблемах, и Альфред Гарриевич не боялся мне, студентке, прямо и остро формулировать свою позицию.
Но уже в те годы он был на редкость мудрым и терпимым — удивительное свойство характера, которое
вызывало восхищение тех, с кем он общался. И именно
он преподал мне однажды урок подобной терпимости.
Когда я с возмущением говорила об одном известном
музыковеде, который в течение своей жизни радикально
менял позицию в зависимости от позиции руководства — и конечно, с бескомпромиссностью молодости
заклеймила его, он, подумав, заметил: «Я никогда не стал
бы порицать таких, как он. Люди его поколения пережили такое, что мы себе и представить не можем. И мы
не можем судить их, так как мы не пережили этого».
О полистилистике (теоретиком и практиком, которой, как известно, считается Шнитке) я также узнала
не из доклада и не из статьи (которую спустя много
лет я же готовила к публикации в приложении к нашей с В. Н. Холоповой монографии о нем [7]). Узнала
из «первых рук» и довольно рано, поскольку какие-то
идеи рождались у Альфреда Гарриевича спонтанно,
во время занятий, и он мог их обсуждать с нами, учениками. Он говорил: «Контраст стилей может заменить
контраст тем, который в наше время теряет значение».
Полистилистика была для него средством преодолеть
кризис авангарда, который он переживал болезненно,
как свою личную проблему.
А летом 1967 года, когда мы регулярно встречались
в связи с переработкой моей курсовой в статью (каким
праздником были для меня эти встречи!), Альфред
Гарриевич на мой вопрос о том, что он сейчас сочиняет,
скромно ответил: «Всего лишь скрипичную сонату» —
и пояснил, что хотел бы в ней воплотить на практике
свою идею полистилистики. Это была Вторая соната
для скрипки и фортепиано (1968).
Удивительная аура окружала этого человека: особой
духовности, благородства, избранности и одновременно — это был человек с живым чувством юмора, теплый,
простой, «свой», к которому можно было обратиться
с любым вопросом.
Как ясно вспоминаются все детали: урок у Альфреда
Гарриевича был в субботу; это был конец насыщенной
недели, когда отступало все повседневное, и можно было
заняться чем-то важным, настоящим. Для меня это была
специальность (дипломный класс) и инструментовка. И
то и другое — в субботу. Чтобы подготовиться, я нередко
Музыкальное искусство
накануне не спала ночь. Занятия у Альфреда Гарриевича никогда не ограничивались отведенным временем.
Обычно я приходила довольно рано, показывала то, что
сделала, получала указания и садилась тут же, в классе,
переделывать. Мне доставляло особое удовольствие
работать в классе, присутствуя при других занятиях.
Студенты приходили не регулярно, и иногда никого
не было. Тогда Альфред Гарриевич садился в мягкое
удобное старинное кресло, которое удивительно шло
ко всему его облику (картина была умилительно-уют­
ная!) и погружался в дрему, очевидно, размышляя о чемто своем. Мы могли молчать подолгу, иногда я задавала
ему какой-то вопрос или он сам вдруг вспоминал что-то,
или во время занятий со студентами что-то внезапно
привлекало его внимание… Тогда он оживлялся, подходил к инструменту и тут же буквально преображался,
и потоком лились звуки, и текла речь — прекрасная
русская литературная речь, которая всегда выделяла
его среди многих его коллег (для тех, кто лично не знал
Шнитке, представление об этом могут дать Беседы
с А. Ивашкиным [1]2).
Какое это было чудесное время!
Мне представляется, что в сознании Альфреда Гарриевича я существовала как его ученица — не только
в профессиональном, но и в каком-то более высоком
смысле, когда учитель и ученики — прежде всего единомышленники. В памяти всплывают отдельные разрозненные эпизоды — почти как кадры киноленты… Слова
Альфреда Гарриевича, когда я поступила в аспирантуру
и, ввиду агрессивно-ретроспективных установок заведующего кафедрой (в то время — С. С. Григорьева) была
вынуждена сменить тему о Бартоке на тему о Моцарте
и очень переживала по этому поводу: «Ну вот, хорошо,
теперь и Моцарт будет наш…». Сцена «педагогической
ревности», когда Шнитке узнал, что я посещаю «слушание музыки» не только у него, но и у Э. В. Денисова,
позицию которого по отношению к авангарду Шнитке
в это время уже не разделял, и слова, которые меня и
удивили и растрогали: «Вы все же должны решить, с кем
Вы, какой позиции Вы придерживаетесь!»… Или осень
1967 года, поездка студентов и молодых педагогов
на фестиваль «Варшавская осень», когда до последнего дня мы не знали, едем или нет… И когда, наконец,
поезд тронулся и затем пересек границу, то все мы, как
водится, выпили на радостях — и слегка захмелевший
Альфред Гарриевич умиленно говорил: «Жанна, Вы
моя ученица»… (Тогда мне это показалось даже слегка
обидным, что он не нашел ничего другого, что бы мне
сказать, «более значительного»: подумаешь, учени-
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
ца! — мне хотелось скорее быть «взрослой». Теперь же
я вспоминаю эти слова с гордостью).
На этой ноте мне и хочется закончить свои воспоминания и закрыть эту страницу — «Годы учения»
(если воспользоваться аллюзией на Гете3). Дальше
был иной этап отношений, мои контакты с Альфредом
Гарриевичем продолжались уже в ином качестве: я
приезжала к нему домой со своими ученицами, писавшими дипломные работы о его музыке, или как один
из авторов монографии о нем, или как автор докладов,
статей о его творчестве… Но это уже другая история.
КАКИМ Я ЗНАЛА АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ
Мне немало приходилось писать о музыке Альфреда
Шнитке, которая говорит сама за себя. А вот каким он
был человеком? Об этом, наверное, знают только родные. И все-таки, каким я его помню?
Сначала молодым и красивым, с мечтательным
взглядом, обращенным внутрь себя. Очень скромным.
Феноменально скромным4. Не помню, чтобы он хоть раз
что-то плохое сказал о своих коллегах-композиторах,
как это подчас бывает. Когда я восторженно говорила
ему о его новых сочинениях, он неизменно отвечал:
«Жанна, Вы мне льстите». Меня это страшно удивляло:
зачем мне было ему льстить?
Конечно, он отнюдь не был ангелом — живой человек, нередко веселый и остроумный. При этом — мягкий,
чрезвычайно интеллигентный, доброжелательный,
в отношениях с близкими людьми — даже, пожалуй,
кроткий. Но закрытый. А что было внутри? Этого мы
не знаем. Об этом говорит его музыка.
Как вспоминала сестра Шнитке Ирина Гарриевна
Комарденкова5, нередко казалось, что Альфред жил
своей внутренней жизнью, не замечая ничего вокруг.
«На самом деле он все фиксировал и в нужный момент
всегда оказывался рядом»6.
О том, как я училась у Альфреда Гарриевича, я уже
говорила. Когда я стала преподавать, я приезжала к нему
со своими ученицами, которые писали дипломные работы о его музыке: Алевтина Казурова (ныне уже покойная) о «Реквиеме»7 и Елена Федюкова (Демидова)
о Второй симфонии. Относительно последней работы
Альфред Гарpиевич говорил, что тема ее самоубийственная: во-первых, Шнитке, во-вторых, месса (как известно,
в основу Симфонии легла григорианская месса). Однако
Лена блистательно защитила свою дипломную работу,
хотя ей и пришлось где-то «хоралы» заменить «пес-
См. также: [13].
Гёте И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера (1795–1796).
4
Иногда у меня возникает шальная мысль: как бы Альфред Гарриевич отнесся к тому почти панегирическому тону, с которым мы теперь говорим о нем? Вряд ли это бы ему понравилось.
5
Ирина Гарриевна Шнитке (Комарденкова), сестра А. Шнитке, преподаватель немецкого языка, редактор газеты «Neues
Leben» (Новая жизнь) на немецком языке. Ей принадлежит прекрасная книга воспоминаний о брате и о семье Шнитке, снабженная большим количеством фотографий [5].
6
Из личной беседы. См. также: [4].
7
Опубликованы в [3].
2
3
57
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
нопениями» — такое было время. Все, что он говорил
мне и моим ученицам о своих сочинениях (а также,
потом, когда мы с В. Н. Холоповой писали о нем книгу),
я тщательно записывала. Они, эти тетрадки, и сейчас
хранятся у меня8. Тогда еще не было принято приходить
к композитору с диктофоном (да мы бы и постеснялись
это делать). Но как я жалею, что не записывала то, что
он говорил просто в частных беседах! Хотя многое записала потом по памяти, но все же…
Вспоминаю, каких трудов стоило мне собирать ноты
сочинений А. Шнитке: что-то — то немногое, что издавалось — он дарил мне и моему мужу, В. П. Бобровскому. Что-то я ксерокопировала с рукописных партитур
композитора. А так как они обычно были большого
формата, в то время как подходящего ксерокса не было,
то ксерокопировали по полстраницы и потом склеивали — я и мои ученики. А Хоровой концерт на стихи Г. Нарекаци моя ученица, певшая в Хоре Полянского, втайне
от него скопировала и склеила из партий и подарила
мне. Эти самодельные издания (своего рода «самиздат»!)
долгое время служили материалом для моей работы,
кроме того, я давала многим коллегам, обращавшимся ко мне, для работы и ксерокопирования (а также
в Шнитке-центр на заре его зарождения)9.
Когда я вышла замуж за Виктора Петровича Бобровского, который тоже очень скоро стал поклонником
музыки Шнитке, наше общение стало общим. Альфред
Гарриевич дарил нам свои новые издания с неизменной надписью: «С благодарностью за интерес к моей
музыке» (опять скромность!). Помню то потрясение,
которое мы испытали, когда впервые услышали запись «Реквиема» на квартире Альфреда Гарриевича.
Переписав у него магнитофонную запись, мы давали
ее слушать нашим друзьям и знакомым, знакомым
знакомых и просто желающим (в основном это были
не музыканты — художники, филологи). Впечатление
было сильнейшим. Помню, как плакал литературовед
Сергей Бочаров. И в то же время в среде музыкантов,
коллег Шнитке возникала и другая реакция — недоумение. Однажды Альфред Гарpиевич позвонил нам и
задал вопрос: «Не слишком ли простая эта музыка?».
Теперь его беспокойство кажется странным, но в то
время написать тональное сочинение — для такого
композитора, как Шнитке, было шагом смелым.
Постепенно в нашей семье сложилась традиция:
приглашать молодежь — учеников Виктора Петровича и
моих. Мы слушали новые сочинения — Шнитке, Пярта и
др., после чего — обязательное застолье, споры, молодое
веселье — и душой компании был мой муж, которому
было за 60, но фактически он был так же молод, как и
мы. Так, однажды он предложил выпить за здоровье
Шнитке, и тут же было решено сообщить ему об этом.
Виктор Петрович позвонил ему, но Альфред Гарpиевич
страшно удивился (и, конечно, смутился), не поняв,
наверное, почему надо было пить за его здоровье.
Виктор Петрович и Альфред Гаpриевич испытывали чувство уважения, интереса и чисто человеческой
симпатии друг к другу. Как-то мы жили в одно время
в Доме творчества композиторов «Руза». Это было зимой,
и в Доме творчества ВТО, который находился по соседству, какие-то неизвестные художники создали ледяную
скульптуру Распятья, и все ходили туда ее смотреть.
Пошли и мы. На обратном пути Альфред Гарpиевич и
Виктор Петрович вели разговоры на философско-религиозные темы, но я, к сожалению, не слышала их,
так как ушла вперед с мамой, которая жила с нами в то
время. Это было еще до крещения Альфреда Гаpриевича,
но, конечно, его взгляды тогда уже сформировались,
о них можно судить по его высказываниям в беседах
с Александром Ивашкиным.
И последний факт контактов, уже косвенных, Бобровского и Шнитке, был связан с печально знаменитой
разгромной статьей А. Жюрайтиса в «Правду» («В защиту “Пиковой дамы”»). Незадолго до смерти, перед
тем, как лечь в больницу (из которой он уже не вышел),
Виктор Петрович написал письмо в газету с протестом
против этой статьи (конечно, оно не было опубликовано). Копию этого письма он послал композитору. После
кончины Бобровского Альфред Гарриевич звонил мне
и говорил: «Я плакал, читая это письмо».
Я уже говорила, что Альфред Гарриевич был человеком очень живым в общении, порой склонным к шутке,
чрезвычайно деятельным. Потом, после первого инсульта, образ жизни его изменился. Мы почти не виделись,
но я звонила ему. Он говорил мне, что теперь живет
иначе, от многого приходится отказываться: выставки,
встречи, даже концерты — без этого, оказывается, можно обойтись. Главное для него — продолжать сочинять,
но врачи тогда разрешали ему работать не больше часа
в день10.
Альфред Гарриевич жаловался на многочисленные
телефонные звонки, которые очень мешали ему: он был
невероятно вежливый человек и не мог прервать разговор. В этот момент я подумала, что и я тоже… Поэтому
я старалась звонить ему не часто — тогда, когда у меня
возникали какие-то вопросы. Он никогда не отказывался
В дальнейшем удалось расшифровать и опубликовать материалы бесед с А. Шнитке. См.: [2].
И как я не думала, что доживу до мирового признания Альфреда Шнитке (всегда бывшего persona non grata), так же
не могла себе представить, что возможно такое: издание Собрания сочинений композитора в нашей стране. Для меня это
просто счастье! Эта инициатива принадлежит издательству «Композитор. Санкт-Петербург» и осуществляется совместно
с Архивом Альфреда Шнитке в Голдсмитс-колледже Лондонского университета. Сочинения композитора выходят небольшими
тетрадками, распределенным по сериям (жанрам) и снабжены Предисловиями (принадлежащими Александру Васильевичу
Ивашкину — до года кончины: 1948–2014), близкому другу Шнитке, исполнителю его виолончельных произведений и автору
большого количества теоретических работ, в том числе и о Шнитке. К настоящему моменту вышло уже 42 тетради.
10
Ирина Гарриевна рассказала мне о таком эпизоде. Она читала книгу, не особенно серьезную, но интересную для нее и
спросила брата, читал ли он ее. «Я не могу позволить себе читать такие вещи», — ответил он.
8
9
58
Музыкальное искусство
Музыкальное искусство
отвечать на них.
Помню, мне была заказана аннотация к исполнению
его Фортепианного концерта (это было в 1980 году —
еще до инсульта), и Альфред Гарриевич по телефону
рассказал мне о его строении (не только форма, но и
гармония!), при этом употребляя специальные музыковедческие термины (но ведь он был автором многих блистательных статей!) — например, загадочный для меня
«аккорд № 1 из учебника Холопова»11. Позднее, когда он
уже перенес инсульт, я, работая над главой о Хоровом
концерте (для совместной с В. Н. Холоповой книги),
как-то позвонила ему из диспетчерской Музыкального
училища, где тогда работала, позвонила, не надеясь,
что он ответит на мои вопросы, но он начал говорить
о замысле сочинения, и я срочно на обрывке бумаги
записывала за ним слова, которые были для меня бесценными. И сейчас, перечитывая эти строки, я испытываю особое чувство прикосновения к тайне творчества:
«Я написал ту музыку, которую вызвал этот текст, а
не ту, которую хотел сам»; «каждая деталь подсказана
смыслом, акцентировкой и еще чем-то, о чем говорить
я не имею права» [10, с. 90, 92].
И, наконец, его последние годы. Для нас они начались,
когда он уехал в Гамбург, и непосредственно с ним общаться уже было невозможно. Его нам очень не хватало.
Ведь, действительно, для нашего поколения Шнитке то
же самое, что для предшествующего — Шостакович. Это
наш композитор. Как-то я написала ему в Гамбург о том,
как его любят и ценят в России, что значат для всех
нас — как раньше, так и теперь — премьеры его сочинений. В том письме я написала о том, что чувствовали
тогда многие.
И Альфред Гарриевич, уехав в Германию, не терял
внутренней связи с Россией, пока мог, продолжал приезжать на премьеры своих сочинений. Когда я его увидела в первый раз после перерыва, уже пережившего
следующий инсульт, это был другой человек! Длинные
волосы, изможденное лицо мученика — он напоминал
Христа. Но по-прежнему он был открыт контактам и
ласково улыбался людям, которые приходили к нему
за кулисы.
Я не сомневалась, что он не обратил внимания на мое
письмо и не помнит о нем. Но увидев меня еще в зрительном зале, он встал и сказал: «Спасибо за те слова,
которые Вы мне написали». Это была наша последняя
встреча.
Впрочем, была еще одна встреча — мистическая: уже
после смерти Альфреда Гарриевича я увидела его во сне,
и он сообщил мне о замысле новой, Десятой симфонии
(! — был ли такой замысел на самом деле?): «Тогда стала
бы ясна общая концепция творчества», — и добавил:
«Безусловно, трагическая». Тогда я решила написать
книгу о нем [10] — я подумала, что это мой долг.
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
фреда Гарpиевича. Здесь я использую свои записки,
сделанные на следующий день после похорон12, они
носят характер документальный (но, конечно, и предельно эмоциональный).
ПОХОРОНЫ АЛЬФРЕДА ГАРPИЕВИЧА ШНИТКЕ
Весть о смерти Альфреда Гарpиевича застигла меня
врасплох: ведь как ни готовишь себя к мысли о кончине
тяжело больного человека, всегда это неожиданность,
удар. Это случилось 3 августа 1998 года. А через неделю — похороны в Москве. Так А. Шнитке вернулся домой,
в Россию, с которой он никогда не хотел порывать, и
куда, пока были силы, приезжал на премьеры своих сочинений (а когда уже не мог приехать сам, приезжала жена,
Ирина Шнитке, которая говорила о том, как он хотел
бы быть сейчас здесь, в Большом зале консерватории).
И вот 10 августа 1998 года он опять, в последний раз,
в Большом зале консерватории. Гражданская панихида.
Мне никогда не забыть этот день: похороны Шнитке
продолжались с 10 утра до 16.30 и все это время — масса
людей и музыка.
10.30. Я вхожу в партер Большого зала. Откуда-то
издалека, приглушенно доносится музыка: «Траурный марш» из «Гибели богов» Р. Вагнера. Я подхожу
со своим букетом (девушка, продавщица цветов, узнав
о том, что это — на похороны Шнитке, готова была
отдать мне букет бесплатно), поднимаюсь по ступеням
и останавливаюсь перед гробом. «Гибель богов» — и
его лицо. Немецкий мощный дух, интеллект и русская
боль, страдание. Сколько я его не видела? — несколько
лет. Пожалуй, он почти не изменился — только волосы
совсем седые. Лицо спокойное, значительное, красивое.
Он всегда был красив, но сейчас это какая-то особенная
духовная красота и свет. Стою в почетном карауле и
мысленно как бы отчитываюсь перед ним (фото 1). Кто
был для меня Альфред Шнитке? Учитель — в самом
Фото 1. Гражданская панихида Альфреда Гарриевича
Шнитке в Большом зале Московской консерватории
В заключение я хочу вспомнить о похоронах Аль-
А тогда еще не были опубликованы учебник по гармонии и «Теоретический курс гармонии» Ю. Н. Холопова, следовательно, он имел в виду «Очерки современной гармонии» [6], которые, очевидно, основательно проштудировал!
12
В более полном виде эти впечатления отражены в первом выпуске «Альфреду Шнитке посвящается» (см.: [9]).
11
59
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
высоком смысле этого слова. Не знаю, научил ли он меня
инструментовке, но никогда не забуду наших доверительных бесед — о музыке, в том числе современной,
о Достоевском, об общественной и политической ситуации тех лет и многом другом. И важнее тех школьных
знаний, которые он должен был нам преподать, было
то, что в его классе всегда звучала музыка13.
Вся творческая эволюция Альфреда Шнитке прошла как бы на моих глазах. Его внезапный поворот
от авангарда к «новой простоте» в середине 70-х, и
как символ этого рубежа — «Реквием» (1975). А после
«тихого» периода — полистилистика, «синтез стилей»,
поздний стиль…
На гражданской панихиде в Большом зале тоже звучал Реквием — через 23 года. Музыки вообще было
много — прежде всего, музыки Шнитке — отрывки
из его хоровых концертов, духовных сочинений, но
также — Баха, Моцарта… А в конце хор Полянского
исполнил еще раз первый хор из Реквиема — Requiem
aeternam. Вечный покой. Как сказал кто-то в толпе,
потом, на кладбище: «Отмучался и за себя и за нас».
Отпевали Альфреда Гарриевича в церкви Иоанна
Воина на Якиманке. Из надгробного слова отца Николая
Ведерникова, духовника Шнитке: «Мы познакомились
с Альфредом лет 20 назад. Когда он пришел ко мне,
я сразу принял его душу в свою. Мы виделись с ним
не часто — раз в полгода, иногда чаще. Он приходил
ко мне, чтобы исповедоваться и причащаться. Он относился к этому очень серьезно. Это не была формальная
исповедь, перечень грехов, но всегда размышление,
сожаление о том, что он не сделал того, что надо было
бы сделать. Альфред был человеком очень чуткой совести, глубоко верующим христианином, любящим Бога».
И, наконец, последний этап — Новодевичье кладбище. Незабываемая картина — весь путь от входа до могилы усеян цветами. Мы идем, стараясь не наступать
на них, а впереди плывет портрет, потом — над головами — гроб, и люди, люди, люди… Большинство мне
не знакомо, я не вижу здесь многих из нашего круга
(лето!) и наоборот, встречаю тех, кого знала еще в те —
60–70‑е годы и кто сейчас живет в других странах. Сколько людей! Кто они? Лица — знакомые и незнакомые,
но все они кажутся родными. Некоторые — в слезах,
Музыкальное искусство
со светящимися глазами. Большинство — мои ровесники или старше меня (хотя много молодых). И мне
кажется, что мы хороним сейчас не просто любимого
композитора, но целую эпоху — эпоху 60–70-х, когда
правду говорило только искусство и в первую очередь
«невербальное искусство» — музыка. И когда, тем не менее, градус напряжения внутренней духовной жизни
был намного выше, чем сейчас! Шнитке — наш гений,
который сказал о нашем времени, нашем поколении так
же пронзительно и трагично, как Шостакович — о своем.
Подходим к могиле, стоим вокруг в молчании. Музыка больше не звучит. Последний раз она звучала,
когда выносили гроб из Консерватории: во дворе играл
духовой оркестр (и эта музыкальная реалия творчества
Шнитке не была забыта и оказалась очень уместной —
вспомним Первую симфонию с ее коллажем траурных
маршей или «Ревизскую сказку»!). А в храме, во время
отпевания, пел церковный хор, и после возможно было
только молчание.
Что-то происходило с природой в этот день. Все
время — дождь, он лил всю ночь и ранним утром. В середине дня (в это время мы входили в храм) выглянуло
солнце. А когда опускали гроб в могилу (было 16 час.
20 мин.), загремел гром! Хотя грозы и не было, но дважды — раскаты грома.
После похорон возвращаемся той же дорогой. Идущая рядом со мной В. Н. Холопова говорит: «Нет, таких
похорон больше не будет. Мы присутствуем при историческом событии». Что ж, действительно. Закончилась
целая эпоха — эпоха Шнитке.
+++
Когда умирает человек, уходит из жизни целый мир,
который он заключал в себе. Все изгибы его жизни, все
противоречия перестают что-либо значить. Прожитая
жизнь предстает перед нами одномоментно, как единое целое. И тогда, по выражению В. П. Бобровского,
явственно проступает «основной тон» личности. Каков
он — этот тон? Светлый и щемящий, пронизывающий
насквозь, острый, — трагический и прекрасный. Таким
я вижу и слышу Шнитке.
Литература
1. Беседы с Альфредом Шнитке. М.: Классика-XXI, 2003.
315 с.
2. Из архива Е. И. Чигаревой // Альфред Шнитке: На пересечении прошлого и будущего: сб. статей / Ред.-сост. Е. И. Чигарева. М.: Московская консерватория, 2017 С. 212–216.
3. Казурова А. Реквием А. Шнитке. Композиция. Драматургия. Музыкальный язык // Альфреду Шнитке посвящается. Вып. 1. М.: МГИМ им. А. Шнитке, 1999. С. 129–143.
4. Комарденкова-Шнитке И. Мой старший брат // Альфреду Шнитке посвящается. Вып. 3. М.: «Композитор», 2003.
5. Комарденкова-Шнитке И. Г. По страницам семейного
13
60
Об этом см.: [8].
альбома А. Г. Шнитке. М.: МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2003. 88 с.
6. Холопов Ю. Н. Очерки современной гармонии. М.: Музыка, 1974. 286 с.
7. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. Очерк жизни
и творчества. М.: «Советский композитор», 1990. 350 с.
8. Чигарева Е. Годы учения у Альфреда Гарриевича Шнитке // Альфреду Шнитке посвящается. Вып. 3. М.: «Композитор», 2003. С. 240–246.
9. Чигарева Е. Памяти Альфреда Шнитке // Альфреду
Шнитке посвящается. Вып. 1. М.: МГИМ им. А. Шнитке, 1999.
С. 192–198.
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
10. Чигарева Е. Художественный мир Альфреда Шнитке. Очерки. СПб.: Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 2012. 368 с.
11. Шнитке А. Парадоксальность как черта музыкальной
логики Стравинского // Шнитке А. Статьи о музыке. М.: Из-
дательский дом «Композитор», 2004. С. 124–146.
12. Шнитке А. Статьи о музыке. М.: Издательский дом
«Композитор», 2004. 408 с.
13. Шульгин Д. И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке
(Беседы с композитором). М.: «Деловая Лига», 1993. 110 с.
References
1. Besedy s Alfredom Shnitke [Conversations with Alfred
Schnittke]. M.: Klassika-XXI, 2003. 315 p.
2. Iz arhiva E. I. Chigarevoj [From the archive of E. I. Chigareva] // Alfred Shnitke: Na peresechenii proshlogo i budushhego
[Alfred Schnittke: At the intersection of the past and the future].
Sb. statej. Red.-sost. E. I. Chigareva. M.: Moskovskaya konservatoriya, 2017 P. 212–216.
3. Kazurova A. Rekviem A. Shnitke. Kompozitsiya. Dramaturgiya. Muzykalny yazyk [Requiem by A. Schnittke. The composition. Drama. Musical language] // Alfredu Shnitke posvyashchaetsya [Dedicated to Alfred Schnittke]. Vyp. 1. M.: MGIM
im. A. Shnitke, 1999. P. 129–143.
4. Komardenkova-Shnitke I. Moj starshij brat [My elder brother] // Alfredu Shnitke posvyashhaetsya [Dedicated to Alfred
Schnittke]. Vyp. 3. M.: «Kompozitor», 2003.
5. Komardenkova-Shnitke I. G. Po stranitsam semejnogo alboma A. G. Shnitke [Looking through the pages of the family album
of A. G. Schnittke]. M.: MGIM im. A. G. Shnitke, 2003. 88 p.
6. Holopov Yu. N. Ocherki sovremennoj garmonii [Essays
on Modern Harmony]. M.: Muzyka, 1974. 286 p.
7. Holopova V., Chigareva E. Alfred Shnitke. Ocherk zhizni i
tvorchestva [Alfred Schnittke. An essay on life and creativity]. M.:
«Sovetskij kompozitor», 1990. 350 p.
8. Chigareva E. Gody ucheniya u Alfreda Garrievicha Shnitke
[The years of study with Alfred Harrievich Schnittke] // Alfredu
Shnitke posvyashhaetsya [Dedicated to Alfred Schnittke]. Vyp. 3.
M.: «Kompozitor», 2003. P. 240–246.
9. Chigareva E. Pamyati Alfreda Shnitke [In memory of Alfred
Schnittke] // Alfredu Shnitke posvyashhaetsya [Dedicated to Alfred Schnittke]. Vyp. 1. M.: MGIM im. A. Shnitke, 1999. P. 192–
198.
10. Chigareva E. Hudozhestvenny mir Alfreda Shnitke. Ocherki [The artistic world of Alfred Schnittke. Essays]. SPb.: Izdatel`stvo «Kompozitor. Sankt-Peterburg», 2012. 368 p.
11. Shnitke A. Paradoksalnost kak cherta muzykalnoj logiki
Stravinskogo [Paradoxicality as a feature of Stravinsky's musical
logic] // Shnitke A. Stat`i o muzyke [Articles about music]. M.: Izdatel`skij dom «Kompozitor», 2004. P. 124–146.
12. Shnitke A. Stat`i o muzyke [Articles about music]. M.: Izdatel`skij dom «Kompozitor», 2004. 408 p.
13. Shulgin D. I. Gody neizvestnosti Alfreda Shnitke (Besedy
s kompozitorom) [The Years of Obscurity by Alfred Schnittke
(Conversations with the composer)]. M.: «Delovaya Liga», 1993.
110 p.
Информация об авторе
Information about the author
Евгения Ивановна Чигарева
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»
Москва, Россия
Evgeniya Ivanovna Chigareva
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow State Tchaikovsky Conservatory»
Moscow, Russia
61
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-62-70
Шабшаевич Елена Марковна, доктор искусствоведения, профессор кафедры философии, истории, теории
культуры и искусства Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке
Shabshaevich Elena Markovna, Dr. Sci. (Arts), Professor at the Department of Philosophy, History, Theory of Culture
and Art of the Moscow State Institute of Music named after A. G. Schnittke
E-mail: shabsh@yandex.ru
РОЛЬ ОДНОГО МОТИВА В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ, ИЛИ AIMEZ-VOUS BRAHMS
Статья предлагает семантический и музыкально-исторический анализ распространённого в музыке Альфреда Шнитке
музыкального элемента: мотива опевания на основе мордента/группетто с последующим скачком, который развивается
по типу развертывания, чаще всего с помощью секвенции с расширяющимся интервалом скачка в звене. Прослеживаются варианты образного наполнения и систематизируется веер семантических значений данной лексемы в музыке барокко
и классико-романтического периода. Выдвигается гипотеза о причинах доминирования ее в творчестве Шнитке преимущественно в качестве характеристики «банального», пошлого, а именно: распространение этой лексемы в танцевальной
музыке довоенного периода, в особенности в танго, которое поколением Шнитке, чья юность пришлась на 1950-е годы,
воспринималось скорее негативно. В то же время констатируется факт, что вне жанра танго та же лексема у Шнитке звучит
скорее ностальгически, как символ утраченной красоты. Отмечаются примеры использования данной лексемы в совокупности с принципом развертывания у Брамса. В соединении бытового и бытийного, в умении использовать «низкие» элементы
в высоком стиле также обозначаются параллели с Брамсом. В заключение делается вывод о том, что амбивалентность восприятия рассматриваемой лексемы в музыке Шнитке объясняется его мучительными метаниями между E-Musik и U-Musik,
а также эстетической предустановкой: сдержанностью по отношению к романтическому пафосу — одновременно с лирическим дарованием и тонким чувством прекрасного в жизни и в искусстве.
Ключевые слова: Альфред Шнитке, Иоганнес Брамс, лексема, семантика, E-Musik и U-Musik.
THE ROLE OF ONE MOTIVE IN THE WORKS OF ALFRED SCHNITTKE, OR AIMEZ-VOUS BRAHMS
The article offers a semantic and musical-historical analysis of a musical element common to the works of Alfred Schnittke: the motif based on a mordent/gruppetto followed by a leap. This motif develops according to the Fortspinnung principle, most often with
the help of a sequence that features an expanding interval in the leap. Variants of figurative content are traced, and a range of semantic
meanings of this lexeme in the music of the Baroque and Classical-Romantic periods is systematized. A hypothesis is put forward regarding the reasons for its predominance in Schnittke's work, primarily as a characteristic of the «banal» and «vulgar». This predominance is linked to the spread of this lexeme in the dance music of the 1930s, especially in tango, which was perceived rather negatively
by Schnittke's generation, whose youth occurred in the 1950s. At the same time, it is noted that outside the genre of tango, the same
lexeme in Schnittke’s music conveys a sense of nostalgia, serving as a symbol of lost beauty. Examples of the use of this lexeme in conjunction with the principle of unfolding in Brahms are also mentioned. In the intersection of the everyday and the existential, along
with the ability to utilize «low» elements in a high style, parallels with Brahms are indicated. In conclusion, it is asserted that the ambivalence in the perception of the lexeme in question within Schnittke's music is explained by his painful oscillation between E-Musik
and U-Musik, as well as by an aesthetic pre-disposition: a restraint towards romantic pathos combined with lyrical talent and a subtle
sense of beauty in life and art.
Key words: Alfred Schnittke, Johannes Brahms, musical lexeme, semantics, E-Musik and U-Musik.
62
Введение
Несколько публицистический заголовок статьи мы
позволили себе, исходя из эпохи, когда творил наш
герой, великий композитор второй половины XX века
Альфред Шнитке — эпохи постмодернизма. Знатоки
сразу опознают в заголовке две цитаты, взятые из названий хрестоматийной статьи А. Н. Серова, 1859 года
(«Роль одного мотива в целой опере Глинки “Жизнь
за царя”») и культового романа Франсуазы Саган, вышедшего в свет ровно сто лет спустя.
Красивая по округлости цифр перекличка времен
источников цитат в данном случае, конечно, имеет значение: она вполне вписывается в полистилистический
метод Шнитке. Но главное — в них очерчивается тема
данной статьи, которая располагается в нескольких
проблемных плоскостях. Прежде всего, это семантика:
установление условий применения и веера значений
весьма важных для произведений Альфреда Шнитке музыкальных элементов. Во-вторых, это историко-стилевой анализ: выявление связей музыки Шнитке
с традицией прошлого и настоящего. И в-третьих, это
этико-эстетическая парадигма творчества Шнитке,
которая, как мы предполагаем обосновать, в чем-то
существенном перекликается с брамсовской.
Методологической базой статьи послужили исследования отечественных и зарубежных музыковедов,
связанные с семиотическим и интертекстуальным подходом к музыке. Особо отметим работы Е. И. Чигаревой,
посвященные именно творчеству Шнитке (монография
совместно с В. Н. Холоповой [12], и статьи разных лет,
собранные в одном издании «Художественный мир
Альфреда Шнитке» [16], в которых Евгения Ивановна
Музыкальное искусство
убедительно доказывает одновременно связь музыки
Шнитке с мировым музыкальным наследием и своеобразие его вклада в это наследие. Перспективная установка
прочитать музыку Шнитке как единый текст, которую
выдвинула в качестве своей основной задачи Е. И. Чигарева и достигла в этом впечатляющих результатов,
двигала и автором данной статьи в скромной попытке
уяснить только одну крошечную единицу этого великого полотна.
Основная часть
Исследованию подвергается определенный интонационный элемент, лексема1, и способ его развития, которые соотносятся по принципу «ядра и развертывания».
1) «Ядро» — это интонация опевания.
Генезис этой лексемы — мордент и группетто, то
есть мелодическое украшение, состоящее из разных
комбинаций основного, верхнего и нижнего вспомогательных звуков. Встречается также более развернутая
интонация опевания, затрагивающая не только соседние
ноты. В сочинениях Шнитке эта лексема представлена
преимущественно с последующим скачком.
2) Распространённый в музыке, особенно в эпоху
барокко, тип развития — по типу прелюдийного развертывания2, чаще всего это секвенция из короткого мотива, нередко — с расширяющимся интервалом в ячейке.
Бытование этих элементов в музыке А. Г. Шнитке
широко и разнообразно. Не удивительно, что их уже
отмечали исследователи. Так, в статье «О некоторых
принципах структурирования музыкального тематизма
в музыке кино» Т. Ф. Шак и О. В. Матич [18] выделяют
«инварианты» музыкального языка, которые в музыке
Шнитке иногда приобретают статус «интонационных
формул»; среди четырех ими выделенных — два интересующих нас.
Однако авторы данной статьи, во-первых, дифференцируют интонации опевания только по тому, с какой
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
ноты начинается опевание и ритмическому фактору,
не обращая внимания на наличие последующего скачка,
который, на наш взгляд, существенно меняет восприятие
лексемы, а во-вторых, не устанавливают связи между
мотивом опевания и способом его развития, как уже
говорилось, часто основанном на секвентном принципе. И, самое главное, в приведенной статье не ставится
задача семантического анализа.
Восполним обозначенную исследовательскую лакуну
и рассмотрим эти элементы в создавшей им определенное облако смыслов исторической ретроспективе, а также в контексте использования их у Шнитке.
(Примеры из музыки Шнитке специально взяты самые
популярные).
В музыке разных эпох опевание с последующим скачком встречается в многообразных смысловых значениях.
Приведу примеры из музыки Баха, которого Шнитке
считал «далеким, недостижимым идеалом», «центром»,
«солнцем, которое светит в разные стороны» [5, с. 36].
У Баха эту лексему можно встретить в разных образных наполнениях: героическом (фуга ре мажор, I том
ХТК); изящно-танцевальном (фуга До-диез мажор, I том
ХТК), песенно-лирическом (фуга ре минор, I том ХТК),
патетически-трагическом (Фантазия и фуга соль минор
BWV 542, 2-й раздел Фантазии).
Во всех приведенных примерах образное воздействие лексемы связано с «накоплением» энергии и ее
последующим «выбросом». В отличие от стандартного
украшения, которое призвано орнаментировать главный звук, или от каденционного оборота, в котором
неустойчивый звук тяготеет в близлежащий устойчивый, налицо нарушение стереотипа. Семантически это
очень важный пункт: в случае с восходящим скачком
эмоция сопровождается усилением напряжения, в случае
нисходящего — его ослаблением. В качестве последнего приведем лирический, даже жалобный вариант
1
Для «кочующих» элементов музыкальной речи, которые можно рассмотреть как «знак», отечественное музыковедение
выработало целый ряд терминов, в принципе синонимичных, но имеющих разные оттенки: «ходячая формула», «интонационный
типаж» «интонация» (Б. Асафьев [2] и далее вслед — протоинтонация, интонация у В. В. Медушевского [10], В. Н. Холоповой [13]),
«лексема» (М. Г. Арановский [1], В. Н. Холопова [13], И. А. Барсова [3]), «семантическая фигура» (Е. И. Чигарева [15]) «мигрирующая интонационная формула» (Л. Н. Шаймухаметова [17]) и некоторые другие. Мы пользуемся наиболее конвенциональным
словосочетанием «[музыкальная] лексема» (М. Г. Арановский, В. Н. Холопова, И. А. Барсова) — структурно-семантическая единица, под которой подразумевается «выразительно-смысловое единство, существующее в невербально-звуковом выражении,
функционирующее при участии музыкального опыта и внемузыкальных ассоциаций» [13, с. 58]. Знаковыми функциями мы,
следуя также подходу А. Ю. Кудряшова, будем наделять «самый широкий круг музыкальных явлений: и намеренно артикулируемый звук, отделенный от последующих длительной паузой, — звук-мотив, <…> и аккорд-мотив, <…> и последовательность
звуков, образующих мотив, фразу, период, главную или побочную партию сонатной формы, и так называемый “характеристический фактурный голос или пласт” <…> и тембр <…> и всегда отчетливо узнаваемые отраженные в произведении бытовые
жанры, <…> и стили, <…> и даже весь текст, конечно, при условии его осмысленного единовременного соотношения с иными
текстами или реальной действительностью» [8, с. 21].
2
Употребление термина «развертывание» в последнее время подвергается интенсивной научной дискуссии. Согласно
Т. С. Кюрегян, которая предприняла основательный обзор существующих концепций, выделяются два значения этого слова:
1) как барочная структура (ядро — развертывание — каденция), 2) как принцип развития, сущностными чертами которого
являются «звуковая однородность, плавность переходов (к слегка иному состоянию, ощутимому на расстоянии, но трудноуловимому в каждый отдельный момент), неизмеримость или безразмерность дления (допускающего вариативность
“короче — длиннее”), функциональное подобие (без противопоставления выраженных контрастных функций типа “изложение — развитие”), статичное пребывание в заданном качестве, а не устремленность к цели» [9, с. 91]. В рассматриваемых
нами случаях у Шнитке почти все примеры ядра и развертывания будут облечены в форму периода из двух предложений
с ясными каденциями, но сам принцип развития внутри предложений будет основан именно на развертывании. Структурная
четкость, как нам кажется, определяется песенно-танцевальной жанровой основой.
63
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
с нисходящим скачком, в котором намечается его же
секвентное развитие (прим. 1).
Пример 1. И. С. Бах. Месса си минор. Qui sedes
Музыкальное искусство
не таком чувственном, более идеально-возвышенном,
символическом варианте этот мотив можно встретить
у А. Н. Скрябина, он составляет типичный тезаурус его
«тем мечты», как, например, главная партия I части
Сонаты № 4 ор. 30.
Опевание с нисходящим скачком, близкое «Qui sedes»
Баха, часто встречается в музыке Брамса, с характерным
для нее элегическим, печальным оттенком. Здесь, как и
у Баха, явно проступает генезис колыбельной (прим. 3).
Пример 3. И. Брамс. Интермеццо ор. 76 № 7
Секвентное развитие, в том числе основанное на расширяющемся скачке в звене секвенции, создающем
скрытое двухголосие, само по себе — расхожий оборот
эпохи барокко; можно вспомнить основную тему I части
Клавирного концерта ре минор или IV часть «Зимы»
из «Времен года» А. Вивальди.
Но иногда вышеописанное ядро и тип развития совмещаются: ячейка в виде опевания становится звеном
секвенции, в процессе ее изложения интервал скачка
увеличивается (прим. 2). В данном случае скачок заполняется, что несколько сглаживает «острое» семантическое значение такого рода оборотов, но зато это
компенсируется планомерностью и неуклонностью
развертывания.
Пример 2. И. С. Бах. Итальянский концерт, I часть,
эпизод
Теперь обратимся к спектру значений этой лексемы
в разных ее вариантах у Шнитке.
Каденционный оборот является одним из важнейших лейтмотивов Альтового концерта (прим. 4). Его
семантическое наполнение разнообразно: в I части, где
скачка после опевания нет — это квазиклассическая каденция, приобретающая в финале Концерта символику
темы смерти, в эпизоде II части — квазиромантическая
«красивая» тема, которую Шнитке, как известно, считал
«сладкой гадостью» [4, с. 148–149].
Пример 4. А. Г. Шнитке. Концерт для альта с оркестром
В музыке классико-романтической эпохи подобное
секвентное развертывание не так часто встречается. Что
касается мотива опевания, то он скорее всего встроен
в развитие или кадансирование — и применяется именно как украшение, способствующее усилению экспрессии
начального мотива. Преимущественно это лирические
эпизоды — такие, как II часть Концерта для фортепиано
с оркестром ля мажор № 23 KV 488 В. А. Моцарта, Каватина Нормы В. Беллини, Ноктюрн ми-бемоль мажор
ор. 9 № 2 Ф. Шопена. Выделение этой лексемы как самостоятельной, имеющей отчетливо выраженный чувственный оттенок видим во 2-й теме заключительного
монолога Изольды в «Тристане» Вагнера; примечательно, что она развивается секвентно. Немного в другом,
64
Оборот с опеванием и последующим нисходящим
скачком взят из мультфильма «Бабочка». Его вторая
половина с, собственно, каденционным оборотом звучит
Музыкальное искусство
в Concerto grosso № 1 перед и после V части — Рондо. Его
смысл — безапеляционное роковое утверждение — как
и в Альтовом концерте. Первая половина темы из «Бабочки» с нисходящим мотивом появляется в рефрене
Рондо, а также «танго»-эпизоде в этой части (он же —
танго из кинофильма «Агония») (прим. 5–7).
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Пример 8. А. Г. Шнитке. «Гоголь-сюита». Часть «Бал»
Пример 5. А. Г. Шнитке. Тема из мультфильма «Бабочка»
Пример 6. А. Г. Шнитке. Concerto grosso № 1, V часть,
Рондо, рефрен
Пример 7. А. Г. Шнитке. Танго из V части Concerto
grosso № 1
Опевание с восходящим скачком также встречается
в разнообразных вариантах.
В «Гоголь-сюите» тема сначала звучит в жанре мазурки, потом танго (прим. 8); обратим внимание, что мотивное ядро повторяется в обращении; зеркальность и
механистичность характерны для негативных образов
Шнитке.
В «Ложном утешении» из «Фауст-кантаты» (прим. 9)
квазибельканто создает аллюзии одновременно на любовные дуэты опер барокко (благодаря тембрам мец-
Пример 9. «Фауст-кантата». «Ложное утешение»
(Мефистофель, Мефистофелла)
цо-сопрано и контратенора) и романтизма (в частности,
Беллини).
Большинство приведенных выше примеров представляют у Шнитке категорию банального, которое то
рядится в маску, то проявляет свое подлинное лицо.
Следуя непосредственным ощущениям, а также соответствующим комментариям самого композитора почти
все исследователи так это и трактуют.
Многие музыковедческие тезисы по этому поводу
65
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
критически рассматривает Игорь Вадимович Кондаков
в статье «“Встреча с адом и одновременно с раем” (философия Альфреда Шнитке)» [7, с. 197, 200–201]. Нам
близка позиция автора о нравственно-эстетической
амбивалентности подобных образов у композитора,
которую он обосновывает задуманным Шнитке диалогом между массовой и элитарной культурами, приводя
в доказательство фрагмент из заметок Шнитке о Первом
Concerto grosso: «Меня осенило: задача моей жизни —
это преодоление разрыва между “E” и “U” (”E” (Ernst) —
серьезная музыка, “U” (Unterhaltung) — развлекательная
музыка. — Прим. А. Шнитке), даже если я при этом сломаю себе шею. Мне мерещится утопия единого стиля,
где фрагменты “E” и “U” представляются не шуточными
вкраплениями, а элементами многообразной музыкальной реальности; элементы, которые в своем выражении
реальны, хотя ими можно и манипулировать — будь то
джаз, поп, рок или серия» (цит. по: [7, с. 197]).
Главными носителями пошлого, вульгарного у Шнитке выступают, по конвенциональному мнению, танцевальные жанры, обычно танго и вальс. Попробуем
выяснить, почему композитор относился к этим жанрам
именно таким образом, сосредоточившись на танго.
Во времена юности и молодости Шнитке (1950–
1960‑е годы) на открытых площадках, в кинозалах,
из домашних патефонов (многие записи были, особенно
в случае эмигрантских песен, коих было большинство, —
«на ребрах») звучала довоенная популярная музыка,
флагманом которой было как раз танго. Проведем небольшую реконструкцию и попробуем представить,
какие танго слышал Шнитке в 1940–1950-х годах. Вот некоторые особо популярные образцы: «El Choclo» (1903)
Анхеля Вильольдо (один из популярных в СССР вариантов подтекстовки — «На Дерибасовской открылася
пивная»); «Утомленное солнце», слова Иосифа Альвека на музыку танго Ежи Петерсбургского «Последнее
воскресенье» («To ostatnia nedziela», 1935 или 1936),
впервые в СССР было исполнено в 1937 и тогда же записано на пластинку в исполнении джазового оркестра
Александра Цфасмана и его постоянного солиста Павла
Михайлова [6]. Цфасман и его оркестр также играли
танго «Пальмовая роща», «Случайная встреча», «Тебя
здесь нет», «Мне бесконечно жаль». Также повсеместно
звучало танго «Магнолия» Александра Вертинского,
несколько танго в исполнении Петра Лещенко («Здесь
под небом чужим»; «Татьяна-танго»). В 1950-е также
были популярны танго в исполнении Вадима Козина:
«Осень», «Забытое танго».
Обратим внимание, что большинство этих сочинений пелось эмигрантами разных поколений, и это было
своего рода их ностальгией по прошлому, по утраченной
юности, по утраченной стране; после кровопролитной
страшной войны это утопическое прошлое вроде бы
даже казалось еще более притягательным…
Но молодым поколением эта музыка воспринималась как устаревшая — в противовес набиравшему силу
буги-вуги, рок-н-роллу и прочим новым направлениям 1950–1960-х годов. Таким образом, в восприятии
молодежи это была пошлость, окрашенная вдобавок
старомодностью.
Еще один оттенок смысла танго оказался вновь актуальным в 1970-е, когда Шнитке вступил в пору зрелости:
сдержанная страсть, элегантность — все то, что отсутствовало в идеологизированном советском пространстве и символизировало приобщение советских людей
к «красивой жизни». Вспомним, что в любимом виде
спорта в советском обществе эпохи застоя — фигурном
катании — кумиры публики победители Олимпийских
игр 1976 года Людмила Пахомова и Александр Горшков
в танцах на льду исполняли «Кумпарситу». Оригинальную и смешную пародию можно было видеть в танце
Волка с Зайцем из мультфильма «Ну погоди»). Пародийная трактовка танго присутствовала также в фильмах
«12 стульев» (1971, режиссер Л. Гайдай; 1976, режиссер
М. Захаров). На эту популярную культуру масс интеллектуалы 1970-х, ходившие на Таганку и в «Современник»,
смотревшие фильмы А. Тарковского, читавшие «Новый
мир» (и в их числе был, конечно, Шнитке) не могли
смотреть без насмешки, но ирония эта была высшего
качества: выражаясь словами автора слов «Жестокого
танго» Ю. Кима, «оцените красоту игры»!
Многое связывает танго и с темой смерти: это танец — смертельная схватка, прежде всего в метафорическом, но отчасти и в прямом смысле слова3. Трактовку
танго как танца смерти в отечественной академической
музыке мы, видимо, впервые встречаем в произведении
Николая Каретникова «Мистерия апостола Павла»: Нерон под звуки танго кончает с собой. Это произведение
было известно Альфреду Шнитке4.
Теперь, когда мы очертили тот семантический ареал,
в котором находится шнитковское восприятие танго,
приблизим нашу оптику и посмотрим, какие интонационные модели могли быть им отобраны в качестве
предтекста, сосредоточившись именно на образцах
лексемы-ядра, часто сопровождаемой секвентным развертыванием с расширяющейся интерваликой, которую
мы рассматриваем (прим. 10, 11).
Общий источник — цыганско-еврейский фольклор
юго-восточной Европы (Венгрия, Бессарабия, Румыния,
Польша, Украина), архетипичные образцы которого
можно видеть в Чардаше В. Монти. Эти же элементы
встречаем в «Венгерских танцах» И. Брамса (прим. 12,
13).
Если с танцевальной жанровой «оберткой» смысл
образов, использующих изучаемую лексему, у Шнитке более-менее ясен, то вне танцевального контекста
дело обстоит намного сложнее, их понимание особо
многозначно. Можно выделить два основных оттенка.
Поначалу танго танцевали только мужчины — посетители лупанариев, как бы в поединке за понравившуюся женщину.
Обычно про танец смерти говорят также по отношению к ленте «Последнее танго в Париже» Б. Бертолуччи (1972). Т. Сергеева [11] пишет, что танго там — лишь метафора. Но в фильме есть танго композитора Гато Барбьери, правда, оно не очень
колоритное и запоминающееся.
3
4
66
Музыкальное искусство
Музыкальное искусство
Пример 10. Х. Э. М. Родригес — Р. Фирпо. «Кумпарсита»
Пример 11. А. Цфасман. «Случайная встреча»
Пример 12. И. Брамс. Венгерский танец № 2 ре минор
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
вого концерта «символом музыкальной красоты целых
столетий» (цит. по: [7, с. 201]).
Схожей семантикой обладает, на наш взгляд, и построенная на секвентном развитии мотива опевания
с нисходящим скачком тема Орландо из «Сказки странствий» (прим. 14), а также прекраснейшая романтическая тема из анимационной трилогии по рисункам
А. С. Пушкина, которую Шнитке и Хржановский называли… «брамсовской»5 (прим. 15).
Пример 14. А. Г. Шнитке. «Сказка странствий», тема
Орландо
Пример 15. А. Г. Шнитке. Тема из мультфильма «Я
к Вам лечу воспоминаньем…»
Пример 13. И. Брамс. Венгерский танец № 4 фа минор
1) Рок, непреклонный ход судьбы — тема из «Бабочки»
(она же из Concerto grosso, см. прим. 5). 2) Лирические,
красивые, даже слишком красивые темы в романтическом духе. Во втором случае представляется важным
прислушаться к приведенному Кондаковым суждению
выдающегося искусствоведа, филолога, культуролога
и философа А. В. Михайлова, чутко чувствовавшего
музыку и много писавшего о ней, в том числе о музыке
Шнитке. Михайлов, например, называл эпизод из Альто-
Аллюзии с Брамсом во многих подобных эпизодах
слышит Е. И. Чигарева. В Очерке пятом «Макроциклы
в творчестве Шнитке» она пишет, что каденционный
оборот из Альтового концерта напоминает одну из лирических вариаций в финале Четвертой симфонии Брамса
[16, с. 170]. Тему рондо из Concerto grosso № 1 в очерке
первом «Музыка Шнитке как единый текст. Ключевые
темы» исследовательница называет «квазицитатой
в духе Брамса» [16, с. 40], в очерке третьем «Творчество
Шнитке в контексте австро-немецкой традиции» уточняет, что она выдержана в духе фортепианной музыки
Брамса и «в ней ощущается ностальгия по утраченной
красоте» [16, с. 141]. «Темой-идеалом в духе Шуберта
или Брамса» Евгения Ивановна считает и II часть Четвертого скрипичного концерта [16, с. 41].
И действительно, в музыке Брамса часто присутствует не только «цыганская» лексема опевания со скачком (что мы видели выше в «Венгерских танцах»), но
«Я думаю, ранние ростки немецкого романтизма также могли найти отклик в его душе. Вот в этом нашем предложении,
дозревшем до установки, коренится происхождение сочиненной Шнитке красивейшей лирической темы, которую мы условно
обозначили как «“брамсовскую”» [14, с. 282].
5
67
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
и секвентное развитие из коротких мотивов. Прежде
всего, III часть Третьей симфонии, побочная партия
I части Второй симфонии и знаменитая тема главной
партии I части Четвертой симфонии. Множество подобных примеров содержится в камерной музыке Брамса;
ограничимся одним — эпизодом перед репризой I части
Первой скрипичной сонаты ор. 78, в котором можно
увидеть сильное сходство с темой Орландо (прим. 16).
Пример 16. И. Брамс. Соната для скрипки и фортепиано № 1 соль мажор ор. 78, I часть, эпизод перед репризой
Имя Брамса уже второй раз в нашем повествовании
всплывает, конечно, не случайно. Эта аллюзия закономерна не только потому, что у Брамса в том или ином
виде звучат рассматриваемые элементы, а потому, что
в его музыке, как и в музыке Шнитке, сочетается высокое
и низкое, банальное и элитарное.
Источники брамсовской музыки амбивалентны.
Это и барокко, и классицизм, и романтизм в его самом
возвышенном варианте — но это и бытовая музыка
Вены, ее песни и танцы6. Удивительным свойством
Брамса является то, что банальные интонации часто
использованы у него «в высокой манере», как будто
«шлак» переплавлен в новый материал самой высокой
пробы. Так, мотивы Венгерского танца № 16 фа минор,
№ 20 ми минор можно услышать в рапсодии ор. 79,
интермеццо ор. 117, 119, кларнетовом трио ля минор
ор. 114, наконец, в ставшей «визиткой» музыки композитора среди широкой публики III части Третьей
симфонии — которую можно назвать символом того,
как тема «жестокого романса» превращается в возвышенный образ, навевающий мысли о безвозвратно
ушедшем счастье.
Именно эта тема использована в фильме «Aimez-vouz
Brahms», снятому в 1961 году режиссером Анатолем Литваком по вышедшему двумя годами раньше и ставшему
очень популярным роману Франсуазы Саган. Персонажи
книги и фильма — ровесники Шнитке, и представляется
важным понять их чувства и ощущения.
Героиня Ингрид Бергман Пола разочарована в жизни,
ее любовник Роже (его сыграл Ив Монтан) не хочет связывать себя с ней узами брака, у него многочисленные
68
Музыкальное искусство
связи на стороне. Пола встречает молодого Филиппа
(Энтони Перкинс), который страстно в нее влюбляется. Она некоторое время отдается этому роману, но
понимает, что не может забыть Роже — впрочем, как и
он ее. В итоге Пола и Роже женятся, но Роже не может
жить по-другому: он по-прежнему изменяет Поле и
она страдает.
Фильм очень грустный: он об одиночестве, о разнице
поколений, которая выражается, в том числе, и в музыкальных пристрастиях. Роже, как бы подстраиваясь
под вкус очередной «Мэйзи» (он всех своих любовниц
зовет этим именем), в машине слушает джаз. Вопрос
«Любите ли Вы Брамса?» задает героине как раз Филипп, который, конечно, любит джаз и буги-вуги, но,
видя афишу концерта Брамса, согласен на любой повод,
чтобы устроить свидание с понравившейся ему женщиной. Пола же знает и видимо любит Брамса (у нее есть
пластинка с записью Третьей симфонии), но почему-то
стесняется этого. На концерте, куда ее приглашает Филипп, звучит, помимо III части Третьей, также IV часть
Первой симфонии, и эта музыка ассоциируется у нее
с Роже, с первой стадией их любви 5 лет назад. В роковой
связи Полы с молодым любовником есть, безусловно,
банальность и пошлость, какая-то обреченность — и в то
же время свет: Филипп говорит любимой при расставании, что она будет вспоминать их роман как лучший
момент в жизни. Все в этом фильме амбивалентно, все
не очевидно, все проникнуто грустным пониманием
банальности и одновременно красоты жизни — то есть
то, что так хорошо умел передать Брамс.
Музыку к фильму написал Жорж Орик, и он использовал тему III части Третьей симфонии Брамса в разных
обработках. Среди них — в виде блюза (песня «Never
more, it’s Good Bye», которую поет певица в баре). Лирическая тема симфонии для рафинированного академического музыканта в таком виде звучит пошловато,
как «сладкая гадость». На наших глазах совершается
как бы обратный процесс: элитарная культура уходит
обратно в массовый жанр. Здесь слышна та же амбивалентность высокого и низкого, любви и обыденности,
грусти и меланхолии, как это переплетается в жизни.
Прекрасная музыка, обращаясь в разные формы, не теряет своего «ключевого» ядра. В нем — отражение вечных
ценностей, несмотря на разность поколений, несмотря
на смену вкусов.
По итогам рассуждений можно сделать следующие
выводы.
1. Лексема с опеванием и последующим скачком, часто в сочетании с развитием по типу развертывания ядра
в музыке Шнитке обладает двойным семантическим значением. С одной стороны, распетый мордент/группетто
как и секвентное развитие (часто с расширением ячейки
и нагнетанием) действительно являются расхожими,
общеупотребительными оборотами, встречающимися
6
Позволим себе следующую параллель. В творческой жизни Брамса, как известно, сыграли важную роль два скрипача:
Эде Ременьи (Эдуард Хоффман) и Иозеф Иоахим. Первый — который, кстати говоря, и дал импульс к сочинению «Венгерских
танцев» — был олицетворением «артиста-звезды» эстрадного типа; второй — символом чистого академизма. С обоими Брамс
не только сотрудничал, но и дружил.
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
в разных музыкальных образцах — как академической,
так и неакадемической традиции. В сочетании с танцевальными жанрами, особенно с жанром танго, они
у Шнитке приобретают отчетливо выраженное смысловое наполнение: пошлость, банальность, излишняя
красивость. Это связано прежде всего с семантикой
жанра танго, в особенности, того восприятия танго,
которое осталось у Шнитке со времен его молодости, а
также отношения образованной и эстетически развитой,
можно сказать, элитарной части общества к массовой
культуре позднесоветского периода.
Без «танговой» оболочки эта лексема несет в себе
несколько другое значение. Она может восприниматься и как символ роковой предопределенности, и как
знак утраченной красоты, отголосок вечных ценностей, которые, попадая в любой культурный контекст,
не теряют своей этической (и, возможно, эстетической
значимости). В этом семантическом поле они объединяются темой времени: или связи времен, или утраты
этой связи.
2. Шнитке — вольно или невольно — идет по пути
сближения E-musik и U-Musik. Этот рафинированный
интеллигент, мыслитель, философ силен, в том числе, своей связью с жизненной почвой. В этом можно
усмотреть некоторое сходство с «венской» традицией, одним из ярких представителей которой является
Брамс. Несмотря на явно выраженное отрицательное
отношение к сочинению киномузыки, Шнитке в этой
области творчества проявляет важные свойства своего
композиторского дарования: умение «слышать» и прекрасно «воспроизводить» бытовой слой и путем много-
кратных итераций претворять его в серьезных жанрах.
Использование распространенных бытовых оборотов
в таком контексте, что они «очищаются» от своего происхождения и превращаются в композиторское слово
высокого уровня, роднит Шнитке с Брамсом. Лексема,
ставшая предметом рассмотрения в статье, — лишь
один из примеров.
3. Ключом к постижению амбивалентности «красивых» эпизодов у Шнитке следует считать осторожность,
даже «стыдливость» композитора по отношению к романтическому пафосу, о чем он неоднократно писал
и говорил, в частности в беседах с А. Ивашкиным: «Я
не выносил пафоса — романсного и оперного пафоса. <…> Почему-то после Вены у меня осталась именно
шубертовская интонация… И позднее я стал думать,
что это и было самым правильным — и не поддаваться
во время учебы общему мнению, что, скажем, романсы Чайковского или Рахманинова — хорошие. Нужно
было сохранить ощущение, что нельзя так бесстыдно
раскрываться эмоционально (курсив наш. — Е. Ш.)» [5,
с. 29–30]. Для Шнитке подобное чувственное, откровенное душевное проявление — ложное искушение,
удовольствие без духовной опоры, и это очень важно
осознавать для адекватного понимания композиторского замысла. Но нельзя также не признать, что за ложным
искушением благодаря гению и мастерству Шнитке
все равно просвечивает подлинная, истинная красота,
которая не мутнеет и не обесценивается: надо ее лишь
постараться уловить и не испугаться принять. Иными
словами, самому себе честно ответить на вопрос: «Aimez-vous Bramhs».
Литература
1. Арановский М. Г. Музыкальный текст. Структура и
свойства. М.: Композитор, 1998. 343 с.
2. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1 и 2.
Изд. 2-е. Л.: Музыка, Ленинградское отделение, 1971. 376 с.
3. Барсова И. А. Опыт этимологического анализа музыкальных произведений: К постановке вопроса // Советская
музыка. 1985. № 9. С. 59–66.
4. Башмет Ю. А. Вокзал мечты. М.: Вагриус, 2003. 270 с.
5. Беседы с Альфредом Шнитке. М.: Классика-ХХI, 2014.
320 с.
6. Вичёва Е. А. Танго в России: на пути к созданию отечественной версии жанра // Известия Волгоградского педагогического университета. 2013. № 8. С. 70–74.
7. Кондаков И. В. «Встреча с адом и одновременно с раем»
(философия Альфреда Шнитке) // Вестник культурологии.
2024. № 1 (108). С. 105–206.
8. Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII–XX вв.: Учебное пособие. 2-е изд. СПб.: Лань, 2010. 432 с.
9. Кюрегян Т. С. О принципе развертывания в музыкальной науке и практике // Научный вестник Московской консерватории. 2021. № 3 (46). С. 72–101.
10. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. М.:
Композитор, 1993. 265 c.
11. Сергеева Т. С. Танго в мировом кинематографе //
Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2018.
№ 5 (58). С. 115–124.
12. Холопова В. Н., Чигарева Е. И. Альфред Шнитке. М.: Советский композитор, 1990. 350 с.
13. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства. Ч. I–II. СПб.:
Лань, 2002. 320 с.
14. Хржановский А. Ю. Продолжение жизни // Альфред
Шнитке в воспоминаниях современников. К 20-летию Московского государственного института имени А. Г. Шнитке.
М.: Издательство «Композитор», 2015. С. 270–287.
15. Чигарева Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры
его времени: Художественная индивидуальность. Семантика. М.: Ленанд, 2019. 280 с.
16. Чигарева Е. И. Художественный мир Альфреда Шнитке: очерки. СПб.: Композитор, 2012. 368 с.
17. Шаймухаметова Л. Н. Мигрирующая интонационная
формула и семантический контекст музыкальной темы. М.:
Гос. ин-т искусствознания, 1999. 311 с.
18. Шак Т. Ф., Матич О. В. О некоторых принципах структурирования музыкального тематизма в музыке кино //
Культурная жизнь юга России. 2016. № 1 (60). С. 55–61.
69
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
References
70
1. Aranovskiy M. G. Muzykalnyy tekst. Struktura i svoystva
[Musical text. Structure and properties]. M.: Kompozitor, 1988.
343 p.
2. Asaf'yev B. V. Muzykalnaya forma kak protsess [Musical
form as a process]. Vol. 1, 2. 2nd ed. L.: Muzyka, Leningradskoye
otdeleniye, 1971. 376 p.
3. Barsova I. A. Opyt etimologicheskogo analiza muzykalnykh
proizvedeniy: K postanovke voprosa [An attempt of etymological
analysis of musical works: Towards the formulation of the question] // Sovetskaya muzyka [Soviet music]. 1985. № 9. P. 59–66.
4. Bashmet Y. A. Vokzal mechty [Dream Station]. M.: Vagrius,
2003. 270 p.
5. Besedy s Alfredom Shnitke [Conversations with Alfred
Schnittke]. M.: Klassika-XXI, 2014. 320 p.
6. Vichyova E. A. Tango v Rossii: na puti k sozdaniyu otechestvennoy versii zhanra [Tango in Russia: Towards the Creation
of a Domestic Version of the Genre] // Izvestiya Volgogradskogo
pedagogicheskogo universiteta [News of the Volgograd Pedagogical University]. 2013. № 8. P. 70–74.
7. Kondakov I. V. «Vstrecha s adom i odnovremenno s rayem»
(filosofiya Alfreda Shnitke) [«A Meeting with Hell and with Paradise at the Same Time» (the philosophy of Alfred Schnittke) // Vestnik kulturologii [Bulletin of Cultural Studies]. 2024.
№ 1 (108). P. 105–206.
8. Kudryashov A. Yu. Teoriya muzykalnogo soderzhaniya. Khudozhestvennyye idei evropeyskoy muzyki XVII–XX vv.
[Theory of musical content. Artistic ideas of European music
of the 17–20th centuries]. Teaching aid. 2nd ed. SPb.: Lan', 2010.
432 p.
9. Kyuregyan T. S. O printsipe razvertyvaniya v muzykalnoy
nauke i praktike [On the principle of unfolding in musical science
and practice] // Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii
[Scientific Bulletin of the Moscow Conservatory]. 2021. № 3 (46).
P. 72–101.
10. Medushevskyy V. V. Intonatsionnaya forma muzyki [Intonational form of music]. M.: Kompozitor, 1993. 265 p.
11. Sergeyeva T. S. Tango v mirovom kinematografye [Tango
in the World Cinema] // Vestnik Akademii russkogo baleta imeni A. Ya. Vaganovoy [Bulletin of the Academy of Russian Ballet
named after Agrippina Ya. Vaganova]. 2018. № 5 (58). P. 115–
124.
12. Kholopova V. N., Chigareva E. I. Alfred Shnitke [Alfred
Schnittke]. M.: Sovetskiy kompozitor, 1990. 350 p.
13. Kholopova V. N. Muzyka kak vid iskusstva [Music as an art
form]. Vol. I–II. SPb.: Lan', 2002. 320 p.
14. Khrzhanovskiy A. Yu. Prodolzheniye zhizni [Continuation
of life] // Alfred Shnitke v vospominaniyakh sovremennikov.
K 20-letiyu Moskovskogo gosudarstvennogo instituta imeni
A. G. Shnitke [Alfred Schnittke in the Memories of Contemporaries. On the 20th Anniversary of the Moscow State Institute
named after A. G. Schnittke]. M.: Kompozitor, 2015. P. 270-287.
15. Chigareva E. I. Opery Motsarta v kontekste kultury ego
vremeni: Khudozhestvennaya individualnost. Semantika [Mozart's operas in the context of the culture of his time: Artistic individuality. Semantics]. M.: Lenand, 2019. 280 p.
16. Chigareva E. I. Khudozhestvennyy mir Alfreda Shnitke:
ocherki [The artistic world of Alfred Schnittke: essays]. SPb.:
Kompozitor, 2012. 368 p.
17. Shaymukhametova L. N. Migriruyushchaya intonatsionnaya formula i semanticheskiy kontekst muzykalnoy temy [Migrating intonation formula and semantic context of the musical
theme]. M.: State Institute of Art History, 1999. 311 p.
18. Shak T. F., Matich O. V. O nekotorykh printsipakh strukturirovaniya muzykal'nogo tematisma v muzike kino [On some
principles of structuring the musical theme in film music] // Kulturnaya zhizn yuga Rossii [Cultural life of the South of Russia].
2016. № 1 (60). P. 55–61.
Информация об авторе
Information about the author
Елена Марковна Шабшаевич
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы «Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке»
Москва, Россия
Elena Markovna Shabshaevich
State Moscow Budget Educational Institution of Higher Education «Moscow State Institute of Music named after A. G. Schnittke»
Moscow, Russia
Музыкальное искусство
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-71-76
Рыбкова Ирина Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры хорового дирижирования Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова
Rybkova Irina Vladimirovna, PhD (Arts), Associate Professor at the Choral Conducting Department of Saratov State
Conservatoire named after L. V. Sobinov
E-mail: sch_irina_82@mail.ru
«СТИХИ ПОКАЯННЫЕ» А. Г. ШНИТКЕ: ЧЕРТЫ КОМПОЗИЦИИ
В статье рассматривается сочинение для смешанного хора в 12 частях «Стихи покаянные» А. Г. Шнитке, ставшее одной
из вершин его хорового творчества. Опора на литературный жанр «стихи покаянные» как образец ранней профессиональной русской лирики позволил композитору фиксировать точку сопряжения религиозных мыслей многих поколений с индивидуальными эмоциями личности, обреченной на вопрошание. Указанный единовременный контраст общего и личного получает продолжение в музыкальном языке. Он строится на разветвленной системе контрастов — общего и личного (№ 1–5),
небесного и земного (№ 6–9), а также через обращение к антитезе «мир — человек» (№ 10–11). № 12 является финальным
этапом сочинения, в котором герой, со смирением принимая все тяготы своего пути, находит в себе силы преодолеть силы
земного притяжения и выйти в «четвертое измерение». Осуществляется попытка расшифровки трактовки композитором
понятия «покаяние», которое вбирает в себя греческое понятие «метанойя» и древнееврейское понятие «тшува».
Ключевые слова: А. Г. Шнитке, «Стихи покаянные», композиция, покаяние, метанойя.
«PENITENTIAL POEMS» BY A. G. SCHNITTKE: FEATURES OF THE COMPOSITION
The article studies the composition for mixed choir in 12 parts «Penitential Poems» by A. G. Schnittke, which is one of his best
choral creations. The composer addresses one of the most complex moral themes — the theme of repentance. He relies on the literary
genre «penitential poems» as an example of early professional Russian lyrics. The author fixes the point of conjugation of religious
thoughts of many generations with individual emotions of a person doomed to questioning. This contrast between general and personal is reflected in the musical language too. This is based on an extensive system of contrasts — common and personal (parts № 1–5),
heavenly and earthly (№ 6–9), the antithesis of «world — man» (parts № 10–11). Part № 12 is the final phase of the composition,
in which the hero, humbly accepting all the hardships of his path, finds the strength to overcome gravity and enter the «fourth dimension». An attempt is made to decipher the composer’s interpretation of the concept of «repentance», which incorporates the Greek
concept of «metanoia» and the Hebrew concept of «teshuvah».
Key words: A. G. Schnittke, «Penitential poems», composition, repentance, metanoia.
«Стихи покаянные» А. Г. Шнитке — сочинение во многом уникальное, содержащее в себе немало загадочного в попытке осмысления культурных кодов. Среди
произведений для хора на православные тексты его
можно назвать кульминационным в линии, состоящей
из «Трёх духовных хоров» (1984), «Хорового концерта
на стихи Григора Нарекаци» (1985) и «Стихов покаянных» (1987). В этом ряду осуществляется движение
от молитвы через авторское слово армянского поэта,
философа, богослова Григора Нарекаци к покаянным
стихам, в которых поразительным образом сплетаются
христианские ценности и их трактовка в индивидуализированном ключе.
Мотив покаяния, проявившийся в Хоровом концерте, максимально полно раскрылся именно в «Стихах
покаянных». Двенадцатичастный цикл был написан
к празднованию 1000-летия Крещения Руси и впервые
исполнен 26 декабря 1988 года в Москве в Доме культу-
ры МГУ на Ленинских горах Государственным камерным
хором министерства культуры СССР под управлением
В. К. Полянского. Внутренним побуждением к созданию
цикла стали поиски ответов на нравственные вопросы,
которые могут послужить открытию бытийственных
констант, «четвертого измерения» («реализм иного, чем
земной, типа: как бы начало нового витка!» [4, c. 172]).
«Стихи покаянные» стали наивысшей точкой хорового
творчества А. Г. Шнитке1 и, пожалуй, одним из таинственных его произведений.
Многие исследователи — Е. М. Акишина, С. В. Бевз,
Н. Э. Васильева, Н. Н. Владимирцева [2], А. Г. Труханова [7], А. Г. Хачаянц [9], В. Н. Холопова, Е. И. Чигарева,
Н. В. Шириева [10] и другие — обращались к рассмотрению различных аспектов цикла. В статьях названных авторов затрагивались вопросы значения этого
сочинения в духовной музыкальной культуре конца
XX века, вопросы стиля, обращения композитора к жанру
После данного цикла были написаны хоровые сочинения, созданные на заказ или по случаю юбилея: в 1988 — «Eroffnungvers zum i festspielsonntag» («Вступление к первому воскресному празднику») для четырехголосного смешанного хора и
органа; в 1991 — Торжественный кант для скрипки, фортепиано, хора и большого симфонического оркестра, посвященный
60-летию Г. Н. Рождественского и «Agnus Dei» для двух сопрано, женского хора и оркестра, он вошёл в коллективное сочинение
«Реквием примирения» (автор проекта — дирижёр Х. Риллинг). Хоровые сцены присутствуют в операх «Джезуальдо» (1994)
и «История доктора Иоганна Фауста» (1994), в IV действии которой звучит ранее созданная одноимённая кантата.
1
71
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
покаянного стиха, анализ поэтического первоисточника и его интонационного воплощения в народном
и авторском творчестве. Однако попытки вербализировать имманентную логику построения цикла, связь
его именования с композиционной структурой предпринимались достаточно редко.
Н. Н. Владимирцева в своей статье «А. Шнитке. “Стихи
покаянные”: возрождение традиции» отмечает «полифоничность» этого сочинения, в котором сочетаются имитационность и хоральный склад, диатоника и
хроматика. «Основные движущие силы драматургии
традиционны: жизнь и смерть, свет и тьма, радость и
боль. Условно близкие по эмоциональному строю номера можно объединить в две образные сферы: сфера
действенного начала (1, 4, 9, 10) и сфера медитативных
состояний (2, 3, 6, 11, 12)» [2, с. 35]. Обращаясь к разбору
средств музыкальной выразительности, автор в качестве
коренного принципа отмечает остроту сопоставлений
и контраст, призванный отразить дух нашего времени.
«“Стихи покаянные” Альфреда Шнитке — это современные русские “Страсти” по человеку, по его душе» [2, с. 37].
Собственный взгляд на строение «Стихов покаянных» предлагает А. Г. Труханова в статье «Духовная тематика в творчестве А. Г. Шнитке». Опираясь на поэтику
жанра, она выделяет № 4, 5 и 7 «как малую и большую эсхатологию, № 6 и 10 являются повествованием об исторических событиях, окрашивая цикл национальными
мотивами, “Аще хощеши победити” (№ 8) <…> является
своеобразным духовным центром всего цикла. <…>
“Наго изыдохо на плачь сеи” (№ 11) воспринимается как
философское обобщение жизненного пути человека» [7,
с. 231]. Отмечая ключевые для понимания поэтические
тексты и номера цикла, автор выстраивает «стереофоническую» по своей сути систему, где сосредоточены
религиозное, философское, историческое знание о человеческой экзистенции. Оно скрепляется «покаянной
формулой» [7, с. 232], которая в музыке выражается
в появлении гармонических вертикалей после одно- или
двухголосия или полифонии. А. Г. Труханова резюмирует, что «при наличии самостоятельных сюжетных
“единиц” композиция стихов покаянных выстраивается
как единое целое, так как глубинная сущность вербального ряда подчинена раскрытию единой идеи — идеи
нравственного совершенствования, духовного обновления человека, <…> идея исповедальности получает
неповторимо-индивидуальное воплощение» [7, с. 231,
233]. При этом само понятие «покаяние» растворяется
в иных формулировках.
В статье А. Г. Хачаянц «Прочтение средневековой
покаянной поэзии в хоровом цикле Альфреда Шнитке
“Стихи покаянные”» рассмотрены литературные и музыкальные истоки духовных стихов и их связи с сочинением композитора. «Основными в таких стихах являются
мотивы плача и покаяния, скорби и внутреннего сосредоточения, мысли о бренности бытия, грехе и смерти.
Но “сокрушение сердечное” выступает не как самоцель,
а как способ обретения Истины, приближения к Богу» [9,
с. 134]. Аналитическая оптика в данной статье опирается
72
Музыкальное искусство
на сопоставление поэтической и музыкальной структур.
Автор отмечает совпадения строения покаянных стихов
и музыкальных номеров, что связано со строфической
формой. Обращение к образному и интонационному
пластам создаёт множественное приращение смысла,
раскрывая новые ракурсы темы. А. Г. Хачаянц лишь
изредка помещает замечания, касающиеся композиции,
что служит импульсом к дальнейшему исследованию
сочинения. В центр статьи Н. В. Шириевой [10] помещается антитеза «Добро — Зло», которая, по мнению
автора, становится центральным понятием композиции, хотя связь антитезы с мотивом покаяния остается
за рамками рассмотрения.
Все упомянутые исследования роднит стремление
разобраться в содержании цикла, в котором сопряжены
потаённые смыслы и крик души, обобщённое чувство и
максимум личного. Данный дуализм как структурный
принцип принимает в сочинении различные облики,
представая в различных вариантах в связи с внутренними смыслами, заложенными в его именовании. Целью
данной статьи является рассмотрение композиционных
принципов в «Стихах покаянных» А. Г. Шнитке в связи
содержанием понятия «покаяние»: что есть покаяние,
каким оно предстает у композитора и какова финальная
точка этого пути?
Согласно определению, данному в «Новой философской энциклопедии», покаяние — это «признание в проступке, исповедание в грехах и отвращение от них, <…>
через него достигается спасение человека, его переход
из области греха в жизнь вечную, <…> если при совершении греховных поступков человек ставит в центр
бытия самого себя, то в покаянной вере он, наоборот,
устремлен на служение только Богу, на самопожертвование ради Него — в этом суть религиозного смысла
покаяния. В Евангелии покаяние понимается как духовное возрождение человека» [5, с. 265]. Обращаясь
к покаянным стихам, А. Г. Шнитке по-особому трактует
и «вслушивается» в текст, он находит их собственное
прочтение. Оно родственно словам М. Н. Эпштейна, приводимым Е. И. Вартановой в статье «Психологические
модусы аллюзийности в музыке Шнитке» [1]: «В отличие
от проповеди, переделывающей мир, раскаяние обращено грешником к самому себе. Оно ничего не утверждает
о Боге, но признается в отступлении от Бога» [11, с. 235].
Именно этот путь принятия собственной греховности
и устремленность к недостижимому выстраивает композитор, обращаясь к покаянным стихам.
«Стихи покаянные» А. Г. Шнитке — это некое художественное «исследование» покаяния, это не столько
признание в каком-либо определенном грехе, сколько
попытка встроить свои мысли в чувства прежних веков,
осознать собственную исповедь внутри всеобщей молитвы, направленной в вечность. Личное и надличностное,
земное и небесное образуют на идейном уровне конгломерат единовременных контрастов, подчеркивающий
напряжённый диалог между полюсами оппозиций:
— первый этап — контраст личного и общего
(№ 1–5),
Музыкальное искусство
— второй этап — контраст небесного и земного
(№ 6–9),
— третий этап — обращение к антитезе «мир —
человек» (№ 10–11),
— четвертый этап — смирение и выход к «четвертому измерению» (№ 12).
В первых пяти номерах контраст личного и общего
проявляется в дифференциации фактуры на два или
три мелодических пласта, один из которых, подражая
voce principalis, звучит в виде вокализа, вступая в диалог
с верхними голосами. Через взаимную обусловленность
голосов музыкальной ткани обнаруживается сочетание устойчивого или изменчивого, подобно функциям
голосов в органуме. Мелодическая природа материала
приводит к доминированию горизонтали. Наслоение
пластов подчиняется полифоническому принципу, что
нивелирует значение вертикали, подчеркивая важность
молитвы отдельной личности. Одновременность звучания голосов как единение личного и общего — то,
к чему нацелено развитие первого этапа.
Пять номеров внутренне организованы следующим
образом:
— № 1 «Плакася Адамо» имеет универсальное звучание, являясь неким прологом цикла. Фигура Адама
становится еще одним ассоциантом одновременно
личного и общего;
— № 2 «Приими мя, пустыни» углубляет тему изгнания из Рая. В данном номере структура органума
получает индивидуальное преломление: основной мотив
расположен в партии тенора solo (в котором традиционно располагается григорианский напев), однако с точки
зрения тематизма здесь можно отметить перемещение
интонаций более подвижного основного голоса вниз, а
выдержанных звуков — вверх;
— в № 3 «Сего ради нищъ есмь» впервые появляется
голос отдельной личности (запев у сопрано), что усиливает момент покаяния. Поддержка партий сопрано,
альтов, теноров в нижних голосах присутствует фрагментарно, демонстрируя разъединенность личного и
общего. Лишь в ц. 22 при упоминании «церкви божия»
в партии басов «возвращается» опора в виде консонантной чистой квинты. Характерно, что № 3 завершается
словами «Грехи свершен. Даи же ми, Господи, преже
конеца покаятися»;
— после осознания совершения грехов повествование в № 4 переключается на разговор о душе — «Душе
моя грешная…», что актуализирует в музыке аллюзию
на партесное пение. В этот момент появляется мажорное
наклонение и вместе с ним ладовая определенность.
Особого внимания заслуживает краткая кода, в которой
впервые возникает хоральный склад в момент прошения
милости у Господа;
— объединение личного и общего осуществляется
в № 5 «Окаянне убогыи человече!». Подражание канону
в начале номера довольно скоро сменяется аккордовой
вертикалью, внутри которой поочередно отдельные
голоса получают линеарное развитие. Подобно предыдущему номеру, в завершении характер музыкальной
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
ткани меняется, вновь появляется хорал при обращении к Богоматери — «Молитвами рожешая тя, Избави
душа наша».
Таким образом, внутри первых пяти частей можно
наблюдать две тенденции: 1) векторно направленное
движение: от сожаления к общему раскаянию; 2) присутствие элемента симметрии на первом этапе композиции,
центром которого становится № 3 «Сего ради нищъ
есмь», где зримо представлен диалог личного и общего.
Второй этап объединяет № 6–9. Здесь можно наблюдать единовременный контраст не только личного и
надличностного, но и земного, и небесного:
— в № 6 «Зря корабле», рассказывающий о русских
князьях Борисе, Глебе и Святополке, круг интонаций
расширяется за счет включения риторической фигуры креста, подчеркивая мученическую смерть первых
русских святых, заставляя вспомнить о жанре страстей;
— в № 7 «Душе моя» аллюзия на пассионы усиливается в самом тексте стихов: «Помяни, како земнаго Царя,
тленнаго человека, / Глагола трепетно послушаеши и
небесного создателя своего…». Именно в этом номере
на смену строфической форме в первый раз приходит
трехчастная форма с динамической репризой. Общие
принципы векторного развития, обнаруженные ранее,
проникают на втором этапе развития внутрь формы,
фиксируя важность земного раскаяния;
— обращение к лику Христа позволяет по-новому
взглянуть на содержание № 8 «Аще хощеши победити».
Он является средоточием философской мысли на втором этапе и в цикле в целом. В нём в одновременности
сопряжены и печаль, и радость, показаны их неоднозначность перед лицом Вечности. Наряду с диалогом
с Создателем, возникает диалог с миром. Если события
первого этапа были обусловлены логикой лирического
типа высказывания, направленной вовнутрь, то во второй части увеличивается значение объективного мира,
в который всматривается автор. Погруженность внутрь
себя уступает место новой антитезе «человек — мир»,
подтверждением этому становится не только рефлексия на текст, но и аллюзия на Страсти, в которых Бог
приходит в мир в облике человека;
— моральный аспект взаимодействия нравственных
установок человека и мира предстает в № 9 «Воспомянух
житие свое клироское», в нем звучит мысль о том, что
грех способен проникнуть даже в души людей, посвятивших себя служению Господу.
В тексте рассказа о монастырской жизни, где находится место для нарушения многих заповедей, содержится противопоставление земного и небесного. В музыке оно подчеркнуто с помощью перекличек женской
и мужской групп хора в начале и возникновении хорального склада на словах «Но Владыко Царю Небесный,
Христе Боже наш». «Разноголосица» земного и небесного
получает отражение в фактурной организации голосов,
она дифференцируется на два пласта: выдержанные
звуки у теноров и басов и подвижная мелодия у женских
голосов (например, тт. 14–19), что вновь напоминает
о строении средневекового органума. В кульминации
73
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
на словах «Страшного судища муки веченыя» в верхних
голосах появляются триоли. Цифру «3», указанную
в нотах, возможно истолковать с точки зрения символики как воплощение Божественного, Святой Троицы.
Несовпадение по вертикали дуолей, расположенных
в нижних голосах, и триолей, помещенных в партиях
сопрано и альтов, графически показывает разделение
мира надвое — земное и небесное.
Третий этап композиции включает два номера —
№ 10–11. В № 10 «Придете, христоносении людие, Воспоимо мученико страдание» и № 11 «Наго изыдохо,
на плачь сеи, Младенец сыи, наго и отойду паки» происходит «выворачивание» устоявшейся фактурной модели:
если прежде начало стихов было связано с сольным
запевом или звучанием отдельных групп хора, а в качестве завершающей части звучал хорал, то теперь эти
два типа фактур помещаются в разные номера, причем
в обратном порядке. Последовательность элементов
в антитезе «человек — мир» изменяется, на первое
место становится мир, и лишь затем появляется человек со своими суетными заботами. Так, в № 10 звучит
призыв к христианам пожертвовать собой ради веры,
а в № 11 — в обращении к Богу человек осознает всю
тщетность своего земного существования — «ото тмы
на свето, ото света же во тму…».
Может показаться, что это откровение способно
заставить человека умолкнуть в последнем № 12, представляющем собой четвертый этап композиции, так как
он исполняется без слов, подобно беззвучной молитве.
Однако финал, преисполненный молчания, становится
таким не от разочарования. Напротив, смирение, охватывающее после принятия собственной «земной»
природы, приводит человека к созерцанию несказанной
красоты небесного. Здесь единовременный контраст
личного и общего, земного и небесного, жизни и смерти
достигает своего апогея, напряжение между полюсами
не преодолевается, а, напротив, усиливается, вертикаль
вытягивается, уподобляясь натянутой струне.
Особенностью этого номера является то, что он почти
целиком построен на выдержанном звуке «d», помещенном в партии басов и басов-октавистов. В нём восстанавливается соотношение голосов подобно органуму,
где есть противопоставление выдержанных звуков и
развернутой, направленной преимущественно вверх
мелодии. Выбор подобного расположения голосов становится знаком погруженности в молитвенное состояние.
В тактах 19–20 в партии теноров звучит мотив BACH,
который показывает важность нравственного начала
всякого бытия. Это аллюзия на «Sanctus» из Высокой
мессы И. С. Баха, где, по мнению разных исследователей, лейпцигский кантор стремился отобразить взмахи
ангельских крыльев. Так, в последнем номере звучат
элементы первых трех этапов, он превращается в своеобразную коду, выводящую повествование на новый
уровень.
Композиция «Стихов покаянных» А. Г. Шнитке состоит из четырех этапов, каждый из которых является более
кратким по отношению к предыдущему. Интенсивное
74
Музыкальное искусство
сжатие (5 — 4 — 2 — 1) свидетельствует об интенсификации всех процессов в развертывании эсхатологического мифа. Продолжая линию Баховского самодвижения и
размышлений о круге морально-нравственных проблем,
присущих симфонизму Д. Д. Шостаковича, композитор
выстраивает собственную модель проживания мифа
через обращение к покаянию и приходит к качественно
иному переживанию музыки. В ходе него он не убеждается в подобии микро- и макрокосмоса, как у И. С. Баха,
не обретает голоса, как в симфониях Д. Д. Шостаковича,
он находит возможность через соединение христианских
сюжетов и логики мифа присоединиться к дыханию
Вечности. З. В. Фомина в статье «К вопросу о методах
постижения искусства» пишет: «Сверхзадачей и целью
гуманитарного познания является не получение готового и окончательного объективного — “внечеловеческого” — знания, а приобщение к смыслам, заключённым
в феноменах культуры, обретение опыта, выступающего
необходимой предпосылкой самоконструирования,
самопревосхождения личности — осуществления ею
“проекта” своего бытия» [8, с. 96].
Композитор начинает свой «путь» с трагического
постулата: всё, что есть у человека — это человек, он
сам. Именно это просматривается в строении первого
этапа, обусловленного единовременным контрастом
«личного и общего». В нём сквозь динамику развития
просматриваются некие черты симметрии с центром
в № 3 «Сего ради нищъ есмь». Второй этап получает
новое «вертикальное» измерение: «земное — небесное».
Аллюзия на пассионы подчеркнута в стихе о русских
страстотерпцах, причисленных к лику святых, являя
многогранную человеческую природу. Обращение к монашеской жизни усиливает нравственную окраску в оппозиции «земное — небесное», добавляя к ней антитезу
«я — мир». Их совмещение на третьем этапе позволяет
трансформировать сложившийся «формат». Происходит
процесс выворачивания, названный поэтом К. Кедровым «метаметафорой»: мир встаёт на первое место,
признается истинным, а человек смиренно принимает
свою греховную природу. Так через покаяние и принятие находится решение вопроса в финале. Но в каком
ключе можно истолковать его в свете названия цикла?
В попытке вербализации художественных процессов
воплощения покаяния в музыке А. Г. Шнитке обратимся
к этимологии понятия «покаяние». Происхождение
его неоднозначно: оно связано и с собственным порицанием, и ветхозаветным Каином. Исследователи
утверждают, что оно произошло от древнегреческого
понятия «метанойя», который в переводе означает
«сожаление о содеянном», а буквально — «перемена
мыслей» («мета» — сверх, «нус» — ум). Однако в русском
варианте в «покаянии» есть лишь намеки на грядущие
изменения: покаяние звучит похоже на фразу «пока я
не-я», и в этом высвечивается только необходимость
будущего раскаяния. Метанойя же фиксирует момент
«после»: после покаяния, после Божественной благодати.
Она означает первоначальную попытку уйти из мира
к некоему безличному основанию, чтобы обрести себя
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
в личном Боге, тем самым восстановив себя как личность [6]. Покаяние и метанойя показывают две разные
грани христианского таинства, обладающие магией
непознаваемого.
К ним примыкает иудейское понятие «тшува» (в переводе означает — раскаяние, возвращение к Творцу).
Согласно хасидскому учению, тшува делится на два уровня: нижний — возращение к догреховному состоянию и
верхний — «разговор с Всевышним» [3]. Именно они и
оказываются соединенными в философском содержании
«Стихов покаянных»: первые два этапа композиции
(№ 1–9) показаны как покаяние из страха, а оставшиеся
части (№ 10–12) демонстрируют покаяние из любви,
той Любви, что явил Господь, придя на землю. Данные
уровни способны объяснить те перемены мыслей, кото-
рые достигаются в «Стихах покаянных». Они соединяют
раскаяние грешника со смирением «умной молитвы»
и позволяют чувственно пережить целостность мира.
Согласно принципам полистилистики, в одном цикле
оказываются соединены три культурных традиции,
к которым принадлежал композитор (католическая
(аллюзия на пассионы, риторическая фигура креста),
православная (тексты, интонационный слой и строфическая форма номеров) и иудейская (на уровне контекста).
Возможно, что это соединение может послужить одним
из ответов на волнующий композитора вопрос: «Я все
время вижу висящий передо мной вопрос. Ищу ответ
на него, но пока не нашел. И вопрос этот связан с тем,
что, не будучи русским по крови, я связан с Россией,
прожив здесь всю жизнь» [4, с. 13].
Литература
1. Вартанова Е. И. Психологические модусы аллюзийности в музыке Шнитке // Альфреду Шнитке посвящается:
к 65-летию со дня рождения: Из собр. «Шнитке-центра».
Вып. 2. М.: МГИМ им. А. Шнитке. 2001. С. 172–175.
2. Владимирцева Н. Н. Шнитке А. «Стихи покаянные»:
возрождение традиции // Великая победа: наследие и наследники: сборник научных трудов. Семнадцатые Межрегиональные Пименовские чтения. Саратов: Изд-во Сар. митрополии, 2020. С. 32–38.
3. Вугенфирер Э. Два вида Тшувы. URL: https://toldot.com/
articles/articles_25349.html (дата обращения 21.07.2024).
4. Ивашкин А. В. Беседы с Альфредом Шнитке. М.: Классика-ХХI, 2003. 320 с.
5. Михеева И. Н. Покаяние // Новая философская энциклопедия. В четырех томах. Т. III, Н — С. / Ин-т философии
РАН. Научно-ред. совет: В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин. М.: Мысль, 2010. 694 с.
6. Нестерук А. В. Метанойя как изменение духовного
опыта. URL: https://azbyka.ru/metanojya-kak-izmenenieduxovnogo-opyta (дата обращения 18.06.2024).
7. Труханова А. Г. Духовная тематика в творчестве
А. Г. Шнитке // Альфреду Шнитке посвящается, вып. 5. Ред.сост, А. В. Богданова, Е. Б. Долинская. М.: Изд. Композитор,
2006. С. 226–233.
8. Фомина З. В. К вопросу о методах постижения искусства // Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2018. № 1. С. 93–98.
9. Хачаянц А. Г. Прочтение средневековой покаянной
поэзии в хоровом цикле Альфреда Шнитке «Стихи покаянные» // Музыкальная академия. 2020. № 4. С. 132–151.
10. Шириева Н. В. Музыкальные символы добра и зла
в «Стихах покаянных» А. Шнитке // Культура и искусство.
2021. № 5. С. 139–157.
11. Эпштейн М. Н. Искусство авангарда и религиозное сознание // Новый мир. 1989. № 12. С. 222–249.
References
1. Vartanova E. I. Psihologicheskie modusy allyuzijnosti v muzyke Sсhnitke [Psychological modes of allusiveness
in Schnittke's music] // Alfredu Schnitke posvyashchaetsya:
k 65-letiyu so dnya rozhdeniya: Iz sobr. «Schnitke-centra» [Dedicated to Alfred Schnittke: to the 65th anniversary of his birth:
From the collection of the Schnittke Center]. Vyp. 2. M.: MGIM
im. A. Shnitke. 2001. P. 172–175.
2. Vladimirtseva N. N. Schnitke A. «Stihi pokayannye»: vozrozhdenie traditsii [Schnittke A. «Penitential Poems»: the revival
of tradition] // Velikaya pobeda: nasledie i nasledniki: sbornik
nauchnyh trudov. 17 Mezhregionalnye Pimenovskie chteniya
[Great victory: heritage and heirs: a collection of scientific papers. 17th Interregional Pimenov Readings]. Saratov: Izd-vo Sar.
mitropolii, 2020. P. 32–38.
3. Vugenfirer E. Dva vida Tshuvy [Two types of Teshuvah].
URL: https://toldot.com/articles/articles_25349.html (Accessed
date: 21.07.2024).
4. Ivashkin A. V. Besedy s Al'fredom Schnitke [Conversations
with Alfred Schnittke]. M.: Klassika-XXI, 2003. 320 p.
5. Miheeva I. N. Pokayanie [Repentance] // Novaya filosofskaya entsiklopediya. V 4-h tomah [New Philosophical Encyclopedia.
In 4 vols]. Vol. III, N — S. / In-t filosofii RAN. Nauchno-red. sovet:
V. S. Stepin, A. A. Gusejnov, G. Yu. Semigin. M.: Mysl, 2010. P. 694.
6. Nesteruk A. V. Metanojya kak izmenenie duhovnogo opyta
[Metanoia as a change in spiritual experience]. URL: https://azbyka.ru/metanojya-kak-izmenenie-duxovnogo-opyta (Accessed
date: 27.12.2022).
7. Trukhanova A. G. Duhovnaya tematika v tvorchestve
A. G. Schnitke [Spiritual themes in the work of A. G. Schnittke] //
Alfredu Shnitke posvyashchaetsya, vyp. 5. [Dedicated to Alfred
Schnittke, vol. 5.]. Red.-sost. A. V. Bogdanova, E. B. Dolinskaya. M.:
Izd. Kompozitor, 2006. P. 226–233.
8. Fomina Z. V. K voprosu o metodah postizheniya iskusstva
[On the question of methods of comprehending art] // Vestnik
Saratovskoj konservatorii. Voprosy iskusstvoznaniya [Journal
of Saratov Conservatoire. Issues of Arts]. 2018. № 1. P. 93–98.
9. Khachayants A. G. Prochtenie srednevekovoj pokayannoj
poezii v horovom tsikle Alfreda Schnitke «Stihi pokayannye» [Interpretation of Medieval Penitential Poetry in Alfred Schnittke's
Choral Cycle «Penitential Poems»] // Muzykal'naya akademiya
[Musical Academy]. 2020. № 4. P. 132–151.
10. Shirieva N. V. Muzykal'nye simvoly dobra i zla v «Stihah
75
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
76
Музыкальное искусство
pokayannyh» A. Schnitke [Musical Symbols of Good and Evil
in A. Schnittke's «Penitential Poems»] // Kul'tura i iskusstvo
[Culture and art]. 2021. № 5. P. 139–157.
11. Epshtein M. N. Iskusstvo avangarda i religioznoe soznanie
[Avant-garde Art and Religious Consciousness] // Novyj mir
[New world]. 1989. № 12. P. 222–249.
Информация об авторе
Information about the author
Ирина Владимировна Рыбкова
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова»
Саратов, Россия
Irina Vladimirovna Rybkova
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
Saratov, Russia
Музыкальное искусство
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-77-83
Хачаянц Анжела Григорьевна, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой истории музыки
Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова
Khachayants Anzhela Grigorevna, PhD (Arts), Assistant Professor, Нead of the History of Music Department of the Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov
E-mail: angela_h@bk.ru
Мальцева Виолетта Юрьевна, преподаватель кафедры хорового дирижирования Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова
Maltseva Violetta Yuryevna, Teacher of the Choir conducting Department of the Saratov State Conservatoire named
after L. V. Sobinov
E-mail: 2lett2@inbox.ru
ВТОРАЯ СИМФОНИЯ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ: К ВОПРОСУ ЖАНРОВОЙ КОНТАМИНАЦИИ
Статья посвящена вопросу модификации жанра симфонии в творчестве одного из ведущих композиторов современности — Альфреда Гарриевича Шнитке, чье 90-летие российская культура отмечает в ноябре 2024 г. Объектом исследования
в статье стала Вторая симфония «Сан-Флориан». В качестве инструмента при раскрытии её структурной специфики и концепции авторы статьи обращаются к лингвистическому понятию «контаминация», которое стало транстермином, участвуя
в различных научных исследованиях, в том числе в музыкознании. Ключевыми позициями в процессе контаминации становятся генетическое родство контаминируемых единиц, а также рождение нового явления — контаминанта, не как суммы
исходных данных, а как новой целостности. В процессе анализа этого произведения, сочетающего признаки симфонии и
мессы (как контаминируемых жанров), обнаруживается их концептуальная близость, выраженная М. Г. Арановским в формуле «симфония — это светская месса». Обнаруживаются также имплицитные признаки еще одного жанра — Пассионов
(как возможного контаминанта) через особую смыслообразующую логику IV части. В ключе христианской символики также
интерпретируется обертоновый ряд, вызревающий в четных частях и завершающий симфонию в целом.
Ключевые слова: Альфред Шнитке, контаминация, транстермин, полистилистика, симфония, месса, жанровая модификация, жанр Пассионов.
THE SECOND SYMPHONY BY ALFRED SCHNITTKE: TO THE ISSUE OF THE GENRE CONTAMINATION
The article is devoted to the issue of modification of the symphony genre in the work of one of the leading present-day composers
Alfred Schnittke, whose 90th anniversary Russian culture celebrates in November 2024. The object of research is the Second Symphony «San Florian». To reveal its structural specificity and conception, the authors of the article turn to the linguistic notion of «contamination», which has become a trans-term, used in various scientific studies, including musicology. The key positions in the process
of contamination are the genetic kinship of the contaminated units and the production of a new phenomenon — the contaminant,
which is not a sum of initial data, but a new integrity. Analyzing the Second Symphony, which combines features of symphony and
mass (as contaminated genres), the authors discover their conceptual affinity, expressed by M. G. Aranovsky in the formula «symphony is a secular mass». Implicit signs of the genre of Passions (as a possible contaminant) are also revealed through the special
meaning-forming logic of the 4th movement. The overtone series that develops in the even movements and concludes the symphony
as a whole is also interpreted in the key of Christian symbolism.
Key words: Alfred Schnittke contamination, trans-term, polystylistics, symphony, mass, genre modification, passion genre.
Музыкальная культура ХХ в. принципиально отличается от культуры предшествующих веков стремительным ростом нетипичных способов творческого
нарратива. Колоссальные тектонические сдвиги произошли в жанровой системе, что сказалось как на создании новаторских «индивидуальных проектов»1, так
и на обновлении жанров, имеющих традицию. Один
из них — симфония, о которой М. Г. Арановский в своей
монографии констатировал: «Суть современного этапа развития симфонии и состоит в тенденции к отказу — полному или частичному — от типизированного
слоя» [2, с. 13].
В границах данной статьи обратимся лишь к одной
1
Термин Ю. Н. Холопова.
из магистралей изменения симфонии — соединению
с вокально-хоровым составом. Союз симфонии с пропеваемым словом стал одним из способов обновления
или существенного преобразования типологических
признаков жанра еще на рубеже классицизма и романтизма — Девятая симфония Л. ван Бетховена. Далее
этот синтез освящен именами Г. Малера, А. Н. Скрябина,
Д. Д. Шостаковича и многих других. Рассматривая проблему соединения симфонии со словом в творчестве
Бетховена и Малера, М. Г. Арановский отмечает, что
«симфонические замыслы как Бетховена, так и Малера содержали в себе концептуальный слой, и поэтому
включение слова было лишь логическим следствием
77
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
этого факта» [2, с. 205]. Слово, по мнению Арановского,
в таких примерах «как бы прорывается наружу сквозь
музыкальную оболочку их философских концепций» [2,
с. 205]. В противовес органичному включению слова
в концепцию симфонии Арановский рассматривает
целесообразность признания синтеза более сложного,
чем в предыдущих образцах. «В тех же случаях, когда
синтезируются именно музыкальные жанры — допустим, симфония и камерно-вокальный цикл или симфония и оратория, внутри цикла почти неизбежны
серьезные структурные преобразования, которые могут
отодвинуть на задний план типологические признаки
симфонии и выдвинуть на передний — признаки того
или иного вокального жанра» [2, с. 205]. В подтверждение автор «Симфонических исканий» приводит подробный анализ архитектоники симфоний с внедрением
поэтического слова в симфониях XX в.: Д. Шостаковича,
М. Вайнберга, Г. Уствольской, А. Локшина, и приходит
к выводу о формировании уникальных разновидностей
жанра симфонии в каждом из случаев.
Подобные жанровые миксты можно рассматривать
в междисциплинарном ключе, привлекая понятие «контаминация» (от лат. «contaminatio» — соприкосновение,
смешение разнородных факторов в новую совокупность). Так же как и понятие «интертекстуальность»,
лингвистический термин «контаминация» стал транстермином, войдя в современное музыкознание в процессе адаптации денотата и коннотата2, в частности
в музыкальную фольклористику, медиевистику.
Под контаминацией в лингвистике понимается «объединение в речевом потоке структурных элементов двух
языковых единиц на базе их структурного подобия или
тождества, функциональной или семантической близости» [11, с. 238]. Комментируя терминологический
облик контаминации, Л. Г. Ефанова пишет: «В отношения
контаминации могут вступать единицы, относящиеся
к одному и тому же уровню языка, делимые на компоненты и обладающие значением — слова, устойчивые
сочетания слов и синтаксические конструкции, — что
позволяет говорить о трех разновидностях контаминации по характеру взаимодействующих единиц: лексической, фразеологической и синтаксической. Результатом
такого взаимодействия становится образование новой
языковой или речевой единицы, называемой контаминантом» [7, с. 15]. Проецируя словарное значение
на музыкальные объекты, под «словом, устойчивым
сочетанием и синтаксической конструкцией» можно
конвенционально предположить как «мелкие» структурные единицы (например, мотив), так и крупные
(например, жанр или стиль).
«Обычно контаминация наблюдается в сфере разговорной речи и является отступлением от литературной
нормы. Мы понимаем под контаминацией объединение
в одном стихотворении структурных или содержательных элементов двух или более жанров. Она предполагает отступление от жанровой нормы, выступающей
2
78
Музыкальное искусство
как определенная рама для произведения, создающая
и внешние границы его формальной организации, и
внутренние границы — границы его содержания, формирующие также перспективу, способ его восприятия
читателем. В результате контаминации происходит
либо соприкосновение различных жанровых рамок, так
что двойственность заметна, либо преобладание одной
над другой, когда одна жанровая форма оказывается
в раме другой» [1, с. 271]. Лингвистические исследования
подводят к следующим выводам. Во-первых, контаминация происходит в области речевых процессов, а не языка; во-вторых, контаминант — это всегда нарушение
нормы; в-третьих, следует предположить наличие как
минимум двух разновидностей контаминации по типу
взаимодействия. Синтагматический тип — соединение
исходных единиц по принципу параллельного взаимодействия. Собственно, техника музыкальной композиции с использованием цитат, коллажного принципа
музыкального развертывания попадает под возможный
пример такого типа. Парадигматический тип — соединение исходных структурных единиц (например,
жанров) с поглощением или превалированием одной
из них (такое взаимодействие исходных контаминируемых единиц, например жанров, соответствует выводу
М. Г. Арановского о нивелировании признаков исходной
жанровой модели симфонии под влиянием черт иного
жанра). Однако в рамках одного художественного текста
не исключено наличие обоих способов контаминации.
Наконец, предполагая так или иначе под контаминацией явления «поли-» (относительно музыкальных
явлений — политональность, полижанровость, полистилистичность), надо иметь в виду в качестве отличительного принципа контаминации ее результирующий
эффект: не сумму исходных единиц, а рождение «новой
целостности», контаминанта.
С этой точки зрения предлагается рассмотреть жанровую модификацию симфонии в творчестве А. Г. Шнитке на примере его Второй симфонии, на новом уровне
продолжающей опыт претворения жанра в соединении
со словесным текстом и вокально-хоровым составом.
Стилистический плюрализм, ставший основой полистилистического мышления музыкального искусства
второй половины XX в., во многом обязан своим сегодняшним обликом творчеству Альфреда Гарриевича
Шнитке, как и сам термин «полистилистика». «Она звучит как камертон, дающий интонационную настройку
человеку современности» [10, с. 3].
Полистилистические сочинения А. Г. Шнитке многократно попадали в исследовательское поле зрения:
В. Н. Холоповой, Е. И. Чигаревой, Г. А. Григорьевой,
А. И. Демченко, Е. В. Вартановой и др. Научные статьи
и диссертационные исследования, посвященные анализу особенностей претворения жанра, представлены
именами З. Д. Денисовой, Дзюна Тибы, С. В. Бевз, Л. Н. Казанцевой, Е. А. Свиридовой, И. В. Рыбковой и др.
Следуя за Д. Д. Шостаковичем, А. Г. Шнитке расши-
Термин широко распространился, в том числе в биологии, геологии, медицине.
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
рял жанрово-стилевую сферу своих композиторских
исканий, преодолевая сформировавшиеся в начале столетия нормы стилевого монизма. Так, к началу 60-х гг.
Шнитке был автором произведений крупной формы,
сочинений в авангардной манере и в то же время писал
джаз, танго, романсы, стилизованную музыку, активно
работал в кино.
С написания музыки к мультфильму А. Ю. Хржановского «Стеклянная гармоника» начинается плодотворный полистилистический период, ознаменованный
становлением оригинального шнитковского музыкального почерка. И если известная своей смелостью
Первая симфония Шнитке стоит в первом ряду образцов
полистилистики, то Вторая симфония — яркий образец
не только полистилевой, но, в первую очередь, полижанровой композиции или осознанной контаминации
жанров.
Известно, что замысел Второй симфонии «St. Florian»,
написанной в 1979 г., возник у композитора во время
посещения монастыря Святого Флориана в Австрии, где
покоится композитор А. Брукнер. Исполняемая в тот
момент хором вечерняя месса — missa invisibile — произвела на Шнитке колоссальное впечатление. Дзюн Тиба
предполагает связь между замыслом симфонии и фигурой Брукнера: «Вероятно, личность Брукнера-католика,
автора симфоний, дала Шнитке первоначальный повод
для необычного сочетания двух жанров» [12, с. 157].
Замысел, таким образом, был обусловлен случаем, но
в итоге был отлит в совершенную композиционную конструкцию, в которой сплавлены жанры-архетипы, и этот
сплав формирует новое глубинное смыслообразование.
Вторая симфония Шнитке, по словам В. Н. Холоповой
и Е. И. Чигаревой [13, с. 162], — произведение уникального жанра: симфония-месса, в которой противоположность и совмещение этих жанров проявляется во всем:
в исполнительском составе (оркестр — хор + солисты),
композиции (количество и название частей), в наличии
интонаций-символов (аллюзии, средства музыкального
воплощения), драматургии.
«Шесть частей симфонии следуют обычному порядку
мессы. <…> Может ли устареть форма, текст которой
кончается словами “Даруй нам мир?”», — вопрошал
композитор [4, с. 109].
Симфония состоит из шести частей, каждая из которых содержит в себе текст молитвы латинской мессы:
I «Kyrie»;
II «Gloria»;
III «Сredo»;
IV «Crucifixus»;
V «Sanctus»;
VI «Agnus Dei».
Сердцевина формы рассматриваемой мессы выкристаллизовывается путем деления «Credo» на два
раздела: собственно «Сredo» (III) и «Crucifixus» (IV),
что позволяет искать особый замысел или даже сюжет,
связанный с библейскими событиями.
3
Напомним, что по определению контаминируемые единицы (любой величины) должны обладать
«структурным подобием» или «функциональной или
семантической близостью». Жанровый сплав во Второй
симфонии формирует конструкцию вокально-инструментального полотна, где исходные единицы контаминации (жанры мессы и симфонии) оказываются генетически родственными. Например, одной из общих
«зон» для двух жанров является апелляция к опере. Но
если для мессы влияние оперы — это факт развития
жанра в композиторском творчестве3, то для симфонии театральное начало выступает одним из истоков
(см. об этом: [9]). Но главное заключается в их концептуально-функциональном родстве. М. Г. Арановский,
ссылаясь на П. Беккера, подтверждает: «Симфония действительно заняла в XIX веке то место, которое раньше
принадлежало мессе, а также пассионам» [2, с. 14]. Таким
образом, контаминация стала возможной благодаря
изначальной генетической близости жанров, и, происходя из различных культурных кодов (религиозного
и светского соответственно), месса и симфония тождественны по уровню концептуального обобщения и
возможности претворения индивидуального в соборное,
«придавая ему характер всеобщности и универсальности. Этот онтологический ракурс и сближает симфонию
с мессой» [2, c. 15]. Далее М. Г. Арановский называет это
явление «новой соборностью», а симфонию — «светской
мессой» [2, с. 26].
Вокально-хоровые и оркестровые эпизоды образуют
два параллельно развивающихся драматургических
пласта, относящихся к одному из жанров внутри полижанровой композиции. Так, хор и партии соло из хора —
это пласт мессы, а оркестровые фрагменты — симфонии.
Вокально-хоровой и инструментальный «слои» взаимодействуют определенным образом: все части (кроме IV)
начинаются хоровым вступлением, в основе которого
лежит подлинная мелодия григорианского хорала, и
продолжаются оркестровым эпизодом. Шнитке отобрал
мелодии григорианских напевов из собрания литургических песнопений католического богослужения —
Градуала — и в работе с ними стремился к сохранению
интонационной подлинности. Как пишет Е. Федюкова,
«во Второй симфонии Шнитке использованы самые
различные приемы полифонической обработки напевов: квазиимитационное двухголосие различных фраз
одного хорала, контрапункт двух различных хоралов
на один текст, канонические имитации на один хорал»
(цит. по: [3, с. 65]). Все эти приемы можно расценивать
как стилистически адекватные исходному хоральному
напеву.
В сочинениях, предшествующих Второй симфонии,
Шнитке не раз обращался к образцам старинной музыки.
Первая симфония, ставшая своеобразным манифестом
полистилистики, содержит широкий диапазон жанровых и временных включений: от древнейших образцов
григорианского пения до современных эстрадных мо-
Такова, например, трактовка заупокойной мессы у Дж. Верди.
79
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
тивов. Взаимоотношения между несовместимыми знаками культур и эпох в симфонии выстроены на основе
острого конфликта, который в глобальном масштабе
можно рассматривать как противостояние духовного
и бездуховного. «Сталкивая» разные стили и жанры,
Шнитке достигает прямой действенности противоположных начал.
Во Второй симфонии материал старинной музыки
сохраняется в первоначальном виде либо подвергается
музыкальной обработке, стилистически отсылающей
к ренессансным или барочным мастерам. Такое композиционное решение выглядит как авторская позиция
благоговения перед архаикой средневековой певческой
культуры — «прародительницы» последующих вокально-хоровых жанров, и, таким образом, как сохранение
в хоровых эпизодах первозданного религиозного духа,
не подверженного столкновению с модернистским
языком или коррозии «низкой» стилистики.
Оркестровые фрагменты позиционируются как самостоятельный музыкальный материал и как «своеобразный комментарий к вокальным партиям» [12].
Музыкальный язык инструментальных комментариев
представляет собой сложный сплав различных современных композиторских техник: ограниченная алеаторика, додекафония, сонорика. Авторское начало преобладает в оркестровых эпизодах симфонии и становится
не только комментарием к старинной модели хорала, но
и исключительным средством диалогического взаимодействия двух начал: упорядоченной архаики, идеальной модели Бытия и реакции современного человека
на высокий идеал. Однако вхождение инструментальных
эпизодов в хоровые проходит как бы «бесшовно».
Если А. Г. Шнитке наследует шостаковический симфонический принцип дихотомии действия и рефлек­сиимедитации, то в данном произведении эта дихотомия
парадоксально разворачивается в новом ключе: части
мессы оказываются тем самым «событийным» рядом,
тогда как оркестрово-симфонические эпизоды — рефлективным.
Параллельно развивающиеся жанровые конструкции
(мессы и симфонии), связанные синтагматически (текст
мессы — инструментальный комментарий), неизбежно
в процессе драматургического развития имеют зоны
парадигмального пересечения. Так, характерным разделом II части можно назвать эпизод полифонической
разработки материала григорианского хорала в оркестре. В сложной оркестровой ткани двадцатишестиголосный двойной канон искажается, превращается
в намеренный звуковой хаос.
Но особой драматургической зоной оказывается
IV часть симфонии. Она маркирована не только нарушением логики жанрового взаимодействия (здесь
единственный раз в симфонии меняется порядок чередования исполнения хоровых и оркестровых эпизодов:
оркестровое вступление предваряет текст следующего
затем хорового эпизода, это как бы предвосхищающий комментарий), но и яркой изобразительностью,
практически «визуализацией» ключевого образа —
Распятия Христа и следующего затем Воскресения.
Плотная работа Шнитке с музыкой к кинофильмам и
мультфильмам определенно повлияла на его сочинения
академического формата. Стремление автора к воплощению сюжета, к «оголению» эмоционального фона
ключевого событий симфонии-мессы в конце концов
приводит к незначительному, но семантически важному нарушению пятичастного ординария мессы за счет
включения в композицию отдельной части «Crucifixus»,
которая становится драматургической кульминацией
всего сочинения4. Заметим, что выделение самостоятельных разделов (или номеров) в ординарных частях
мессы нормативно в традиции жанра5, однако в структуре рассматриваемого сочинения это выглядит как
маркированное номинирование именно «Crucifixus»
на самостоятельную часть. Впервые на эту композиционную аномалию указала Е. И. Вартанова в глубочайшем анализе симфонии в своей статье: «В третьей
части, разделённой надвое (Credo I и Credo II, соответствующего Crusifixus), исходная ситуация начинает
необратимо изменяться в сторону функциональной
инверсии» [5, с. 16].
Жанровая принадлежность к пассакалии (мерное движение, интонационная символика, тип формы-ostinato) указывает на семантическую близость
с «Crucifixus» из Мессы h-moll И. С. Баха — собственно
в этом очевидно прослеживается скрытая аллюзия
на эталонный образец жанра.
Баховский барочный взгляд на библейские события,
на наш взгляд, не случайно коррелирует с современным
видением здесь, в центральной точке драматургического напряжения, символизирующей страдания Иисуса,
несущего свой Крест и Распятого на Нем. У Шнитке так
же, как и у Баха, трагический эпизод Евангелия воплощается аффективно. Но есть и существенное отличие.
«У Шнитке шествие на Голгофу представлено не в духе
высокой трагедии, но как здесь и сейчас происходящее
ужасающее, жуткое, апокалиптическое событие: хроматическая масса в непрерывном движении сочетается
с остинатной формой, звуковое оформление специфическими тембрами электрогитары, глиссандирующих
струнных создаёт картину леденящего душу ужаса
от предстоящей мучительной смерти» [8, с. 88].
Драматургическое обособление «Crucifixus» может
претендовать не только на отведенную роль самостоятельной части, но и на статус отдельного «опуса»
с индивидуальным сюжетом внутри общей концепции
симфонии. Именно это обстоятельство наводит на мысль
о порождении при контаминации двух исходных жанров
не просто суммарного жанрового микста симфо­ниимессы (или мессы-симфонии), но новой смысловой
целостности, или контаминанта, у которого есть своя
Нарушение канонической нормы отличает и Реквием А. Г. Шнитке (1975), в котором вводится не характерная для заупокойной мессы часть «Credo».
5
Так в величайшем образце — Мессе h-moll И. С. Баха.
4
80
Музыкальное искусство
Музыкальное искусство
«порождающая модель», а именно национально-характерный жанр немецко-евангелической духовной музыки — пассион (в баховской версии). Оговоримся, что эта
модель идентифицируется во Второй симфонии скорее
в концептуальном плане, но есть и драматургическое
сходство. Важное свойство архитектоники целого как
в симфонии, так и в пассионах — наличие драматургических линий повествования и комментирования, то есть
многомерности, иерархичности драматургии. Относительно баховского воплощения пассионов М. Друскин
пишет: «Музыкальное развитие пассионов протекает
одновременно в нескольких “пластах”. Их взаимодействие рождает “контрапункт” драматургических линий,
которые развертываются, то чередуясь попеременно, так
сказать, по “временной горизонтали”, то совмещаются
в заранее заданных опорных точках — по “вертикали”.
Динамика внешнего, событийного плана действия (речитатив, turbae) и внутреннего (арии, мадригальные
хоры, хорал) предстает в сложном соотношении, где
широкие ритмы волн подъёма-спада напряжения обусловливаются музыкально-архитектоническим замыслом композитора» [6, с. 51].
Жанровые маркеры пассиона во Второй симфонии
прослеживаются и в таких параметрах, как символическая музыкальная трактовка событийного ряда (таков,
например, в баховских «Страстях по Матфею» канон
с одиннадцатью проведениями темы в хоре учеников
Иисуса «Herr, bin Ich’s» — один из двенадцати учеников «молчит», а в Симфонии Шнитке — воплощение
оркестровыми средствами тяжести Крестного пути),
звукоизобразительность (например, «удары бича», «потоки слез» в качестве музыкальных символов в «Страстях» — и глухие удары, будто последние удары сердца
намгранице части «Crucifixus» и ее коды — «Et Resurexit»
во Второй симфонии или пронзающий тишину реверберированный канон «Et Resurexit», как будто это «И
Воскрес!» должно достичь земных пределов).
«Автономность» и значимость IV части, как и идеи
Распятия и Воскресения в масштабах симфонии в целом (идеи, восходящей к модели пассионов), со всей
очевидностью проявлены в почти полном совпадении
финального звучания IV и заключительной VI частей
произведения: это непоколебимость и ясность тона с
в басу, на который наслаиваются гармоники обертонового спектра — искомой «гармонии мира». Таким
образом, финал всей симфонии предваряется в малом
финале — окончании IV части «Crucifixus» и ее коды
«Et resurexit». Однако впервые обертоновый ряд презентуется в инструментальной фактуре славильной II части — «Gloria», получая в ней различные модификации
от аугментации в басу до варьирования его гармонического сопровождения. Обертоновый ряд в финальных
тактах IV и заключительной VI частей может иметь ту же
семантику прославления Бога. В окончании симфонии
Шнитке персонифицирует последовательность обертонового ряда («гармонии мира») в тембре скрипки solo,
очищая от всех инородных наслоений. Обертоновый
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
ряд проходит своеобразную «инициацию» в четных
частях симфонии, символизируя духовное становление.
Представляется важным слово самого автора, произнесенное безотносительно данного сочинения, но
существенное в контексте текущих размышлений: «Я
вообще много думал о проблеме финала. И пришел
к выводу, что она возникла, когда воцарился атеизм.
До этого проблемы финала все-таки не было. Была
изначальная уверенность в том, что все будет хорошо — плохих финалов до Бетховена включительно
не было. <…> Я сейчас имею в виду такой финал, который должен все объяснить. <…> Позитивный финал
перестает существовать. <…> В моих сочинениях всё
часто уходит в многоточие или просто прекращается,
кончаясь без финала. Это, собственно говоря, пошло
с Малера и Чайковского. <…> Ведь у Брукнера все финалы — как положено, кроме неоконченной Девятой,
где он не успел его сочинить» [4, с. 60].
Распознать ли в завершающем обертоновом восхождении «многоточие» или брукнеровское наследие
финалов «как положено» — зависит от субъективного
слышания. Но безусловным, на наш взгляд, представляется схождение, своеобразное «примирение» в этой
конечной точке обеих предустановленных жанровых
(контаминируемых) моделей — симфонии и мессы, еще
раз подтверждающее их «функциональное и семантическое родство». В симфонической концепции Человека,
в ее структурно-семантическом инварианте, М. Г. Арановский трактовал финал как Homo communius [2, с. 27],
а важнейшим событием мессы является Причастие —
Соmmunio. Финал Второй симфонии Шнитке можно
считать символическим Причастием Божественному
(и естественному) миропорядку.
Необходимо процитировать глубочайший вывод,
к которому приходит в своей статье Е. И. Вартанова:
«Звучание обертонового звукоряда появляется еще
в Gloria, своим “нерукотворным” обликом олицетворяя
Внешнее, трансцендентное начало. В Agnus Dei эта тема
словно “очеловечивается”, превращаясь в красивые, откровенно мелодизированные и создающие тональные
ассоциации терцовые цепи, звучащие в восходящем,
нисходящем и взаимно пересекающихся, крестообразных направлениях. Смысл этого процесса переинтонирования вновь оказывается обращённым к символике
обряда Евхаристии, усиливая итоговый смысл драматургического развития Второй симфонии, который
можно выразить предельно просто: в своем финале
симфония причащается мессе, как Человек — святых
Христовых тайн» [5, с. 21].
Итак, уровни контаминации, о которых речь шла
выше, можно определить во Второй симфонии по синтагматическому типу соединения вокально-хорового и
инструментального пластов с индивидуальным развитием обоих, а также парадигматическому — глубинному,
порождающему особый жанрово-смысловой результат,
актуализирующий события Страстей Христовых и чаемого Воскресения.
81
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Музыкальное искусство
Литература
1. Андреюшкина Т. Жанровая контаминация как двойная
рама (на материале немецкого сонета XX века) // Вестник
Самарской гуманитарной академии Серия: Философия. Филология. 2006. № 1. С. 271–281.
2. Арановский М. Симфонические искания. Проблемы
жанра симфонии в советской музыке 1960–1975 годов: Исследовательские очерки. Л.: Сов. композитор, 1979. 287 с.
3. Бевз С. Хор в творчестве А. Шнитке: дис. … канд. искусствоведения. М., 2001. 341 с.
4. Беседы с Альфредом Шнитке / Сост., авт. вступит. статьи А. В. Ивашкин. М.: Издательский дом «Классика-XXI»,
2021. 320 с.
5. Вартанова Е. И. Вторая симфония А. Г. Шнитке: опыт
феноменологического анализа // Приношение Альфреду
Гарриевичу Шнитке: сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных 80-летию со дня
рождения композитора (23–24 октября 2014 г.). Саратов:
Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2015. С. 14–21.
6. Друскин М. Пассионы и мессы И. С. Баха. Л.: Музыка,
1976. 89 с.
7. Ефанова Л. Контаминация (Материалы к словарю
лингвистических терминов). Ч. 1. Широкое и узкое понимание термина «контаминация» // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. № 2 (34).
С. 14–22.
8. Занорин А., Мальцева В. Отражение христианского
мировосприятия в сочинениях с хором 1970–1980 годов
А. Г. Шнитке // Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2023. № 2 (20). С. 86–90.
9. Конен В. Театр и симфония. М.: Музыка, 1975. 376 с.
10. Кулапина О., Полозова И. Человек великого духа, чистой совести и глубокой веры (к 90-летию А. Шнитке) //
Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2023. № 3 (20). С. 3–6.
11. Лингвистический энциклопедический словарь / под
ред. В. Н. Ярцевой. М.: Сов. энциклопедия, 1990. 685 с.
12. Тиба Д. Симфоническое творчество Альфреда Шнитке: опыт интертекстуального анализа: автореф. дис. … канд.
искусствоведения. М., 2003. 19 с.
13. Холопова В. Н., Чигарева Е. И. Альфред Шнитке: Очерк
жизни и творчества. М.: Сов. композитор, 1990. 350 с.
References
1. Andreyushkina T. Zhanrovaya kontaminatsiya kak dvojnaya rama (na materiale nemetskogo soneta XX veka) [Genre
contamination as a double frame (based on the material of a German sonnet of the XX century)] // Vestnik Samarskoj gumanitarnoj akademii. Seriya: Filosofiya. Filologiya [Bulletin of the Samara Humanitarian Academy Series: Philosophy. Philology]. 2006.
№ 1. P. 271–281.
2. Aranovskij M. Simfonicheskie iskaniya. Problemy zhanra
simfonii v sovetskoj muzyke 1960–1975 godov: Issledovatelskie
ocherki [Symphonic search. Problems of the symphony genre
in soviet music of 1960–1975: Research essays]. L.: Sov. kompozitor, 1979. 287 p.
3. Bevz S. Hor v tvorchestve A. Sсhnitke [Chorus in the works
of A. Schnittke]: dis. … kand. iskusstvovedeniya. M., 2001. 341 p.
4. Besedy s Alfredom Sсhnitke [Conversations with Alfred
Schnitke] / Sost., avt. vstupit. stat’i A. V. Ivashkin. M.: Izdatelskij
dom «Klassika-XXI», 2021. 320 p.
5. Vartanova E. I. Vtoraya simfoniya A. G. Shnitke: opyt
fenomenologicheskogo analiza [A. G. Schnittke's Second Symphony: the experience of phenomenological analysis] // Prinoshenie Alfredu Garrievichu Shnitke [An offering to Alfred Harrievich Schnittke]: sbornik statej po materialam Vserossijskih
nauchnyh chtenij, posvyashhennyh 80-letiyu so dnya rozhdeniya
kompozitora (23–24 oktyabrya 2014 g.). Saratov: Saratovskaya
gosudarstvennaya konservatoriya imeni L. V. Sobinova, 2015.
P. 14–21.
6. Druskin M. Passiony i messy I. S. Baha [Passion and Mass
by J. S. Bach]. L.: Muzyka, 1976. 89 p.
7. Efanova L. Kontaminatsiya (Materialy k slovaryu lingvisticheskih terminov). Ch. 1. Shirokoe i uzkoe ponimanie termina
82
«kontaminatsiya» [Contamination (Materials for the dictionary
of linguistic terms). Part 1. Broad and narrow understanding
of the term «contamination»] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya [Bulletin of Tomsk State University. Philology]. 2015. № 2 (34). P. 14–22.
8. Zanorin A., Maltseva V. Otrazhenie hristianskogo mirovospriyatiya v sochineniyah s horom 1970–1980 godov
A. G. Sсhnit­ke [Reflection of the Christian worldview in the works
with the choir of 1970–1980s by A. G. Schnitke] // Vestnik
Saratovskoj konservatorii. Voprosy iskusstvoznaniya [Journal
of Saratov Conservatoire. Issues of Arts]. 2023. № 2 (20). P. 86–
90.
9. Konen V. Teatr i simfonija [Theatre and symphony]. M.:
Muzyka, 1975. 376 p.
10. Kulapina O., Polozova I. Chelovek velikogo duha, chistoj sovesti i glubokoj very (k 90-letiyu A. Sсhnitke) [A man
of great spirit, pure conscience and deep faith (on the occasion
of A. Schnittke's 90th birthday)] // Vestnik Saratovskoj konservatorii. Voprosy iskusstvoznaniya [Journal of Saratov Conservatoire. Issues of Arts]. 2023. № 3 (20). P. 3–6.
11. Lingvisticheskij entsiklopedicheskij slovar [Linguistic encyclopedic dictionary] / pod red. V. N. Yartsevoj. M.: Sov. entsiklopediya, 1990. 685 p.
12. Tiba D. Simfonicheskoe tvorchestvo Alfreda Schnitke:
opyt intertekstualnogo analiza [The Symphonic work of Alfred
Schnittke: the experience of intertextual analysis]: avtoref. dis. …
kand. iskusstvovedeniya. M., 2003. 19 p.
13. Holopova V., Chigareva E. Alfred Shnitke: Ocherk zhizni i
tvorchestva [Alfred Schnittke: An essay on life and creativity]. M.:
Sov. Kompozitor, 1990. 350 p.
Музыкальное искусство
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Информация об авторах
Information about the authors
Анжела Григорьевна Хачаянц
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова»
Саратов, Россия
Anzhela Grigorevna Khachayants
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
Saratov, Russia
Виолетта Юрьевна Мальцева
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова»
Саратов, Россия
Violetta Yuryevna Maltseva
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
Saratov, Russia
83
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Изобразительное искусство
DOI: 10.24412/2618-9461-2024-3-84-90
Дорогина Елена Алексеевна, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, заведующий отделом современного искусства Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева
Dorogina Elena Alekseevna, PhD (Arts), Lecturer at the Humanities Department of Saratov State Conservatoire named
after L. V. Sobinov, Head of the Contemporary Art Department of Saratov State Art Museum named after A. N. Radishchev
E-mail: dole73@mail.ru
ПАМЯТНИК АЛЬФРЕДУ ШНИТКЕ: ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Андрей Александрович Щербаков — заслуженный художник России, академик Российской Академии художеств. Имя этого мастера уже вписано в историю саратовского и российского монументального искусства. Он автор более 40 памятников,
установленных в Саратове, городах России и за рубежом. Андрей Щербаков — один из авторов памятника Альфреду Гарриевичу Шнитке. Это первый в мире памятник великому композитору, который был установлен в 2018 году на родине музыканта в городе Энгельсе. Данная статья построена в форме интервью со скульптором, записанным в год 90-летия композитора.
Цель беседы — зафиксировать живое слово художника, выявить, как происходил творческий процесс создания памятника
Альфреду Шнитке, как рождалась его идея, создавался образ, с чем связан выбор стилистического решения.
Ключевые слова: Альфред Шнитке, памятник композитору, Андрей Щербаков, художественный образ, культурная память.
MONUMENT TO ALFRED SCHNITTKE: FROM IDEA TO REALIZATION
Andrey Aleksandrovich Shcherbakov is an Honored Artist of Russia, Academician of the Russian Academy of Arts. The name
of the master has already entered the history of Saratov and Russian monumental art. He is the author of more than 40 monuments
installed in Saratov, different Russian cities and abroad. Andrey Shcherbakov is one of the authors of the monument to Alfred Schnittke. This is the world's first monument to the great composer, which was installed in 2018 in the musician's hometown of Engels. This
article is written in the form of an interview with the sculptor, recorded in the year of the 90th anniversary of the composer's birth.
The purpose of the conversation is to record the artist's living word, to reveal the process of creating the monument to Alfred Schnittke, how the idea was born, the image was created, and what is the reason of the choice of stylistic solution.
Key words: Alfred Schnittke, monument to the composer, Andrey Shcherbakov, artistic image, cultural memory.
В этом году широко отмечается юбилей Альфреда
Гарриевича Шнитке (1934–1998). Талант композитора
поистине многогранен: он автор опер, балетов, симфоний, произведений камерной, вокальной, хоровой и
инструментальной музыки, музыки к кино и мультипликационным фильмам, театральным постановкам [2;
3; 5; 7].
Для нас это имя обладает особым значением, так
как А. Шнитке родился и провёл первые двенадцать
лет своей жизни в Энгельсе, в те годы — столице автономной республики Немцев Поволжья, расположенной
на левом берегу Волги, напротив Саратова. И хотя он
уехал из города достаточно рано, в 1943 году, здесь чтут
память о великом композиторе и делают всё возмож-
ное для её увековечивания. В Саратове имя Альфреда
Шнитке носит Областная филармония1, в Энгельсе —
Музыкально-эстетический лицей2. На здании школы,
где он учился, установлена мемориальная доска3, сквер
в самом центре города получил название «Сквер имени
Альфреда Шнитке»4.
В 2018 году произошло ещё одно событие, очень
важное в контексте сохранения культурной и исторической памяти — открытие памятника композитору.
Необходимо отметить, что это первый и на сегодняшний
день единственный в мире памятник Шнитке. Работать
над его созданием было предложено заслуженному художнику России Андрею Александровичу Щербакову5.
Имя скульптора хорошо известно в Саратове: его мону-
В 2001 году филармонии было присвоено имя Альфреда Шнитке.
Лицей был открыт в 1992 году. С 2003 — носит имя А. Шнитке.
3
В 2009 году, к 75-летию со дня рождения композитора, на здании бывшей школы № 25 (ныне здание полиции) установлена мемориальная доска. Автор — скульптор В. Л. Прасолов.
4
В 2003 году скверу было присвоено имя Альфреда Шнитке.
5
Андрей Александрович Щербаков родился в 1965 году в Саратове. Учился в Саратовском художественном училище (1980–1984) на скульптурном отделении у Г. Н. Кашина, В. П. Старостенко, В. В. Николаева; в Ленинградском Высшем
художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной (1987–1992) на отделении монументально-декоративной
1
2
84
Идея приходит откуда-то сверху.
Нужно только настроиться и взять её.
(Андрей Щербаков)
Изобразительное искусство
ментальные произведения давно стали неотъемлемой
частью городского ландшафта, нередко выступая доминантой в пространстве [1; 6, с. 650–651; 8]. А. А. Щербаков
— автор композиции «Сердце губернии» (совместно с С.
Щербаковым, 2000), памятников: «Студенту» (совместно с С. Щербаковым, 2001), «Первому ректору СГУ В. И.
Разумовскому» (2009), «Защитившим от атома» (2011),
О. П. Табакову и О. И. Янковскому (2015, 2016), К. С. Петрову-Водкину (Хвалынск, 2016), Л. А. Руслановой (2018),
А. А. Мыльникову (2018, Энгельс), «Петру Великому»
(совместно с С. Щербаковым, 2022) и многих других.
В год 90-летия Альфреда Шнитке мы записали с Андреем Щербаковым интервью, целью которого было
выяснить, как происходил процесс создания памятника
композитору, как рождался образ, насколько легко было
над ним работать.
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
6, с. 651–652]. Мы обсудили два разных варианта: бюст
и фигуру. Приступили к эскизам. Прорисовали две идеи
на бумаге, начали делать в объёме. Мы так дружно работали, что я уже даже не помню, кто какой придумал
эскиз. Сергей, по-моему, бюст (ил. 1).
Иллюстрация 1. В мастерской А. Щербакова. Первый
вариант (модель) памятника А. Шнитке
Интервью с Андреем Щербаковым
— Андрей, расскажи, как родилась идея поставить
памятник Альфреду Шнитке.
— Памятник был установлен в 2018 году. А процесс
начался, конечно, раньше — в конце 2017 года, осенью.
Ко мне обратился Александр Михайлович Стрелюхин,
в то время глава города Энгельса. И предложил сделать несколько памятников для Энгельса. Памятник
меценату и благотворителю города Покровска6 Фёдору
Кобзарю, художнику Андрею Андреевичу Мыльникову
и Альфреду Шнитке. Всё это происходило в один год, и
мы открывали памятники три дня подряд. Такой вот
нонсенс. Это был очень насыщенный и напряжённый
по работе период. Я в этом году ещё, помимо этих памятников, открыл памятник Лидии Руслановой и «памятник
Учительнице» в Смоленске. Пять памятников за год.
— Известно, что идея установки памятника родилась лет за десять до её воплощения. Было выбрано
место, установлен камень. Но почему-то тогда не получилось её реализовать.
— Да. Эта идея муссировалась давно, многие скульпторы что-то предлагали, но как-то не вышло. И потом
мне предложили. А я в это время, как уже сказал, делал
эскизы памятников Кобзарю и Андрею Андреевичу
Мыльникову. Шнитке стал третьим в очереди. В это
время ко мне приехал Сергей7 (брат Андрея Щербакова, скульптор. — Е. Д.), и я ему говорю: «Давай сделаем
памятник вдвоём, помоги мне, а то мне одному тяжело,
столько всего сразу навалилось». Сергей согласился [4;
Очень важно, что основная идея, центральный образ
родился сообща — сделать музыкальный инструмент
в виде крыла, то есть, в полёте. Главное здесь — движение вверх, по диагонали.
— Ты часто этот приём применяешь в работе.
Используешь силовые линии, которые придают
динамику всей композиции.
— Да-да. Вот эта устремлённость вверх, ощущение
полёта. Это послужило лейтмотивом образа Шнитке как
композитора, творца. Хотя эскизы памятников, конечно,
пластики у Л. П. Калугиной, П. А. Якимовича. Стажёр творческой мастерской под руководством А. В. Учаева (2003–2006) в Поволжском отделении Академии Художеств. Участник групповых, городских, областных, региональных, республиканских,
всесоюзных, международных выставок с 1989 года. Автор более 40 памятников в Саратове, городах России и за рубежом.
Член Союза художников (с 1995). Заслуженный художник России (с 2011). Член-корреспондент Российской Академии художеств (с 2012). Академик Российской Академии художеств (2021).
6
В 1931 году Покровск был переименован в город Энгельс.
7
Сергей Александрович Щербаков — российский скульптор. Родился в 1959 году в Саратове. Учился в Саратовском
художественном училище (1977–1981) у Г. Н. Кашина; в Ленинградском Высшем художественно-промышленном училище
имени В. И. Мухиной (1982–1987) у А. Г. Дема, П. Ф. Куликова. Участник групповых, городских, областных, региональных,
республиканских, всесоюзных, международных выставок с 1988 года. Член Союза художников с 1991 г. Автор памятников,
установленных в Лондоне, Берлине, Саратове, Волгограде, Волжском и др. городах. Заслуженный художник России (2002).
Живёт и работает в г. Волжском Волгоградской обл.
85
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
разные. Бюст был достаточно лаконичный, собранный.
Когда было заседание градостроительного совета,
я сказал, что этот эскиз мне нравится больше. Но когда началось обсуждение, все склонились ко второму
варианту. Он более реалистичный. Здесь ещё больший
акцент сделан на рояль, форма которого напоминает
крыло, есть разлетающаяся партитура. Работа шла достаточно быстро, времени было очень мало, и при такой
интенсивности труда время стало словно сжиматься. Но
так как мы работали с Сергеем, было легче и быстрее,
конечно. Тем более, когда есть уже готовая, общая идея
и понимание того, что делать (ил. 2).
Иллюстрация 2. В мастерской А. Щербакова. Первый
и второй варианты (модели) памятника А. Шнитке
— Твой памятник — первый в мире памятник
композитору.
— Да. Получается, что так. Хотя для Шнитке Энгельс — только место рождения, точка на карте.
— А место для установки памятника выбирал
не ты?
— Место мне показали. Сказали, что это сквер Шнитке. Мы посмотрели. Там как раз такая круговая площадка. Соответственно, от самого пространства и родилась
идея круга, на котором стоит памятник.
— И форма постамента необычная.
— Это моя любимая фигура — треугольник. Она
хорошо вписывается в круг. Треугольник более открыт,
в отличие от квадрата. А здесь он ещё по всем углам
86
Изобразительное искусство
немного подрезан. Не случайно, конечно. Это даёт некое
ощущение полётности.
— И сама композиция памятника тоже треугольная.
— Да-да, именно так.
— А сквер получил имя Шнитке ещё до установки
памятника?
— Да, сквер к этому времени уже носил имя Шнитке.
Вернее, даже не весь сквер, а часть его. Там получается
такая интересная конфигурация. В начале сквера стоит
памятник Шнитке, а дальше, рядом с картинной галерей,
филиалом Радищевского музея — Андрею Андреевичу
Мыльникову. То есть получается, что сквер этот поделен
между знаменитыми людьми.
— Андрей, я правильно поняла, что идею установки памятника инициировал город, его руководитель.
— Да, Александр Михайлович Стрелюхин, поскольку
он был главой на тот момент. Он как раз занимался и
руководил этим процессом. Он искал спонсоров. Соединил меня со спонсором. Подключил людей, которые
были заинтересованы в благоустройстве города. Надо
было много вложений сделать, гранит для постамента,
например. На постаменте памятника написаны фамилии
всех, кто принимал участие и помогал реализовывать
этот проект. Все памятники, которые я в том году сделал: Шнитке, Мыльникову и Кобзарю, смогли быть
поставлены только благодаря найденным меценатам.
Всегда приятно, когда правительство города работает
в содружестве с ориентированным бизнесом и может
делать такие важные вещи по увековечиванию памяти
великих для своего города людей. Как раз здесь все
сработали на 100 процентов, поэтому и результат получился достойный. Памятники поставлены из бронзы
и цельного гранита, поэтому всё должно сохраниться
во времени.
— Андрей, а расскажи о самом процессе работы
над памятником. О его этапах.
— Сначала делается набросок на бумаге. Потом начинаешь лепить маленькую форму-эскиз в пластилине. Затем переводишь в материал. Делаешь каркас и
начинаешь работать над памятником уже в размере. И
завершающий этап процесса — это уже отливка в материале, бронзе. Отдельно ноги, руки, торс, инструмент.
Всё отливается по частям, потом стягивается на болтах
и сваривается, швы зачищаются, обрабатываются, тонируются и их не видно (ил. 3).
Но самый первый этап — это, конечно, фиксация
идеи. Естественно, идея зарисовывается на бумаге. Это
необходимо, чтобы не искать потом в объёме, в объёме это очень тяжело. Если ты экспериментируешь
в объёме, то это должно быть что-то небольшое, чтобы
можно было со всех сторон посмотреть. Поэтому сначала рисуют, зачастую с нескольких ракурсов. А потом,
когда идея уже вырисовывается, она фиксируется хотя
бы с одного ракурса, чаще всего фронтального. Здесь,
в памятнике, идея работает со всех точек. Например,
образ рояля-крыла можно было и дальше продолжить,
заполнить пустоты, сделать клавиши, механизмы.
Изобразительное искусство
Иллюстрация 3. Отливка в материале
— Образ рояля, как крыла здорово вышел. Мне
кажется хорошо, что в нём нет детализации: клавиш, второй ножки у инструмента. Иначе всё стало
бы более реалистичным, нежели символическим. А
в данном варианте получился образ-метафора. Создаётся ощущение парения, полёта. И в тоже время,
Альфред Гарриевич держит инструмент рукой…
— Да, да. Этот жест руки очень важен, он как связь
с инструментом, музыкой (ил. 4).
Иллюстрация 4. Памятник А. Шнитке
— Образ композитора получился достаточно
экспрессивный, заряженный внутренней энергией.
— Мы старались передать это и через детали. Напри-
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
мер, сделали специально жесткие складки на одежде.
— В этой работе чётко выверенные линейные
ритмы.
— Так и есть. Они читаются со всех сторон и ракурсов.
Композиция, с одной стороны, простая. Но с другой —
тут есть свои определенные сложности: и в посадке, и
в расположении фигуры с инструментом. Здесь много
ритмических линий: вертикалей, диагоналей. Но мы
старались, чтобы не было перебора. Все эти вещи были
задуманы, но доводились уже в большой работе, когда
лепили и начали делать каркас. Смотрели, и во время
работы вносили поправки. А сам эскиз — это идея. Мы
уже потом завершали образ. Например, голову сделали
«посильнее».
В принципе, художники действуют по-разному. Зачастую поставленные временные рамки заставляют
работать сразу в размере, хотя это неправильно. Эскиз
должен быть чётко пролеплен, отработан. Например,
в размере одна пятая к будущему памятнику. И тогда
потом проще его переводить: масштабируешь и всё.
А когда этого нет, приходится в самом процессе заниматься поисками. Хотя, в принципе, какие-то детали
в размере всё равно выползают. Но это другое. Может
даже техника деталей измениться: структура складок,
например, или прочая фактура. Размер диктует уже свои
профессиональные задачи.
— Если сравнивать два эскиза, то в воплощённом
варианте образ композитора более открытый, а
в первом — более замкнутый, обращённый внутрь
себя. Сложенные в замок руки, опущенная голова —
закрытая композиция.
— Да, всё так. В воплотившемся варианте образ получился свободным, открытым. А там более сосредоточенно-собранным. Хотя, не знаю, может быть первоначальный вариант даже более отвечал характеру Шнитке, его
сути. Образ был более лаконичный, монументальный.
Но мне нравятся оба варианта. Есть ведь возможность
поставить в другом месте и второй памятник (ил. 5).
— Скажи ещё, пожалуйста, про образ самого
Шнитке. Ты использовал фотографии? Смотрел записи?
— Да, я обращался к фотографическому материалу.
Он по нему достаточно большой. Мы очень много фотографий пересмотрели. Но точно такой же позы как
на памятнике на фотографии не было. Но есть характерные для Шнитке позы: как он сидит, поворот головы.
— Первый этап работы, это погружение в историю
жизни, сбор материала?
— Да, конечно. От заказа до создания образа обычно
проходит какое-то время. Время раздумий. Надо почувствовать человека, прожить внутри себя какие-то
моменты. Музыку послушать. Документальные записи
посмотреть. Мы смотрели, как он одевался, чтобы самим
не выдумывать.
— То есть на памятнике Альфред Гарриевич одет
так, как обычно одевался?
— Да. Он и пиджаки, конечно, носил. Но мы показали
его в неофициальный момент, не во время выступлений,
87
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Иллюстрация 5. В мастерской А. Щербакова. Два
варианта (модели) памятника А. Шнитке
концертов. А именно в рабочий, когда один на один
с музыкой, когда придумывается какая-то мелодия.
Соответственно, и человек одет более свободно.
— Интересна ещё и поза. Шнитке не повёрнут
к роялю, а наоборот, сидит, отвернувшись от него.
— Так выражена идея раздумий, погружения внутрь,
когда приходит вдохновение, совершается творческий
полёт. И образ крыла от этого. Даже ветер там чувствуется. Рояль как бы парит в воздухе. На самом деле, сам
характер музыки Шнитке сподвиг нас создать именно
такой образ, так его наполнить. Это на уровне высоких
материй всё происходит. Сначала рождается образ, символ, а потом уже всё остальное. Идея приходит откуда-то
сверху. Как говорится, все идеи — они в воздухе летают.
Нужно только настроиться и взять её. Если из этого
исходить, то всё так. Поэтому, такой образ не случайно
получился (ил. 6).
— К твоему рассказу сразу вспомнился фильм
Александра Митты «Сказка странствий», очень его
люблю. И там есть фрагмент, когда герои — Марта
и Орландо, в исполнении Андрея Миронова и Татьяны Аксюты, летят над землёй на самодельном
летательном аппарате. И этот удивительный полёт,
который является символическим образом свободы,
как раз происходит под музыку Шнитке. Я впервые
посмотрела этот фильм в детстве и запомнила эту
музыку навсегда.
— Когда я работал над образом, я слушал музыку
88
Изобразительное искусство
Иллюстрация 6. Памятник А. Шнитке
Шнитке. Не могу сказать, что я глубоко в неё вникал.
Конечно, есть у него музыка наиболее понятная для всех.
Это как раз музыка к кинофильмам. Она гармоничная,
мелодичная. С другой стороны, у него есть творчество
авангардное, которое до сих пор многим ещё не совсем
понятно. Оно понятно, в основном, профессионалам, людям, связанным с музыкой, которые глубоко разбираются и понимают, на чём эта музыка основана. Собственно
говоря, это так же, как и в изобразительном искусстве.
Профессионалы-художники понимают, что есть авангард, есть классическое, реалистическое искусство, а
законы композиции — они одинаковые для всего, что
там, что там. И, соответственно, если человек мастер,
то он владеет этими законами, на которых строится и
формальная, и классическая композиция.
— Легко тебе работалось над памятником Шнитке, без сопротивления?
— Очень легко, да. Мы же вдвоём с Сергеем его делали. Мы обычно, когда вдвоём работаем, поспорим,
где-то «зарубимся» — нет, только вот так надо. А тут,
наоборот, как-то сразу всё сложилось… Это тот редкий случай, когда делаешь и словно не замечаешь, как
всё происходит. Сложно сказать, от чего это зависит.
От самого ли человека, которому делаешь памятник,
его личностных качеств. Не знаю. Просто бывает, что
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
Изобразительное искусство
работа очень трудно идёт. А здесь нет. Легко (ил. 7).
Интервью с Андреем Александровичем Щербаковым является ценным документальным источником,
позволяющим «изнутри» понять, как происходил процесс создания памятника, проследить все его этапы:
от рождения идеи до её воплощения, выявить, с чем
связан выбор стилистического решения.
Из беседы стало очевидно, что при работе над созданием образа Альфреда Шнитке скульптор использовал
характерный, авторский стиль, сочетающий черты
символизма и бурного, темпераментного экспрессионизма. Применяя приёмы конструктивного построения
и геометрической стилизации формы, при которых
объёмы связаны друг с другом энергичными силовыми
линиями, художник рассматривал скульптуру не как
статичный объект, а как некий центр движущихся масс.
Образ Альфреда Шнитке в исполнении Андрея и
Сергея Щербаковых наполнен экспрессией и психологизмом. Композитор находится в состоянии глубокого
сосредоточенного размышления, погружения в пространство искусства, которое позволило ему «выйти»
за рамки земного притяжения.
Иллюстрация 7. Фрагмент памятника А. Шнитке
Литература
1. Вышитый проект Андрея Щербакова: альбом / сост.
А. Щербаков; вст. ст. С. Трунёва, Е. Слухаевой. М.: Jam Creative
& Production Group, 2013. 47 с.
2. Демченко А. И. Наш Альфред Шнитке. Саратов: Волга,
2024. 176 с.
3. Демченко А. И. Четыре взгляда из XXI столетия: к 90-летию со дня рождения А. Шнитке. Саратов: Саратовская гос.
консерватория им. Л. В. Собинова, 2024. 76 с.
4. Сергей Щербаков. Скульптура: альбом / сост. С. А. Щербаков, Е. В. Слухаева; вст. ст. Л. А. Яхонтовой. Волгоград:
Прин Терра, 2010. 68 с.
5. Холопова В. Н. Композитор Альфред Шнитке. СПб.: Пла-
нета музыки, 2020. 328 с.
6. Художники Саратова и Саратовской губернии: биобиблиографический указатель / авт.-сост. И. А. Жукова,
Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова. Саратов: Новый ветер,
2010. 692 с.
7. Шульгин Д. И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке.
М.: Direct-Media, 2014. 161 с.
8. Щербаков А. А. Интервью // Диалог с художником. Сборник интервью. Выпуск 1 / авт.-сост. Г. А. Беляева, Е. А. Дорогина, Е. П. Николаева. Саратов: СГХМ имени А. Н. Радищева,
2013. С. 147–176.
References
1. Vyshityj proekt Andreya Shherbakova [Embroidered project by Andrey Shcherbakov]: albom / sost. A. Shherbakov; vst. st.
S. Trunyova, E. Sluhaevoj. M.: Jam Creative & Production Group,
2013. 47 p.
2. Demchenko A. I. Nash Alfred Shnitke [Our Alfred Schnittke].
Saratov: Volga, 2024. 176 p.
3. Demchenko A. I. Chetyre vzglyada iz XXI stoletiya: k 90-letiyu so dnya rozhdeniya A. Shnitke [Four Views from the XXI Cen-
tury: To the 90th Anniversary of of A. Schnittke]. Saratov: Saratovskaya gos. konservatoriya im. L. V. Sobinova, 2024. 76 p.
4. Sergej Shcherbakov. Skulptura [Sergey Shcherbakov.
Sculpture]: albom / sost. S. A. Shcherbakov, E. V. Sluhaeva; vst. st.
L. A. Yahontovoj. Volgograd: Prin Terra, 2010. 68 p.
5. Holopova V. N. Kompozitor Alfred Shnitke [Composer Alfred Schnittke]. SPb.: Planeta muzyki, 2020. 328 p.
6. Hudozhniki Saratova i Saratovskoj gubernii [Artists
89
ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
ВОПРОСЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 2024 № 3 (25)
90
Изобразительное искусство
of Saratov and Saratov Province]: biobibliograficheskij ukazatel / avt.-sost. I. A. Zhukova, Yu. S. Rogozhnikova, O. N. Chervyakova. Saratov: Novyj veter, 2010. 692 p.
7. Shulgin D. I. Gody neizvestnosti Alfreda Shnitke [The Unknown Years of Alfred Schnittke]. M.: Direct-Media, 2014. 161 р.
8. Shcherbakov A. A. Intervyu [Interview] // Dialog s Hudozhnikom [Dialogue with the artist]. Sbornik intervyu. Vypusk 1 /
avt.-sost. G. A. Belyaeva, E. A. Dorogina, E. P. Nikolaeva. Saratov:
SGXM imeni A. N. Radishheva, 2013. P. 147–176.
Информация об авторе
Information about the author
Елена Алексеевна Дорогина
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова»
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Cаратовский государственный художественный музей
имени А. Н. Радищева»
Саратов, Россия
Elena Alekseevna Dorogina
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Saratov State Conservatoire named after L. V. Sobinov»
Federal State Budget Cultural Institution «Saratov State Art Museum named after A. N. Radishchev»
Saratov, Russia