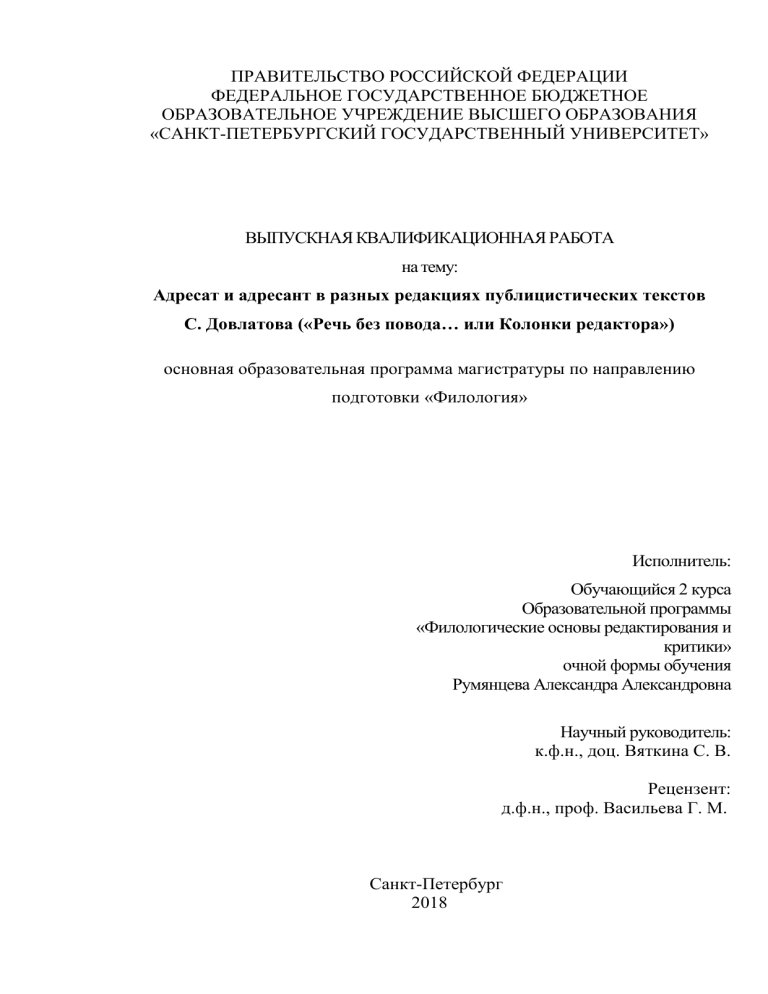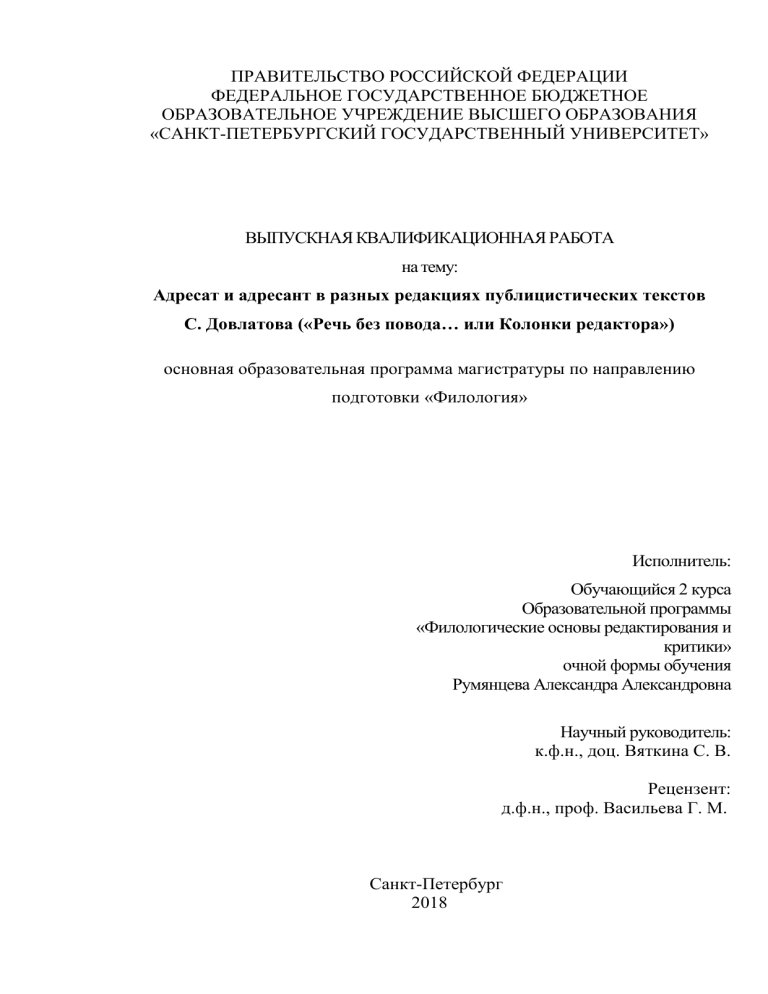
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
Адресат и адресант в разных редакциях публицистических текстов
С. Довлатова («Речь без повода… или Колонки редактора»)
основная образовательная программа магистратуры по направлению
подготовки «Филология»
Исполнитель:
Обучающийся 2 курса
Образовательной программы
«Филологические основы редактирования и
критики»
очной формы обучения
Румянцева Александра Александровна
Научный руководитель:
к.ф.н., доц. Вяткина С. В.
Рецензент:
д.ф.н., проф. Васильева Г. М.
Санкт-Петербург
2018
Содержание
Введение................................................................................................................... 4
Глава 1. Теоретические аспекты исследования категорий адресанта и
адресата в лингвистике ........................................................................................... 9
1.Смещение научной парадигмы в языкознании: антропоцентрический
подход.................................................................................................................... 9
1.1.Вопросы изучения автора текста .............................................................. 9
1.2.Коммуникативная лингвистика ............................................................... 10
1.3.Лингвистическая прагматика .................................................................. 11
1.4.Теория текста............................................................................................. 12
1.5.Когнитивная лингвистика ........................................................................ 14
2. Категория адресанта в лингвистике ............................................................. 15
2.1. Адресант в концепциях В. В. Виноградова и М. М. Бахтина ............. 15
2.2. Исследования категории «субъект речи» в лингвистике................. 18
2.2.1. Исследование эгоцентрических элементов .................................... 18
2.2.2. Метаязыковая рефлексия ................................................................. 20
2.2.2. Категория лица глагола .................................................................... 22
2.2.3. Категория модальности .................................................................... 23
2.2.4. Речевой портрет адресанта .............................................................. 24
2.2.5. Изучение коммуникативных стратегий и тактик говорящего ..... 24
3. Категория адресата в лингвистике ............................................................... 26
4. Адресант – адресат в публицистическом тексте ........................................ 29
4.1. Понятие публицистичности .................................................................... 29
4.2. Адресант и адресат в публицистических текстах ................................ 31
4.2.1. Диалогичность ................................................................................... 33
2
4.2.2. Эмоциональное воздействие ............................................................ 35
Выводы ................................................................................................................ 35
Глава 2. Категории адресата и адресанта в публицистических текстах
Довлатова разных редакций ................................................................................. 38
1. Проблемы и аспекты изучения художественного и публицистического
творчества Довлатова ........................................................................................ 38
2. Адресант в публицистических текстах Довлатова разных редакций....... 44
2.1. Средства экспликации адресанта ........................................................... 44
А) Эгоцентрические элементы и маркеры метаязыковой рефлексии
(речевой портрет адресанта) ...................................................................... 45
Б) Категория лица: я – мы – они ................................................................ 49
В) Оппозиция свое - чужое ........................................................................ 52
Г) Отношение к Америке ........................................................................... 54
2.2. Трансформация категории адресанта в поздних редакциях ............... 56
3. Адресат в публицистических текстах Довлатова разных редакций ......... 62
3.1. Средства экспликации адресата ............................................................. 62
3.2. Трансформация категории адресата в поздних редакциях.................. 65
4. Характеристика публицистических текстов С. Довлатова с точки зрения
коммуникативных целей и стратегий адресанта ............................................ 69
А) Коммуникативная стратегия убеждения ............................................. 71
Б) Коммуникативная стратегия анекдота ................................................. 73
Выводы ................................................................................................................ 77
Использованная литература ................................................................................. 83
3
Введение
Внимание
исследователей
к
творчеству
Довлатова
возросло
за последнее время, в связи с чем появляется множество интересных работ,
большинство
из
которых
посвящено
специфике
художественных
произведений писателя. Редакторская и публицистическая деятельность
Довлатова оказывается недостаточно изучена, хотя представляет собой
значительную часть творческого наследия писателя и требует более
пристального внимания.
Одной из отличительных особенностей публицистики Довлатова
можно назвать приемы самоцитации и саморедактирования: при создании
текста автор неоднократно возвращается к своим прошлым работам,
редактирует их и включает в новый текст. Изменения, которые писатель
вносит при редактировании, зависят от разных факторов, но в первую
очередь – от фактора адресата. Ориентируясь на определенную аудиторию,
Довлатов изменяет свои тексты в соответствии с авторской интенцией и
запросами адресата.
В
работе
через
сопоставление
текстов
разных
лет
редакций
исследуется, как трансформируется коммуникативная стратегия адресанта и
меняется
выбор
используемых
языковых
средств
в
зависимости
от коммуникативных целей адресанта и фактора адресата.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что категории
автора (адресанта) и читателя (адресата) в основном анализируются
на материале
художественного,
а
не
публицистического
текста1.
Виноградов В. В. О языке художественной прозы: избр. тр. М.: Наука, 1980. 360 с.;
Бахтин М. М. Проблемы текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках
// Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 297–325;
Арутюнова Н. Д. Фактор адресата // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1981.
Т. 40. № 4. С. 356–367; Падучева Е. В. Говорящий как наблюдатель: об одной
возможности применения лингвистики в поэтике // Известия АН. Серия литературы и
языка. Т. 52. №3. С. 33–44; Большакова А. Ю. Теории автора в современном
литературоведении // Известия АН. Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 5. С. 15–24;
1
4
Современные исследования по коммуникативной стилистике, прагматике и
теории текста2, по метаязыковой рефлексии в текстах3, исследования,
посвященные особенностям функционирования категорий автора и читателя
в публицистических произведениях4 открывают возможность анализа
публицистического текста как динамического образования.
Несмотря на интерес исследователей к творчеству Довлатова и
большое количество работ, посвященных особенностям его прозы5,
исследования редакторской деятельности писателя в «Новом американце»
немногочисленны6,
а
лингвистическая
сторона
публицистической
Она же. Образ читателя как литературоведческая категория // Известия АН. Серия
литературы и языка. 2003. Т. 62. № 2. С. 17–26; Анисова А. А. Фактор адресата как
категория художественного текста // Филологические науки. Вопросы теории и практики.
2014. № 2 (32): в 2-х ч. Ч. I. С. 27-30 и т.д.
2
Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.: Наука, 1973. 352
с.; Она же. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Наука, 1982. 368 с.;
Валгина Н. С. Теория текста. М.: Мир книги, 1998. 210 с.; Николина Н. А. Активные
процессы в языке современной русской художественной литературы. М.: ИТДГК
«Гнозис», 2009. 336 с.; Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи.
М.: Издательство ЛКИ, 2008. 288 с. и т.д.
3
Шумарина М. Р. Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия в
произведениях русской прозы. М.: Флинта, 2016. 327 с.; Вепрева И. Т. Языковая
рефлексия в постсоветскую эпоху. М.: Олма-Пресс, 2005. 384 с. и т.д.
4
Каминская Т. Л. Адресат в текстах периодической печати // Вестник Кемеровского
государственного университета. Серия «Журналистика». 2002. Вып. 3. С. 194-198; Она
же. Адресат текстов массовой коммуникации: реальный, «вычисленный» и созданный //
Зарубежная и российская журналистика: актуальные проблемы и перспективы развития:
материалы Междунар. науч.-практ. конф. Волгоград, 2005. С. 36–41; Дускаева Л. Р.
Диалогическая природа газетных речевых жанров / Под ред. М.Н. Кожиной. СПб.:
СПбГУ: Филол. факультет, 2012. 274 с. и т.д.
5 Добрычева А. А. Особенности синтаксической организации прозы Сергея Довлатова //
Вестник Череповецкого государственного университета. 2011. Т. 1. № 4. С. 57–60;
Доброзракова Г. А. Творчество С. Довлатова в контексте традиций русской литературы
(обзор исследований) // Известия Самарского научного центра РАН. 2009. Т. 11. № 4 (6).
С. 1533–1541; Она же. Путь Сергея Довлатова к прозе // Мир науки, культуры,
образования. 2010. № 4 (23). Ч. II. С. 80–84; Загидуллина М. В. Трансформация оценки
классического наследия (Довлатов и Достоевский) // Вестник Челябинского
государственного университета. Филология. Искусствоведение. 2010. № 13 (194). Вып. 43.
С. 39–42; Ласточкина Е. В. Авторская позиция и способы ее выражения повести С.
Довлатова «Зона» // Вестник РУДН. Серия Литературоведение. Журналистика. 2012. № 2.
С. 34–43.
6 Ласточкина Е. В. Сергей Довлатов – редактор газеты «Новый американец» // Вестник
РУДН. 2010. № 2. С. 52–60; Байбатырова Н. М. Публицистическая деятельность
С. Довлатова в газете «Новый американец» // Вестник Мордовского университета. 2015. Т.
25. №3. С. 57–65.
5
деятельности С. Довлатова оказывается почти не изученной, что не позволяет
в полной мере охарактеризовать творческое «я» писателя. В связи с этим
возникает необходимость комплексного анализа публицистических текстов
Довлатова (в том числе и с точки зрения адресант-адресатных отношений),
с помощью которого можно будет описать особенности образа автора
(адресанта).
Цель исследования – охарактеризовать коммуникативную стратегию
адресанта публицистического текста в динамическом аспекте на основе
анализа экспликации категорий адресата и адресанта в разновременных
авторских редакциях текстов.
Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:
1) на основе анализа литературы вопроса определить средства экспликации
категории адресанта и адресата;
2) выявить
средства
экспликации
категорий
адресанта
и
адресата
в публицистических текстах разных по времени авторских редакций;
3) на основе сравнительного анализа одинаковых публицистических текстов
в редакциях разных лет проследить трансформацию способов построения
текста в соответствии с изменением фактора адресата;
4) описать речевой портрет адресанта и используемые им коммуникативные
стратегии.
В соответствии с целью и задачами объект исследования категории
адресата и адресанта в публицистических текстах, предмет исследования
языковые единицы, выявляющие особенности отношений адресант – адресат
в публицистическом тексте.
Источником для исследования послужили публицистические тексты
С. Довлатова разных лет («Колонки редактора», выходившие в газете
«Новый американец» (1980–1982) и повесть «Невидимая газета» (1984)),
6
опубликованные в сборнике «Речь без повода… или Колонки редактора.
Ранее неизданные материалы»7.
Гипотеза предстоящего исследования строится на предположении, что
прием саморедактирования – поиск формы выражения идеального адресата
в публицистических текстах С. Довлатова: редакционные правки вносятся
под
влиянием
понимания
автором
фактора
адресата
и
нацелены
на достижение успешной эстетической коммуникации, которой адресант
никак не может достичь.
Научная новизна исследования состоит в том, что в настоящее время
не существует работ, посвященных анализу публицистических текстов
С. Довлатова с точки зрения реализации в них адресант-адресатных
отношений и необходимых для выявления особенностей образа автора.
Данная работа может послужить базой для дальнейшего исследования
публицистического творчества Довлатова, а также дополнить описание
творческого «я» писателя.
Материал
исследования
представлен
статьями
из
«Колонок
редактора» за 1980 – 1982 годы (28 статей) и главами из повести «Невидимая
газета» (17 глав), в состав которых вошли отредактированные тексты
«Колонок». Для анализа были отобраны тексты, в которых встречаются
приемы самоцитации и саморедактирования, а также тексты, наиболее
репрезентативные с точки зрения адресант-адресатных отношений.
В работе предприняты функциональный (анализ экспликантов адресата
и
адресанта
в
соответствии
целью
и
задачами
коммуникации)
и
прагматический (исследование взаимодействия адресанта (автора) и адресата
(читателя) в акте коммуникации) подходы к описанию материала.
Используются следующие методы анализа:
1)
описательный метод для характеристики конструкций, в которых
проявляются категории адресанта и адресата;
Довлатов С. Речь без повода… или Колонки редактора. Ранее неизданные материалы.
М.: Махаон, 2006. 432 с. [Электронный ресурс]: URL: https://coollib.com/b/191485/read#t1
7
7
2)
метод сравнительного анализа текстов редакций разных лет;
3)
метод контекстного анализа.
Теоретическая база предстоящего исследования делится на три
группы: литература по теории языкознания, литература по творчеству
Довлатова и словари. В работе используются следующие словари и
справочники: «Лингвистический энциклопедический словарь»8, «Новый
словарь
методических
терминов
и
понятий»9,
«Словарь-справочник
лингвистических терминов»10, Новый объяснительный словарь синонимов
русского языка (Ю. Д. Апресяна)11.
Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. Ярцевой. М.: Советская
энциклопедия, 1990. 688 с. [Электронный ресурс]: URL: http://tapemark.narod.ru/les/
9
Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и
практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009. 448 с.
10
Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.:
Просвещение,
1976.
399
с.
[Электронный
ресурс]:
URL:
https://dic.academic.ru/contents.nsf/lingvistic/
11
Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. акад. Ю. Д.
Апресяна. М.; Вена: Языки славянской культуры; Венский славистический альманах,
2004. 1488 с.
8
8
Глава 1. Теоретические аспекты исследования категорий адресанта и
адресата в лингвистике
1. Смещение научной парадигмы в языкознании:
антропоцентрический подход
1.1.
Вопросы изучения автора текста
Фигура автора (и реального, и абстрактного) всегда привлекала
внимание исследователей, однако систематическое изучение автора, а позже
и читателя как текстовой категории началось не так давно – во второй
половине XX века «с изменением в лингвистике (как и в целом в науке)
парадигмы научного знания: на смену формальному, системно-структурному
методу
пришел
антропоцентрический»12,
согласно
которому
текст
анализируется с позиций субъекта и объекта речи. Как отмечает О. С. Иссерс,
«стимулом
для
такого
сдвига
научного
интереса
явились…
экстралингвистические факторы: в обществе сформировался социальный
заказ на знание закономерностей человеческого общения»13.
В результате в рамках литературоведения возникает наука о теории
повествования – нарратология, дисциплина, которая «стремится к открытию
общих структур всевозможных “нарративов”, т. е. повествовательных
произведений
любого
жанра
исследование
различных
и
любой
функциональности»14
повествовательных
инстанций
и
через
отдельных
участников текстовой коммуникации (имплицитный автор – имплицитный
читатель). Вклад в развитие нарртологической теории привнесли такие
выдающиеся
ученые,
как
В. Я. Пропп,
Р. О. Якобсон,
М. Ю. Лотман,
Ж. Женетт, Б. А. Успенский, Ц. Тодоров, В. Шмид и многие другие.
В лингвистике ученые пришли к изучению высказывания как
коммуникативной
единицы,
сосредоточив
внимание
на
субъекте,
Анисова А. А. Фактор адресата как категория художественного текста // Филологические
науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 2 (32): в 2-х ч. Ч. I. C. 28.
13
Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Издательство
ЛКИ, 2008. С. 14.
14
Шмид B. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 9.
12
9
а не на объекте этого высказывания: «интерес к субъективному фактору
вызвал изменение той единицы, которой
принадлежит центральное
положение в семантическом анализе. Если ранее для лингвистики важным
было
значение
слова…
то
прагматика
сделала
предметом
своего
исследования коммуникативное содержание высказывания»15. С этой точки
зрения художественные тексты начинают рассматривать как особый вид
коммуникации – художественный. Следовательно, «возникают и участники
коммуникации, которых называют по-разному: автор и читатель, адресант и
адресат и др.»16.
Таким
образом,
в
лингвистике
возникает
множество
новых
направлений, посвященных изучению текста как акта коммуникации и
участников
этой
коммуникации:
коммуникативная
лингвистика,
коммуникативная стилистика и грамматика, прагматика текста, теория
текста и т. д.
1.2.
Коммуникативная лингвистика
Коммуникативная лингвистика, основные положения которой были
сформулированы
в
трудах
таких
ученых,
как
И. Г. Милославский,
Г. А. Золотова, А. В. Бондарко, О. А. Крылова и др., стала крупнейшим
направлением в лингвистике второй половине ХХ века. В основу подхода
положен
принцип
антропоцентризма,
согласно
которому
язык
рассматривается как неотъемлемая часть жизнедеятельности человека и
изучается в контексте его коммуникативной деятельности. Особенность
такого подхода заключается в том, что за единицы анализа берутся речевые
акты (утверждение, просьба, вопрос и т. д.), «коммуникативная значимость
структурных элементов которых (слов, словосочетаний, предложений)
Арутюнова Н. Д. Фактор адресата // Известия Академии наук СССР. Серия литературы
и языка. 1981. Т. 40. № 4. С. 356-357.
16
Анисова А. А. Фактор адресата как категория художественного текста // Филологические
науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 2 (32): в 2-х ч. Ч. I. C. 28.
15
10
проявляется в связном тексте (дискурсе)»17. Таким образом, текст
исследуется через изучение речевых, а не языковых элементов (как закрытой
системы), что позволяет рассматривать текст с точки зрения его
функционирования.
Говорящему в коммуникативной лингвистике отводится ключевая
роль, поскольку он, в соответствии с целью и выбранным способом ее
достижения, использует определенные речевые акты и выстраивает речевую
стратегию текста. В связи с этим особое внимание уделяется изучению
возможных речевых ситуаций и репертуара речевых стратегий и тактик,
которыми может оперировать говорящий. Одна из приоритетных задач при
анализе – «выявить стратегически релевантные ситуации, определить
потенциальный репертуар тактик с учетом варьирования коммуникативных
параметров»18.
Параллельно
1.3.
Лингвистическая прагматика
с
коммуникативной
лингвистикой
развивается
дисциплина, возникшая на стыке языкознания, философии, психологии и
социологии – лингвистическая прагматика, которая согласно краткому
определению «изучает язык в употреблении»19.
Прагматика, как и коммуникативная лингвистика, пришла на смену
сравнительно-историческому подходу и лингвистическому структурализму.
Распространенным стало мнение, что «лингвистика, достигнув высокой
степени абстракции в познании языка, имеет возможность перейти
от изучения
минимальных
лингвистических
единиц
(фонемы,
слова,
словосочетания, предложения и др.) к изучению многомерных и сложных
образований, включив в сферу своих интересов все аспекты речевой
Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и
практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР. 2009. С. 99.
18
Иссерс О С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Издательство
ЛКИ, 2008. С. 10-11.
19
Сусов И. П. Лингвистическая прагматика. М.: Восток-Запад, 2006. С. 6.
17
11
деятельности, речевого взаимодействия, речевой коммуникации…»20. Так
фокус изучения сместился с языка как закрытой системы на особенности
функционирования языка в разных условиях. Как отмечает И. П. Сусов,
«прагматический поворот означал, что теперь в центре внимания оказывается
живой язык в действии, во всем многообразии его функций и социальнофункциональных вариантов»21.
В связи с этим меняется и подход к изучению говорящего: абстрактный
уступает
свое
место
«конкретному,
реальному
говорящему,
осуществляющему свою деятельность общения каждый раз в новой
обстановке, в новом коммуникативно-прагматическом пространстве»22.
Таким образом, прагматика, в отличие от коммуникативной лингвистики,
«берет
на
вооружение
не
принцип
Антропоцентризма,
а
принцип
Эгоцентризма»23: в центре оказывается не просто человек, а конкретная
языковая личность в определенный момент времени.
1.4.
Теория текста
Еще одно направление, сложившееся во второй половине ХХ века и
базирующееся на коммуникативном подходе, – теория текста. Оно
образовалось на стыке разных филологических наук: «текстологии,
лингвистики
текста,
поэтики,
риторики,
прагматики,
семиотики,
герменевтики»24.
В рамках данной дисциплины текст рассматривается как акт
коммуникации между автором и читателем, поскольку «в тексте заключена
Комарова З. И. Коммуникативно-прагматическая парадигма в дисциплинарнометодологическом пространстве современной лингвистики // Вестник Челябинского
государственного университета. 2013. № 1 (292). Филология. Искусствоведение. Вып. 73.
С. 66–67.
21
Сусов И. П. Лингвистическая прагматика. М.: Восток-Запад, 2006. С. 11.
22
Там же.
23
Там же.
24
Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. Ярцевой. М.: Советская
энциклопедия, 1990. 688 с. [Электронный ресурс]: URL: http://tapemark.narod.ru/les/ (дата
обращения: 07.02.2017).
20
12
речемыслительная
деятельность
пишущего
(говорящего)
субъекта,
рассчитанная на ответную деятельность читателя (слушателя), на его
восприятие»25. В связи с этим говорится о двунаправленности текста (с одной
стороны, на автора, с другой – на читателя), который «оказывается
одновременно
и
результатом
деятельности
(автора)
и
материалом
для деятельности (читателя-интерпретатора)»26.
При изучении текста с точки зрения данного подхода рассматриваются
«признаки и характеристики (как структурные, так и функциональные)
текста как коммуникативной единицы высшего уровня, как цельного
речевого произведения»27. Это позволяет взглянуть на текст как на отдельное
высказывание, самостоятельный дискурс, изучаемый без отрыва от его
коммуникативного фона, для чего используются функциональный и
прагматический подходы.
Функциональный анализ, предполагающий «учет предварительной
обусловленности авторского выбора тех или иных средств выражения
смысловой структуры текста его видовой и жанровой целеустановкой»28,
позволяет обнаружить авторские интенции в тексте и рассмотреть, как
отдельные элементы текста участвуют в его организации. Благодаря этому
становится
возможно
«выйти
за
пределы
собственно
языковых
характеристик текста и перейти к анализу понятийных категорий», в том
числе – адресата и адресанта.
Прагматический анализ предполагает исследование взаимодействия
адресанта (автора) и адресата (читателя) в акте коммуникации. С его
помощью устанавливается мера «полезной информации в тексте» с учетом
«типологии читательского адреса»29. В результате прагматический анализ
позволяет
сделать
выводы
о
том,
насколько
Валгина Н. С. Теория текста. М.: Мир книги, 1998. С. 5.
Там же.
27
Там же. С. 7.
28
Там же. С. 13.
29
Там же.
25
26
13
текст
соответствует
предполагаемому адресату и его требованиям.
Таким образом, в теории текста рассматриваются три основных
элемента
коммуникативного
акта
(производитель
текста)
–
речемыслительной
деятельности)
в
текст
–
их
взаимодействии:
(материальное
читатель
«автор
воплощение
(интерпретатор)»30.
Это
позволяет выйти за рамки лингвистического анализа и исследовать текст с
экстралингвистических позиций, а также через изучение двунаправленности
текста раскрыть особенности организации текста и его функционирования.
1.5.
Когнитивная лингвистика
Также важную роль при изучении текста как коммуникативной
единицы играет когнитивная лингвистика – направление, сложившееся во
второй половине 1970-х годов, «в центре внимания которого находится язык
как когнитивный инструмент, система знаков, определяющая презентацию,
кодирование и преобразование информации»31, т.е. соотношение языка и
сознания. Анализ адресанта оказывается невозможен без учета когнитивных
исследований, поскольку в его речи отражаются особенности мышления
автора.
В рамках когнитивной лингвистики «язык получил статус “окна” в
человеческое сознание, а языковые структуры стали материалом для
рассуждений о ментальных репрезентациях»32, что позволяет рассматривать
выбор говорящим тех или иных языковых единиц в зависимости от его
ментальных установок и выявить особенности мышления языковой личности
(адресанта).
Ценность когнитивного подхода также заключается в том, что он
позволяет «интерпретировать нестандартные употребления не как ошибки,
Валгина Н. С. Теория текста. М.: Мир книги, 1998. С. 7.
Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и
практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009. С. 95.
32
Скребцова Т. Г. Когнитивная лингвистика: курс лекций. СПб.: Филологический
факультет СПбГУ, 2011. С. 19.
30
31
14
а как специфические операции над знаниями»33, которые намеренно
используются
говорящим
для
достижения
какой-либо
цели.
Такие
отступления и нарушения помогают «обнаружить скрытые намерения
говорящего либо установку слушающего на некооперативное поведение,
не выраженные в поверхностной структуре высказывания»34.
При анализе коммуникативной структуры публицистических текстов
Довлатова мы использовали инструментарий всех вышеперечисленных
подходов, опираясь на наиболее влиятельные исследования категорий
адресанта (говорящего) и адресата (слушающего).
2. Категория адресанта в лингвистике
Адресант (говорящий, абстрактный автор, образ автора) – это «лицо,
которому принадлежит речь (текст), отправитель речевого сообщения»35, т.е.
наиболее активный участник коммуникации, непосредственно создающий
текст (устный или письменный) и преследующий коммуникативную цель
каким-либо образом воздействовать на адресата (слушающего).
С этой точки зрения автор любого текста выступает как адресант,
передающий на расстоянии определенную информацию предполагаемому
адресату и оказывающий на него эстетическое воздействие. Такой взгляд на
категорию автора развивался постепенно, большую роль в этом сыграли
фундаментальные
работы
по
теории
автора,
а
именно
концепции
В. В. Виноградова и М. М. Бахтина.
2.1. Адресант в концепциях В. В. Виноградова и М. М. Бахтина
В своих работах В. В. Виноградов использует понятие «образ автора»,
под которым подразумевается «концентрированное воплощение сути
Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Издательство
ЛКИ, 2008. С. 19–20.
34
Там же.
35
Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и
практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009. С. 10.
33
15
произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в
их соотношении с повествователем-рассказчиком или рассказчиками и через
них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого»36.
По Виноградову автор в тексте – это особый образ, стоящий над всеми
остальными образами произведения («авторское “я” всех их, так сказать,
“держит в лоне своем”, но над ними иронически возвышается»37) и в то же
время отвечающий за организацию текста в целом («определяющий
взаимосвязь и взаимодействие всех его элементов»38).
При этом важно отметить, что ученый рассматривает эту категорию как
«индивидуальную словесно-речевую структуру»39, т. е. формируемую с
одной стороны индивидуальным стилем автора, с другой – стилистическими
приемами, характерными для конкретной эпохи. Образ автора проявляется в
самой структуре произведения и в его языке, в то время как образы
персонажей оказываются представлены в языковых элементах, отличных от
речи автора (сказовые формы). Именно с помощью разных стилистических
приемов автор создает в тексте образы рассказчиков, прячась за разными
повествователями: «писатель раздваивает, растраивает и т. п. свой авторский
лик в игре личин, “масок” или влечет за собою цепь чужих языковых
сознаний…»40.
Таким образом, согласно концепции Виноградова чтобы проследить
в тексте образ автора, необходимо обратится к анализу языка конкретного
произведения и используемых в нем стилистических приемов, учитывая при
этом и культурный контекст эпохи, и особенности творчества данного
автора, поскольку понятие «образ автора» может быть как «конструктивным
Виноградов В. В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 1971. С. 118.
Там же. С. 125-126.
38
Там же. С. 151-152.
39
Там же. С. 151.
40
Там же. 1971. С. 127.
36
37
16
элементом одного произведения, цикла произведений», так и «творчества
писателя в целом»41.
М. М. Бахтин, рассуждая о месте автора в произведении, вступает в
диалог с Виноградовым и, с одной стороны, развивает его концепцию, с
другой – опровергает ее.
В первую очередь стоит отметить принципиальную разницу двух
подходов: если для Виноградова образ автора заключен в языковых и
стилистических характеристиках, отличающих его от образов персонажей,
т. е. имеет чисто лингвистический характер, то Бахтин настаивает на более
широком, экстралингвистическом подходе к категории автора в тексте. Вопервых, он отделяет некое творческое начало автора, которое пронизывает
все образы произведения и является их неотъемлемой частью, от «образа
автора», который выступает как один из образов произведения (созданный
творческим началом): «…автор занимает позицию именно в этом реальном
диалоге и определяется реальной ситуацией современности. В отличие от
реального автора созданный им образ автора лишен непосредственного
участия в реальном диалоге (он участвует в нем лишь через целое
произведение), зато он может участвовать в сюжете произведения и
выступать в изображенном диалоге с персонажами…»42.
Во-вторых, исследователь при анализе предлагает рассматривать не
только лингвистические характеристики образов произведения, но и
взаимодействие
этих
образов,
«сложные
динамические
смысловые
отношения особого типа»43, в которые они вступают. Такие отношения он
называет диалогическими и выводит их за рамки лингвистического анализа,
поскольку «диалогические отношения предполагают язык, но в системе
языка их нет»44. Причем Бахтин настаивает на том, что абсолютно любые
Виноградов В. В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 1971. С. 155.
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного
творчества. М.: Искусство, 1979. С. 295.
43
Там же. С. 296.
44
Там же.
41
42
17
высказывания могут вступить в диалогические отношения, если «мы
сопоставим их в смысловой плоскости»45. Таким образом, изучение
высказываний и стоящих за ними образов усложняется, выходя за рамки
чисто языкового анализа, а автор оказывается «вне изображенного (и в
известном смысле созданного им) мира»46.
В связи с этим теории автора В. В. Виноградова и М. М. Бахтина
обычно
противопоставлялись
согласно
мнению,
что
«Бахтин
был
абсолютным сторонником вненаходимости “автора”, тогда как Виноградов
придерживался концепции его внутренаходимости»47. Однако в современном
литературоведении ученые пришли к выводу, что две эти концепции не
взаимоисключающие, а взаимодополняющие: «конкретный анализ… делает
возможным сочетание двух методологических подходов: текстового анализа
произведения как замкнутой системы, где данность повествовательной речи
становится главным средством воплощения творческой активности автора»48
(опираясь на теорию Виноградова), и «подход к произведению как к
открытой системе, что предполагает исследование диалогических отношений
“автора” и героев, с опорой на положения Бахтина»49.
Таким образом, изучение категории адресанта в лингвистике и образа
автора в литературоведении велось с опорой на обе концепции. Рассмотрим
основные лингвистические работы, в которых ставится проблема адресанта
(говорящего) и выделяются средства экспликации адресанта.
2.2. Исследования категории «субъект речи» в лингвистике
2.2.1. Исследование эгоцентрических элементов
Основные положения о фигуре говорящего и описание различных
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного
творчества. М.: Искусство, 1979. С. 296.
46
Там же. С. 295.
47
Большакова А. Ю. Теории автора в современном литературоведении // Известия АН.
Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. №. 5. С. 19.
48
Там же.
49
Там же.
45
18
эгоцентрических
элементов
можно
встретить
в
исследованиях
Е. В. Падучевой. Исследовательница рассматривает говорящего, отдельно
останавливаясь на его различных функциях (ролях) в тексте или речевом
акте, а также предлагает подробную характеристику эгоцентрических
элементов, указывающих на проявления авторского «я».
Согласно
исследованиям
Падучевой,
«всю
совокупность
своих
возможных функций говорящий может выполнять только в канонической
коммуникативной ситуации, когда говорящему обеспечен синхронный
адресат…»50. Автор выделяет следующие функции: говорящий как субъект
речи; как субъект дейксиса; как субъект сознания; как Наблюдатель (субъект
наблюдения)51. В некононической коммуникативной ситуации (например,
нарративе) круг функций ограничен, некоторые из них становятся
недоступны в силу специфики самого текста, поскольку «условия
интерпретации нарративного текста не включают говорящего, который
выполнял бы все те функции, которые есть у говорящего в речевом дискурсе:
нет места, в котором можно было бы локализовать говорящего, нет
синхронного слушающего, который мог бы идентифицировать время речи
или увидеть указательный жест и т. д.»52. В связи с этим происходит
распределение
функций
говорящего
между
несколькими
повествовательными инстанциями: «часть функций говорящего выполняет
в нарративе
персонаж,
часть
–
повествователь,
а
часть
остается
в традиционном нарративе невыразимой…»53. Таким образом, за счет
отсутствия в нарративе конкретного адресанта и адресата (мы можем
говорить лишь об имплицитном авторе (говорящем) и имплицитном читателе
(слушающим)), коммуникация в нарративе усложняется и становится
Падучева Е. В. Эгоцентрические валентности и деконструкция говорящего // Вопросы
языкознания. 2011. №3. С. 3.
51
Падучева Е. В. Говорящий как наблюдатель: об одной возможности применения
лингвистики в поэтике // Серия литературы и языка. 1993. Т. 52. №3. С. 34.
52
Падучева Е. В. Эгоцентрические валентности и деконструкция говорящего // Вопросы
языкознания. 2011. №3. С. 4.
53
Там же.
50
19
предметом для многочисленных интерпретаций.
Поскольку «построить текст, в котором не было бы никаких следов
присутствия автора, невозможно»54, важной задачей при изучении адресанта
в тексте становится обнаружение и анализ элементов, так или иначе
характеризующих говорящего. Падучева называет их эгоцентрическими
элементами или эгоцентриками. К ним можно отнести вводные слова
(«выражают сомнение или эмоциональное состояние»); неопределенные
местоимения («выражают неопределенность идентификации субъекта»);
«презумпции Говорящего» («Говорящий является носителем… противоречия
между двумя фактами); номинации объекта («сестра = сестра говорящего»);
идентификация («как правило, идентификация, осуществляемая самим
говорящим»); оценка («оценка говорящего»)55. Сделать какие-либо выводы о
говорящем в конкретном нарративе можно, выделив и проанализировав
соответствующие эгоцентрические элементы.
2.2.2. Метаязыковая рефлексия
Также адресант проявляет себя в тексте через метаязыковую
рефлексию,
явление
в
лингвистике,
обозначающее
«проявление
гносеологической функции языкового сознания (и – опосредованно – самого
языка)»56, т. е. познание языка и выражение своих представлений о нем через
сам язык.
Формирование «метаязыковых знаний, мнений, оценок»57 напрямую
зависит от адресанта текста, конкретной языковой личности, и поэтому
характеризует не только текст, но и фигуру говорящего. Хотя, как отмечал
Бахтин, «отбор всех языковых средств производится под большим или
Падучева Е. В. Говорящий как наблюдатель: об одной возможности применения
лингвистики в поэтике // Серия литературы и языка. 1993. Т. 52. №3. С. 33.
55
Там же. С. 36.
56
Голев Н. Д. Обыденное метаязыковое сознание как онтологический и гносеологический
феномен (к поискам «лингвогносеологем») // Обыденное метаязыковое сознание:
онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С. 10.
57
Шумарина М. Р. Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия в
произведениях русской прозы. М.: Флинта, Наука, 2011. С. 11.
54
20
меньшим
влиянием
адресата
и
его
предвосхищаемого
ответа»58,
в то же время «выбор – это спор говорящего с самим собой, это внутренний
диалог, в сжатом виде представленный комментарием к собственным
словам»59. В связи с этим анализ метаязыковых элементов в тексте имеет
ключевое значение для описания категории адресанта.
К текстовым элементам, которые становятся объектом языковой
рефлексии, ученые относят «как целое высказывание, так и отдельное слово
или словосочетание, т. е. сам знак»60. К числу наиболее частотных
метаязыковых высказываний, по мнению Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелёва,
можно
отнести
«многочисленные
прескриптивные
высказывания,
отражающие представления говорящего о нормах литературного языка,
о культуре речи, а также его личные языковые пристрастия»61. При этом
метаязыковые высказывания могут быть как эксплицитными, так и
имплицитными: «имплицитные оценки знака заключаются “уже в самом его
выборе
говорящим
как
наиболее
эффективного
для
решения
впервые
подробно
коммуникативных задач средства”»62.
Эксплицитные
рассмотрены
средства
А. Вежбицкой
метаязыка
в
статье
были
«Метатекст
в
тексте»63.
Исследовательница выделяет маркеры метатекста (метаоператоры), относя
к ним средства, характерные 1) для письменной речи (вводные конструкции
с семантикой оценки речи и логической последовательности; слова,
позволяющие говорящему отмежеваться от содержания высказывания: как
будто, вроде бы, почти, скорее, довольно и т. п.; конструкции с выделенной
Цит. по: Шумарина М. Р. Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая
рефлексия в произведениях русской прозы. М.: Флинта, Наука, 2011. С. 11.
59
Чернейко Л. О. Оценка в знаке и знак в оценке // Филологические науки. 1990. № 2. С.
80.
60
Там же. С. 74.
61
Шумарина М. Р. Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия в
произведениях русской прозы. М.: Флинта, Наука, 2011. С. 14.
62
Там же.
63
Вежбицкая А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс,
1978. С. 402–424.
58
21
темой; выражения с семантикой «примечания»: кстати, между прочим и
т. п.; анафорические местоимения и артикли; некоторые союзы, которые
могут указывать на отношения между импликациями; перформативные
глаголы; графические выделения); 2) для устной речи (интонация и
мимика)64.
В работе «Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху» И. Т. Вепрева
продолжает
развивать
идеи
А. Вежбицкой
и
предлагает
перечень
дискурсивных маркеров, служащих формальными признаками метаязыковой
рефлексии на слово. К ним относятся: лексическая единица слово; глаголы и
существительные, обозначающие речевые действия: речь, имя, говорить,
называть и т. п.; глаголы подполя интеллектуальной деятельности; глаголы
подполей других видов деятельности, употребляющихся в переносном
значении в сочетании с лексической единицей слово65.
Анализ эксплицитных средств метаязыка особенно актуален для
публицистических текстов, поскольку исследователи отмечают в них
высокую активность метаязыковой рефлексии, связанную с «усилением
личностного начала в публичной речи»66.
2.2.2. Категория лица глагола
Не менее показательна при анализе адресанта категория лица глагола,
которая «выражает отнесенность высказывания к действительности через
ситуацию речевого общения, создаваемую соотношением его участников»67,
а именно – противопоставления «говорящего субъекта и собеседника
(адресата) друг другу и “третьему лицу”, постороннему предмету речи»68.
Через категорию лица, таким образом, в тексте формируется система
Вежбицкая А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс,
1978. С. 402–424.
65
Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. М.: Олма-Пресс, 2005. 384 с.
66
Шумарина М. Р. Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия в
произведениях русской прозы. М.: Флинта, Наука, 2011. С. 12.
67
Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.: Наука, 1973. С.
158.
68
Там же.
64
22
отношений между участниками коммуникации с точки зрения адресанта,
благодаря
чему
в
данной
категории
оказывается
«ярко
выражено
субъективное восприятие говорящим окружающей действительности»69.
В связи с этим анализ категории лица в тексте выявляет систему
ценностных ориентаций адресанта70, а также особенности его внутреннего
мира и мировоззрения71, что позволяет в дальнейшем охарактеризовать
особенности творческого «я» писателя.
2.2.3. Категория модальности
Еще одна категория, отражающая восприятие действительности
говорящим – это категория модальности. Как правило исследователи
различают объективную и субъективную модальность, «первая из которых
выражает отношение говорящего к действительности, вторая
сообщаемому»72. Категория
адресанта наиболее
— к
ярко проявляется в
субъективной модальности, средства выражения которой не только
представляют субъективную точку зрения говорящего, но и «способны
оказать воздействие на собеседника, убедить его в соответствии сообщаемого
действительности»73. К языковым средствам выражения субъективной
модальности можно отнести «порядок слов, интонацию, лексические
повторы, модальные слова и частицы, междометия, вводные слова и
словосочетания, вводные предложения»74.
Бойко Г. И. Релевантность категории лица как репрезентанта внутреннего мира
личности // Вестник МГЛУ. Сер. Языкознание. Вып. 560. 2009. С. 44.
70
Бойко Г. И. Категория лица как репрезентант системы ценностных ориентаций. Вестник
ТГУ. Сер. Гуманитарные науки. Вып. 2 (58). 2008. С. 212–219.
71
Бойко Г. И. Релевантность категории лица как репрезентанта внутреннего мира
личности // Вестник МГЛУ. Сер. Языкознание. Вып. 560. 2009. С. 43–53.
72
Кукса И. Ю. Средства выражения модального значения уверенности/неуверенности в
текстах газет первой половины XIX века // Вестник РГУ им. И. Канта. 2008. Вып. 8.
Филологические науки. С. 59.
73
Там же. С. 59—60.
74
Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.:
Просвещение, 1976. 399 с. URL: https://dic.academic.ru/contents.nsf/lingvistic/ (дата
обращения: 15.11.2017).
69
23
Таким образом, опираясь на работы исследователей, мы можем
выделить такие средства экспликации адресанта, как эгоцентрические
элементы, элементы метаязыковой рефлексии, категория лица глагола,
модальные единицы.
Анализ вышеперечисленных средств экспликации адресанта позволяет
выявить речевой портрет адресанта и свойственные ему коммуникативные
стратегии, что имеет большое значение при анализе адресант-адресатных
отношений в тексте.
2.2.4. Речевой портрет адресанта
Под речевым портретом в лингвистике понимают «набор речевых
предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации
определенных намерений и стратегий воздействия на слушающего»75, в связи
с чем можно зафиксировать речевое поведение, характерное для отдельной
языковой
личности, которое
«автоматизируется
в
случае
типичной
повторяющейся ситуации общения»76.
Анализ речевого портрета адресанта в публицистическом тексте,
предполагающий характеристику разных уровней реализации языковой
личности, в том числе и средств экспликации адресанта, позволяет описать
фигуру адресанта в целом и выявить свойственные ему коммуникативные
стратегии.
2.2.5. Изучение коммуникативных стратегий и тактик говорящего
Основной экстралингвистической причиной выбора говорящим того
или иного высказывания является коммуникативная цель: прежде всего он
Матвеева Г. Г. Скрытые грамматические значения и идентификация социального лица
(«портрета») говорящего: автореф. дис. … д-ра филол. наук. СПб., 1993. 22 с.
[Электронный ресурс]: URL: http://cheloveknauka.com/skrytye-grammaticheskie-znacheniyai-identifikatsiya-sotsialnogo-litsa-portreta-govoryaschego (дата обращения: 22.04.2018).
76
Там же.
75
24
«думает о результате своего сообщения, то есть об эффективности»77
высказывания с точки зрения достижения поставленной цели. С другой
стороны, говорящий при этом «просчитывает “цену” разных подходов,
которые в большей или меньшей степени соответствуют ситуации
общения»78, то есть выбирает определенную речевую тактику. В связи с
этим,
как
отмечает
О. С. Иссерс,
речевую
коммуникацию
можно
рассматривать с двух позиций: «в аспекте общей стратегии (с точки зрения
цели) и конкретной тактики (с точки зрения способа ее достижения)»79.
При таком подходе к изучению высказывания речевая коммуникация
рассматривается как «стратегический процесс, базисом для которого
является
выбор
оптимальных
языковых
ресурсов»80.
Так
в
центре
исследования оказываются типичные для того или иного говорящего речевые
стратегии, коммуникативные ошибки, а также специальные нарушения и
отступления от норм, которые используются говорящим для достижения
определенной коммуникативной цели.
Таким
образом,
коммуникативная
стратегия
понимается
как
«совокупность действий говорящего, организованная определенной целью –
побудить слушающего к некоторым действиям, указав на причины,
по которым адресату что-то необходимо, выгодно, полезно или вредно,
бесполезно и т.д.»81.
Исследователи
(О. С. Иссерс,
К. Е. Калинин
и
др.)
предлагают
различные классификации коммуникативных стратегий. Так, например,
Иссерс выделяет основные стратегии и вспомогательные. К основным
исследовательница относит такие, которые непосредственно
связаны
с влиянием на адресата, изменением его модели мира, системы ценностей,
Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Издательство
ЛКИ, 2008. С. 10.
78
Там же.
79
Там же.
80
Там же.
81
Азылбекова Г. О. Речевая стратегия убеждения: утилитарный аспект // Вестник ВГУ.
Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2011. № 1. С. 133.
77
25
поведения (стратегии информирования, дискредитации, подчинения и т. д.), а
к вспомогательным – стратегии, которые способствуют налаживанию
эффективной
коммуникации
(прагматические
(построение
имиджа,
формирование эмоционального настроя), диалоговые (контроль над темой,
контроль над инициативой) и риторические (привлечение внимания,
драматизация))82.
При анализе публицистических текстов Довлатова редакции разных лет
мы уделили особое внимание выявлению основных стратегий, в которых
наиболее ярко проявляются особенности адресант-адресатных отношений.
3. Категория адресата в лингвистике
В коммуникативной паре с адресантом выступает адресат (слушающий,
абстрактный читатель, образ читателя) – «реальное или мыслимое лицо, к
которому обращена речь (текст), получатель речевого сообщения»83,
воспринимающий и интерпретирующий его. Однако включение данной
категории в круг текстовых все еще остается спорным: «не все исследователи
признают адресата в качестве категории»84. Тем не менее, изучению образа
читателя и фактора адресата посвящено немало научных работ.
Так, например, еще в 1920-е годы А. И. Белецкий в своих трудах ставил
вопрос о «содержательности процессов восприятия» и полагал, что именно
читатель выполняет функцию «формирования идеи произведения»85. А
М. М. Бахтин в 1960-е годы рассматривал «адресованность» любого
высказывания как существенный признак, влияющий и на содержание
высказывания, и на его форму: «строя свое высказывание, я стараюсь…
предвосхитить [ответ], и этот предвосхищаемый ответ в свою очередь
Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Издательство
ЛКИ, 2008. 288 с.
83
Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и
практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009. С.
10.
84
Анисова А. А. Фактор адресата как категория художественного текста // Филологические
науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 2 (32): в 2-х ч. Ч. I. C. 28.
85
Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. М.: Просвещение, 1964. С. 29.
82
26
оказывает активное воздействие на мое высказывание… Говоря, я всегда
учитываю апперцептивный фон восприятия моей речи адресатом… Этот учет
определит и выбор жанра высказывания, и выбор композиционных приемов,
и, наконец, выбор языковых средств, то есть стиль высказывания»86.
Однако систематическое изучение читателя как текстовой категории
началось лишь в 70-е годы ХХ века после выхода в свет статьи французского
структуралиста Р. Барта «Смерть автора», призванной «устранить автора,
заменив его письмом» и «восстановить в правах читателя»87. Опираясь
на понятие интерпретируемости текста, Барт смещает акцент с автора
на читателя и предлагает рассматривать любой текст как множественность
разных видов письма, фокусирующихся в определенной точке, а именно –
сознании читателя88.
Данная статья стала первой ступенью в создании теории читателя
(по аналогии
с
«полноправную
теорией
автора),
“программу”
рассматривающей
воздействия
и
читателя
восприятия,
как
изначально
заданную в тексте всякого произведения»89. В формировании теории
читателя большую роль сыграли такие литературоведческие направления,
как нарратология (Дж. Принс, М. Риффатер, Дж. Каллер), рецептивная
эстетика (Э. Гуссерль, Р. Иргарден, В. Изер, Х. Р. Яусс), герменевтика
(Х. Г. Гадамер,
вопросами
М. Хайдеггер,
читателя
Э. Хирш).
занимались,
В
например,
отечественной
филологии
А. И. Белецкий
(отводил
читателю «функцию формирования идеи произведения»90) и В. В. Прозоров
(«очертил возможную парадигму развития “читателя” в тексте»91). Однако
следует
отметить,
что,
хотя
читатель
в
итоге
стал
осознаваться
литературоведами как рецептивная модель, в изучении этой категории
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного
творчества. М.: Искусство, 1979. С. 265.
87
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 385.
88
Там же. С. 391.
89
Большакова А. Ю. Образ читателя как литературоведческая категория // Известия АН.
Серия литературы и языка. 2003. Т. 62. № 2. С. 17.
90
Там же. С. 18.
91
Там же.
86
27
остается много неясностей, «прежде всего в сфере конкретных подходов и
методов ее исследования»92.
Пролить свет на эту проблему постаралась А. Ю. Большакова в статье
«Образ читателя как литературоведческая категория». Отмечая угасание
интереса
к
«утверждению
в
правах
категории
“читателя”»,
исследовательница стремится «обозначить основные черты и свойства
категории “читатель” и предложить образцы ее анализа
в тексте
произведения»93.
Большакова предлагает рассматривать категорию читателя в тексте как
ментальную модель, а именно как «модель восприятия, обладающую
фреймовой структурой»94, что позволит совместить двуплановую природу
читателя (его одновременную внутри- и внетекстовость), и анализировать
для выявления в тексте образа читателя текстовые элементы, направленные
«на “другого” (“читателя” как собеседника “автора”) через катарсическое
сопереживание, сострадание»95.
В лингвистике аналогом образа читателя выступает категория
адресата – участника коммуникации. В связи с антропоцентрическим
поворотом в языкознании и переключением внимания исследователей
с «объектов на субъект познания»96 в центре внимания оказывается не только
фигура адресанта (говорящего), но и адресата (слушающего), а текст (в
рамках уже упомянутой теории текста) начинает рассматриваться как особый
вид коммуникации – художественный. Остро встает вопрос о «проблеме
диалогичности
художественного
текста»
и
его
«принципиальной
многозначности и особенностях читательского восприятия»97. Поэтому, как
отмечает А. А. Анисова, «когда языкознание обратилось к проблемам текста,
Большакова А. Ю. Образ читателя как литературоведческая категория // Известия АН.
Серия литературы и языка. 2003. Т. 62. № 2. С. 18.
93
Там же.
94
Там же. С. 19.
95
Там же. С. 21.
96
Анисова А. А. Фактор адресата как категория художественного текста // Филологические
науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 2 (32): в 2-х ч. Ч. I. C. 28.
97
Там же. C. 29.
92
28
стало очевидно, что невозможно исследовать текст без учета адресата»98.
В связи со смещением внимания на фигуру того, кто принимает и
обрабатывает текст, большое значение приобрел так называемый фактор
адресата, «один из важнейших факторов коммуникации, предполагающий
учет говорящим или пишущим специфических особенностей той аудитории,
к которой он обращается в устной публичной речи или письменно»99.
Подробное описание фактора адресата предложила Н. Д. Арутюнова в
одноименной статье 1981 года, где категория адресата рассматривается как
фактор, напрямую влияющий на коммуникативное содержание и форму
высказывания: «…роль адресата определяет не только социально-этикетную
сторону речи, она заставляет говорящего заботиться об ее организации»,
«…обработка речи происходит под давлением фактора адресата»100.
В связи с этим при анализе текста как акта коммуникации необходимо
учитывать влияние, которое оказывает фактор адресата на построение
композиции и выбор языковых средств.
4. Адресант – адресат в публицистическом тексте
4.1. Понятие публицистичности
Как отмечает П. П. Каминский, «…публицистика представляет собой
многоаспектный феномен, не имеет строго определенного предмета и может
потенциально охватывать все явления действительности»101. В связи с этим
в теории публицистики существуют значительные расхождения во взглядах
на природу данного явления.
Исследователи рассматривают его с разных аспектов: как способ
Анисова А. А. Фактор адресата как категория художественного текста // Филологические
науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 2 (32): в 2-х ч. Ч. I. C. 29.
99
Стернин И. А. Фактор адресата в речевом воздействии. Воронеж: Истоки, 2012. С. 3.
100
Арутюнова Н. Д. Фактор адресата // Известия АН СССР. Серия литературы и языка.
1981. Т. 40. № 4. С. 358.
101
Каминский П. П. Принципы исследования публицистики на современном этапе //
Вестник Томского государственного университета. Филология. 2007. №1. С. 99.
98
29
общественной деятельности, осуществляемой творческими методами102; как
род творчества, направленный на формирование общественного мнения103;
как
особый
вид
творческой
деятельности,
которой
присуща
публицистичность (открытое выражение мыслей автором, прямой контакт
с аудиторией)104; как отдельный род литературы105; как самый высокий род
журналистики106; как особую «разновидность словесного искусства»107. Все
эти подходы равнозначны, поскольку термин «публицистика» можно
понимать очень широко.
Интересной для нашего исследования представляется концепция
Е. П. Прохорова,
категорию
который
адресата.
определяет
В
понятие
монографии
публицистики
«Искусство
через
публицистики»
исследователь отмечает зависимость особенностей публицистического текста
от
его
главной
задачи
–
формирования
общественного
мнения
у определенной категории адресата: «…творческая специфика публицистики
напрямую
зависит
от
ее
социального
призвания
–
принимать
непосредственное участие в жизни общественного мнения»108. Автор,
соответственно, выступает как представитель этого мнения, транслирующий
его через текст.
В соответствии с этим мы можем рассматривать публицистику как
Сенук З. В. Публицистика как фактор развития политической культуры: автореф. дис.
… канд. филос. наук. Екатеринбург, 1993. 22 с. [Электронный ресурс]: URL:
http://cheloveknauka.com/publitsistika-kak-faktor-razvitiya-politicheskoy-kultury
(дата
обращения: 12.03.2018).
103
Скуленко М. И. Убеждающее воздействие публицистики: (Основы теории). Киев:
Издательство при Киевском государственном университете, 1986. 174 с.; Фоминых В. Н.
Публицистический факт: Путь к оптимизации журналистского текста. Красноярск:
Издательство Красноярского университета, 1987. 124 с.; Калачинский А. В. Аргументация
публицистического текста. Владивосток: Издательство Дальневосточного университета,
1989. 119 с.
104
Суровцев Ю. О публицистике и публицистичности // Знамя. 1986. №4. С. 208–224.
105
Черепахов М. С. Проблемы теории публицистики. М.: Мысль, 1973. 267 с.
106
Горохов В. М. Закономерности публицистического творчества: (Пресса и
публицистика). М.: Мысль, 1975. 187 с.
107
Солганик Г. Я. Публицистика как искусство слова // Поэтика публицистики: сб. ст. М.,
1990. С. 5.
108
Прохоров Е. П. Искусство публицистики: Размышления и разборы. М.: Советский
писатель, 1984. С. 27.
102
30
особый «тип дискурса, вербально оформляющий и выражающий такое
свойство мышления, как публицистичность <…> свойство мышления автора
публицистического произведения, который отождествляет себя с неким
корпоративным целым, выступает не сам по себе, а от лица какой-либо
общности (коллектива единомышленников, социальной группы, общества
в целом)»109. Адресант и адресат публицистического текста оказываются
в отношениях
взаимозависимости
как
представители
одной
группы
единомышленников, где один (адресант) предстает как выразитель этого
мнения, а другой (адресат) как объект риторического воздействия. Это
позволяет говорить о публицистике как о сложном акте речевого
высказывания, в рамках которого автор, «с одной стороны, выражает, а
с другой – формирует общественное мнение»110.
Таким
образом,
«в
публицистике
связь
“автор
–
читатель”
устанавливается напрямую, минуя промежуточные звенья, необходимые
художественной литературе»111, что проявляется в особой диалогичности
публицистического текста, при которой «ответные реакции адресата
запрограммированы и предполагаются в высказывании»112.
4.2. Адресант и адресат в публицистических текстах
В
первую
очередь
стоит
отметить,
что
категория
адресата
в публицистике на уровне текста выражена иначе, чем в художественной
литературе, поскольку «реализация авторского замысла современного
медиатекста неизбежно оказывается связанной с образом того адресата,
к которому обращен данный текст»113, в то время как в художественном
Каминский П. П. Принципы исследования публицистики на современном этапе //
Вестник Томского государственного университета. Филология. 2007. №1. С. 100.
110
Ласточкина Е. В. Публицистическое начало в прозе С. Довлатова: автореф. дис. …
канд. филол. наук. Москва, 2013. С. 12.
111
Стюфляева М. И. Образные ресурсы публицистики. М.: Мысль, 1982. C. 75.
112
Каминский П. П. Принципы исследования публицистики на современном этапе //
Вестник Томского государственного университета. Филология. 2007. №1. С. 102.
113
Каминская Т. Л. Автор и адресат в современных медиатекстах // Вестник СанктПетербургского университета. Сер. 9. Вып. 2. Ч. 2. 2008. С. 314.
109
31
произведении образ читателя (и целевая аудитория в дальнейшем)
формируется,
исходя
в публицистическом
из
установок
тексте
автора.
«проявляется
Фактор
в
адресата
удовлетворении
информационных запросов и приведении композиционно-тематических и
стилистических свойств текста в соответствие с вариантами гипотез об
информационных ожиданиях читателя»114. В связи с этим меняется фигура
адресанта: он больше ориентирован на удовлетворение запросов адресата,
чем на творческое самовыражение.
Таким образом, влияние фактора адресата на фактор адресанта
в публицистическом
тексте
оказывается
в художественном.
Некоторые
значительно
исследователи
сильнее,
чем
(Б. И. Караджев,
Л. Н. Синельникова и др.) даже указывают на совместное моделирование
адресатом и адресантом языковой личности в медиатексте: «мотивационноповеденческие и речевые особенности адресата активно “прикладываются”
к языковому образу адресанта, в результате образуется некая кооперативная
языковая личность, которую можно определить как целостную адресантадресатную»115. В данном случае адресант как бы выходит за пределы своей
языковой личности, перенимая признаки языковой личности адресата (его
тезаурус,
лингвокультурные
предпочтения,
психологию,
мотивы
и
ожидания116). Это говорит об еще одной особенности отношений адресант –
адресат в публицистическом тексте, а именно о стремлении адресанта
создать общее с адресатом когнитивное пространство: «автор медиатекста
моделирует такие условия протекания коммуникации, которые способствуют
сближению с адресатом»117, поскольку реализуется «когнитивная установка
Дускаева Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров / Под ред.
М.Н.Кожиной. СПб.: СПбГУ: Филол. факультет, 2012. С. 9.
115
Караджев Б. И. Фактор адресанта и адресата в дискурсе СМИ // Вестник РУДН. Серия
Вопросы образования: языки и специальность. 2014. № 3. С. 40–41.
116
Синельникова Л. Н. Стратегия приближения к адресату в современном медиатексте //
Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2014. № 13 (184). Вып. 22. С. 254.
117
Там же.
114
32
на приближение к адресату, желание быть принятым и понятым»118.
4.2.1. Диалогичность
В связи с этим диалогичность («выражение в речи взаимодействия двух
или нескольких смысловых позиций, многоголосия общения с целью
достижения эффективности коммуникации в той или иной сфере общения»)
рассматривается исследователями как «фундаментальное для газетных
текстов свойство»119, присущее и диалогическим текстам (например,
интервью), и монологическим, в которых диалогичность проявляется
имплицитно и «представлена не только способами и средствами, как бы
заимствованными из устного диалога, но и средствами, специально для этого
выработанными в письменной речи»120.
К таким языковым средствам относятся те, которые «создают эффект
присутствия в пространстве события не только адресанта, но и адресата»121.
Это могут быть маркеры, указывающие на призыв к совместному
наблюдению или рассуждению (например, слова согласитесь, сами
рассудите, вдумайтесь, обратите внимание, а также императивные
конструкций типа давайте вспомним, давайте подумаем, давайте попробуем
осмыслить
и
т. д.);
лексемы,
отсылающие
к
общим
знаниям
и
воспоминаниям (например, помните, посмотрите сами, представляете, вы
заметили, как всем известно и т. д.); «имитация полемики с адресатом,
представление его мнения через прямую речь и разные формы косвенной
речи»122 (в первую очередь, это вопросно-ответные конструкции, а также
маркеры вы со мной согласитесь/не согласитесь, вы бы мне ответили и
Синельникова Л. Н. Стратегия приближения к адресату в современном медиатексте //
Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2014. № 13 (184). Вып. 22. С. 254.
119
Дускаева Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров / Под ред.
М.Н.Кожиной. СПб.: СПбГУ: Филол. факультет, 2012. С. 8.
120
Там же. С. 9.
121
Синельникова Л. Н. Стратегия приближения к адресату в современном медиатексте //
Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2014. № 13 (184). Вып. 22. С. 255.
122
Там же.
118
33
т. д.); внедрение «слов-имплантов»123, характерных для разговорной речи и
поддерживающих
диалогический
статус
высказывания
(собственно,
фактически, то есть, иначе говоря, все-таки, мол, дескать и т.д.); имитация
оговорки, уточнения, комментирование своих слов, рефлексия и т. д.,
направленные на повышение доверия «к передаваемой информации,
рождающейся в условиях открытого размышления»124 (чуть не сказал…,
скажу иначе…, оставим так, как сказано… и т. д.); интертекстуальность как
«один из способов реализации иллокутивных установок адресанта»125 и
внедрение в текст чужой речи в виде прямой, несобственно-прямой речи и
несобственно-прямого диалога «с акцентом на языковых предпочтениях
адресата»126. С помощью подобных приемов адресат публицистического
текста «вовлекается
в мыслительный процесс, ему предоставляется
психологически и этически значимое право размышлять и рассуждать вместе
с адресантом»127.
Таким образом, следуя установке на сближение с адресатом, «автор
стремится создать оптимально благоприятные условия для принятия
информации через кооперативное взаимодействие с адресатом»128. Ярким
показателем дистанции между адресантом и адресатом становятся личные
местоимения (выстраивание отношений «я – ты – мы»). Стремление перейти
в тексте от «я» к «мы», характерное для многих публицистических текстов,
указывает на установку автора к максимально возможному сближению, при
котором «происходит не просто смена субъекта, а превращение “мы”
в полнозначное
слово
с
лексическим
значением
нераздельной
совместности»129.
Синельникова Л. Н. Стратегия приближения к адресату в современном медиатексте //
Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2014. № 13 (184). Вып. 22. С. 256.
124
Там же.
125
Там же. С. 258.
126
Там же. С. 259.
127
Там же.С. 255.
128
Там же. С. 256.
129
Там же.
123
34
4.2.2. Эмоциональное воздействие
Поскольку адресант публицистического текста стремится максимально
воздействовать на адресата (убедить его в правильности своей позиции), то
большую роль при этом играют различные способы эмоционального
воздействия, к которым, в частности, относится выстраивание в тексте
оппозиции «свое – чужое»: «“свой” располагается на шкале “хорошо”,
“чужой” – на шкале “плохо”»130, и, соответственно, «свой» нацелен
на формирование у адресата положительных эмоций, а «чужой» –
отрицательных. Особенно это актуально для эмигрантской печати: в ней
оппозиция «свой – чужой» зачастую выходит на первый план и становится
ключевой при построении текста, поскольку возникает читательский запрос
на сопоставление жизни «там» (на родине) и «здесь» (в стране, куда
эмигрировали).
Соответственно,
актуализируется
и
другая
бинарная
оппозиция – «мы – они», которая одновременно и отражает отношение
адресанта к действительности, и оказывает влияние на адресата.
Таким образом, влияние фактора адресата на конструирование
адресантом коммуникативного высказывания в публицистическом тексте
достаточно сильно, что проявляется в ярко выраженной диалогичности,
установке адресанта на сближение с адресатом, обилии эксплицитно
выраженных языковых средств, создающих эффект присутствия в тексте
адресата.
Выводы
При анализе указанных категорий и их взаимоотношений в тексте мы
будем опираться на следующие положения, выведенные из обзора
теоретических работ.
1.
Согласно современному подходу к изучению образа автора
(адресанта), он рассматривается с двух позиций: как текстовая категория
Синельникова Л. Н. Стратегия приближения к адресату в современном медиатексте //
Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2014. № 13 (184). Вып. 22. С. 256.
130
35
(В. В. Виноградов) и как категория, выходящая за рамки текста и
лингвистического анализа (М. М. Бахтин).
2.
Анализ текста как коммуникативной единицы проводится
с опорой на работы по коммуникативной лингвистике, прагматике, теории
текста и когнитивной лингвистике.
3.
Для обнаружения авторских интенций в тексте и выявления
соответствия
текста
предполагаемому
адресату
и
его
требованиям
используются функциональный и прагматический подходы к анализу текста.
4.
Анализ фактора адресанта подразумевает анализ категории лица,
(Г. А. Золотова,
Е. В. Падучева),
(Е. В. Падучева),
маркеров
эгоцентрических
метаязыковой
элементов
рефлексии
адресанта
(М. Р. Шумарина, А. Вежбицкая, И. Т. Вепрева), системы оппозиций.
5.
Анализ фактора адресата (Н. Д. Арутюнова) подразумевает
выявление и анализ языковых средств, создающих эффект присутствия
в тексте адресата и направленных на сближение с ним. К ним относятся:
средства выражения призыва к совместному наблюдению или рассуждению;
языковые средства, позволяющие создать имитацию полемики с адресатом
(вопросно-ответные
поддерживающие
конструкции,
обращения
диалогический
и
статус
т. д.),
элементы,
высказывания
(самокомментирование, уточняющие конструкции, чужая речь).
6.
Адресант-адресатные отношения в публицистическом тексте
формируются с помощью сопоставления «я – ты/вы – мы» и оппозиций
«мы – они», «свой – чужой».
7.
Анализ акта коммуникации между адресантом и адресатом
подразумевает выявление коммуникативных стратегий и тактик пишущего, а
также
примеров
нарушения
им
собственной
речевой
стратегии
(О. С. Иссерс).
8.
Анализ изменений, внесенных Довлатовым в свои статьи,
подразумевает выделение и сопоставление маркеров адресанта и адресата,
36
как с учетом трансформации авторского «я» в тексте (фактора адресанта), так
и с учетом изменения читательских запросов (фактора адресата).
37
Глава 2. Категории адресата и адресанта в публицистических текстах
Довлатова разных редакций
1. Проблемы и аспекты изучения художественного и публицистического
творчества Довлатова
Художественные тексты С. Довлатова изучены достаточно подробно.
Основными направлениями изучения являются исследования поэтики и
жанрового
своеобразия
(Ю. Е. Власова131,
А. А. Воронцова-Маралина133,
особенностей
нарратива
О. А. Вознесенская132,
Ж. Ю. Мотыгина134,
и
авторского
«я»
И. Н. Сухих135),
(Т. А. Букирева136,
Е. В. Ласточкина137, Н. В. Погосян138), анекдотической природы довлатовских
текстов
(Е. Курганов139,
Н. А. Орлова140,
Ю. В. Федотова141),
Власова Ю. Е. Жанровое своеобразие прозы С. Довлатова: автореф. дис. … канд.
филол.
наук.
Москва,
2001.
20
с.
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.dissercat.com/content/zhanrovoe-svoeobrazie-prozy-s-dovlatova (дата обращения:
02.03.2018).
132
Вознесенская О. А. Проза Сергея Довлатова: Проблемы поэтики: автореф. дис. … канд.
филол.
наук.
Москва,
2000.
22
с.
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.dissercat.com/content/proza-sergeya-dovlatova-problemy-poetiki (дата обращения:
02.03.2018).
133
Воронцова-Маралина А. А. Проза Сергея Довлатова: поэтика цикла: автореф. дис. …
канд. филол. наук. Москва, 2004. 21 с. [Электронный ресурс]: URL:
http://cheloveknauka.com/proza-sergeya-dovlatova-poetika-tsikla
(дата
обращения:
02.03.2018).
134
Мотыгина Ж. Ю. С. Довлатов: Творческая индивидуальность, эволюция поэтики:
автореф. дис. … канд. филол. наук. Астрахань, 2001. 19 с. [Электронный ресурс]: URL:
http://www.dissercat.com/content/s-dovlatov-tvorcheskaya-individualnost-evolyutsiya-poetiki
(дата обращения: 02.03.2018).
135
Сухих И. Н. Довлатов: время, место, судьба. СПб: «Пальмира», 2017. 280 с.
136
Букирева Т. А. Аспекты языковой игры: аномальность и парадоксальность языковой
личности С. Довлатова: автореф. дис. … канд. филол. Наук. Краснодар, 2000. 22 с.
[Электронный ресурс]: URL: http://cheloveknauka.com/aspekty-yazykovoy-igry-anomalnost-iparadoksalnost-yazykovoy-lichnosti-s-dovlatova (дата обращения: 02.03.2018).
137
Ласточкина Е. В. Авторская позиция и способы ее выражения повести С. Довлатова
«Зона» // Вестник РУДН. Серия Литературоведение. Журналистика. 2012. № 2. С. 34–43.
138
Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в прозе С. Довлатова: автореф. дис. … канд.
филол.
наук.
Москва,
2012.
22
с.
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://cheloveknauka.com/kommunikativnye-strategii-v-proze-s-dovlatova (дата обращения:
02.03.2018); Погосян Н. В. Приятие мира и диалогизм как этико-эстетические основы
прозы С. Довлатова // Наука и школа. 2012. №3. С. 79–82.
139
Курганов Е. Сергей Довлатов и линия анекдота в русской прозе // Сергей Довлатов:
творчество, личность, судьба / сост. А. Ю. Арьев. СПб.: Звезда, 1999.
140
Орлова Н. А. Поэтика комического в прозе С. Довлатова: семиотические механизмы и
фольклорная парадигма: автореф. дис. … канд. филол. наук. Майкоп, 2010. 22 с.
131
38
интертекстуальности и влияния традиций русской литературы на прозу
Довлатова
(Г. А. Доброзракова142,
А. Г. Плотникова143),
особенностей
идиостиля (И. Н. Позерт144) и синтаксиса писателя (А. А. Добрычева145).
Отдельно
стоит
посвященные
упомянуть
раскрытию
художественного
многочисленные
личности
мировоззрения
писателя
труды-воспоминания,
и
особенностям
(Н. Аловерт146,
его
А. Генис147,
А. Пекуровская148, Е. Б. Рейн149, В. Соловьев и Е. Клепикова150 и др.); а также
сборники статей, среди которых можно выделить материалы международных
конференций «Довлатовские чтения»151.
Таким
образом,
сложилась
обширная
теоретическая
база
для исследования творчества Довлатова. Однако работ, посвященных
публицистике писателя мало: как правило, это небольшие статьи, которые
[Электронный ресурс]: URL: http://cheloveknauka.com/poetika-komicheskogo-v-proze-sdovlatova-semioticheskie-mehanizmy-i-folklornaya-paradigma (дата обращения: 02.03.2018).
141
Федотова Ю. В. Проза С. Довлатова: экзистенциальное сознание, поэтика абсурда:
автореф. дис. … канд. филол. наук. Череповец, 2006. 22 с.
142
Доброзракова Г. А. Поэтика С. Д. Довлатова в контексте традиций русской литературы
XIX–XX веков: автореф. дис. … док. филол. наук. Москва, 2012. 21 с. [Электронный
ресурс]: URL: http://cheloveknauka.com/poetika-s-d-dovlatova-v-kontekste-traditsiy-russkoyliteratury-xix-xx-vekov (дата обращения: 02.03.2018); Доброзракова Г. А. Пушкинский миф
в творчестве Сергея Довлатова: автореф. дис. … канд. филол. наук. Самара, 2007. 20 с.
[Электронный ресурс]: URL: http://cheloveknauka.com/pushkinskiy-mif-v-tvorchestvesergeya-dovlatova (дата обращения: 02.03.2018).
143
Плотникова А. Г. Традиции русской классической литературы в творчестве С.Д.
Довлатова: автореф. дис. … канд. филол. наук. Москва, 2008. 21 с. [Электронный ресурс]:
URL:
http://cheloveknauka.com/traditsii-russkoy-klassicheskoy-literatury-v-tvorchestve-s-ddovlatova (дата обращения: 02.03.2018).
144
Позерт И. Н. «Я хотел бы считать себя рассказчиком.» (Особенности идиостиля
С.Довлатова) // Русский язык в школе. 2006. №5. С. 63–67.
145
Добрычева А. А. Особенности синтаксической организации прозы Сергея Довлатова //
Вестник Череповецкого государственного университета. 2011. Т. 1. № 4. С. 57–60.
146
Аловерт Н. Сергей Довлатов в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт. Lev-Tov
Consulting, 2016. 168 с.
147
Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Астрель: CORPUS, 2011. 736 с.
148
Пекуровская А. Когда случилось петь С. Д. и мне. СПб.: Симпозиум, 2001. 431 с.
149
Рейн Е. Б. Мне скучно без Довлатова. Новые сцены из жизни московской богемы.
СПб.: Лимбус-Пресс, 1997. 296 с.
150
Соловьев В., Клепикова Е. Довлатов вверх ногами. М.: Коллекция «Совершенно
секретно», 2001. 192 с.
151
Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба / сост. А. Ю. Арьев. СПб.: Звезда, 1999.
320 с.; Сергей Довлатов: лицо, словесность, эпоха / сост. А. Ю. Арьев. СПб.: Звезда, 2012.
256 с.
39
носят
общий
описательный
Е. В. Ласточкина153,
характер
Ю. П. Прядко154,
(Н. М. Байбатырова152,
С. С. Кузовов155),
что
только
подчеркивает необходимость подробного изучения публицистического
наследия писателя.
Стоит отметить, что публицистика Довлатова является писательской и
«представляет
собой
переходное
явление,
в
котором
публицистическое и художественное мышление»156.
соединяются
Это во многом
определяет особенности его публицистических текстов.
Исследователи
(Е. В. Ласточкина157)
уже
отмечали
присутствие
публицистического начала в прозе писателя. Справедливо и обратное:
наличие художественной доминанты в его публицистических текстах.
Не случайно «Колонки редактора» публиковались не только в газете: более
20 статей
из
этой
рубрики
были
включены
Довлатовым
в
книгу
«Сентиментальный марш», а вторая часть книги «Ремесло» – «Невидимая
газета» (1984–1985) написана на материале «Колонок».
Таким образом, публицистические тексты Довлатова представляют
собой переходное явление, синтез двух начал, позволяющий автору прямо и
открыто (находясь на более короткой дистанции с адресатом) выразить свою
позицию по разным вопросам.
В соответствии
с этим основные черты стиля, описываемые
исследователями, свойственны как прозе Довлатова, так и публицистике:
«лаконизм,
внимание
к художественной
детали,
живая
разговорная
Байбатырова Н. М. Публицистическая деятельность С. Довлатова в газете «Новый
американец» // Вестник Мордовского университета. 2015. Т. 25. №3. С. 57–65.
153
Ласточкина Е. В. Сергей Довлатов – редактор газеты «Новый американец» // Вестник
РУДН. 2010. № 2. С. 52–60.
154
Прядко Ю. П. Американские страницы жизни и творчества С. Довлатова // Актуальные
проблемы словянской филологии. 2011. Вып. XXІV. Ч. 1. С. 298 – 307.
155
Кузовов С. С. «Новый американец» Сергея Довлатова: история создания //
Филологический журнал. 2010. №1. С. 126-129.
156
Каминский П. П. Принципы исследования публицистики на современном этапе //
Вестник Томского государственного университета. Филология. 2007. №1. С. 103.
157
Ласточкина Е. В. Публицистическое начало в прозе С. Довлатова: автореф. дис. …
канд. филол. наук. Москва, 2013. 21 с.
152
40
интонация <…> использование разговорных конструкций»158, «употребление
коротких,
преимущественно
коммуникативного
номинативные
простых
синтаксиса»
цепочки,
предложений
(сегментированные
параллелизм
синтаксических
<…>
средств
конструкции,
конструкций,
парцелляция, абзацное членение)159, а также средств, увеличивающих
экспрессивность текста: «анафора и эпифора, риторические вопросы и
восклицания»160. При этом исследователи настаивают на том, что простота
слога, установка на разговорность речи – сложный художественный прием,
за которым скрыт скрупулезный труд писателя над каждым элементом
текста, а использование фигур и средств художественной выразительности
служит одной главной задаче: «привлечению внимания читателя и
установлению коммуникативного взаимодействия автора с читателем,
своеобразного диалога»161.
Диалогичность
прозы
Довлатова
рассматривает
Н. В. Погосян
в работах, посвященных «основным мировоззренческим и эстетическим
принципам коммуникативных стратегий прозы Сергея Довлатова»162.
Настаивая
на
«демократизме»
прозы
Довлатова,
исследователь
отмечает стремление писателя к равному диалогу с читателем, при котором
любое мнение будет услышано и принято. По мнению Погосяна,
в прозаических текстах Довлатова «нет даже открыто заявленной авторской
позиции – чаще всего она проявляется имплицитно, что задействует
Ткачева Е. В. Эффект разговорности как новая тенденция в публицистике конца ХХ
века: случайное неслучайно // RELGA, 2012. № 14. С. 178. [Электронный ресурс]: URL:
file:///C:/Users/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4
%D1%80%D0%B0/Downloads/589-1205-1-SM%20(2).pdf (дата обращения: 20.01.2018).
159
Добрычева А. А. Особенности синтаксической организации прозы Сергея Довлатова //
Вестник Череповецкого государственного университета. 2011. Т. 1. № 4. С. 57–60.
160
Ткачева Е. В. Эффект разговорности как новая тенденция в публицистике конца ХХ
века: случайное неслучайно // RELGA, 2012. № 14. С. 179. [Электронный ресурс]: URL:
file:///C:/Users/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4
%D1%80%D0%B0/Downloads/589-1205-1-SM%20(2).pdf (дата обращения: 20.01.2018).
161
Там же.
162
Погосян Н. В. Приятие мира и диалогизм как этико-эстетические основы прозы С.
Довлатова // Наука и школа. 2012. №3. С. 79.
158
41
рецептивную функцию сопереживания и сотворчества читателя»163. Это
приводит к усилению позиции адресата как участника коммуникации: он
воспринимает беспристрастный рассказ и «в процессе креативной и
рецептивной деятельности осуществляет свой нравственный выбор»164 сам,
без давления со стороны адресанта.
В связи с этим исследователи говорят о философской позиции писателя
как о позиции, основанной на принципе принятия мира, «который исключает
приоритет бытия по отношению к событию и являет собой способ
существования в лишенной смысла действительности»165. Позиция принятия
мира таким, какой он есть, отражается и в принятии писателем чужих слов и
взглядов.
Диалогизм,
который
«полностью
пронизывает
художественное
мышление Довлатова»166 в публицистических текстах писателя проявляется
по-другому. В соответствии с особенностями публицистики (ее общественнопропагандистским характером) адресант проявляет свою позицию более
открыто и стремится оказать влияние на мнение адресанта, убедить в своей
правоте. Однако в публицистике Довлатова адресант не поучает адресата, а
приглашает принять участие в дискуссии, которая выступает в качестве
одной из его основных ценностей: «Так давайте же спорить и обмениваться
мнениями.
Мнениями,
а
не
затрещинами.
Давайте
выслушаем
позиции
“учителя
жизни”»168
коммуникативной
стратегии
анекдота,
заблуждающихся. И пусть они выслушают нас»167.
Позиция
проявляется
отказа
в
адресанта
использовании
«от
Погосян Н. В. Приятие мира и диалогизм как этико-эстетические основы прозы С.
Довлатова // Наука и школа. 2012. №3. С. 81.
164
Там же.
165
Там же.
166
Там же.
167
Довлатов С. Речь без повода… или Колонки редактора. Ранее неизданные материалы.
М.: Махаон. 2006. 432 с. [Электронный ресурс]: URL: https://coollib.com/b/191485/read#t1
(дата обращения: 22.02.2018).
168
Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в прозе С. Довлатова: автореф. дис. … канд.
филол.
наук.
Москва,
2012.
22
с.
[Электронный
ресурс]:
URL:
163
42
в связи с чем
система
ценностей
в
текстах
писателя
представлена
имплицитно (как правило актуализируется в сознании адресата через
иронию): «Часто Довлатов скрывается за маской рассказчика анекдотов, как
бы не претендуя ни на что серьезное в своем творчестве»169.
Как отмечает Е. Курганов, «у Довлатова нарушена, смещена грань
между литературой и нелитературой»170, что проявляется в том, как именно
писатель переосмысливает анекдот в своем творчестве. Следуя традициям
развития анекдота в русской классической литературе (А. С. Пушкин,
А. П. Чехов), Довлатов «возвращает анекдот… из особого литературного
пространства в саму реальность, но это другой анекдот, прошедший уже
стадию тщательной художественной шлифовки»171. Сам Довлатов, его друзья
и
знакомые переносятся
анекдотический
сюжет,
писателем в художественно
что
придает
необходимую
обработанный
психологическую
достоверность его текстам. Благодаря этому «грань между правдой и
вымыслом,
прежде
бывшая
строго
обязательной,
вдруг
оказалась
бесповоротно стерта»172 в творчестве Довлатова, что отмечают многие
исследователи. Частично эта стратегия характерна и для публицистических
текстов писателя.
Таким образом, опираясь на работы по творчеству С. Довлатова, мы
можем выделить следующие существенные черты образа автора (или
адресанта):
демократизм и стремление выстроить равный диалог с читателем;
имплицитно выраженная авторская позиция;
http://cheloveknauka.com/kommunikativnye-strategii-v-proze-s-dovlatova (дата обращения:
22.02.2018).
169
Федотова Ю. В. Проза С. Довлатова: экзистенциальное сознание, поэтика абсурда:
автореф. дис. … канд. филол. наук. Череповец, 2006. С. 13.
170
Курганов Е. Сергей Довлатов и линия анекдота в русской прозе // Сергей Довлатов:
творчество, личность, судьба / сост. А. Ю. Арьев. СПб.: Звезда, 1999. [Электронный
ресурс]: URL: http://www.sergeidovlatov.com/books/kurganov.html (дата обращения:
22.02.2018).
171
Там же.
172
Там же.
43
философия «принятия» чужих точек зрения;
ориентация на полилог;
использование коммуникативной стратегии анекдота.
Однако необходимо учитывать, что приведенные исследования
проводились преимущественно на материале художественных текстов
писателя, в связи с чем не все черты находят отражение в его
публицистическом творчестве.
Материалом для исследования послужили публицистические статьи
С. Довлатова «Колонки редактора» (КР), выходившие в газете «Новый
американец»
(1980–1982)
и
повесть
«Невидимая
газета»
(НГ),
опубликованная впервые в 1984 году. Для анализа были отобраны статьи,
целиком или частично включенные в текст «Невидимой газеты» (в старой
или новой редакции), а также отрывки, в которых наиболее репрезентативно
выражены категории адресанта и адресата.
2. Адресант в публицистических текстах Довлатова разных редакций
2.1. Средства экспликации адресанта
Для выявления фактора адресанта в исследуемых текстах были
проанализированы:
а) эгоцентрические элементы (вводные слова, номинации, идентификации,
оценочные
предикаты,
суждения
и
умозаключения)
и
маркеры
метаязыковой рефлексии (вводные слова и конструкции с семантикой
логической последовательности, слова и выражения, обозначающие
речевые действия, слова и выражения с семантикой оценки речи);
б) категория лица: я – мы - они;
в) оппозиция свое – чужое;
г) отношение к Америке.
При
в текстах
сопоставительном
редакций
разных
анализе
средств
экспликации
адресанта
лет
основное
внимание
обращено
на эгоцентрические элементы, такие как вводные конструкции, номинации,
44
оценочные конструкции, идентификации; модальные единицы; маркеры
метаязыковой рефлексии адресанта.
А) Эгоцентрические элементы и маркеры метаязыковой рефлексии
(речевой портрет адресанта)
В ходе анализа публицистических текстов Довлатова были выявлены
следующие часто употребляемые средства экспликации адресанта:
эгоцентрические элементы
вводные
слова,
выражающие
оценку
говорящим
степени
достоверности сообщаемого
со
значением
уверенности
и
достоверности
информации
(действительно, разумеется, конечно (же), (я) думаю)
(1) Действительно — грабят. Действительно — работу найти трудно.
Действительно — тиражи ничтожные (КР, 1981) [Довлатов, 2006];
(2) Разумеется, эти картинки далеки от христианских идеалов (КР, 1981)
[Довлатов, 2006];
(3) И конечно же достается от нас тараканам (КР, 1981; НГ) [Довлатов,
2006];
(4) И все больше люблю эту страну. Что не мешает, я думаю, любить
покинутую родину… (КР, 1981) [Довлатов, 2006];
со
значением
неуверенности
и
предположения
(видимо,
возможно, (мне) кажется/казалось бы, может (быть))
(1) Видимо, негативные эмоции — сильнее (НГ) [Довлатов, 2006];
(2) Возможно, чересчур серьезные люди будут разочарованы. Им я могу
рекомендовать для чтения «Большую Советскую Энциклопедию»…
(КР, 1981) [Довлатов, 2006];
(3) Казалось бы, да здравствует свобода печати! (КР, 1981); В Америке,
мне кажется, бизнесмен — серьезная, уважаемая профессия (НГ)
[Довлатов, 2006];
(4) А может быть, все здесь испытывали нечто подобное? Может
быть, в этом и заключается главный секрет Америки? (НГ) [Довлатов,
2006];
перифрастическая номинация
45
(1) Один беспризорный рембрандт карикатуру тиснул. Вон как расстарался.
(КР, 1981) [Довлатов, 2006];
(2) Десятилетия эти болваны молились Ленину. А теперь готовы крушить
монументы, ими самими воздвигнутые (НГ) [Довлатов, 2006];
(3) Сейчас этот заговор нарушен. Великий немой заговорил (КР, 1981; НГ)
[Довлатов, 2006];
(само)идентификации
(1) Нечто подобное испытываем мы, эмигранты. (КР, 1980) [Довлатов, 2006];
(2) Так кто же мы наконец? Евреи или не евреи? (КР, 1981) [Довлатов, 2006];
(3) И все-таки, кого считать новым американцем? (КР, 1981) [Довлатов,
2006];
(4) И я, человек неверующий, повторяю: — Боже, вразуми Америку! (НГ)
[Довлатов, 2006];
(5) Антикоммунисты ли мы? То, что не коммунисты, — это ясно. Но анти?..
(КР, 1981) [Довлатов, 2006];
оценочные предикаты
(1) Это благородный и весьма достойный метод. <…> Кто постарше —
ограничивается телевизором. И это неплохо (КР, 1981) [Довлатов, 2006];
(2) Короче, рассердился мой приятель. И зря (КР, 1981) [Довлатов, 2006];
(3) Мне нравилась Америка. Просто ей было как-то не до меня… (НГ)
[Довлатов, 2006];
(4) Вопрос показался мне бестактным (НГ) [Довлатов, 2006];
суждения и умозаключения
(1) Америка — страна неограниченных возможностей (КР 1980, 1981; НГ)
[Довлатов, 2006];
(2) Убежденность в своей правоте доказательством не является. <…> Только в
свободной дискуссии рождается истина (КР, 1981) [Довлатов, 2006];
(3) Выбор — это личное дело каждого (НГ) [Довлатов, 2006];
(4) Народ — есть совокупность человеческих личностей. История народа —
совокупность человеческих биографий. Культура, религия — необозримая
совокупность человеческих деяний и помыслов (КР, 1981) [Довлатов, 2006].
метаязыковая рефлексия
46
вводные
слова
и
конструкции
с
семантикой
логической
последовательности (кстати, между тем, между прочим, вопервых, наконец, например, короче, кроме того и т. д.)
(1) Во-первых, стало ясно, что наша газета — товар (КР, 1981) [Довлатов,
2006];
(2) Короче, самый разный народ (КР, 1981) [Довлатов, 2006];
(3) Кстати, о газете. Появился «Новый американец» (КР, 1980) [Довлатов,
2006];
(4) А между тем — кто видел здесь хотя бы одно червивое яблоко? (НГ, 1981)
[Довлатов, 2006];
слова и выражения, обозначающие речевые действия
(1) Еще раз говорю — нет святых при жизни! (КР, 1980) [Довлатов, 2006];
(2) Вернее — поводырь. Поскольку речь идет о благоприобретенной духовной
слепоте (КР, 1980) [Довлатов, 2006];
(3) Повторяю: не убедить, не опровергнуть, а именно — скомпрометировать
(КР, 1980) [Довлатов, 2006];
(4) …я откладываю издание твоей книги до лучших времен… Так и сказал —
до лучших времен. (НГ) [Довлатов, 2006];
слова и выражения с семантикой оценки речи, рефлексия над
стилем
(1) Восточная общественность — и звучит-то диковато… (КР, 1981)
[Довлатов, 2006];
(2) Такие банальные вещи даже стыдно повторять… (КР, 1981) [Довлатов,
2006];
(3) «Я — умный, добрый и хороший!» — звучит неприлично (КР, 1981)
[Довлатов, 2006];
(4) Как говорится — взгляд и нечто… Речь без повода… Случайный разговор
на остановке… (КР, 1980) [Довлатов, 2006].
Как
показал
анализ
средств
экспликации
адресанта,
в
публицистических текстах Довлатова ярко выражено субъективное начало, о
чем свидетельствует высокая степень оценочности, большое количество
номинаций и (само)идентификаций, частое высказывание говорящим
суждений и умозаключений.
47
При этом позицию говорящего нельзя назвать устойчивой: в текстах
в равной степени встречаются как вводные слова со значением уверенности и
достоверности
информации,
предположения,
что
так
и
со
позволяет
значением
характеризовать
неуверенности
и
адресанта
как
сомневающегося, рассуждающего в процессе коммуникации с адресатом, а
не предоставляющего ему неоспоримую истину.
Неуверенная
позиция
прослеживается
и
в
примерах
(само)идентификации: адресант постоянно дает разные определения и
рассуждает о том, кто он сам, его коллеги, друзья и читатели газеты. Так,
например, в трех статьях из «Колонок редактора», вышедших одна за другой,
адресант пытается дать определение предполагаемому адресату:
Спорное, но выразительное определение интеллигентности дал Борис Меттер:
—
Интеллигент
—
это
тот,
кто
выписывает
газету
«Новый
американец»!; Спорное, но выразительное определение еврейства дал Борис
Меттер: — Еврей — это тот, кто выписывает газету «Новый
американец»! И опять — спорная, но выразительная формулировка
принадлежит Борису Меттеру: — Новый американец — это тот, кто
выписывает газету «Новый американец»! (КР, 1981) [Довлатов, 2006].
Также в текстах ярко выражена метаязыковая рефлексия, что придает
речи спонтанный характер и усиливает диалогичность. Более того, частое
оценивание своей и чужой речи, размышления над языком отражают
«редакторское» мышление Довлатова, говорят «о его сакральном отношении
ко всему, что связано со словом»173. Так, например, адресант часто
высмеивает ошибки в речи других людей (1) или критикует стиль (2):
(1) Один мой знакомый интеллигент говорил:
— Я только наполовину — еврей. А наполовину — грузин. И еще
наполовину — литовец.
Вот какой сложный был человек. Из трех половин состоял… (КР, 1980; НГ)
[Довлатов, 2006].
Вайль П. Из жизни новых американцев // Довлатов С. Речь без повода… или Колонки
редактора. Ранее неизданные материалы. М: Махаон, 2006. 432 с. [Электронный ресурс]:
URL: https://coollib.com/b/191485/read#t1 (дата обращения: 15.04.2018).
173
48
(2) Шесть месяцев я регулярно читал газету «Слово и дело». В ней попадались
очень любопытные материалы. Правда, слог редакционных заметок был
довольно убогим. Таким языком объяснялись лакеи в произведениях Гоголя
и Достоевского. С примесью нынешней фельетонной риторики. Например,
без конца мне встречался такой оборот: «… с энергией, достойной лучшего
применения…» А также: «Комментарии излишни!»
При этом Боголюбов тщательно избегал в статьях местоимения «я».
Использовал, например, такую формулировку: «Пишущий эти строки» (НГ)
[Довлатов, 2006].
Проведенный анализ позволяет описать речевой портрет адресанта:
сконцентрированный на себе и своем самоопределении (неустойчивая
самоидентификация); уверенный в своих суждениях (употребление вводных
слов со значением уверенности и достоверности информации; оценочные
предикаты и оценка речи; частое высказывание суждений и умозаключений),
но открытый к диалогу, готовый выслушать точку зрения другого
(употребление вводных слов со значением неуверенности и предположения);
высмеивающий
реалии
эмигрантской
жизни
и
людей
вокруг
(перифрастическая номинация), а также ошибки в чужой речи (слова и
выражения с семантикой оценки речи); уделяющий особое внимание
строению текста и находящийся в поиске идеальной формы (частое
использование вводных слов и конструкций с семантикой логической
последовательности; рефлексия над собственным стилем).
Таким образом, адресант предстает как фигура неоднозначная: с одной
стороны, он уверен в своих словах, с другой – готов в них усомниться;
открыто выражает свою точку зрения, но не может дать точной
самоидентификации; высмеивает и исправляет стиль речи других, но при
этом не уверен в собственном, находится в поиске идеальной формы.
Неоднозначность адресанта раскрывается также через анализ категории лица,
оппозиции «свое – чужое» и отношение адресанта к Америке.
Б) Категория лица: я – мы – они
49
Как показал анализ категории лица глагольных форм, в текстах
Довлатова (как более ранней редакции, так и более поздней) преобладают
формы 1-го лица в единственном и множественном числе:
Я прилетел в Америку с тремя чемоданами информации. Я знал все, хоть и не
совсем точно; Мы заново учимся читать, писать и говорить (КР, 1981);
О конкуренции я просто не думал. Разумеется, мы знали, что в Америке
существует конкуренция. <…> Мы же хотели выпускать демократическую
независимую газету (НГ) [Довлатов, 2006].
Соответственно, адресант представлен через местоимения «я» (я –
личность, я – писатель, я – автор «Колонок») и «мы» (мы – представители
третьей эмиграции, мы – редакция «Нового американца», мы – советские
граждане, мы – человечество в целом).
В первом случае он стоит на позиции только своей индивидуальной
точки зрения и, как правило, говорит
о личном опыте:
Увы, я еще в молодости понял, что способен заниматься только любимым делом
(КР, 1981) [Довлатов, 2006];
делится своими мыслями:
(На этой шкале тараканы располагаются, я думаю, между преступностью и
бумажными спичками (КР, 1981; НГ)) [Довлатов, 2006];
оценивает и комментирует:
Что я был не просто холуем, а холуем-энтузиастом; Сам я прозрел в лагерях
особого режима. (Где служил надзирателем.) (КР, 1980) [Довлатов, 2006].
Во втором случае адресант говорит от лица определенного сообщества,
разделяет общую точку зрения:
рассказывает о совместном опыте и впечатлениях:
Мы открыли счет в банке. Зарегистрировали нашу корпорацию; И все-таки мы
были счастливы (НГ) [Довлатов, 2006];
предается общим воспоминаниям:
На родине мы были хуже всех. Возмущались бытовым антисемитизмом. Страдали
от государственного (КР, 1980) [Довлатов, 2006];
отстаивает общие интересы:
50
Так уж мы воспитаны (КР, 1981; НГ) Хотя мы еще не платим гонораров. (Кстати,
в сентябре начнем платить…) (КР, 1981) [Довлатов, 2006].
Таким образом, адресант осознает и презентует себя и как
индивидуальность, и как представителя сразу нескольких общностей. При
этом
формы
единственного
и
множественного
числа
вступают
то
в синонимичные, то в антонимичные отношения, что подчеркивает особый
статус адресанта, находящегося одновременно и внутри сообщества, и вне
его:
Для меня, например, это было откровением. Так уж мы воспитаны («я такой же, как
вы»); — Мы уезжаем ради своих детей. Чтобы они росли на свободе. Забыли про
ужасы тоталитаризма… Я соглашался, что это веский довод. Хотя сам уезжал и не
ради детей. Мне хотелось заниматься литературой. («Я отличаюсь от вас») (НГ)
[Довлатов, 2006].
Такая позиция позволяет адресанту не только выразить точки зрения
различных сообществ, к которым он себя причисляет, но и дать им оценку и
оспорить.
Из глагольных форм 3-го лица преобладают формы множественного
числа (они), обозначающие круг лиц, к которым адресант себя (и
предполагаемого адресата) не причисляет:
американцы:
Десятки тысяч американцев с увлечением занимаются русскими проблемами (КР,
1982) [Довлатов, 2006];
старые эмигранты:
О нас заговорили. Причем не только с любовью. В русской колонии циркулировали
тревожные слухи (НГ) [Довлатов, 2006];
советские и американские власти:
Советские вожди догадываются, что их называют бандитами. Они привыкли. Они
даже чуточку этим гордятся (КР, 1980) [Довлатов, 2006];
некоторые социальные слои (нищие, старики и т. д.):
К нищим я всегда относился с почтением. Или, как минимум, с любопытством. Еще
бы, ведь эти люди совершенно не такие, как мы. Они игнорируют всяческие
51
приличия. Ходят в рубище. Не служат. На общественное мнение — плюют (КР,
1981) [Довлатов, 2006];
люди с другим мировоззрением:
Давайте выслушаем заблуждающихся. И пусть они выслушают нас (КР, 1981)
[Довлатов, 2006].
Некоторые из указанных групп противопоставляются адресанту и
предполагаемому
адресату.
Так,
например,
четко
прослеживаются
оппозиции:
1) мы (третья эмиграция) ↔ они (эмигранты предыдущих волн);
2) мы (демократы) ↔ они (коммунисты);
3) мы (бывшие советские граждане) ↔ они (американские граждане) и
т.д.
Все
эти
оппозиции
входят
в
основное
противопоставление,
обнаруженное в текстах:
мы – советские эмигранты со своим особым мировоззрением ↔
они – все, чей менталитет отличен от нашего.
В) Оппозиция свое - чужое
Через данное противопоставление в текстах реализуется одна из
древнейших оппозиций «свое (хорошее) – чужое (плохое)», причем
негативное отношение к «чужому» зачастую выражается с помощью иронии:
(1) Людям хотелось жить нормально, путешествовать, есть фрукты и смотреть
цветной телевизор. Отдельная квартира с ванной — уже достижение.
Короче,
они
свое
получили.
<…>
Мы
с
друзьями
относимся
к
художественному потоку. Мы уехали в поисках творческой свободы (НГ)
[Довлатов, 2006];
(2) Они не знали, что старая Россия давно погибла. <…> Им казалось, что газета
должна быть мрачной. Поскольку мрачность издалека напоминает величие
духа. <…> И тут появились мы, усатые разбойники в джинсах. И заговорили с
публикой на более или менее живом человеческом языке. Мы позволяли себе
шутить, иронизировать. И более того — смеяться (НГ) [Довлатов, 2006];
(3) По утрам вокруг нашего дома бегают физкультурники. Мне нравятся их
разноцветные костюмы. Все они — местные жители. Русские эмигранты
52
такими глупостями не занимаются. Мы по утрам садимся завтракать (НГ)
[Довлатов, 2006].
Стоит отметить непоследовательность в реализации оппозиции «свое –
чужое», что связано со стремлением адресанта стать частью новой культуры,
сохранив при этом лучшие (с его точки зрения) черты родного менталитета.
Адресант
находится
в
поиске
новой
модели
мышления,
пытается
сформировать особое мировоззрение в эмигрантской среде. Это проявляется
в смешении понятий «свое» и «чужое», а также их непоследовательной
оценке. Например, адресант критикует и высмеивает как «свое», так и
«чужое»,
в
зависимости
от
того,
насколько
они
соответствуют/не
соответствуют его ценностям:
(1) Я думаю, тоска по железному наркому — еще один рудимент советского
воспитания. <…> Тоска по нашей врожденной личной безответственности! (КР,
1980) [Довлатов, 2006];
(2) Дома бытовало всеобъемлющее ругательство «еврей». Что не так — евреи
виноваты.
Здесь — «агенты КГБ». Все плохое — дело рук госбезопасности. Происки
товарища Андропова. <…>
Слов нет, КГБ — зловещая организация. Но и мы порой бываем хороши. И если
мы ленивы, глупы и бездарны, то Андропов тут ни при чем. (КР, 1981; НГ)
[Довлатов, 2006];
(3) Американский юноша стреляет в президента, чтобы обратить на себя внимание
незнакомой женщины! Беда угрожает стране, где такое становится нормой
(КР, 1981) [Довлатов, 2006];
(4) До чего же низко упал престиж Америки! Дипломаты радуются, что их не
перестреляли, как уток. Генерал Дозьер сообщает жене:
— Я чувствую себя прекрасно. Риали вандерфул!..
А я в эту минуту чувствовал себя ужасно. Горе той стране, у которой
воруют полководцев. Генерал — не пудель. Генералов надо охранять… (КР,
1982) [Довлатов, 2006].
Также прослеживается непоследовательность в (само)идентификации,
попытки которой часто встречаются в текстах. Попеременно адресант
идентифицирует себя и предполагаемого адресата
53
как носителя советского менталитета:
Мы — советские люди. Увы, это так. И чем дольше я живу в Америке, тем
решительнее в этом убеждаюсь (КР, 1980) [Довлатов, 2006];
как любого русского эмигранта:
Мы, русские эмигранты, самые богатые люди Америки. Наше достояние — опыт
(КР, 1980) [Довлатов, 2006];
как гражданина Америки, которого волнуют проблемы страны, в
которой он живет:
Итальянская полиция не без труда освободила генерала Дозьера. Америка ликует…
Нам вернули боевого генерала…(КР, 1982) [Довлатов, 2006].
Это позволяет характеризовать адресанта как находящегося в процессе
становления, поиска себя через сопоставление с различными общностями.
Г) Отношение к Америке
Неоднозначным можно также назвать отношение адресанта к Америке,
что проявляется в повторяющихся фразах, переходящих из статьи в статью:
(1)
Америка
(действительно)
—
страна
(поистине)
неограниченных
возможностей (6 раз, КР, 1980, 1981; НГ, 1984) [Довлатов, 2006];
(2)
Что-то неладное происходит в этой стране (2 раза); Что-то нарушено в
американской жизни… (И все же что-то нарушено…) (3 раза); Так что же
происходит в Америке? (2 раза) (КР, 1981, 1982; НГ, 1984) [Довлатов, 2006];
(3)
Боже, в какой ужасной стране мы живем! (2 раза); Не дай разувериться,
отчаяться, забыть — в какой прекрасной стране мы живем! (2 раза, КР, 1981, НГ,
1984) [Довлатов, 2006].
В примере (1) адресант говорит от лица эмигрантов третьей волны, для
которых Америка становится потенциальным «домом», новой родиной, где
представится возможность начать новую жизнь. В некоторых случаях
проявляется отношение адресанта к данному высказыванию с помощью
модальной
частицы
действительно
и
наречия
поистине,
которые
выражают уверенность говорящего в предмете высказывания.
В примере (2) приведены фразы, где выражается сомнение и
недоумение адресанта, наблюдающего за Американской действительностью
54
(обычно данные фразы встречаются в контексте бытовых зарисовок или
рассказов о политических событиях, которые оцениваются адресантом
отрицательно). Использование неопределенного местоимения что-то и
риторического вопроса демонстрирует неспособность адресанта дать
однозначную оценку происходящему, его неуверенность и разочарованность,
стремление привлечь адресата к совместным поискам ответов на волнующие
вопросы.
Состояние «поиска» характерно для адресанта как в текстах ранней
редакции, так и в текстах более поздней. Однако стоит отметить и
принципиальные различия.
Во-первых, адресант постепенно все больше адаптируется к новой
среде, начинает ощущать себя частью американского сообщества, что
проявляется, в первую очередь, в выборе тем: в «Колонках» за 1980-й год,
как правило, рассказываются истории о жизни эмигрантов и буднях
редакции, вспоминается жизнь в Союзе, в то время как в более поздних
статьях преобладает политическая тематика (Ср. названия статей: «Это
произошло в лагере…»; «В редакцию зашел журналист…»; «Был у меня в
Ленинграде…»; «Когда-то я работал на заводе…» (1980); «Угрожает ли нам
термоядерная война…»; «Осенью состоятся перевыборы…»; «Кнессет
принял важное решение…» (1981); «Итальянская полиция не без труда…»
(1982)). Более того, в более поздних статьях адресант, говоря об
американских реалиях, использует притяжательные местоимения «мой» и
«наш» (Осенью состоятся перевыборы нашего мэра (КР, 1981) [Довлатов,
2006]), идентифицирует себя и других эмигрантов как граждан Америки
(Нам бы, гражданам свободного мира, хоть каплю этого единодушия! (КР,
1981) [Довлатов, 2006]), говорит о личном и общем опыте интеграции в
чужую культуру (Я давно уже замечаю в себе крикливые черты патриотизма.
Злюсь, когда ругают Нью-Йорк; Как быстро это случилось! Как быстро мы
привыкли считать фантастическую Америку — домом… (КР, 1981)
[Довлатов, 2006]).
55
Во-вторых, статьи, вошедшие в повесть «Невидимая газета», были
переработаны в связи с изменением фокуса повествования, «с позиций так
или иначе осмысленных, уже после завершения большого этапа»174. Адресант
дистанцируется
от
событий,
участником
которых
он
был,
чтобы
переосмыслить опыт эмигрантской жизни и создания газеты. При этом
меняется и адресат: в данном случае это не только эмигрант третьей волны,
читатель
газеты
«Новый
американец»,
а
любой
современник-
единомышленник Довлатова (в том числе и оставшийся в Советском союзе).
2.2. Трансформация категории адресанта в поздних редакциях
При сопоставлении 11-ти пар одинаковых текстов в разных редакциях
были выявлены следующие изменения, приводящие к трансформации
категории адресанта.
1. В
поздних
редакциях
отмечается
менее
частое
употребление
притяжательного местоимения наш, благодаря чему меняется позиция
адресанта, с которой он оценивает происходящее, увеличивается
дистанция между адресантом и персонажами повествования:
Колонки редактора (1980-1981)
Невидимая газета (1984)
Сентиментальный марш (1981)
А уж в нашей, богемной среде презрение к
деловитости
—
нескрываемое
и
однозначное [Довлатов, 2006].
В общем, методов хватает. У каждого —
свой. Наш, редакционный, заключается в
следующем [Довлатов, 2006].
И все же, ей-Богу, это не худшее место на
земле. Родные наши болота куда страшнее
и опасней [Довлатов, 2006].
Бизнес не порок
А уж в литературной, богемной среде
презрение к деловитости — нескрываемое
и однозначное [Довлатов, 2006]
Отсутствует
Отсутствует
Довлатова Е. «Новый американец» в Новом Свете // Довлатов С. «Речь без повода…
или Колонки редактора. Ранее неизданные материалы». М: Махаон, 2006. 432 с.
[Электронный ресурс]: URL: https://coollib.com/b/191485/read#t1 (дата обращения:
30.03.2018).
174
56
2. В текстах поздней редакции прослеживается замена стилистически
нейтральной лексики на более экспрессивную, разговорную, что
приводит к изменениям в речевом портрете адресанта:
Колонки редактора (1980–1981)
Невидимая газета (1984)
На английском языке… (1980)
Десятилетиями они молились Ленину. А
теперь готовы крушить его монументы,
ими
самими
воздвигнутые
(1980)
[Довлатов, 2006].
В Америке нас поразило многое…(1981)
На этой шкале тараканы располагаются, я
думаю,
между
преступностью
и
бумажными спичками (1981) [Довлатов,
2006].
Может, я их просто не замечал? Может, их
заслоняли более крупные хищники? Не
знаю… (1981) [Довлатов, 2006].
Наши будни
Десятилетия эти болваны молились
Ленину. А теперь готовы крушить
монументы, ими самими воздвигнутые
[Довлатов, 2006].
Лирическое отступление
На этой шкале тараканы располагаются, я
думаю, между преступностью и гнусными
бумажными спичками [Довлатов, 2006].
Может, я их просто не замечал? Может, их
заслоняли более крупные хищники? Вроде
уцелевших сталинистов? Не знаю…
[Довлатов, 2006].
3. В «Колонках редактора» сильно выражена метаязыковая рефлексия
(уточняющие конструкции, оговорки и самоисправления, оценка
собственных слов и т. д.), что позволяет адресанту создать эффект
разговорной речи, усилив тем самым диалогичность текста. В
«Невидимой газете» метаязыковая рефлексия выражена слабее, что
связано, в первую очередь, с усилением в текстах художественного
начала и установки адресанта на повествование, рассказывание:
Колонки редактора (1980–1981)
Невидимая газета (1984)
Сентиментальный марш (1981)
Журналистского опыта было достаточно.
Безработных грамотеев вокруг сколько
угодно. (Из одних докторов наук можно
сколотить приличную футбольную
команду.) С администраторами — хуже.
Умный пойдет в американскую фирму.
(Как мой знакомый уголовник.) Глупый,
вроде бы, не требуется. (Своих хватает.)
[Довлатов, 2006].
В Америке нас поразило многое…(1981)
Мне кажется, всего этого достаточно,
Бизнес не порок
Журналистского опыта было достаточно. С
административными кадрами дела обстояли
значительно хуже. Умный пойдет в
солидную американскую фирму. Глупый
вроде бы не требуется [Довлатов, 2006].
Лирическое отступление
Мне кажется, всего этого достаточно, чтобы
57
чтобы
примириться
с
тараканами.
Полюбить — это уже слишком. Но
примириться, я думаю, можно!
Я, например, мирюсь.
И, как говорится, — надеюсь, что это
взаимно! [Довлатов, 2006].
Сентиментальный марш (1981)
Америка — страна неограниченных
возможностей.
Одна
из
них
—
возможность погибнуть
Дома, если что, можно было к западной
общественности воззвать. А здесь?!
Восточной общественности пожаловаться?
Восточная общественность — и
звучит-то диковато… [Довлатов, 2006]
Nobody is perfect (Все мы не красавцы)
(1981)
Дай Бог, чтобы его (точнее — наши
общие) комплексы успешно развивались.
Во благо «Новому американцу». (1981)
[Довлатов, 2006].
примириться с тараканами. Полюбить —
это слишком. Но примириться, я думаю,
можно. Я, например, мирюсь. И надеюсь,
что это — взаимно… [Довлатов, 2006].
Встреча
— Я ищу, — оправдывался Мокер, — я
нащупываю ходы… Деньги будут…
Америка
—
страна
неограниченных
возможностей… <…>
Америка
действительно
страна
неограниченных возможностей. Одна из них
— возможность прогореть. [Довлатов, 2006]
Отсутствует
4. В «Невидимой газете» тексты «Колонок» помещаются в новый
контекст:
предваряются
вступительными
замечаниями
(что
необходимо в связи со сменой адресата-эмигранта, который в курсе
актуальных событий эмигрантской жизни, на любого адресатасовременника, который может не обладать необходимыми знаниями),
завершаются заключениями-рассуждениями, в которых адресант
анализирует отредактированные тексты или дает оценку событиям,
своим мыслям и чувствам, находясь на удаленной временной позиции,
что проявляется в употреблении вводных слов, выражающих оценку
говорящим
степени
достоверности
сообщаемого,
риторических
вопросов и восклицаний, конструкций с модусом кажимости (мне
казалось):
Колонки редактора (1980–1981)
Невидимая газета (1984)
Свой американец (1980)
Встретились, поговорили
Живопись я знаю плохо. Точнее говоря, В живописи я разбираюсь слабо. Точнее
совсем не знаю. Фамилию, конечно, говоря, совсем не разбираюсь. (С музыкой
58
слышал… [Довлатов, 2006]
Наконец мы познакомились. И я ее сразу
же узнал. То есть я узнал героиню этого
самого Боттичелли. Такие огромные
глаза,
ясный
взгляд,
сочетание
чувствительности
и
целомудрия…[Довлатов, 2006].
— Меня зовут Анн, — сказала девушка.
— Меня тоже, — говорю.
— Тоже — Анн? — поразилась девушка.
— Тоже — Сергей, — говорю. [Довлатов,
2006].
Это письмо дошло чудом… (1981)
Отсутствует
дело обстоит не лучше.) Но имя Боттичелли
— слышал. Ассоциаций не вызывает. Так
мне казалось [Довлатов, 2006].
И вдруг я ее узнал, причем безошибочно,
сразу. Настолько, что преградил ей
дорогу.
Наверное, Боттичелли жил в моем
подсознании. И, когда понадобилось,
выплыл.
Действительно — Мадонна. Приветливая
улыбка, ясный взгляд. Казалось бы, ну что
тут особенного?! А в жизни это
попадается так редко! [Довлатов, 2006].
Затем состоялся примерно такой диалог:
— Здравствуйте, я — Линн Фарбер.
— Очень приятно. Я тоже…
Видно, я здорово растерялся. Огромный
гонорар, «Ньюйоркер», юная блондинка…
Неужели все это происходит со мной?!
[Довлатов, 2006].
Письмо оттуда
Я много раздумывал над этим письмом.
<…>
Родина — это мы сами. Наши первые
игрушки. Перешитые курточки старших
братьев. Бутерброды, завернутые в газету.
Девочки в строгих коричневых юбках.
Мелочь из отцовского кармана. Экзамены,
шпаргалки… Нелепые, ужасающие стихи…
Мысли о самоубийстве… Стакан «Агдама»
в подворотне… Армейская махорка…
Дочка, варежки, рейтузы, подвернувшийся
задник
крошечного
ботинка…
Косо
перечеркнутые
строки…
Рукописи,
милиция, ОВИР… Все, что с нами было,
— родина. И все, что было, — останется
навсегда… [Довлатов, 2006].
Исходя из анализа языковых единиц, в которых проявляется категория
адресанта, можно сделать вывод, что адресант публицистических текстов
Довлатова,
написанных
в
эмиграции,
самоидентификацией.
59
отличается
неустойчивой
В более ранних редакциях (КР за 1980 год) адресант чаще причисляет
себя к эмигрантам третьей волны (по переживаемому опыту) и к советским
гражданам (по особенностям менталитета):
Нечто подобное испытываем мы, эмигранты; Мы – советские люди. <…>
Мы — воспитанники тоталитарной системы, ее послушные ученики. И над
каждым тяготеют десятилетия одуряющей выучки [Довлатов, 2006].
В более поздних редакциях «Колонок» (1981–1982) адресант чаще
идентифицирует себя как гражданина Америки, что проявляется и в интересе
к политической жизни страны (1), и в перенимании особенностей
менталитета американцев (2):
(1) Если мэра не переизберут, он легко найдет себе другую работу. А вот мы
едва ли найдем себе другого такого мэра (1981) [Довлатов, 2006].
(2) Мы и не заметили, как превратились в старых американцев. Мы уже не
замираем около витрин. Не разрешаем себе покупать четырехдолларовые
ботинки.
Не
уступаем
женщинам
места
в
сабвее…
Привыкли,
осмотрелись, чувствуем себя как дома. Даже лучше (1982) [Довлатов,
2006].
В «Невидимой газете», которая представляет собой переосмысление
опыта адаптации в чужой стране и создания газеты, прослеживается
возвращение к идентификации «мы – советские люди». Однако изменяется
точка зрения адресанта: если в «Колонках редактора» адресант осмысливает
эмиграцию с близкой временной дистанции и часто определяет советское как
плохое (1), то в «Невидимой газете» появляется мотив ностальгии, слабо
выраженный в «Колонках», который определяется идентификацией «мы –
родина» и реализуется с помощью ряда номинативных предложений (2):
(1) Мы — советские люди. Увы, это так. <…> На каждом пылает огненное
страшное тавро — «Made in USSR»… (КР, 1980) [Довлатов, 2006].
(2) И вот мы приехали. <…> Действительно — грабят. Действительно —
работу найти трудно. Действительно — тиражи ничтожные. А вот
ностальгия отсутствует. (КР, 1981[Довлатов, 2006]); Родина — это мы
сами. Наши первые игрушки. Перешитые курточки старших братьев.
Бутерброды, завернутые в газету. Девочки в строгих коричневых юбках.
60
Мелочь из отцовского кармана. Экзамены, шпаргалки… Нелепые,
ужасающие стихи… Мысли о самоубийстве… Стакан «Агдама» в
подворотне…
Армейская
махорка…
Дочка,
варежки,
рейтузы,
подвернувшийся задник крошечного ботинка… Косо перечеркнутые
строки… Рукописи, милиция, ОВИР… Все, что с нами было, — родина. И
все, что было, — останется навсегда… (НГ, 1984) [Довлатов, 2006].
Помимо ностальгии по Родине, в «Невидимой газете» также более ярко
проявляется стремление адресанта окончить поиски своего места в новой
стране, перейти от восторженности, сменяющейся разочарованием, к
спокойному равнодушию рядового американского гражданина.
Показателен отрывок из главы «Огонь», где адресант рефлексирует,
осмысляет опыт прошлого и рассуждает о возможности/невозможности
достижения внутреннего комфорта. Неуверенность и неопределенность
позиции адресанта выражается в данном тексте с помощью
контекстуальных антонимических конструкций (1):
(1) Я шел сквозь гул и крики. Я был частью толпы и все же ощущал себя
посторонним [Довлатов, 2006];
риторических вопросов (2):
(2) А может быть, все здесь испытывали нечто подобное? Может быть, в
этом и заключается главный секрет Америки? В умении каждого быть
одним из многих? И сохранять при этом то, что дорого ему одному?..
[Довлатов, 2006];
модальных слов со значением неуверенности (3):
(3) Сегодня я готов был раствориться в этой толпе. Но уже завтра все может быть
по-другому. <…> И может быть, еще сегодня я дорожу жизнью как таковой
[Довлатов, 2006].
соотношения трех временных плоскостей «прошлое – настоящее –
будущее» через употребление глагольных форм в соответствующем
времени, а также лексики с темпоральной семантикой (4):
(4) Потому что долгие годы я всего лишь боролся за жизнь и рассудок. В этом мне
помогал инстинкт самосохранения. И может быть, еще сегодня я дорожу
61
жизнью как таковой. Но уже завтра мне придется думать о будущем. <…>
Теперь мне бы хотелось достичь равнодушия к нему…[Довлатов, 2006];
глаголы, выражающие модальное значения желательности (5):
(5) Да, я мечтал породниться с Америкой. Однако не хотел, чтобы меня любили. И
еще меньше хотел, чтобы терпели, не любя. <…> Недостаточно полюбить этот
город, сохранивший мне жизнь. Теперь мне бы хотелось достичь равнодушия к
нему…[Довлатов, 2006].
Данный отрывок, состоящий из (1) – (5), можно рассматривать как
наиболее
яркий пример
попытки окончательной самоидентификации
адресанта, стремление к которой так или иначе проявляется во всех
проанализированных текстах. Антонимичные конструкции, модальность
неуверенности и желательности, обилие риторических вопросов явно
указывают на несостоятельность предпринятой попытки: адресант остается
неспособен однозначно определить свою принадлежность к какой-либо из
общностей, он всегда остается «частью толпы, все же ощущая себя
посторонним» [Довлатов, 2006], что отражает трагическую судьбу самого
Довлатова.
3. Адресат в публицистических текстах Довлатова разных редакций
3.1. Средства экспликации адресата
Для выявления фактора адресата были проанализированы языковые
средства, создающие эффект присутствия в тексте адресата и направленные
на сближение с ним.
В ходе анализа публицистических текстов Довлатова были выявлены
наиболее часто употребляемые маркеры категории адресата, такие как
глаголы в форме повелительного наклонения со значением просьбы,
предупреждения,
призыва
к
совместному
действию
или
рассуждению:
(1) Разрешите продолжить… (КР, 1981) [Довлатов, 2006];
(2) И жаловаться, учтите, будет некому. (КР, 1981) [Довлатов, 2006];
(3) Так давайте же спорить и обмениваться мнениями. Мнениями, а не
62
затрещинами. Давайте выслушаем заблуждающихся. (КР, 1981) [Довлатов,
2006];
категория 1-го лица множественного числа (мы – адресант и
адресат) с указанием на совместные действия:
(4) А мы — вернемся к прерванному разговору. (КР, 1981) [Довлатов, 2006];
(5) Боже, в какой ужасной стране мы живем! (НГ) [Довлатов, 2006];
местоимения 2-го лица множественного числа (вы – адресат) в
контексте
предположения
адресанта
о
возможной
реакции
адресата:
(6) Как вы заметили, юбилейной статье предпослан эпиграф из двух строк. (КР,
1981) [Довлатов, 2006];
(7) Вы скажете — пессимист. Мизантроп! Очернитель советской… виноват —
американской действительности… (КР, 1980) [Довлатов, 2006];
риторические вопросы и восклицания, побуждающие адресанта к
размышлениям:
(8) Вы только подумайте! Любимая, единственная, замечательная газета!
Плод бессонных ночей! Результат совместных героических усилий! Наше
обожаемое чадо! Боготворимое дитя! Нетленный крик души!.. И вдруг —
товар. Наподобие полтавской колбасы или селедки… (КР, 1981) [Довлатов,
2006];
(9) Кто из нас может похвастать самостоятельной духовной биографией? (А
ведь цена любой другой биографии — копейка.) (КР, 1980) [Довлатов, 2006];
прямое обращение к читателю:
(10) Короче, это — обыкновенный человек, простой и сложный, грустный и
веселый, рассудительный
и беспечный… Надеюсь,
ты узнаешь
себя,
читатель? (КР, 1980) [Довлатов, 2006];
(11) Перед тобой, читатель, свежий номер. Он сделан был тобой. И для тебя! (КР,
1980) [Довлатов, 2006];
уточняющие конструкции:
(12) Можно, конечно, и развлечься. Отправиться на сто восьмую улицу. Подойти к
русскому магазину. (Это если вы живете в Форест-Хиллсе.) (КР, 1980)
[Довлатов, 2006];
прецедентные тексты, свойственные советской культуре:
63
(13) Партия — наш рулевой!.. Мы будем петь и смеяться, как дети! Ты не
вейся, черный Уоррен! Партия сказала, комсомол ответил — есть! Мы делу
Ленина и Сталина верны! Под вечер запели гормоны… Я люблю тебя, жизнь!
(Заголовки КР, 1980) [Довлатов, 2006];
(14) Я, например, мирюсь. И, как говорится, — надеюсь, что это взаимно! (КР,
1981) [Довлатов, 2006];
конструкции, выражающие модальность неуверенности говорящего в
истинности, достоверности и точности своего сообщения:
(15)
По-моему, тут есть над чем задуматься. Не правда ли? (КР,1980)
[Довлатов, 2006];
(16)
А может быть, все здесь испытывали нечто подобное? Может
быть, в этом и заключается главный секрет Америки? (НГ) [Довлатов,
2006].
Как показал анализ средств экспликации адресанта в публицистических
текстах Довлатова, можно выделить два уровня адресата в текстах:
фактический
(эмигрант
третьей
волны,
читающий
газету
«Новый
американец») и предполагаемый, идеальный (адресат, близкий адресанту по
духу, солидарный с его взглядами, готовый к открытому диалогу).
Фактический и предполагаемый адресаты далеко не всегда совпадают. Так, в
примере (17) представлена имитация полемики с фактическим адресатом,
неспособным стать для адресанта идеальным из-за несовпадения их взглядов
и ценностей, в связи с чем прослеживается стремление адресанта убедить
фактического адресата перейти на уровень идеального с помощью
риторических приемов: иллюстрирования речи примером, использования
средств
художественной
выразительности,
риторических
вопросов
и
восклицаний.
(17)
Кто же автор этих реакционных, безыдейных стихов? Совершенно верно —
Пушкин. Тот самый. Автор послания к декабристам. (КР, 1981) [Довлатов, 2006];
Мы объявили газету независимой и свободной трибуной. <…> Доверяем читателю.
Предоставляем ему возможность думать и рассуждать.
В ответ то и дело раздается:
64
— Не хотим! Не желаем свободных дискуссий! Не интересуемся различными
точками зрения! <…>
Видел я раз случайно пекинскую кинохронику. Торжественный митинг,
центральная площадь. Полмиллиона китайцев в одинаковых синих робах.
Главный что-то пискнул, и китайцы дружно пискнули в ответ. И
одновременно протянули вверх сжатые кулаки.
Тут я, честно говоря, перепугался. Вот это машина! Полмиллиона шурупов и
винтиков! И все заодно. Да это пострашнее водородной бомбы!..
Настанет ли конец бараньему единодушию?! Проснется ли в нас думающий,
колеблющийся, свободный человек?! (КР, 1981) [Довлатов, 2006].
Как показал сравнительный анализ текстов редакции разных лет, в
текстах более поздних редакций значительно меньше языковых средств
экспликации адресата, за счет чего в них снижается степень диалогичности, а
дистанция между адресантом и адресатом увеличивается. Это обусловлено
сменой коммуникативной цели адресанта (не убедить, а рассказать),
усилением художественного компонента в текстах и трансформацией
категории
адресанта
(сменой
адресата-эмигранта,
который
в
курсе
актуальных событий эмигрантской жизни, на любого адресата-современника,
который может не обладать необходимыми знаниями).
3.2. Трансформация категории адресата в поздних редакциях
При сопоставлении одинаковых текстов в разных редакциях были
обнаружены следующие различия, в которых проявляется изменение
категории адресата.
1. Прослеживаются изменения в синтаксической организации: для
текстов более ранней редакции характерно использование средств
коммуникативного синтаксиса, таких как парцелляция и несовпадение
абзацного
и
тема-рематического
членения,
служащих
для
акцентирования внимания адресата на важных с точки зрения
адресанта высказываниях, усиления эмоционального воздействия на
адресата, выделения контрастов:
65
Колонки редактора (1980-1981)
Невидимая газета (1984)
Сентиментальный марш
Вскоре мы постигли существенную
истину. Мы убедились в том, что —
Бизнес не порок
Для меня, например, это было
откровением. Так уж мы воспитаны
[Довлатов, 2006].
Открытое письмо главному редактору
«Нового русского слова»
Возникли новые точки зрения.
Новые оценки. Новые кумиры [Довлатов,
2006].
Я оставляю без последствий
нанесенные мне оскорбления. Я к этому
привык.
К этому меня приучили в стране,
где хамство является нормой.
<…>
И если мы ленивы, глупы и
бездарны — Андропов ни при чем. У него
своих грехов хватает.
А у нас — своих [Довлатов, 2006].
Бизнес не порок
Мы постигали азбучные истины.
Азы капиталистического производства.
Так, мы обнаружили, что бизнес — не
порок. Для меня это было настоящим
откровением. Так уж мы воспитаны
[Довлатов, 2006].
2. В
«Невидимой
Боголюбов топает ногами
Возникли новые точки зрения,
новые оценки, новые кумиры [Довлатов,
2006].
Я оставляю без последствий
нанесенные мне оскорбления. Я к этому
привык. К этому меня приучили в
стране, где хамство является нормой.
<…>
И если мы ленивы, глупы и
бездарны — Андропов ни при чем. У
него своих грехов хватает. А у нас —
своих [Довлатов, 2006].
газете»
отредактированные
новый
контекст:
помещаются
в
комментарий
и/или
подробности
эмигрантской
заключение,
добавляется
опускаются
жизни
тексты
(тексты
уже
«Колонок»
вступительный
неактуальные
выстраиваются
и
редактируются таким образом, чтобы получился логически связный
рассказ). Такие изменения обусловлены усилением художественной
доминанты (с чем связана замена реальных имен и названий на
вымышленные), сменой временной дистанции и ориентацией адресанта
на нового адресата, которому может не хватать знаний для понимания
текста и для которого часть информации оказывается неактуальной.
Колонки редактора (1980-1981)
Невидимая газета (1984)
Открытое письмо главному редактору
«Нового русского слова» (1981)
Боголюбов топает ногами
66
Вступление
Редактор «Слова и дела» без конца
шельмовал нас в частном порядке.
Газета его хранила молчание. Напасть
открыто — значило бы дать рекламу
конкуренту. Да еще бесплатную.
Мы же то и дело выступали с критикой.
И Боголюбов не выдержал. Он написал
Отсутствует
большую редакционную статью —
«Доколе?». «Зеркало» в этой статье
именовалось «грязным бульварным
листком». А я — «бывшим вертухаем».
Речь в статье, естественно, шла о том,
что мы продались КГБ. В ответ я
написал… [Довлатов, 2006].
Детали эмигрантской жизни
Отказываюсь реагировать на грубые Отказываюсь реагировать на грубые
передержки, фантастические домыслы и передержки, фантастические домыслы и
цитируемые вами сплетни. Не хочу цитируемые вами сплетни [Довлатов,
разбираться, почему Вы извратили тему 2006].
доклада Андрея Синявского.
Зачем
приписали Сагаловскому высказывания его
героев.
За
что
обидели
доктора
Проффера.
Чем
заслужил
Ваше
неуважение профессор Данлоп [Довлатов,
2006].
Заключение
P. S. Когда газета уже была сверстана, я
раскрыл «НРС» от 2 мая. Среди других
материалов
обнаружил
комплект
читательских писем главному редактору.
Это были отклики на статью «Кому это
нужно». Если не ошибаюсь — пять штук.
Отсутствует
Четыре — в поддержку А. Седых и одно —
в нашу защиту.
Я не поверил собственным глазам.
Свершилось нечто беспрецедентное. «НРС»
поместило критику в собственный адрес…
[Довлатов, 2006]
3. В текстах ранней редакции частым средством выражения фактора
адресата выступают вопросно-ответные конструкции, а также прямая
и косвенная чужая речь. С помощью этого адресант переводит
67
коммуникативное пространство диалога в полилог, предоставляя
адресату-наблюдателю различные точки зрения и создавая эффект
многоголосия.
эксплицитно
Такой
полилог,
выраженными
как
правило,
сопровождается
адресата
(обращениями,
маркерами
уточнениями, глаголами повелительного наклонения и т.д.):
Колонки редактора (1980-1982)
Это произошло в лагере… (1980)
Появляется в газете спорный материал. На следующий день звонки:
— Вы посягнули на авторитеты! Вы осквернили святыни! Нарушили, затронули,
коснулись…
Еще раз говорю — нет святых при жизни! Нет объектов вне критики!
Нет партийных указаний! Нет методических разработок! Нет обкомовских
директив! [Довлатов, 2006].
Мы – советские люди (1980)
Можно, конечно, и развлечься. Отправиться на сто восьмую улицу. Подойти к
русскому магазину. (Это если вы живете в Форест-Хиллсе.) На Брайтоне, я думаю,
есть свои любимые места…
Подойдите. Увидите небольшую толпу. Услышите взволнованные речи:
— Говорят, Фима лайсенз получил?
— Да не лайсенз, а велфейр!
— Он же, вроде бы, за кеш работал?
— Одно другому не мешает… [Довлатов, 2006].
4. В более поздних редакциях диалог, как правило, остается в плоскости
коммуникации между персонажами повествования и не выходит на
уровень адресант-адресатного общения. Ср.:
Колонки редактора (1980-1982)
Невидимая газета (1984)
Мы – советские люди (1980)
На днях ко мне прибежал встревоженный
сосед.
— Что случилось?
— Ниже этажом поселился черный. Я
фамилию разглядел на почтовом ящике —
Уоррен.
— Хорошая фамилия, — говорю.
(Есть такой замечательный писатель
— Роберт Уоррен. Автор «Зеленой
долины».)
— Это другой, — говорит сосед, — это
Огонь
В пять утра меня разбудил телефонный
звонок. Бодрый голос спросил:
— Вы из русской газеты?
— Да.
— А я из полиции. У вас там пожар!
[Довлатов, 2006].
68
черный!
<…>
— Черные грабят! Черные насилуют!
Черные на велфейре сидят!..
Только не пугайте меня статистикой
[Довлатов, 2006].
Сентиментальный марш (1981)
Одному рукопись вернул. Другому.
Третьему.
Тут поднялся невероятный шум:
«Не то пишешь! Не того хвалишь! И уж
конечно — не того ругаешь!»
Одни кричат:
— Сионист! Правоверным евреем
заделался!
Другие — наоборот:
— Черносотенец! Юдофоб! Любимый
ученик Геббельса!
Что же произошло?! Неужели все разом
с ума посходили?! [Довлатов, 2006].
Бизнес не порок
Я все твердил:
— Без хорошего администратора дело не
пойдет…
Баскин соглашался:
—
Значит,
надо
выгнать
этого
бездельника Мокера… [Довлатов, 2006].
Таким образом, в публицистических текстах Довлатова разных
редакций, в первую очередь, увеличивается дистанция между адресантом и
адресатом: это уже не диалог в рамках публицистического дискурса о
насущных проблемах третьей эмиграции, а последовательный рассказ
писателя о том, как создавалась газета, что проявляется, в первую очередь, на
композиционном уровне.
4. Характеристика публицистических текстов С. Довлатова с точки
зрения коммуникативных целей и стратегий адресанта
Проведенный анализ наиболее употребляемых средств экспликации
адресанта и адресата позволяет дать общую характеристику этих категорий в
«Колонках редактора» и «Невидимой газете» и выявить коммуникативные
стратегии адресанта.
«Новый американец», основанный в 1980 году группой эмигрантов, в
число которых входил и С. Довлатов, стал первой демократической
русскоязычной газетой, созданной для представителей третьей эмиграции и
69
стремящейся осветить актуальные для них проблемы, помочь вновь
прибывшим адаптироваться в новой стране175. Соответственно, газета
ориентировалась на новый тип адресата: советского эмигранта, не
востребованного и не понятого на родине, который пытается найти свое
место в стране с чуждой ему культурой.
«Колонки редактора», как отмечают и современники, и исследователи,
«в большой степени создавали атмосферу участия читателя в жизни
газеты»176. Во многом этому поспособствовал легкий, ироничный стиль
«Колонок»: автор «“разговаривал” с читателем по-дружески, на хорошем
литературном языке»177. Главная задача адресанта при этом (как определяет
ее сам автор) – «быть посредником между читателями и газетой»178 и
формировать равнозначный диалог с адресатом. Не случайно «Новый
американец» был провозглашен «независимой и свободной трибуной»,
которая «предоставляется носителям разных, а зачастую и диаметральных
мнений», а «выводы читатель делает сам» 179.
В связи с этим адресант-адресатные отношения в «Колонках
редактора» реализуются на близкой дистанции между автором и читателем,
что отражается в усиленной диалогичности, в эксплицитно выраженном
адресате и в восприятии адресата как друга («Число наших подписчиков, то
есть друзей газеты, — растет»180). Адресант стремится наладить контакт с
адресатом
отношение,
через
душевную
доказать
ему
беседу,
доверительное
правильность
своего
и
уважительное
мировоззрения
Ласточкина Е. В. Сергей Довлатов – редактор газеты «Новый американец» // Вестник
РУДН. 2010. № 2. С. 57.
176
Там же. С. 55.
177
Кузовов С. С. «Новый американец» Сергея Довлатова: история создания //
Филологический журнал. 2010. №1. С. 127.
178
Довлатов С. Речь без повода… или Колонки редактора. Ранее неизданные материалы.
М.: Махаон, 2006. 432 с. [Электронный ресурс]: URL: https://coollib.com/b/191485/read#t1
(дата обращения: 30.03.2018).
179
Там же.
180
Там же.
175
70
(ориентированного на демократические ценности) и в результате повлиять на
общественное мнение.
А) Коммуникативная стратегия убеждения
С этой целью адресант использует коммуникативную стратегию
убеждения, которая характерна для публицистических текстов в целом и
соответствует коммуникативной цели адресанта «изменить поведение или
мнение
собеседника
или
собеседников
в
необходимом
говорящему
направлении»181.
При реализации данной стратегии «говорящий осознанно выполняет
речевые действия посредством аргументации доводов с целью эффективно
повлиять на адресата», в результате чего в модель мира адресата «вводятся
новые знания и модифицируются уже имеющиеся»182. Воздействие на
мнение адресата может осуществляться различными способами, такими как
«экспертиза (логическая аргументация), поощрение, активизация социальных
обязательств» (если коммуниканты не связаны близкими отношениями) и
«аппеляция к дружеским чувствам, выражение симпатии, признательности и
лести» (при близких отношениях коммуникантов)183.
Выбор стратегии убеждения в текстах Довлатова ранних редакций
обусловлен, в первую очередь, фактором адресата: в «Колонках редактора» в
качестве адресата выступает советский эмигрант, проживающий в Америке,
и разделяющий точку зрения адресанта, а в «Невидимой газете» это любой
современник-единомышленник Довлатова (в том числе и оставшийся в
Советском союзе). Так, например, в «Колонках редактора» при обращении к
адресату дается идентификация «мы (адресант и адресат) – эмигранты
третьей волны» через употребление глаголов в повелительном наклонении 2го лица, множественного числа, а в «Невидимой газете» – «они – русские
Адаменко Г. А. Коммуникативная стратегия убеждения и особенности ее реализации в
политическом дискурсе // Вестник МГЛУ. Выпуск 5 (665). 2013. С. 18.
181
Азылбекова Г. О. Речевая стратегия убеждения: утилитарный аспект // Вестник ВГУ. Серия:
Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2011. № 1. С. 134.
183
Азылбекова Г. О. Речевая стратегия убеждения: утилитарный аспект // Вестник ВГУ. Серия:
Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2011. № 1. С. 135.
71
182
эмигранты», для чего используются глаголы 3-го лица множественного
числа. Ср.:
Колонки редактора (1980-1982)
Невидимая газета (1984)
Мы – советские люди (1980)
Попытайтесь
вообразить
огромное
зеркало. Размером с озеро Байкал. А на
берегу этого озера (или зеркала) —
многотысячную разношерстную толпу.
Колонны третьих эмигрантов.
А теперь давайте разом окунемся в эту
незамутненную
гладь.
Давайте
мужественно на себя полюбуемся…
[Довлатов, 2006].
Дом
Многие из русских эмигрантов научились
зарабатывать приличные деньги. Наиболее
удачливые купили собственные дома.
А
неудачники
поняли
главный
экономический закон. Хорошо здесь
живется миллионерам и нищим. (Правда,
миллионером в русской колонии считают
любого
терапевта,
не
говоря
о
дантистах.) [Довлатов, 2006].
Также выбор стратегии зависит от временной дистанции адресата и
адресанта по отношению к описываемому в тексте: в «Колонках»
обсуждаются актуальные события, создается имитация дискуссии с
адресатом, спонтанной речи, в то время как в «Невидимой газете» адресант
повествует о событиях прошлого, предоставляет адресату подготовленный
рассказ. Это выражается в особенностях употребления глаголов будущего
времени в значении совместного действия адресанта и адресата:
Колонки редактора (1980-1982)
Невидимая газета (1984)
Сентиментальный марш (1981)
Предисловие; Мы строим планы
А мы — вернемся к прерванному разговору Однако мы забежали вперед.
[Довлатов, 2006] (Прямо сейчас).
О Дроздове мы еще вспомним, и не раз…
[Довлатов, 2006]. (Я в дальнейшем буду об
этом говорить)
Наконец, стратегия убеждения наилучшим образом соответствует
системе ценностей адресанта, отстаивающим право человека на собственную
точку зрения и призывающим к равноправным дискуссиям: «воздействие на
слушающего… предполагает… более или менее осознанный выбор из ряда
возможностей. Речевое воздействие служит не для упрощения этого выбора,
для облегчения осознания, ориентировки в ситуации…»184.
184
Азылбекова Г. О. Речевая стратегия убеждения: утилитарный аспект // Вестник ВГУ. Серия:
Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2011. № 1. С. 134.
72
Б) Коммуникативная стратегия анекдота
В текстах более поздней редакции адресант использует иную
коммуникативную
стратегию,
что
также
обусловлено
несколькими
факторами.
В первую очередь стоит отметить, что повесть «Невидимая газета»
представляет собой пример смешения в творчестве писателя двух начал:
художественного и публицистического. В нее вошли статьи из «Колонок
редактора», отредактированные таким образом, чтобы выстроить логичное
повествование,
ориентированное
на
нового
адресата
(любого
соотечественника, разделяющего его точку зрения).
Главной задачей адресанта становится поиск единомышленника
(идеального
читателя),
с
которым
получится
выстроить
успешную
коммуникацию (дружескую беседу). Это проявляется в отсутствии открытого
дидактизма, лаконичном стиле повествования, использовании иронии, как
основного средства художественной выразительности, а также – выборе
коммуникативной стратегии анекдота.
Коммуникативная стратегия анекдота, подразумевающая адресантарассказчика, свойственна творческому мышлению писателя в целом: он
«утверждал, что в его повествованиях никакой морали не заключено, так как
и сам автор не знает, для чего живут люди. В этом обстоятельстве прозаик
видел разницу между собой, рассказчиком, и классическим типом писателя,
осведомленного о высших целях»185.
«Рассказчик» выступает в качестве творческой маски писателя,
лишенной какой-либо дидактической функции. Тем не менее, за этой маской
оказывается скрыта мировоззренческая позиция абстрактного автора,
который представляет себе мир как набор абсурдных случайностей,
находится в постоянном поиске смысла этих случайностей и вступает
в диалог с абстрактным читателем в надежде найти ответы на волнующие его
Арьев А. Наша маленькая жизнь // Довлатов С. Собр. прозы: в 3-х т. Т. 1. СПб.: Лимбус
Пресс, 1995. С. 5–24.
185
73
вопросы через беседу. В частности, это выражается в частом использовании
приема иронии: в «Невидимой газете» (в том числе и в отредактированных
текстах) регулярно встречаются вставки-анекдоты из записной книжки
Довлатова
«Соло
окказиональной
на
ундервуде»,
(случайностной),
которые
служат
релятивистской,
для
«создания
казусной
картины
мира»186, что имплицитно выражает мировоззрение адресанта:
Колонки редактора (1980-1982)
Невидимая газета (1984)
Каждое утро… (1980)
Отсутствует
Каждое утро мы распечатываем десятки
писем. Значительная часть приходится на
мою долю.
Письма бывают самые разные. Умные и
глупые. Дружеские и враждебные. Деловые
и лирические… [Довлатов, 2006].
В джунглях капитала
СОЛО НА УНДЕРВУДЕ
Старый друг позвонил мне из Франции:
«Говорят, ты стал правоверным евреем!
И даже сделал обрезание!»
Я ответил:
«Володя! Я не стал правоверным евреем.
И вовсе не сделал обрезания. Я могу это
доказать. Я не в состоянии протянуть
тебе мое доказательство через океан. Но
я готов предъявить его в Нью-Йорке
твоему доверенному лицу…»
Каждое утро мы распечатывали десятки
писем. В основном это были чеки и
дружеские пожелания [Довлатов, 2006].
Таким образом, адресант в проанализированных текстах выбирает либо
коммуникативную стратегию убеждения, проявляющуюся в полемике с
адресатом,
призывах
к
совместным
рассуждениям,
усиленной
аргументированности, либо коммуникативную стратегию анекдота, которая
выражается в создании окказиональной картины мира, имитации ситуации
разговора, лаконизме, отсутствии дидактизма.
Обе стратегии попеременно реализуются во всех публицистических
текстах Довлатова. Однако первая больше характерна для «Колонок
редактора», а вторая – для «Невидимой газеты», что связано со сменой
Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в прозе С. Довлатова: автореф. дис. … канд.
филол.
наук.
М.,
2012.
22
с.
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://cheloveknauka.com/kommunikativnye-strategii-v-proze-s-dovlatova (дата обращения:
20.04.2018).
186
74
адресата (не только эмигрант, но любой соотечественник-единомышленник)
и коммуникативной цели адресанта (не убедить, а рассказать).
Вот, например, как реализуется коммуникативная стратегия убеждения
в статье «Когда-то я работал на заводе» (1980):
Мы осуществляем великое человеческое право на смех и улыбку. <…>
Шесть месяцев выходит наша газета. Шесть месяцев я то и дело слышу…
— И чего вы смеетесь? Над чем потешаетесь? Такие несерьезные… А в
Камбодже — террор. В Афганистане — трагедия. Академик Сахаров томится в
Горьком… И вообще, мир на грани катастрофы!..
Да, мир на грани катастрофы. И привели его к этой грани — угрюмые
люди. Угрюмые люди бесчинствуют в Камбодже. Угрюмые люди держат в
плену заложников. И гордость России, академика Сахарова, мучают тоже
угрюмые люди.
И потому — мы будем смеяться. Над русофобами и антисемитами. Над
воинствующими атеистами и религиозными кликушами. Над мягкотелыми
«голубями» и твердолобыми «ястребами»…
И главное — тут я прошу вас быть абсолютно внимательными — над
собой!
Друзья мои! Научитесь смеяться и вы научитесь побеждать! [Довлатов,
2006].
В данном случае адресант выстраивает текст по типу открытой
дискуссии: в споре с предполагаемым оппонентом он приводит аргументы в
защиту своей точки зрения, а в конце обращается к адресату-зрителю с
предложением разделить ее, для чего служат конструкции с модальностью
убеждения (я прошу вас и Научитесь смеяться и вы научитесь
побеждать!). При этом в текстах почти отсутствует дидактизм: адресант
стремится убедить адресата в правильности своего суждения с помощью
аргументации.
Для текстов «Невидимой газеты» больше характерна коммуникативная
стратегия анекдота. Например:
Видит Бог, мы покорены Америкой. Ее щедростью и благородством. И все же
что-то нарушено…
75
Женщина тонет в реке Потомак. Некий храбрец бросается с моста и
вытаскивает утопающую. Герой, честь ему и хвала!
Дальше начинается безудержное чествование героя. Дальше начинается
безудержное чествование героя. Газеты, журналы, радио и телевидение
поют ему дифирамбы. Миссис Буш уступает ему свое кресло возле Первой
леди. Говорят, скоро будет фильм на эту тему. А потом и мюзикл…
Из-за чего столько шума? Половина мужского населения Одессы числит за
собой такие же деяния…
СОЛО НА УНДЕРВУДЕ
Лет десять назад я спас утопающего. Вытащил его на берег Черного моря.
Жили мы тогда в университетском спортивном лагере. Ко мне подошел
тренер и говорит:
«Я о тебе, Довлатов, скажу на вечерней линейке».
Я обрадовался. Мне нравилась гимнастка по имени Люда. И не было повода
с ней заговорить. Вдруг такая удача.
Стоим мы на вечерней линейке. Тренер говорит:
«Довлатов, шаг вперед!»
Я выхожу. Все на меня смотрят. И Люда в том числе. А тренер
продолжает:
«Обратите внимание! Живот выпирает, шея неразвитая, плавает, как
утюг, а товарища спас!..»
После этого я на Люду и смотреть боялся.
Так что же происходит в Америке? Безумие становится нормальным
явлением? Нормальный жест воспринимается как подвиг?
И я, человек неверующий, повторяю:
— Боже, вразуми Америку! Дай ей обрести силы, минуя наш кошмарный
опыт! Внуши ей инстинкт самосохранения! Заставь покончить с
гибельной беспечностью!
Не дай разувериться, отчаяться, забыть — в какой прекрасной стране мы
живем! [Довлатов, 2006].
В первую очередь отметим обилие риторических вопросов и
восклицаний, прямую речь, выражающих субъективизм адресанта. Также
обращает на себя внимание включение в повествование небольших рассказов
76
(анекдотов) из жизни, что является отличительной чертой Довлатовской
публицистики, особенно более поздней редакции. Обычно они служат для
иллюстрации
актуальных
событий, рассуждений
адресанта или
для
характеристики персонажей. При этом адресант воздействует на адресата не
напрямую с помощью аргументов (как в предыдущем примере), а через
иронию.
Таким
образом,
коммуникативная
стратегия
адресанта
в
публицистических текстах Довлатова меняется в зависимости от фактора
адресата, чем обусловлены изменения в использовании языковых средств в
текстах редакций разных лет.
Выводы
Анализ текстовых категорий адресанта и адресата в публицистических
текстах С. Довлатова разных лет редакции позволяет сделать следующие
выводы.
1.
Речевой портрет адресанта выявляет неоднозначность его
фигуры: он одновременно уверен в своих словах и готов в них усомниться,
открыто выражает свою точку зрения, но не может дать точной
самоидентификации, высмеивает и исправляет стиль речи других, но не
уверен в собственном, находится в поиске идеальной формы.
2.
Адресант ведет повествование от первого лица и выступает как
от себя лично (я – личность, я – писатель, я – автор «Колонок»), так и от лица
сразу нескольких сообществ (мы – представители третьей эмиграции, мы –
редакция «Нового американца», мы – советские граждане, мы – человечество
в целом). При этом адресант оценивает себя, адресата, других и
окружающую действительность через систему оппозиций, выражающих
противопоставление
«мы»
(советские
эмигранты
со
своим
особым
мировоззрением) и «они» (все, чей менталитет отличен от нашего), которое
находит отражение в оппозиции «свое (хорошее) – чужое» (плохое).
3.
«своего»
Отмечается
непоследовательность
адресанта
и
непоследовательность
в
«чужого»,
77
в
оценивании
(само)идентификации,
неоднозначное отношение к Америке, что характеризует адресанта как
затрудняющегося однозначно определить свою принадлежность к какойлибо из общностей, находящегося в состоянии «поиска». В поздних
редакциях обнаруживаются следующие трансформации категории адресанта:
увеличивается дистанция между адресантом и объектом повествования;
прослеживается изменение речевого портрета адресанта; метаязыковая
рефлексия выражена слабее, что связано с изменением коммуникативной
цели адресанта.
4.
В текстах ранней редакции присутствуют два уровня адресата:
фактический
(эмигрант
третьей
волны,
читающий
газету
«Новый
американец») и предполагаемый, идеальный (адресат, близкий адресанту по
духу, солидарный со взглядами адресанта, готовый к открытому диалогу).
Фактический и предполагаемый адресаты далеко не всегда совпадают,
поэтому прослеживается стремление адресанта убедить фактического
адресанта перейти на уровень идеального с помощью риторических приемов.
5.
В текстах поздней редакции используется значительно меньше
языковых средств экспликации адресата, за счет чего в них снижается
степень диалогичности, а дистанция между адресантом и адресатом
увеличивается.
6.
Предполагаемый адресант «Колонок редактора» – эмигрант
третьей волны, читатель газеты «Новый американец», разделяющий
демократические ценности адресанта. Предполагаемый адресант «Нового
американца» – любой соотечественник-единомышленник адресанта.
7.
В ранних редакциях диалог часто переходит в полилог: адресант
предоставляет адресату-наблюдателю множество различных точек зрения.
В более поздних редакциях диалог, как правило, остается в плоскости
коммуникации между персонажами повествования и не выходит на уровень
адресант-адресатного общения.
8.
Коммуникативная стратегия адресанта меняется в зависимости от
фактора адресата, чем обусловлены изменения в использовании языковых
78
средств в текстах редакций разных лет. В «Колонках редактора»
коммуникативная цель адресанта – доказать адресату правильность своего
мировоззрения (ориентированного на демократические ценности) и в
результате повлиять на общественное мнение. С этой целью используется
коммуникативная
стратегия
убеждения.
В
«Новом
американце»
коммуникативная цель адресанта – найти единомышленника (идеального
читателя), с которым получится выстроить успешную коммуникацию
(дружескую беседу). С этой целью используется коммуникативная стратегия
анекдота.
79
Заключение
В соответствии с поставленной целью проведен комплексный
лингвистический анализ публицистических текстов С. Довлатова с точки
зрения коммуникации автора текста как субъекта речи и читателя как
адресата речи. Проведены описательный и сравнительный анализы двух
групп текстов: статей из «Колонок редактора» за 1980, 1981 и 1982 годы и
глав
из
повести
«Невидимая
газета»
(1984),
в
которые
вошли
отредактированные статьи «Колонок». В ходе анализа были выявлены
существенные изменения, внесенные автором в тексты, под влиянием
фактора адресата (прием саморедактирования).
Выявлены такие средства экспликации категории адресанта, как
вводные слова, выражающие оценку говорящим степени достоверности
сообщаемого;
перифрастическая
оценочные предикаты;
суждения
номинация;
и
(само)идентификации;
умозаключения
(эгоцентрические
элементы); вводные слова и конструкции с семантикой логической
последовательности; слова и выражения, обозначающие речевые действия;
слова и выражения с семантикой оценки речи или рефлексии над стилем
речи (метаязыковая рефлексия); формы глаголов 1-го лица единственного и
множественного числа; проявления оппозиции «свое – чужое»; фразы,
в которых выражается отношение адресанта к Америке.
Сопоставительный анализ текстов, опубликованных в «Колонках
редактора» и «Невидимой газете» выявил 63 фрагментов правки автора.
Адресант, причисляя себя к различным общностям и активно участвуя
в коммуникации с адресатом, тем не менее занимает обособленную позицию
стороннего наблюдателя, который хоть и выражает в определенный момент
чью-либо точку зрения, осмысливает при этом ее критически, подмечает и
достоинства, и недостатки.
Таким
сообщества
образом,
адресант,
(советского
являясь
общества,
представителем
американского
какого-либо
демократического
общества, эмигрантской среды и т. д.), не становится его полноценным
80
участником, что позволяет назвать чувство одиночества основополагающим
для образа адресанта в публицистике Довлатова.
Как показали описательный, сравнительный и контекстный анализы
экспликации категории адресата, в представлении пишущего адресат – это
друг и единомышленник, разделяющий систему демократических ценностей
адресанта, имеющий собственную точку зрения и открытый к диалогу.
Сопоставительный анализ фрагментов с авторской правкой выявил
такие
используемые
адресантом
коммуникативные
стратегии,
как
коммуникативная стратегия убеждения и коммуникативная стратегия
анекдота. В публицистических текстах С. Довлатова разных лет редакции
были обнаружены существенные изменения коммуникативной стратегии
адресанта. Выстраивая коммуникацию с адресатом, адресант стремится либо
убедить адресата взглянуть на действительность с его точки зрения (когда
аудитория сравнительно небольшая, как в случае с «Колонками»), либо
найти
идеального
адресата,
мировоззрение
которого
совпадает
с
мировоззрением адресанта (когда аудитория потенциально неисчислима, как
в случае с «Невидимой газетой»).
Анализ показал изменение коммуникативной стратегии пишущего:
увеличение дистанции между адресантом и адресатом; изменение речевого
портрета
адресанта;
уменьшение
эксплицитных
средств
выражения
метаязыковой рефлексии и фактора адресата. Несмотря на стремление к
сближению с адресатом, адресант в публицистических текстах Довлатова
никак не может достичь успешной коммуникации, что проявляется в
неустойчивой позиции адресанта (непоследовательная самоидентификация,
оценка, изменение коммуникативных стратегий) и постоянном поиске
идеального адресата (многократные попытки идентифицировать адресата).
Таким образом, адресант в публицистике Довлатова может быть
охарактеризован как образ одинокого человека, что отражает трагическую
судьбу самого Довлатова, который так и не смог прижиться на новой
«родине».
81
На основе результатов анализа удалось доказать заявленную гипотезу,
построенную на предположении, что прием саморедактирования (поиска
формы) в публицистических текстах С. Довлатова отражает поиски
идеального адресата: редакционные правки вносятся под влиянием фактора
адресата и нацелены на достижение успешной эстетической коммуникации,
которой адресант никак не может достичь.
Для анализа были выбраны самые яркие примеры саморедактирования
в целях достижения новой коммуникативной задачи, в связи с чем остается
значительный
пласт
художественного),
что
неизученного
предоставляет
материала
(в
возможности
первую
для
очередь
дальнейших
исследований.
Перспектива дальнейших исследований категорий адресанта и адресата
в текстах С. Довлатова – провести сравнительный анализ языковых средств и
стилистических особенностей на материале как публицистических, так и
художественных текстов автора, описать особенности использования приема
самоцитации и саморедактирования в творчестве Довлатова.
82
Использованная литература
Источник
1. Довлатов С. Речь без повода… или Колонки редактора. Ранее неизданные
материалы. М.: Махаон, 2006. 432 с. [Электронный ресурс]: URL:
https://coollib.com/b/191485/read#t1
Справочная литература
1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и
понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР,
2009. 448 с.
2. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. Ярцевой. М.:
Советская энциклопедия, 1990. 688 с. [Электронный ресурс]: URL:
http://tapemark.narod.ru/les/
3. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ.
рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М.; Вена: Языки славянской культуры;
Венский славистический альманах, 2004. 1488 с.
4. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических
терминов. М.: Просвещение, 1976. 399 с. [Электронный ресурс]: URL:
https://dic.academic.ru/contents.nsf/lingvistic/
Научная литература
1. Адаменко Г. А. Коммуникативная стратегия убеждения и особенности ее
реализации в политическом дискурсе // Вестник МГЛУ. Вып. 5 (665).
2013. С. 9–18.
2. Азылбекова Г. О. Речевая стратегия убеждения: утилитарный аспект //
Вестник ВГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2011.
№ 1. С. 133–136.
3. Анастасьев Н. «Слова моя профессия»: О прозе Довлатова // О
Довлатове. Статьи, рецензии, воспоминания. Тверь: Другие берега, 2001.
83
224
с.
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.sergeidovlatov.com/books/anastasiev.html
4. Анисова А. А. Фактор адресата как категория художественного текста //
Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 2 (32): в 2-х
ч. Ч. I. С. 27–30.
5. Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира //
Апресян Ю. Д. Избранные труды: в 2-х т. Т. 2. М.: Языки русской
культуры,
1995.
С.
272–298.
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://lpcs.math.msu.su/~uspensky/journals/siio/35/35_12APRES.pdf
6. Арутюнова Н. Д. Наивные размышления о наивной картине языка // Язык
о языке. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 7–22.
7. Арутюнова Н. Д. Фактор адресата // Известия АН СССР. Серия
литературы и языка. 1981. Т. 40. № 4. С. 356–367.
8. Арьев А. История рассказчика // Довлатов С. Собр. соч.: в 4-х т. Т. 1.
СПб.: Азбука-классика, 2005. 464 с. [Электронный ресурс]: URL:
http://www.sergeidovlatov.com/books/ariev2.html
9. Арьев А. Наша маленькая жизнь // Довлатов С. Собр. прозы: в 3-х т. Т. 1.
СПб.: Лимбус Пресс, 1995. С. 5–24.
10.Байбатырова
Н.
М.
Культурно-исторический
феномен
русского
зарубежья в концепции публицистического творчества писателей 1970–
1990-х гг. // Общество: философия, история, культура. 2013. № 3. С. 42–
46.
11.Байбатырова Н. М. Публицистическая деятельность С. Довлатова в
газете «Новый американец» // Вестник Мордовского университета. 2015.
Т. 25. №3. С. 57–65.
12.Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Универс, Прогресс,
1994. С. 384–391.
13.Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика
словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 250–296.
84
14.Бахтин М. М. Проблемы текста в лингвистике, филологии и других
гуманитарных науках // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества.
М.: Искусство, 1979. С. 297–325.
15.Белецкий
А.
И.
Избранные
труды
по
теории
литературы.
М.:
Просвещение, 1964. 483 с.
16.Белоглазова Е. В. Еще раз об адресате и категории адресованности
художественного текста // Текст – Дискурс – Стиль. СПб.: Издательство
СПбГУЭФ, 2004. С. 143–153.
17.Бойко Г. И. Категория лица как репрезентант системы ценностных
ориентаций. Вестник ТГУ. Сер. Гуманитарные науки. Вып. 2 (58). 2008.
С. 212–219.
18.Бойко Г. И. Релевантность категории лица как репрезентанта внутреннего
мира личности // Вестник МГЛУ. Сер. Языкознание. Вып. 560. 2009. С.
43–53.
19.Большакова А. Ю. Образ читателя как литературоведческая категория //
Известия АН. Серия литературы и языка. 2003. Т. 62. № 2. С. 17–26.
20.Большакова А. Ю. Теории автора в современном литературоведении //
Известия АН. Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 5. С. 15–24.
21.Букирева Т. А. Аспекты языковой игры: аномальность и парадоксальность
языковой личности С. Довлатова: автореф. дис. … канд. филол. Наук.
Краснодар,
2000.
22
с.
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://cheloveknauka.com/aspekty-yazykovoy-igry-anomalnost-iparadoksalnost-yazykovoy-lichnosti-s-dovlatova
22.Булыгина Т. В. Я, ты и другие в русской грамматике // Филологические
исследования. Л.: Наука, 1990. С. III—124.
23.Вайль П. Из жизни новых американцев // Довлатов С. Речь без повода…
или Колонки редактора. Ранее неизданные материалы. М., 2006. 432 с.
[Электронный ресурс]: URL: https://coollib.com/b/191485/read#t1
24.Валгина Н. С. Теория текста. М.: Мир книги, 1998. 210 с.
85
25.Вежбицкая А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. М.:
Прогресс, 1978. С. 402–424.
26.Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. М.: ОлмаПресс, 2005. 384 с.
27.Виноградов В. В. О языке художественной прозы: избр. тр. М.: Наука,
1980. 360 с.
28. Виноградов В. В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа,
1971. 239 с.
29.Власова Ю. Е. Жанровое своеобразие прозы С. Довлатова: автореф. дис.
… канд. филол. наук. М., 2001. 20 с. [Электронный ресурс]: URL:
http://www.dissercat.com/content/zhanrovoe-svoeobrazie-prozy-s-dovlatova
30.Вознесенская О. А. Проза Сергея Довлатова: Проблемы поэтики: автореф.
дис. … канд. филол. наук. М., 2000. 22 с. [Электронный ресурс]: URL:
http://www.dissercat.com/content/proza-sergeya-dovlatova-problemy-poetiki
31.Воронцова-Маралина А. А. Проза Сергея Довлатова: поэтика цикла:
автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2004. 21 с. [Электронный ресурс]:
URL: http://cheloveknauka.com/proza-sergeya-dovlatova-poetika-tsikla
32.Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Астрель: CORPUS, 2011. 736 с.
33.Голев Н. Д. Обыденное метаязыковое сознание как онтологический и
гносеологический
феномен
(к
поискам
«лингвогносеологем»)
//
Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические
аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С. 7–40.
34.Горохов В. М. Закономерности публицистического творчества: (Пресса и
публицистика). М.: Мысль, 1975. 187 с.
35.Демьянков В. З. Прагматические основы интерпретации высказывания //
Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1981. Т. 40. № 4. С. 368–
377.
36.Доброзракова Г. А. Поэтика С. Д. Довлатова в контексте традиций
русской литературы XIX–XX веков: автореф. дис. … док. филол. наук.
М.,
2012.
21
с.
[Электронный
86
ресурс]:
URL:
http://cheloveknauka.com/poetika-s-d-dovlatova-v-kontekste-traditsiy-russkoyliteratury-xix-xx-vekov
37.Доброзракова Г. А. Путь Сергея Довлатова к прозе // Мир науки,
культуры, образования. 2010. № 4 (23). Ч. II. С. 80–84.
38.Доброзракова Г. А. Пушкинский миф в творчестве Сергея Довлатова:
автореф. дис. … канд. филол. наук. Самара, 2007. 20 с. [Электронный
ресурс]:
URL:
http://cheloveknauka.com/pushkinskiy-mif-v-tvorchestve-
sergeya-dovlatova
39.Доброзракова Г. А. Творчество С. Довлатова в контексте традиций
русской литературы (обзор исследований) // Известия Самарского
научного центра РАН. 2009. Т. 11. № 4 (6). С. 1533–1541.
40.Добрычева А. А. Особенности синтаксической организации прозы Сергея
Довлатова // Вестник Череповецкого государственного университета.
2011. Т. 1. № 4. С. 57–60.
41.Довлатова Е. «Новый американец» в Новом Свете // Довлатов С. «Речь
без повода… или Колонки редактора. Ранее неизданные материалы». М.:
Махаон,
2006.
432
с.
[Электронный
ресурс]:
URL:
https://coollib.com/b/191485/read#t1
42.Дускаева Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров / Под
ред. М. Н. Кожиной. СПб.: СПбГУ: Филол. факультет, 2012. 274 с.
43.Звегинцев В. А. О цельнооформленности единиц текста // Известия АН
СССР. Серия литературы и языка. Т. 39. №1. 1980. С. 13–21.
44.Загидуллина М. В. Трансформация оценки классического наследия
(Довлатов и Достоевский) // Вестник Челябинского государственного
университета. Филология. Искусствоведение. 2010. № 13 (194). Вып. 43.
С. 39–42.
45.Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.:
Наука, 1982. 368 с.
46.Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.:
Наука, 1973. 352 с.
87
47.Золотова Г. А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная
грамматика русского языка. М.: Наука, 2004. 544 с.
48.Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.:
Издательство ЛКИ, 2008. 288 с.
49.Каминская Т. Л. Автор и адресат в современных медиатекстах // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Сер. 9. Вып. 2. Ч. 2. 2008. С. 314–
319.
50.Каминская Т. Л. Адресат в текстах периодической печати // Вестник
Кемеровского государственного университета. Сер. «Журналистика».
2002. Вып. 3. С. 194–198.
51.Каминская Т. Л. Адресат текстов массовой коммуникации: реальный,
«вычисленный» и созданный // Зарубежная и российская журналистика:
актуальные проблемы и перспективы развития: материалы Междунар.
науч.-практ. конф. Волгоград, 2005. С. 36–41.
52.Каминский П. П. Принципы исследования публицистики на современном
этапе // Вестник Томского государственного университета. Филология.
2007. №1. С. 97–105.
53.Калачинский
А.
В.
Аргументация
публицистического
текста.
Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1989. 119 с.
54.Караджев Б. И. Фактор адресанта и адресата в дискурсе СМИ // Вестник
РУДН. Сер. Вопросы образования: языки и специальность. 2014. № 3. С.
40–46.
55.Комарова
З.
И.
Коммуникативно-прагматическая
дисциплинарно-методологическом
пространстве
парадигма
в
современной
лингвистики // Вестник Челябинского государственного университета.
2013. № 1 (292). Филология. Искусствоведение. Вып. 73. С. 66–71.
56.Кузовов С. С. «Новый американец» Сергея Довлатова: история создания //
Филологический журнал. 2010. №1. С. 126–129.
57.Кукса
И.
Ю.
Средства
выражения
модального
значения
уверенности/неуверенности в текстах газет первой половины XIX века //
88
Вестник РГУ им. И. Канта. 2008. Вып. 8. Филологические науки. С. 59–
64.
58.Курганов Е. Сергей Довлатов и линия анекдота в русской прозе // Сергей
Довлатов: творчество, личность, судьба / сост. А. Ю. Арьев. СПб.: Звезда,
[Электронный
1999.
ресурс]:
URL:
http://www.sergeidovlatov.com/books/kurganov.html
59.Ласточкина Е. В. Сергей Довлатов – редактор газеты «Новый
американец» // Вестник РУДН. 2010. № 2. С. 52–60.
60.Ласточкина Е. В. Авторская позиция и способы ее выражения повести С.
Довлатова
«Зона»
//
Вестник
РУДН.
Сер.
Литературоведение.
Журналистика. 2012. № 2. С. 34–43.
61.Ласточкина Е. В. Публицистическое начало в прозе С. Довлатова:
автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2013. 21 с.
62.Логинов А. В. Адресант и адресат в диалогическом пространстве //
Вестник
Московского
государственного
областного
университета.
Русская филология. 2009. № 2. С. 49–54.
63.Матвеева Г. Г. Скрытые грамматические значения и идентификация
социального лица («портрета») говорящего: автореф. дис. … д-ра филол.
наук.
СПб.,
1993.
22
с.
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://cheloveknauka.com/skrytye-grammaticheskie-znacheniya-iidentifikatsiya-sotsialnogo-litsa-portreta-govoryaschego
64.Медведева Т. А., Бушуева С. В. Российское зарубежье ХХ века:
особенности формирования, адаптации и сохранения национальной
идентичности
российской
эмиграции
//
Вестник
Нижегородского
университета им. Н. И. Лобачевского. 2016. № 2. С. 32–41.
65.Мотыгина Ж. Ю. С. Довлатов: Творческая индивидуальность, эволюция
поэтики: автореф. дис. … канд. филол. наук. Астрахань, 2001. 19 с.
[Электронный ресурс]: URL: http://www.dissercat.com/content/s-dovlatovtvorcheskaya-individualnost-evolyutsiya-poetiki
89
66.Николина Н. А. Активные процессы в языке современной русской
художественной литературы. М.: ИТДГК «Гнозис», 2009. 336 с.
67.Норман Б. Ю. Лингвистическая прагматика (на материале русского и
других славянских языков): курс лекций. Минск, 2009. 183 с.
68.О Довлатове. Статьи, рецензии, воспоминания. Тверь: Другие берега,
2001. 224 с.
69.Орлова А., Шнеерсон М. Блеск и нищета «Нового американца» // Вестник
Online,
2002.
№10.
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.vestnik.com/issues/2002/0515/koi/orlova.htm
70.Орлова Н. А. Поэтика комического в прозе С. Довлатова: семиотические
механизмы и фольклорная парадигма: автореф. дис. … канд. филол. наук.
Майкоп,
2010.
22
с.
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://cheloveknauka.com/poetika-komicheskogo-v-proze-s-dovlatovasemioticheskie-mehanizmy-i-folklornaya-paradigma
71.Падучева Е. В. Говорящий как наблюдатель: об одной возможности
применения лингвистики в поэтике // Известия АН. Серия литературы и
языка. Т. 52. №3. С. 33–44.
72.Падучева Е. В. Семиотика ошибки: введение в заблуждение как прием. //
Человек о языке – язык о человеке: сб. ст. памяти академика Н.
Ю.Шведовой. М.: Азбуковник, 2012. С. 255–270. [Электронный ресурс]:
URL: http://lexicograph.ruslang.ru/TextPdf1/semiotika%20oshibki.pdf
73.Падучева
Е.
В.
Эгоцентрические
валентности
и
деконструкция
говорящего // Вопросы языкознания. 2011. №3. С. 3–18.
74.Папина А. Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М.: УРСС,
2002. 367 с.
75.Пекуровская А. Когда случилось петь С. Д. и мне. СПб.: Симпозиум,
2001. 431 с.
76.Петрова Н. Ю., Данилова Е. А. Средства выражения желательности как
одного из значений объективной модальности простого предложения //
90
Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 28.
С. 47–50. [Электронный ресурс]: URL: http://e-koncept.ru/2017/770682.htm.
77.Плотникова А. Г. Традиции русской классической литературы в
творчестве С.Д. Довлатова: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2008.
21 с. [Электронный ресурс]: URL: http://cheloveknauka.com/traditsiirusskoy-klassicheskoy-literatury-v-tvorchestve-s-d-dovlatova
78.Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику. Грамматические
значения и грамматические системы языков мира. М.: Российский
государственный гуманитарный университет, 2011. 672 с.
79.Погосян Н. В. Коммуникативные стратегии в прозе С. Довлатова:
автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2012. 22 с. [Электронный ресурс]:
URL:
http://cheloveknauka.com/kommunikativnye-strategii-v-proze-s-
dovlatova
80.Погосян Н. В. Приятие мира и диалогизм как этико-эстетические основы
прозы С. Довлатова // Наука и школа. 2012. №3. С. 79–82.
81.Позерт И. Н. «Я хотел бы считать себя рассказчиком.» (Особенности
идиостиля С. Довлатова) // Русский язык в школе. 2006. №5. С. 63–67.
82.Полонский А. В. Публицистика как особый вид творческой деятельности
// Научные ведомости БелГУ. 2008. №11. Вып. 1. С. 56–61.
83.Прохоров Г. С. Феномен художественно-публицистического текста в
журналистике («Наша общественная жизнь» М. Е. Салтыкова-Щедрина и
«Дневник писателя» Ф. М. Достоевского) // Известия Уральского
федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2012. № 2 (102).
С. 18–25.
84.Прохоров Е. П. Искусство публицистики: Размышления и разборы. М.:
Советский писатель, 1984. 360 с.
85.Прохоров Е. П. Публицист и действительность. М.: Издательство МГУ,
1973. 320 с.
91
86.Прядко Ю. П. Американские страницы жизни и творчества С. Довлатова
// Актуальные проблемы славянской филологии. Вып. XXІV. Ч. 1. 2011.
С. 298–307.
87.Рейн Е. Б. Мне скучно без Довлатова. Новые сцены из жизни московской
богемы. СПб.: Лимбус-Пресс, 1997. 296 с.
88.Семенова А. Л. Своеобразие русской публицистики 1900-х гг. // Вестник
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.
2011. №63. С. 84–87.
89.Сенук З. В. Публицистика как фактор развития политической культуры:
автореф. дис. … канд. филос. наук. Екатеринбург, 1993. 22 с.
[Электронный ресурс]: URL: http://cheloveknauka.com/publitsistika-kakfaktor-razvitiya-politicheskoy-kultury
90.Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба / сост. А. Ю. Арьев. СПб.:
Звезда, 1999. 320 с.
91.Сергей Довлатов: лицо, словесность, эпоха / сост. А. Ю. Арьев. СПб.:
Звезда, 2012. 256 с.
92.Синельникова Л. Н. Стратегия приближения к адресату в современном
медиатексте // Научные ведомости. Сер. Гуманитарные науки. 2014. № 13
(184). Вып. 22. С. 253–261.
93.Скарлыгина Е. Ю. Журналистика русской эмиграции: 1960-1980-е годы:
учеб. пособие. М.: Факультет журналистики МГУ, 2010. 109 с.
94.Скребцова Т. Г. Когнитивная лингвистика: курс лекций. СПб.:
Филологический факультет СПбГУ, 2011. 256 с.
95.Скуленко М. И. Убеждающее воздействие публицистики: (Основы
теории).
Киев:
Издательство
при
Киевском
государственном
университете, 1986. 174 с.
96.Солганик Г. Я. Общая характеристика языка современных СМИ в
сопоставлении с языком СМИ предшествующего периода // Язык
массовой и межличностной коммуникации. М.: Медиа-Мир, 2007. С. 15–
39.
92
97.Солганик Г. Я. Публицистика как искусство слова // Поэтика
публицистики: сб. ст. М., 1990. С. 3–9.
98.Соловьев В., Клепикова Е. Довлатов вверх ногами. М.: Коллекция
«Совершенно секретно», 2001. 192 с.
99.Стернин И. А. Фактор адресата в речевом воздействии. Воронеж: Истоки,
2012. 51 с.
100. Стюфляева М. И. Образные ресурсы публицистики. М.: Мысль, 1982.
176 с.
101. Суровцев Ю. О публицистике и публицистичности // Знамя. 1986. №4.
С. 208–224.
102. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика. М.: Восток-Запад, 2006.
200 с.
103. Сухих И. Н. Довлатов: время, место, судьба. СПб: Пальмира, 2017.
104. Ткачева Е. В. Эффект разговорности как новая тенденция в
публицистике конца ХХ века: случайное неслучайно // RELGA, 2012. №
14.
С.
178–183.
[Электронный
ресурс]:
URL:
file:///C:/Users/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%
D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/Downloads/589-1205-1-SM%20(2).pdf
105. Тюпа В. И. Коммуникативные стратегии. Нарратология как аналитика
повествовательного дискурса. Тверь, 2001. [Электронный ресурс]: URL:
http://my-chekhov.ru/kritika/tupe/tupe3.shtml
106. Успенский Б. А. Поэтика композиции. М.: Искусство, 1970. 256 с.
107. Федотова Ю. В. Проза С. Довлатова: экзистенциальное сознание,
поэтика абсурда: автореф. дис. … канд. филол. наук. Череповец, 2006.
22 с.
108. Фоминых В. Н. Публицистический факт: Путь к оптимизации
журналистского
текста.
Красноярск:
Издательство
Красноярского
университета, 1987. 124 с.
109. Черепахов М. С. Проблемы теории публицистики. М.: Мысль, 1973.
267 с.
93
110. Чернейко Л. О. Оценка в знаке и знак в оценке // Филологические
науки. 1990. № 2. С.72–82.
111. Чуланова Г. В. Статус читателя как субъекта коммуникации // Вестник
СумГУ. 2006. Т. 2. №11(95). С. 87–94.
112. Шаповал В. В. Имидж автора в публицистике (роль сленговых и иных
заимствований,
маркированных
как
[Электронный
«чужое
слово»).
М.,
ресурс]:
1999.
URL:
http://www.philology.ru/marginalia/shapoval20.htm
113. Шарифова С. Ш. Понятие, механизмы и формы жанрового смешения в
современной романистике // Актуальные инновационные исследования:
наука и практика. 2010. № 4. С. 16. [Электронный ресурс]: URL:
http://bezogr.ru/ponyatie-mehanizmi-i-formi-janrovogo-smesheniya-vsovremennoj.html
114. Шестерина А. М. Полемический текст в современной прессе: автореф.
дис. … док. филол. наук. Тамбов, 2004. 18 с. [Электронный ресурс]: URL:
http://cheloveknauka.com/polemicheskiy-tekst-v-sovremennoy-presse
115. Шмид B. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.
116. Шумарина
М.
Р.
Язык
в
зеркале
художественного
текста.
Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы. М.: Флинта,
2016. 327 с.
117. Щелкунова Е. С. Публицистический текст в системе массовой
коммуникации: специфика и функционирование: учеб. пособие. Воронеж:
Родная речь, 2004. 194 с.
118. Янченкова И. С. Адресованность в языковой игре: автореф. дис. …
канд. филол. наук. Петропавловск-Камчатский, 2006. 21 с. [Электронный
ресурс]: URL: http://cheloveknauka.com/adresovannost-v-yazykovoy-igre
94