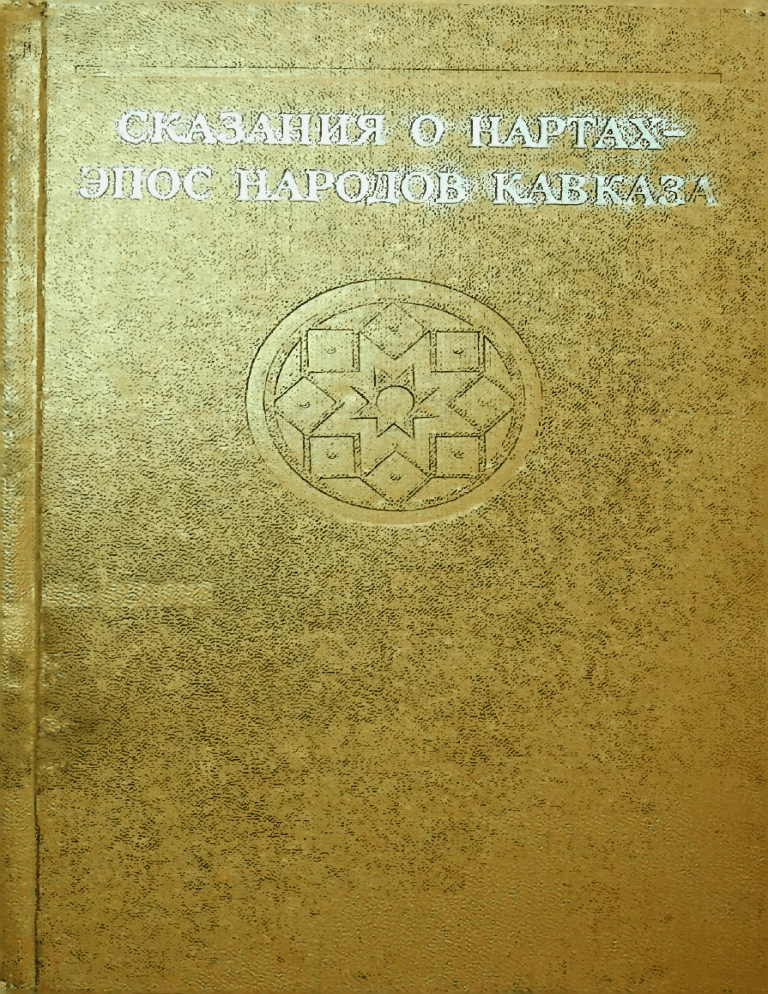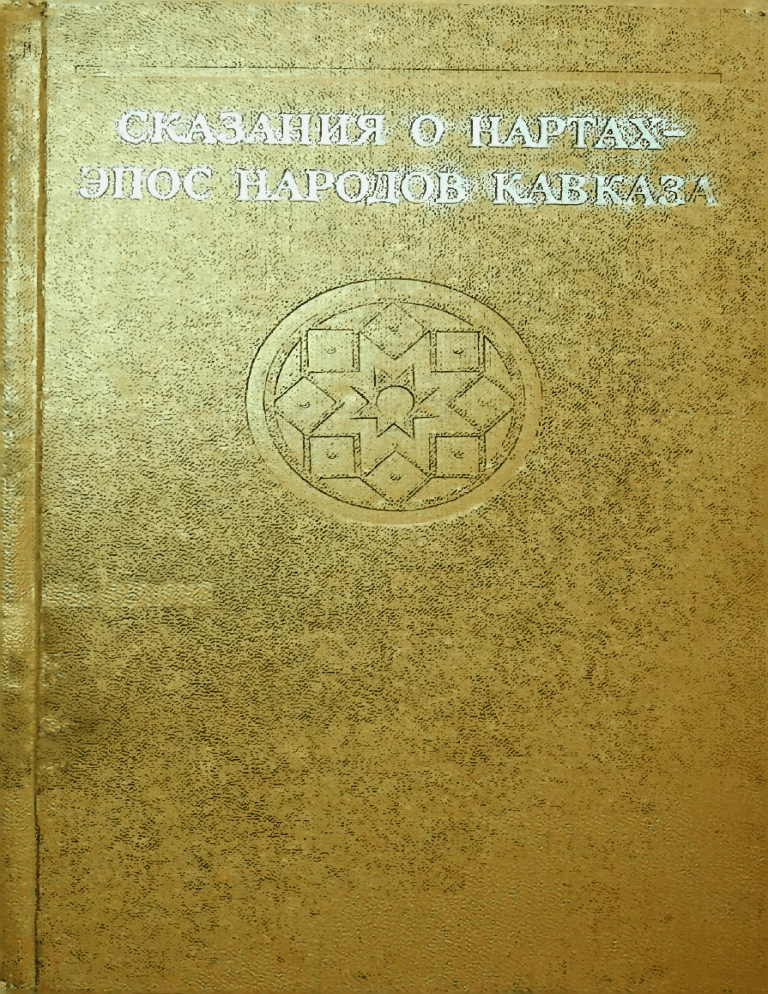
ш»
■ - ..
*:•'•■
.
Ш ...
'
■
щ
1р ..........
■ ' .
■
Г::
:
№
■ р|§ 1РЮЙ1ЙШЙШ1т
ши.
Ш
Ш:-,
II ЯРШ
: //П -Ж
щ
5ЖШЖ
■■■ : ... :«!ЩрРйййй|,
■
-■
щ
т
ш
1
ш
а1ЯШ®ШЯ1Я1«
I
г йй-й
йй
ш ЯШ" - •'
т
* тттжшт-тт& ■
ъштШЯШШШШШЯШ.
'
■ :шт ттшт:ттт&т!'ш, .:
:
■ -
V
:
.
«. •
Й
1ШШ
&
а» ж штт ■ «•«
рЖв^ЩЦ*»
7Ш* Ж: ,•?•' .Ж* • •-"
"
•
•.
К
■
|Й.Й рЙЙр®* • '
:.-
^Г:гак
-
V.
•
V-
*адйя
■
.
й-
&
31 • ш '
■-
Ш
СКАЗАНИЯ О МАРТАХ ЭПОС НАРОДОВ КАВКАЗА
1969
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва
Монументальный эпос „Нарты" — памятник устной
народной поэзии, известный многим народам Кавказа
осетинам, адыгам, абхазам, балкарцам, карачаевцам, чечен­
цам, ингугиам и др. Время формирования памятника,
торические корни ******* культурной общности народов
Кавказа, народное мировоззрение, нашедшее отражение
в сказаниях о нартах, различные национальные версии
нартиады, поэтика, художественная структура сказаний
о нартах — таковы основные вопросы, рассмотренные
в книге.
А. А. Петросян
РЕШЕННЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАРТОВЕДЕНИЯ
Скапания о нартах как памятник устной народной
лопни и, достойный занят! место в сокровищнице мирового
искусства, стали известны за пределами Кавказа сравни­
тельно недавно.
На протяжении многих столетий нартские сказании,
переходя из уст в уста, сохранялись в памяти сотен поко­
лений благодаря своему художественному обаянию.
Но история мировой культуры до последнего времени
не ведала об зтом выдающемся произведении народной
поэзии.
Первые упоминания о партах как о героях народных
сказаний мы находим в этнографических изданиях Росспнекой Академии наук 40-х годов 11 рошлого столетия,
13 середине XIX в. появились фрагментарные публикации
отдельных вариантов эпоса. А в 80-х годах в трудах акадомика В. Ф. Миллера были сделапы первые попытки
научного осмысления исторического факта существования
партских сказаний'. И вот уже более столетия длится
записывание и собирание текстов эпоса2. Но в советское
время эта работа получила исключительный размах в нашей стране особенно в последи по десятилетия, когда на-
Р е д к оддегия:
А. А. ПЕТРОСЯН (ответственный редактор),
А. И. АЛИЕВА, В. М. ГАЦАК, У. Б. ДАЛГАТ
1
I
!'
;
1^-89-68
'
7-2-2
!
I
I
Вс. Миллс р. Кавказские сказания о циклопах. — «Сборпик материалов по этнографии», вып. 1. М., 1885; Он же.
Кавказские сказания о велпкапах, прикованных к горам. —
ЖМНП, 1883, л. 225, вып. 1; О и же. Кавказско-русские парал­
лели. — «Этнографическое обозрение», 1891, кп. X, XI; Оп же.
Осетинские этюды, ч. Т—ПТ. М., 1881—1887.
2 См.: Б. А. К алое в. История записи и публикации нартского эпоса. — В кн.: «Иартскпй эпос. Материалы совещания
19—20 октября 1956 г.». Орджоникидзе, 1957, стр. 175—213,
5
1
мот,
Кавказа получили возможи культурные очаги.
паше время появился в совет-
;
: гул о г о иооочоцьльи о
и» .
Я
VI
.....
в респуолпках ^
рачаев0-Черксссии, где теперь работчю'т' нацпопаль'пыс научпо-псследопптельские ппстит Г вырос большой коллектив нартоведоп, создавших
22* мд интересных исследовании оо этом уникальном
дришем памятнике народной культуры *
Раньше всех работа по изучению пертского эпоса развернулась в Осетин, н уже в 20-е годы осетинский варпапт эпоса был опубликован с наибольшей полнотой
в то время как другие национальные Персии эпоса были
известны в меньшей степени.
Разумеется, исследовательская работа по изучению
этого памятника сначала опиралась главным образом на
осетинский материал. И, может быть, этим объясняется,
что вплоть до 50-х годов генезис лартского эпоса связы­
вался по преимуществу с историей осетин.
Считалось, что он «проник» на Кавказ вместе с прихо­
дом туда аланских предков осетин. Появление доказа­
тельств о широком бытовании нартского эпоса также и
у других народов Кавказа (многочисленные записи па
адыгском и абхазском языках, иа языке карачаевцев и
балкарцев, чеченцев и ингушей) воспринималось как
Факт культурного заимствования и не более.
ак думали многие ученые, в том числе и крупнейший
В
псвледователь осетинского языка и фольклора
екпн
/ по меРе накопления достижений совстстпкп)5 У'\ (археологип, этнографии и фольклорирпальной тсуптт^6 углуоленпя изучения духовной и матестановпласг *отгРпРЫ наРодов Кавказа все больше и больше
повилась очевидной необходимость пересмотра и уточ-
:
;
I
!
:1
I.
ДИГ0РСК1Я СКАЗАНЫ
|
г <■:
:ь
' >. Туяй»’.
И П|,ИМ1-.ЧА»!|«ЧИ
Все». Миллер л
1
Обложка киши „Дигорские сказанияодной
из первых научных публикаций осетинскою
нартского эпоса. М., 1902.
I
3 См.
См.: *НаРтовскне папо™ЛеДН(Ш разделе даппой книги.
каз 4 109павопип5’ ^мятнпкп навоптЛ6 сказанпяз>1 вып. I. Владпкавнаролнпг твоРчество», вып Дтт°Г?> ТВ0Рчества осетин. Дигорское
Родного творчества осетин]1’ Влад?кавказ, 1927: «Памятники
постя3^тС^т также скп^П* ТТТ- Владикавказ, 1928.
ученого °'жШ°п собпРательской т™’ 0 нес°мненной значптсльэп°са, зап^сав^МезШ1я> °пубчико^Ь1 пзвестного французского
писанные у зарубежных^ адогов6™ ун11Кальные тексты
иония существующей точки зрения о гепезисе нартского
эпоса. И справедливости ради надо сказать, что именно
В. И. Абаев положил начало пересмотру старой точки
зрения. Развивая тезис академика Миллера о кавказской
общности0 и опираясь зга новые достижения советской
фольклористики, археологии и лингвистики, Абаев пер­
вый обратил внимание иа уникальную многоиациональность этого древнего памятника. В. И. Абаев писал, что
с Вс. М и л л е р. Экскурсы в область русского народного
эпоса, I—VIII. М., 1892, стр. 2 (Приложение I. Кавказско-рус­
ские параллели): «Материалы, до сих пор изданные по эпиче­
ским кавказским сказаниям — кабардинским, балкарским, осе­
тинским, чеченским, — позволяют установить факт, что богатыр­
ские сказания названных северо-кавказских народностей
представляют собою один эпический цикл, который можно на­
звать северо-кавказским».
6
7
ж
!
I
первоначального ядра эпоса, представляли бы несомнен­
ный научный интерес, если бы эти споры не скатывались
на рельсы неплодотворного противопоставления одного
национального варианта другому, с попытками все же
вручить лавры первосоздателя тому или иному племени,
неизбежно оставляя другим «ущемленную долю» запмствоватсля9.
Слов пет, древнейшие пласты эпоса в одном нацио­
нальном варианте сохранились в большей мере, чем
в другом, но дает ли это основание объявить сказания
одного парода первозданными, а другого —нет? Задача,
диктуемая объективными интересами науки, требует,
чтобы глубоким и точным анализом определить «возраст»
н характер тех пли иных напластований, образовавшихся
в течение многих веков существования и развития эпоса,
установить «объективные» и «субъективные» источники
возникновения каждого «круга» напластований. Разу­
меется, эта сложная работа требует от исследователя глу­
боких знаний в области истории общественного развития
народов, создавших эпос «Нарты», и высокого мастер­
ства филологического анализа художественной ткани
эпоса. Надо прямо сказать, что наши фольклористы пока
еще по-настоящему не взялись за решение этой, на мой
взгляд, центральной, задачи современного партовсдеипя.
Этот пробел, или это ощутимое отставание в картове­
дении, в значительной степени можно объяснить отсут­
ствием научных публикаций полного собрания текстов
сказаний. Нартский эпос до сих пор был представлен
в большинстве случаев в популярных изданиях, будучи
„бппто представлен у осетин, у всех адынартсюш эпос «оогм *
фрагментарно также у сваГеЙСКИ нГкоторш груз.н>скпх племен, у чеченцев п нчг> гв своем докладе на первой научном
нов, У некоторых
шеи, у дагестанцев»
В. И. Абаев подчеркнул
национальных вариантов
конференции по
:
II
!
!
лость Гверждать, что безош|очно отличил оы н „ерслостоутвр дкабардпнского варианта от осетинского воде тексты
настолько отлично и своеобразно их построение, стиль,
(Ттктура, художественно-изобразительные средства. Уже
одно это обстоятельство полностью опровергает представ­
ление, будто национальные варианты иартекпх сказаний
представляют простой перевод с одного языка на дру­
гой» 8.
Так, уже в середине 50-х годов в советской науке оыл
выработан общий взгляд на национальное своеобразие
поэтики партекпх сказапин у различных народов Кавказа
и одновременно провозглашен тезис о иартекпх сказаниях
как о едином общекавказском памятнике древней эпиче­
ской поэзшг. К тому времени стало уже абсолютно оче­
видным, что исторические корни, объединяющие нартскно
сказания всех национальных версий, па до искать в основ­
ных факторах кавказской общности, таких, как: генетиче­
ское родство народов Кавказа; роль единого кавказского
суострата; сходные условия материального общественкого существования н тесное духовное общение между
этими народами в течение длительного исторического
времени.
пця^тякМтг°п^а30М’ в Решошш проблем как происхождееще в сеомЖпЛЬН°Й пР1ШаДлежности иартского эпоса
вал эпос ™I, °-Х ™Д0П советские ученые, рассматринаучщчо точку змниГт?’8”0** ИСТорпп’ нашли общую
терпаламп археология ’ “°дкревленнУю достоверными маДальнейшие спошт ' ™ограФпп » лингвистнкп.
скоц земли и у
ом* гДе’ в какой части кавказУ какого племени имело место зарождение
Дзадашкау,
|
\
Ноский эпос. — ИСОНИИ, т. X, вып.
1.
Абаов.
екпй “•эпос.
Матер1,а.СЛсовёщ1,Т^1:0/о пПоса- ~в кн-: «Нартстр. 29.
ЩаП1,я «-20 октября 1956 г.»,
в
|
9 К сожалению, подобные попытки нередко приобретают
неоправданно наступательный характер. Таким примером мо­
жет служить досадный перекос в труде известного адыгейского
ученого А. М. Гадагатля «Героический эпос «Нарты» и его ге­
незис» (Краснодар, 1967), где автор охвачен лишь одной за­
ботой — доказать, что создателем эпоса о нартах были только
предки адыгов, а адыгская культура — наидревнейшая. РГгпорпруя интернациональную суть подлинно научной трактовки
исторического значения эпоса о партах, А. М. Гадагатль стре­
мится во что бы то ни стало утвердить ^ превосходство истории
духовной жизни одного народа над другой, не считаясь ни с са­
мой историей, пи с ее творцами. Досадпо, что редакторы и
рецензенты претенциозного труда А. М. Гадагатля не помогли
автору избежать скатывания назад от завоеванпых советским
картоведением рубежей.
9
I
и
•..
иартский эпос «богато представлен у осетин, у всех адыабхазцев, фрагментарно также у сваГновСКГпекоторыхУгрузинск11Х племен, у....... ..
и ингу­
шей у дагестанцев»7. В споем докладе на нерпой научной
конференции по иартоведонню 13. Л. Лот........ .
художественную самобытность национальных вариантов
„аптского эпоса, сказав следующее: «Я беру на себя сме­
лость утверждать, что безошноочпо отличил <>м и пере­
воде тексты кабардинского варианта от осетинскогонастолько отлично и своеобразно их построение, стиль,
фактура, художественно-пзооразительные средства. Уже
одно это обстоятельство полностью опровергает нредставленне будто национальные варианты иартскнх сказаний
представляют простой перевод с одного языка на дру­
гой» 8.
Так, уже в середине 50-х годов в советской науке был
выработан общий взгляд на национальное своеобразие
поэтикп иартскнх сказании у различных народов Кавказа
и одновременно провозглашен тезис о иартскнх сказаниях
как о едином общекавказском памятнике древней эпиче­
ской поэзшг. К тому времени стало уже абсолютно оче­
видным, что исторические корни, объединяющие нартскио
сказания всех национальных версий, надо искать в основ­
ных факторах кавказской общности, таких, как: генетиче­
ское родство народов Кавказа; роль единого кавказского
субстрата; сходные условия материального обществен­
ного существования и тесное духовное общение между
этими пародами в течение длительного исторического
времени.
Таким образом, в решении проблем как происхождения,
так и национальной принадлежности иартского эпоса
ошр
тп в сеРеД1ше 50-х годов советские ученые, рассматрииаучнутп ° П031ш,ия объективной истории, нашли общую
тевиалямтг оЧ1х^ 3Рения1 подкрепленную достоверными маДал1нР^°Л0Г1ш’ этнографип и лингвистики,
ской земли Л СПОры 0 том> ГД°> в какой части КавказУ какого племени имело место зарождение
7 В А (л
Дзаудншкау
_НаРДФский эпос. — ИСОНИИ, т. X, ВЫП. 1.
8 В л « т5’ СТР- 7.
екпй эпос М * ПРоблемы иартского эпоса.— В кп.: «Нартстр. 29. • Материалы совещания 19—20 октября 1956 г.»,
!
■
и
8
нершшачалыгого ядра эпоса, гщедстаолялн бы несомнен­
ный научный интерес, если бы эти споры не скатывались
па рельсы неплодотворного противопоставления одного
национального варианта другому, с попытками все же
вручить лавры первосоздателя тому или иному племени,
неизбежно оставляя другим «ущемленную долю» заимствователя9.
Слов пот, древнейшие пласты эпоса в одном нацио­
нальном варианте сохранились в большей мере, чем
в другом, но дает ли это основание объявить сказания
одного парода первозданными, а другого — нет? Задача,
диктуемая объективными интересами науки, требует,
чтобы глубоким и точным анализом определить «возраст»
и характер тех пли иных напластований, образовавшихся
в течение многих веков существования и развития эпоса,
установить «объективные» и «субъективные» источники
возникновения каждого «круга» напластований. Разу­
меется, эта сложная работа требует от исследователя глу­
боких знаний в области истории общественного развития
народов, создавших эпос «Марты», и высокого мастер­
ства филологического анализа художественной ткани
эпоса. Надо прямо сказать, что наши фольклористы пока
еще по-настоящему не взялись за решение этой, на мой
взгляд, центральной, задачи современного иартоведеттня.
Этот пробел, пли это ощутимое отставание в картове­
дении, в значительной степени можно объяснить отсут­
ствием научных публикаций полного собрания текстов
сказаний. Нартскнй эпос до сих пор был представлен
в большинстве случаев в популярных изданиях, будучи
9 К сожалению, подобные попытки нередко приобретают
неоправданно наступательный характер. Таким примером мо­
жет служить досадный перекос в труде известного адыгейского
учепого А. М. Гадагатля «Героический эпос «Парты» и его ге­
незис» (Краснодар, 1967), где автор охвачен лишь одной за­
ботой — доказать, что создателем эпоса о нартах были только
предки адыгов, а адыгская культура — наидревнейшая. Игно­
рируя интернациональную суть подлинно научной трактовки
исторического значения эпоса о нартах, А. М. Гадагатль стре­
мится во что бы то ни стало утвердить превосходство истории
духовной жизни одного парода пад другой, по считаясь нп с са­
мой историей, ни с се творцами. Досадно, что редакторы н
рецензенты претенциозпого труда А. М. Гадагатля не помогли
автору избежать скатывания назад от завоеванных советским
картоведением рубежей.
9
;
;
•:
;
Ч
ных из уст народных сказителей .
Публикация абхазского варианта эпоса явилась большпм событием для советской фольклористики. Не случайно что она послужила поводом созыва второго все­
союзного совещания но картоведению в городе Сухуми
(1963). Дело в том, что абхазский вариант содержит
образы н мотивы, отличающиеся большой архаичностью.
Чрезвычайно уникальная типология нартского эпоса по­
родила огромную пестроту суждений о его генезисе. Как
известно, большинство эпических памятников устной иоэ31Ш народов Советского Союза — русские былины, армян­
ский «Давид Сасунскнй», киргизский «Манас», азербай­
джанский «Кёр-Оглы», украинские думы и многие др. —
являются эхом определенной исторической эпохи и отра­
жают события определенного отрезка времени истории
народа. События истории обусловливают характер дея­
ний героев и образуют те временные рамки п те нространствениые граппцы, в которые плотно заключен сю­
жет эпоса.
Сравнивая «Нарты» с таким типом эпоса, который мы
обозначаем термином исторический, — трудно не заметить
пекую временную безбрежность существования нартского
эпоса: в нем как бы спрессованы приметы многих эпох, —
это примета и матриархата, п патриархата и, нако­
нец, «военной демократии». Развитие и смена этих эпох,
как известно, протекали на протяжении многих тысячелетий.
Именно это обстоятельство, на мой взгляд, и породило
противоречивость суждений о времени зарождения партского эпоса. Но надо сказать, что в решении этого вопроса
шагнТло^пр П минувшее десятилетие значительно
ння нартскоГэПосаВЖЯ ГПП0те8а ° временп заро>КДС'
тая В. И. А бает т ^ в‘ до и* э-)> впервые выдвинублагодаря новгт V получила блестящее подтверждение
этнографии. И п 30стшкен11ЯМ советской археологии п
ного соот11оптрр|га°?еННО важпая роль в освещении слож—___
лежДУ нартским эпосом п объективным
сешш" публикаций*^
” ар°о^(ЭД^ геюIх текстов в академической
ч
$
10
Ходо.м истории общественного развития кавказских наро­
дов принадлежит научным открытиям Е. И. Крупнова,
удостоенным Ленинской премии п. Вывод о том, что за­
рождение и развитие эпоса о партах протекало в течение
многих столетий до нашей эры, теперь ни у кого не вы­
зывает сомнений.
Однако следует сказать, что мы находимся пока лишь
на подступах к решению многих загадок этого уникаль­
ного памятника древней художественной культуры.
Научная конференция в Сухуми 12 показала, что интерес
к проблемам картоведения принял огромные масштабы.
Северокавказские институты прислали па эту конферен­
цию более двадцати докладов, посвященных различным
национальным вариантам эпоса. Весьма активно и плодо­
творно работала над подготовкой Сухумской конференции
группа абхазских ученых и писателей во главе
с Б. В. Шпикубой. Сухумская встреча превратилась
в большой всесоюзный форум. В работе конференции при­
нимали участие ученые не только Кавказа и Закавказья,
но также и представители научной общественности
Москвы, Ленинграда, республик Средней Азии.
Отмечая характерную особенность Сухумской научной
конференции, надо прежде всего сказать о тон активной
перекличке древнего культурного памятника с живой
современностью, которая здесь прозвучала весьма от­
четливо. Знаменательно, что в течение всех пяти дней
работы конференции зал ее заседаний был переполнен.
Газеты и радио республики систематически информиро­
вали о содержании докладов и выступлений. Из сельских
районов республики поступали приглашения приехать
послушать народных сказителей на месте. В заключение
своей работы конференция в полном составе выехала
в один из сельских районов республики, где ученые убе­
дились в том, что в условиях массовой доступности худо11 Е. И. Крупнов. Древняя история Северного Кавказа.
М., 1960.
12 См. А. Алиев а. Всесоюзная конференция, посвящен­
ная проблемам изучения нартского эпоса народов Кавказа. —
НОЛЯ, т. XXIII, вып. 2. М., 1964, стр. 174-178.
Некоторые материалы конференции были напечатаны в пе­
риодических изданиях, выпускаемых научно-исследовательскими
институтами Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетин,
Чечено-Ингушетии.
П
;хествени
■
:
он литературы, радио, телевидения, театра, киПо
бытование эпоса и по затухает питетак н молодого поколения —
ГдаГс?.ршГ
к т?” ”»"да “у»™»»”'™ х»'*Гт'тС1”м,"ого об“"'
»>-Атпх устных народных сказании? Иартоведы пока
Д ТП„ удовлстпорнтельного ответа на этот вопрос.
СД пробел особенно ясно был выявлен на Сухумской
ДДД.рснцнн. в работе которой отразился стихийно слоД Дшяяся в нартоведеннн уклон в сторону от проблем
'-Именного бытования эпоса. Не случайно, что в содерДД'пп конферепцнн преобладало вес нее исторнко-ар'Длогнческо-этнографнлескос освещение проблем этого
л-'са. Слов нет. там были интересные в научном отношсДш доклады н выступления, которые вносили много ногДго. дополняя н уточняя уже известное. Но общестиенпая агмосфера, в которой протекала работа Сухумконференции, показала, что I» двери нартоведеиия
давно стучатся проблемы эстетики иартского эпоса, за­
анализа его поэтики. Именно здесь лежит главныв путь раскрытия истоков силы его художественного
обаяния.
Сухумская конференция показала, что лора подвести
юрту, обозначающую завершение определенного этапа
Газвптпя нартоведеиия. В ходе конференции отчетливо
выяснилось, что в освещении ряда проблем нартоведеиия
наметилось известное топтание на месте. В ряде случаев
сравнительное изучение национальных версии эпоса под­
менялось механическим коллекционированием описаний от­
дельных художественных компонентов сказаний, без энер­
гичного стремления к научным выводам о развитии эпоса
в целом как многонационального памятника культуры.
здача теперь заключается в том, чтобы, подытожив
немалые достижения нартоведеиия, идти дальше, и глав­
ным образом по пути эстетического анализа художествен­
ных особенностей эпоса.
связаны
С проблемами
задачи изучения пгтп™11 наРТСК0Г0 эпоса тесно
Сопоставительная ттп/ШГ Развитпя национальных версии,
лает первые робкттр тИКа наРтского эпоса пока еще деференциц были етгр апг’ котоРЬ1о и на Сухумской конкак Древний памсттттггВИДНЬГ’ ®сля нартский эпос открыт
к кавказской общности именно ола-
Обложка книг и В. Абаева „Из осетинского
эпоса". М.~А., 1939.
годаря успехам прежде всего исторической науки, то
филологическая паука должна объяснить пдейыо-художественпые истоки объединяющей сущности эпоса гг
его активной роли в общественной жизни кавказских
народов.
Данная книга является попыткой ответить на некото­
рые вопросы, особепио отчетливо прозвучавшие на Су­
хумской научной конференции, которая дала большой
толчок новому развитию советского нартоведеиия, повер­
нув его лицом к эстетике народной поэзии. Книга опи­
рается не только на материалы конференции, но также и,
главным образом, на исследования, созданные после кон­
ференции. Вопросы поэтики эпоса, пе нашедшие на кон­
ференции должного места, в книге занимают специальный
раздел.
13
12
.-■у
ШШШШШШШВЯШтшя
Подчеркивая особую актуальность задачи изучения
эиоса как памятника художественного слова, мы не счи­
таем правомерным ослабление внимания к проблемам
исторического и философского аспектов. Безусловно,
по-прежнему немало работы остается на долю археологии,
этнографии и лингвистики, углубляющих освещение ве­
ликой роли нартского эпоса в развитии духовно]! жизни
народов Кавказа на протяжении минувших тысячелетии.
Вот почему и в этом труде представители исторической
науки получили широкую трибуну.
Е. И. Кру пн о в
О ВРЕМЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВНОГО ЯДРА НАРТСКОГО ЭПОСА
У НАРОДОВ КАВКАЗА I
I«
(
|
I
;
V
'
Известно, что партскнй героический эпос народов Кав­
каза является высшим проявлением духовной культуры
древнего аборигенного населения Кавказского перешейка.
В разной форме в нем нашли отражение особенности об­
щественной жизни, бытового уклада и идеологии многих
кавказских обществ периода их еще доклассового состоя­
ния. В этом и заключаются непреходящие сила и значе­
ние нартского эпоса в истории кавказских народов.
Несмотря на относительную давность изучения эпиче­
ского творчества народов Северного Кавказа, у которых
бытовал партскнй эпос (у осетин, у черкесов и кабардин­
цев), в целом он до сих пор не подвергся еще всесторон­
нему и сравнительному изучению в различных аспектах.
Нет до сих пор ни свода, ни академического издания
эпоса. Но если четверть века тому назад нартские сказа­
ния приписывались только осетинской и отчасти адыгской
этнической среде 2, то в последнее время специалистамииартоведами признается наличие на Кавказе трех цен­
тров бытования нартского эпоса (осетинского, адыгского
и абхазского) 3 и допускается существование еще одной
I Публикуемая работа является дополненным и перерабо­
танным вариантом статьи «Изучение нартского эпоса и архео­
логия». — ИЧИНИИИЯЛ, т. VII, вып. 1. Грозный, 1966, стр. 29—41.
2 В. И. Абаев. Мартовский эпос. — ИСОНИИ, т. X, вып. 1.
Дзауджпкау, 1945; Он же. Проблемы нартского эпоса.— Сб.
«Нартский эпос». Орджоникидзе, 1957; О л же: Осетинский
язык и фольклор. М.—Л., 1949.
3 «Нарты. Кабардинский эпос». М., 1950; Ш. Д. Инал-Ипа.
Об абхазских сказаниях. — «Труды АБНИИ», т. XXIII. Сухуми.
1949, стр. 87; Он же. Абхазы. Сухуми, 1960, стр. 376; Е. М. Ме-
15
г
«версии» в партском эпосе — у веппахов (чеченцев и
ингушей) и у народов Дагестана4. Таким образом, уста­
навливается, что эпическое творчество в виде партскпх
сказании проявилось не у одной какой-либо определенной
народности Кавказа; его создателями были почти все без
исключения народы Северного и Западного Кавказа — от
Дагестана до Абхазии включительно, в том числе и
сваны 5.
К сожалению, лартекпй эпос но может еще считаться
безупречным историческим источником. хотя он может и
должен стаи» полноценным подспорьем при воссоздании
древней истории и культуры определенных народов Кав­
каза. Для этого он подобно «Илиаде» и «Одиссее» должен
подвергнуться глубокому, притом комплексному, иселодоваиию на всей территории его бытования.
Сейчас становится совершенно очевидным, что все
эпическое творчество пародов Кавказа прежде всего
должно быть определено как во времени, так и в про­
странстве, ибо эти факторы являются важнейшими. Во­
прос об установлении более или менее точного времени
образования основного ядра партского эпоса до сих пор
остается открытым. А ведь хропология — это основная
канва любого исторического процесса, в том числе и такого сложного явления в истории местного общества,
каким является партский эпос. Отсутствие возможно точкого датирования времени сложения хотя бы основных
циклов кавказского партского эпоса, безусловно, затрудняет задачу подлинно исторического осмысления древнего
устного творчества пародов Кавказа.
1
•I
I
г.
1
л е т и н с к и и. Происхождение героического эпоса. М., 1963,
стр. 204; А. Алиева. Сосруко в адыгском героическом эпосе
о партах. —УЗ КЕНИИ, т. XX. Нальчик, 1964, стр. 178-200;
Ш. X. Салак а я. Абхазский народный героический эпос. Тби­
лиси, 1966.
А Л. П. Семенов. Нартскнс памятники в фольклоре лигу
шей и осетпн. Владикавказ, 1930; У. Б. Далгат. К вопросу
о партском эпосе у народов Дагестана. — Сб. «Нартскпй эпос».
Орджоникидзе, 1957, стр. 174; И. В. Тресков. Фольклорные
связи Северного Кавказа. Нальчик, 1963, стр. 53; С. Ч. Э л ьмурзаев. Новые данные о чечепо-ннгушекпх нарт-эрстхоенекпх сказаниях. Сб. статей. — «Труды ЧИНИИ», т. IX. Грозный,
1964, стр 129; А. О. М а л ь с а г о в. Нарт-орстхойскнй эпос ни1*ушей и чеченцев. Автореферат канд. дисс. М., 1966.
5 Ш. X. С а л а к а я. О героическом эпосе абхазов. — «Труды
ЛИНИИ», т. XXIII—XXXIV. Сухуми, 1963, стр. 278.
16
I
» •
>
о
Следует признать невероятную сложность этой важ­
нейшей задачи, обусловленную самой спецификой эпоса.
В отличие от письменной художественной литературы
нартскпй эпос характеризуется прежде всего коллоктпвностыо и безымяииостыо с. М. Горький говорил: «В мифе
п эпосе, как и в языке... определенно сказывается кол­
лективное творчество всего народа, а нс личное мышлепне одного человека», Нам неизвестны конкретные
творцы — создатели партского эпоса. Кроме того, как вся­
кое устное народное творчество, появившись в опреде­
ленный исторический период, героический эпос подвергался некоторой трансформации, обрастая различными
добавлениями п напластованиями последующих периодов
человеческой истории. Это, конечно, очень затрудняет
разработку его периодизации. Но отражая в себе различные реал им прошлой действительности, пусть даже
в гиперболических формах, эпос все же содержит опре­
деленные данные, которые могут служить хроиологичесними эталонами.
Но их надо подвергнуть тщательному анализу. При
подобных попытках прежде всего должна преследоваться
главная цель — установить время формирования ведущей
осповы пли ядра партского эпоса. Но что под этим слсдует разуметь? На мой взгляд, эту основу составляют:
1) главные герои кавказского эпоса — Сасрыква, Сосруко,
Соска-Солса, Сослан, Сырдои и др., во главе с матерью
исох нартов Сатаной (Сатапай, Сатаией-Гуаша); 2) основные подвигп и деяшгя мартов, совершенные ими как
всадниками, часто с помощью копя и 3) перечень веду­
щих материальных атрибутов их быта (в данном случае
железных предметов), составляющих реальный истори­
ческий фон и окружающую партов действительность.
Любопытно, что при разработке этих вопросов почти
все исследователи сходятся в одном, что все наиболее
архаичпые и главные герои основных сюжетов героиче­
ского эпоса, безусловно, жили и действовали в эпоху пер­
вобытно-общинного строя. И это, конечно, верно. Но пер­
вая общественно-экономическая доклассовая и догосударствештая формация была самой длительной в истории
человечества и охватывала десятки и сотни тысячелетий.
К какому же конкретному периоду этой древнейшей
с ПТ. X. Сала к а я. О героическом эпосе абхазов, стр. 280.
2 Заказ Л"» Н80
17
эпохи в истории кавказских обществ можно приурочить
создание основного ядра героического эпоса? Разумеется,
не к первоначальному — периоду палеолита или камен­
ному веку, периоду становления человеческого общества;
для этого в самом эпосе не содержится никаких серьез­
ных оснований, если, конечно, не считать космогониче­
ских и тотемпческих мифов7 и богоборческих мотивов,
в частности похищение огня у великанов (абхазские ска­
зания о подвигах богоборца Абрскнла, парта Сасрыквы,
грузинский эпос об Амираин и др.). Ибо вероятнее всего
эти подвиги, отразившие открытия пли изобретения са­
мого первобытного человека древнекаменного века
(изобретение огня), дошли до нас в эпосе уже во вторич­
ной «редакции», когда в сознании человека появился
целый пантеон конкретных языческих божеств, по су­
ществу уже в раннежелезном веке 8.
Известно, что некоторые исследователи, основываясь
на анализе отдельных нартских сказаний, содержащих
матриархальные черты (например, Сослан, Сосруко и
Сыр дон вошли в нартское общество по матрилокальпому
признаку;
Сатана — Шатана — Сатаней-Гуаша явля­
лась общей матерью всех нартов и т. п.), пытались уста­
новить наиболее раннюю дату возникновения партского
эпоса, относя ее к периоду бытования на Кавказе матрилопального рода 9.
По данным археологии, матрнлокальные общества су­
ществовали на Северном Кавказе в неолитическую эпоху
(т. е. в V—IV и не ранее III тыс. до н. э.) 10. Но судить
об этой эпохе по данным эпоса весьма затруднительно.
Сами сказания о нартах, кроме уже упомянутых призна­
ков, не содержат никаких других убедительных данных,
которые можно было бы приурочить к столь отдаленному
времени. Поэтому все элементы, содержащиеся в нартРец. Б. М. Гарданова на кн.г В. И. А б а о в. «Нартовскнп
опое». — «Советская этнография», 1947, № 2.
8 М. Я. Чнкованн. Ампранианн. Тбилиси, 1960, стр. 5,
294.
Ш. Д. Ияал-Ипа. Указ, соч., стр. ИЗ; К. Д. Кулон.
Матриархат в Осетии. Орджоникидзе, 1935; Н. Мам не в а. Об­
раз сатаны в публикациях осетинского партского опоса. Орджоникидзе, 1964, стр. 14.
м 1957' сто
УГ V' лДРГЯЯ НСТ0Р1,Я» «У^ьтура Кабарды.
А> Формозов. Каменный век и энео­
лит Прпкубанья. М., 1965, стр. 61.
18
'4 г.'
ском эпосе и указывающие на матриархат, па мой взгляд,
являются не чем иным, как глубокими, пережиточными
признаками, сохранившимися до более позднего времени,
а кое в каких формах почти до современности. Подлин­
ных же элементов матриархата так мало, что они не могут составлять основу партского эпоса, являясь в эпосе
лишь глубоко пережиточными явлениями.
По существу это признается почти всеми современ­
ными исследователями, в том числе и Е. М. Мелетинскпм,
который тем нс мопсе склонен преувеличивать значение
матрплокальных пережитков у сарматов; переоценивая же
историко-культурную роль этнически родственных нм
алан, он даже появление древнейших циклов нартецого
эпоса па Северном Кавказе приписывает аланскому
союзу (I тыс. и. э.) п. Таким образом, мощная местная
этническая не ираноязычная среда, по Е. М. Мелетинскому, оказывается творчески бесплодной и лишь пита­
тельной средой, в которой позднее пышным , цветом рас­
цвели занесенные иранскими племенами — скифами, сар­
матами и особенно аланами — знаменитые нартские
сказания. Но ведь нартский эпос, причем в архаичных
формах, бытовал и у таких кавказских горцев, как и нгуши и чеченцы, не говоря уже о сванах и абхазах, тесиая связь которых с аланскими нломенами была напменее возможной.
Я уже имел случай полемизировать с Е. М. Мелетннскнм ]2 по поводу его, на мой взгляд, ошибочных
исторических построений, скажем, о сармато-меотском
обществе, якобы «с исключительно развитыми матриар­
хальными тенденциями». В действительности же у синдомеотов господствовал патриархат и даже складывались
основы для образования государства ,3. И сейчас я вновь
со всей категоричностью хотел бы подчеркнуть свой глав­
ный тезис о том, что героический нартский эпос —это
результат самобытного (а не заимствованного) творчества
11 Е. М. М е л е т и н с к и и. Указ, соч., стр. 163.
12 Е. И. Крупно в. Древняя история Северного Кавказа.
М., 1960, стр. 373.
13 «Очерки истории Адыгеи», т. I. Майкоп, 1957, стр. 51;
В. И. М о ш и и с к а я. О государстве енпдов. — ВДИ, 1946,
3.
стр. 194; «Очерки истории Карачаево-Черкессии», т. I. Ставро­
поль, 1967, стр. 45; «История Кабардино-Балкарской АССР», т. 1.
М., 1967, стр. 52.
19
2*
сугубо местных кавказских племен, носителей родствен­
ных языков, развившихся на основе древнего и единого
кавказского субстрата м. Поэтому не случайно партский
эпос возник и развивался в таких районах Северного и
Западного Кавказа, на территории которых на рубеже
бронзового и железного веков бытовали морфологически
близкие между собой так называемые, археологические
культуры: кобанская, нрнкубанекая и колхидская * \ Они
возникли и развивались также на базе более древних
родственных культур эпохи бронзы ,с. Ныне же на этой
территории проживают чеченцы, ингуши, кабардинцы,
черкесы, адыгейцы, абазины и абхазы, т. е. народы, при­
надлежащие к особой, так называемой кавказской языко­
вой семье, отличной от всех языковых систем мира. Здесь
я сознательно не упоминаю ираноязычных осетин, прожи­
вающих на северном склоне Центрального Кавказа и
тюркоязычных балкарцев и карачаевцев, также представ­
ляющих один и тот же единый так называемый канкасионский антропологический тип, как и все адыги и вейнахи 17. И наличие у них, в особенности у осетин, разви­
тых циклов нартского эпоса, для меня служит одним из
доказательств их сугубо местного, а не пришлого проис­
хождения. Только на протяжении столетий они сменили
свой язык: одни племена, как осетины — на иранский,
другие — балкарцы и карачаевцы — на тюркский языки ,8.
Я не случайно назвал здесь древние археологические
культуры Кавказа, бытовавшие на рубеже II ц I и в осо­
бенности в I тыс. до и. э., т. е. па заре раннежелезного
века. Много лет занимаясь археологией Кавказа II IIЫтаясь исторически осмысливать вещевые исторические
источники, сопоставляя их с сохранившимися эпическими
сказаниями кавказских горцев, я пришел к заключению,
что первоначальными творцами замечательных нартских
сказаний и были носители этих прославленных археоло­
гических культур Кавказа ноздисбропзовой эпохи. В пер­
вую очередь это прямые предки абхазов, адыгов, осетин
и иейпахекпх племен. Крайне важно отметить, что
последними работами СКАЗ доказано, что и территория
Чечено-Ингушетии также входит в ареал прославленной
кобапской культуры 10. Раньше же восточная граница
этого ареала была прослежена только по верховьям Те­
река и ограничивалась Осетией.
Приступая к освещению вопроса о времени формиро­
вания основного ядра нартского эпоса, здесь уместно
будет сказать о том, что в последнее время стала известла еще одна попытка злачлтельиого углубления начала создания этого ядра, в частности в абхазском эпосе.
Она принадлежит Л. Н. Соловьеву20, который рядом
интересных соображений, основанных на анализе истори­
ческих событий, имевших место в хеттской среде Малой
Азии, пытался датировать время сложения основных цик­
лов абхазского эпоса концом III или самым началом
П тыс. до и. э.
Мпе лично эта дата представляется необоснованной
прежде всего потому, что она находится в явном протн- .
воречпи с таким важным историческим фактом, как
использование лошади под верховую езду. Если трудно
себе представить любое кавказское сказание без оощеи
матери и хозяйки партов — Сатаны, то пе меиее трудно
представить и подвиги иартов без коня — Арфана (у осе­
тин), Бзоу (у абхазов) и т. д. Ведь даже по аохазскому
эпосу (наиболее архаичному), парт С.асрыква появился
14 Е. II. Крупнов. Древнейшее культурное единство Кав­
каза и кавказская этническая общность. — «Доклады делегации
СССР на XXVI Международном конгрессе востоковедов». М., 1903,
стр. 7; Он же. Древнейшая культура Кавказа и кавказская этннческая общность. — «Советская археология», 1904, № 1, стр. 20.
15 Е. И. Крупнов. Древняя история Северного Кавказа,
стр. 50 (см. карту).
16 В. И. Марков и н. Культура племен Северного Кавказа
в эпоху бронзы (II тыс. до н. э.). —«Материалы и исследования
по археологии СССР», вын. 93. М., 1960, стр. 147.
17 Е. И. Крупнов. Проблема происхождения осетин по ар­
хеологическим даппы.ч. — В ки.: «Происхождение осетинского
народа. Материалы паучной сессии, посвященной проблеме эт­
ногенеза осетип». Орджоникидзе, 1967, стр. 40.
18 М. Г. А б д у ш е л и ш в и л и. Антропология древнего и
современного населения Грузии. Тбилиси, 1964; В. ..II. Але кс е е в. Некоторые проблемы происхождения балкарцев и кара­
чаевцев в свете данных автропологип. — Со. «О происхождении
балкарцев и карачаевцев». Нальчик, 1960; Е. П. Алексеева.
Карачаевцы и балкарцы — древний народ Кавказа. Черкесск,
1963.
19 А. А. Иерусалимская, В. И. К о зе н к о за,
Е. И. Крупнов. Древпие поселения у сел. Сержень-Юрт в Че­
чено-Ингушетии. — «Краткие сообщения ИА АН СССР», вып. л.
М., 1963, стр. 42.
20 Доклад Л. Н. Соловьева был прочитал на группе КавказСКОП археологпи ИА АН СССР в апреле 1964 г., в Москве.
20
21
I
р
сугубо местных кавказских и.'
ных языков, развившихся на »ен>
кавказского субстрата11. Ноэто.
эпос возник н развивался в ;
Западного Кавказа, на территои
бронзового и железного веков »">•
близкие между собой так паза
культуры: кобанская, прикубан*
возникли и развивались также
родственных культур эпохи брои
территории проживают чечен мы.
черкесы, адыгейцы, абазины и аб\,
надлежащие к особой, так называ.
вой семье, отличной от всех язык*»!,
я сознательно не упоминаю лраиоя ;
вающих на северном склоне Цеи<гтюркоязычных балкарцев и карача» .
ляющих один и тот же единыи так
сионский антропологический тип, как
пахп 17. И наличие у них, в особенное:
тых циклов нартского эпоса, для меня
доказательств их сугубо местного, а не
хождения. Только на протяжении столе
свой язык: один племена, как осетин
другие — балкарцы и карачаевцы — на т
14 Е. И. Крупнов. Древнейшее культурноказа и кавказская этническая общность. — «Л/1
СССР на XXVI Международном конгрессе воет:
стр. 7; Оп же. Древнейшая культура Кавказа :
нпческая общность. — «Советская археология»,
15 Е. И. Крупнов. Древняя история Севе]
стр. 50 (см. карту).
1С В. И. М а р к о в п н. Культура племен Севе
в эпоху бронзы (II тыс. до п. э.). — «Материалы к
по археологии СССР», вын. 93. М., 1960, стр. 147.
17 Е. И. Крупнов. Проблема происхождения
хеологическим данным. — В кн.: «Происхождения
народа. Материалы научной сессии, посвященной я
ногенеза осетин». Орджоникидзе, 1967, стр. 40.
18 М. Г. Абдуше л и ш в пли. Антропология
современного населения Грузии. Тбилиси, 1964; В.
се ев. Некоторые проблемы происхождения балкар;,
чаевцев в свете данных автропологии. —- Со. «О прок
балкарцев н карачаевцев». Нальчик, 1960; Е. П. А л ;
Карачаевцы и балкарцы — древний народ Кавказа.
1963.
20
Ведь даже рассматривая иартский эпос как выраже­
ние первобытного мифотворчества, нельзя не признавать
реальности всех содержащихся в нем жизненных дета­
лей, которые окружали создателей эпоса. И если можно
справедливо сомневаться и даже не признавать точного
отражения в эпосе прошлых конкретных исторических
событий, то вряд ли возможно не считаться со значи­
мостью тех вещевых реалий прошлого быта, которыми
насыщены почти все циклы нартского эпоса.
Прежде всего резко бросается в глаза одна особен­
ность нартских сказаний, связанных с ведущей в прошлом
производственной деятельностью кавказских народов —
металлургией и металлоироизводством. Тут налицо опре­
деленное стремление творцов-сказителей воспеть и как-то
опоэтизировать самый процесс добычи, обработки и
использования металла. Известно, что это особенно харак­
терно для начального периода освоения нового мате­
риала. Осе исследователи, знакомые с содержанием кав­
казских нартских сказаний, знают, что упоминание зо­
лота, меди и медных изделий в них ничтожно мало но
сравнению с количеством случаев упоминания железа28.
Лишь в абхазском эпосе, в рассказе об «ацанах» (карли­
ках — предшественниках нартов) упоминается ребенок
в «золотой люльке», спустившийся с неба; иногда на­
званы «золотые щипцы», принадлежавшие нартскому куз­
нецу Апнар-ижи. Медные же предметы названы такие,
как котел, пояс Гуиды Прекрасной, «накладки» на ранен­
ные головы героев, или первый серп, изготовленный
кузнецом Тлепшем (в адыгском эпосе). Но все этп вещи
трудно приурочить к медно-бронзовому веку Кавказа,
ибо они более характерны для переходного периода от
бронзы к железу и являлись типичными для кобаиской и
колхидской культур Кавказа (начиная с рубежа II и
I тыс. до н. э. и позднее). Упоминаниями же железных
орудий труда, оружия и предметов быта, описаниями
приемов закалки железных предметов и даже эпических
героев буквально пестрят все циклы нартского эпоса, пачипая от абхазского и копчая вейыахским и даже даге­
станским. Тут и «железная скамья», и «железные во28 И. В. Т р е с к о в. Указ, соч., стр. 85: А. Алиева. Эпитет
в адыгском героическом эпосе. — УЗ КЕНИИ, т. XXIV. Нальчик,
1966, стр. 17—29.
23
рI
па свет вместе с крылатым Конем «арашем». Время же
взнуздания и седловки коня, т. е. широкое пользование
удилами н всем набором конской сбруи для верховой
езды, на Кавказе установлено довольно точно. В Закав­
казье— в XI—IX вв. до и. э.21, на Северном Кавказе —
не ранее IX—VIII вв. до и. э.22 Как выясняется, нс Кан­
каз является местом первого приручения лошади и ее
использования для верховой езды. Известно, что на Древ­
нем Востоке это произошло в XVI в. до и. з. при
XVIII династии в Египте23; в Месопотамии — не ранее
середины II тыс. до и. э.2*1 В степях же Нижнего По­
волжья и Северного Причерноморья, судя по самым ран­
ним находкам роговых и костяных исалнй, — в основном
в середине и во второй половине II тыс. до и. э.25 Следо­
вательно, даже наиболее ранние циклы нартских сказа­
ний (включавшие коня как органически необходимую
атрибуцию) никак не могут иметь столь глубокую дату —
рубеж III и И тыс. до и. э.
Что касается меня, то я склонен считать, что ведущее
ядро нартских сказаний складывалось в последующую
эпоху — поздней бронзы п особенно раннего железа.
В этом утверждении я не оригинален; но полностью
разделяя этот тезис, давно высказанный почти всеми
кавказоведами, специально и глубоко занимающимися
нартским эпосом (В. И. Абаевым26, Л. Г1. Семено­
вым27 и др.), я лишь попытаюсь усилить его аргумента­
цию анализом соответствую!цих объектов материальной
культуры.
2' Б. Б. Пиотровский. Кармир-Блур, III. Ереван, 1955,
стр. 44.
22 А. А. И е с с е и. К вопросу о памятниках VIII—VII вв.
до и. э. на юге Европейской части СССР. — «Советская археоло­
гия», 1953, XVIII, стр. 70.
23 «Всемирная история», т. 1. М., 1955, стр. 338.
24 Хорст К л е п г е л ь. Экономические основы кочевничества
в дневней Месопотамии. — ВДИ, 1967, № 4, стр. 64.
25 К. Ф. Смирнов. Археологические данные о древних
всадниках Поволжско-Уральских степей. — «Советская археоло­
гия», 1961, 1, стр. 71.
20 В. И. Абаев. Нартовскпй эпос, стр. 117.
27 Л. П. Семе и о в. К вопросу о происхождении осетинского
нартского эпоса. —- ИСОНИИ, т. XIX. Орджоникидзе, 1957, стр. 166;
Он же. Нартский эпос и памятники материальной куль­
туры. — Сб. «Нартский эпос». Орджоникидзе, 1957, стр. 82, 89.
22
:
Ведь даже рассматривая иартский эпос как выражеине первобытиого мифотворчества, нельзя не признавать
реальности всех содержащихся в нем жизненных дета­
лен, которые окружали создателей эпоса. И если можно
справедливо сомневаться и даже не признавать точного
отражения л эпосе прошлых конкретных исторических
событий, то вряд ли возможно не считаться со зпачимостыо тех вещевьтх реалий прошлого быта, которыми
насыщены почти все циклы нартского эпоса.
Прежде всего резко бросается в глаза одна особениость партскнх сказаний, связанных с ведущей в прошлом
производственной деятельностью кавказских народов —
металлургией и металлопропзводством. Тут налицо опре­
деленное стремление творцов-сказитслей воспеть и как-то
опоэтизировать самый процесс добычи, обработки и
использования металла. Известно, что это особенно характерпо для начального периода освоения нового материала. Все исследователи, знакомые с содержанием кав­
казских нартских сказаний, знают, что упоминание зо­
лота, меди и медных изделий в них ничтожно мало по
сравнению с количеством случаев упоминания железа 28.
Лишь в абхазском эпосе, в рассказе об «ацатгах» (карли­
ках — предшественниках партов) упомштается ребенок
в «золотой люльке», спустившийся с неба; иногда на­
званы «золотые щипцы», принадлежавшие нартскому куз­
нецу Айиар-ижи. Медные же предметы названы такие,
как котел, пояс Гуидьт Прекрасной, «накладки» на ранен­
ные головы героев, или первый серп, изготовленный
кузнецом Тлепшсм (в адыгском эпосе). Но все этн вещи
трудно приурочить к медно-бронзовому веку Кавказа,
ибо ошг более характерны для переходного периода от
бропзьг к железу и являлись типичными для кобанской и
колхидской культур Кавказа (начиная с рубежа II н
I тыс. до и. э. и позднее). Упоминаниями же железных
орудий труда, оружия и предметов быта, описаниями
приемов закалки железных предметов и даже эпических
героев буквально пестрят все циклы нартского эпоса, иачипая от абхазского и кончая вейнахским и даже даге­
станским. Тут и «железная скамья», и «железные во28 И. В. Т р е с к о в. Указ, соч., стр. 85: А. Алиева. Эпитет
в адыгском героическом эпосе. — УЗ КЕНИИ, т. XXIV. Нальчик,
1966, стр. 17—29.
23
п
.1
О
г .
*• у /»,«
рота», п «железное седло», «очажная железная цепь»,
«железные соха, сошники и плуг», «железные столб и
палка», «железные меч и стрелы» и т. п. У Сасрыквы
одна нога «железная», а другая «стальная». Тело у адыг­
ского нарта Сосруко «стальное», глаз — «желсзпмй».
У осетин главный нартскпй герой Сослан, закаленный
кузнецом Курдалагоном, имеет «булатный» меч. Другой
герой — Батрадз — «стальпогрудый»,
у
Бадыноко
и
у Батрадза — «стальные усы» и т. д.29
Появление железа имело огромное значение для даль
нейшего развития хозяйства и культуры первобытного
общества. Нс случайно Ф. Энгельс назвал железо «послед
ним н важнейшим из всех видов сырья, игравших револю
ционную роль в истории»30. Столь значительное явление,
как хозяйственное освоение железа древними племенами
и народами Кавказа, нашло блестящее отражение и
в иартском эпосе: у абхазов — в образе нартского кузнеца
Айнар-нжп, у адыгских народов — в образах Тлен та,
у балкарцев — в образе чудесного кузнеца Дебета, у осетин — в образе Курдалагона. Но они не только обычные
кузнецы, пх деятельность по ограничивалась изготовле­
нием орудий труда п оружия, боевых доспехов и т. и.;
иартские кузнецы — это изобретатели, новаторы; они пер­
выми нзготовпли серп и молот, наковальню, соху. Они
умели закалять героев при рождении и даже ремонтиро­
вали поврежденные в бою части человеческого тела (осо­
бенно головы). А это уже указывает па идеализацию
новой и важной для общества того времени производ
ственной специализации — кузнечного дела. Поэтому
фольклористы справедливо со постав ля ют кавказски х
партекпх кузнецов — Айнар-ижи, Тлепша, Дебета, Сафу
и Курдалагона с такими европейскими образами великих
кузнецов мирового фольклора, как Гефест и Вулкан
в древнегреческой мифологии, Ильмарпиеп в карело-фин­
ском эпосе и др.
Все это заставляет видеть в нартском эпосе народов
Кавказа отражение самой сущности хозяйства и быта
именно раннежелезного века, когда началась заря новой
*
Х--
Сторожевые башни а ноюрнои Чечено-Ингушетии.
Фото Б. К. Долгота. 1904 (публикация У. Б. Долгот).
железной эры, заканчивающейся только в наши дин,
в связи с появлением продуктов химии — полимеров.
Определенную роль в уточнении времени сложения
основного ядра партекпх сказаний играют и другие при­
знаки. Так, например, упоминание именно трехгранных
железных наконечников стрел значительно уточняет
время их бытования па Кавказе: это — скифское время
(VII—IV в. до н. э.), время наибольшего, притом вполне
реального, контакта местных племен кобанской, прнкубаиской и колхидской культур со скифскими племенами
Юго-Восточной Европы. Скифские типы оружия были
наиболее совершенными для того времени; они получили
широчайшее распространение в районах Евразии. Их типология хорошо разработана, и поэтому они могут слу­
жить отличными хронологическими эталонами31.
Выше уже говорилось о времени первого пспользования коня для верховой езды; фиксация в сказаниях та-
Очень показательны в этом отношении таблицы, состав­
ленные И. В. Тресковым (см.: И. В. Трос к о в. Указ, сот.
стр. 71—78).
30 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 163.
31 А. И. Мелюкова. Вооружение скифов. — САИ, М., 1964,
стр. 19.
24
25
:
них орудии коневодства, как аркан, путы, удила, плеть
и, наконец, наличие целых табунов лошадей также
самым положительным образом уточняет дату существо­
вания на Кавказе такой формы коневодства и даже вы­
ведения особой породы коня — далекую основу кабардин­
ского коня. Это — рубеж II—I тыс. и первые века 1 тыс.
до н. э.32
О глубоких местных истоках основного ядра нартского
эпоса свидетельствуют и памятники материальной куль­
туры, причем такие, которые являются наиболее типич­
ными для прославленной кобанской культуры — одной из
самобытных археологических культур Северного Кавказа.
Еще два десятилетия тому назад один из лучших знато­
ков духовной культуры, быта и археологии Осетин,
Л. П. Семенов, доказал, что известная сцена «змееборца»,
выгравированная на одном из бронзовых топоров из селе­
ния Кобан (борьба героя, вооруженного луком и стре­
лами, с семью змеями), в точности воспроизводит один
из эпизодов из нартских сказаний осетин 33. О «местном,
так сказать, осетинском стиле» кобанской культуры гово­
рил в свое время А. С. Уваров34. «Наличие кобапского
орнаментального мотива на современных бытовых пред­
метах осетин» признавал и II. Я. Марр35 и многие иссле­
дователи.
Все это указывает не только на генетическую преем­
ственность духовной культуры осетин от кобаиских племен, но проясняет и этногенез осетинского народа 36.
Всем археологам известны скульптурные изображения
сцен охоты и многочисленные фигурки диких животных
из кобапского могильника. Давно признано существова­
ние у кобаиских племен культа бога охоты и покровителя
!
32 Е. И. Крупнов. Древняя история и культура Кабарды,
стр. 105.
33 Л. П. Семенов. Нартские памятники Северной Осетин. — Со. «Иартский эпос». Дзауджикау, 1949, стр. 58.
34 А. С. У в а р 0 в. К какому заключению о бронзовом пе­
риоде приводят сведения о находках бронзовых предметов на
Кавказе? — «Труды V археологического съезда». М., 1887, стр. 3.
35 Н. Я. Марр. Избранные работы, т. V. Л., 1935, стр. 310.
36 Е. И. Крупнов. Об этногенезе осетин и других народов
Северного Кавказа. — В кн.: «Против вульгаризации марксизма
в археологии». М., 1954, стр. 159; О н ж е. Проблема происхож­
дения осетпи по археологическим данным. — В кн.: «Пронсхождоние осетинского народа», стр. 35.
26
зверей и охотников. Это позволяет считать, что известный
по осетинскому партскому эпосу образ бога охоты Афса гп посходит к древним культам кобанской эпохи. В этой
связи заслуживает особого внимания заключение лучшего
нашего ираппста-осстиповода В. И. Абаева о том, что сам
образ Афсати совершенно чужд иранской мифологии;
несомненно, он проник в осетинскую среду из древиейших местных кавказскнх верований37. Поэтому не слу­
чайно он известен по иартским сказаниям почти всем
народам Северного Кавказа, а также абхазам и даже
сванам. У сванов он носит близкое осетинскому имя —
Апсат. Понятно, насколько подобные факты и наблюде­
ния важны для определения времени создания основного
ядра знаменитого героического эпоса кавказских горцев.
Обратившись к другим признакам, содержащимся
в эпосе, например, к упоминаниям виноградной лозы и
вина (в абхазском эпосе), просяной браги (в адыгском),
пива (в осетинском), садов и фруктовых деревьев, мы
также должны будем признать, что именно в I тыс. доп.э.
все это и стало важным хозяйственным достоянием народов Кавказа38. Убедительным примером наиболее раннего использовання сельскохозяйственных зерен и семян
на Северном Кавказе являются находки зерен проса,
пшеницы и косточек винограда, обнаруженные памп при
раскопках в 1963—1966 гг. кобапского поселка IX—
VII вв. до и. э. близ селения Ссржень-Юрт ЧИ АССР.
Наконец, нельзя не обратить внимания и на самый
характер нартского общества, в котором нарты больше
занимаются организацией межродовых и межплеменных
войн и пиров, чем производительным трудом. Известно,
что большинство нартских сказаний заполнено сообщениямп о различиых набегах и походах партов (для угона
скота, ради удальства и т. п.). Члены нартского об­
щества давно уже далеко не все равноправны и иму­
щественно одинаковы. Энос рисует борьбу рода «с чувя37 В. И. Абаев. Проблемы нартского эпоса. — Сб. «Нартский эпос». Орджоникидзе, 1957, стр. 30.
38 К. Фляксбергер.
Археологические находки хлебных
растений в областях, прилегающих к Черпому морю. — «Краткие
сообщения ИИМК АН СССР», вып. VIII, 1940, стр. 117;
И. М. Ж у к о в с к и й. Об отечественных и прпшлых культур­
ных растениях в СССР. — «Материалы по истории земледелия
в СССР», сб. II. М., 1956, стр. 7.
27
нами из сыромятной кожи против рода с чувяками из
сафьяновой кожи». Важные вопросы на Совете могли
решать только те, «кто способен надеть чувяки н
поднять меч» 39. Исходя из конкретного анализа нартского
эпоса кавказских пародов, можно полагать, что основные
циклы нартских сказаний, если и отражают эпоху перво­
бытно-общинного строя, то в его последней стадии — ста­
дии разложения, в период так называемой военной демо­
кратии40, «во время которого все культурные пароды
переживают свою героическую эпоху, — эпоху железного
меча, а вместе с тем железного плуга и топора»41. Вполне
закономерно, что именно в героическую эпоху и сложи­
лось осповное ядро героического эпоса у кавказских паро­
дов. Ведь не случайно и знаменитый гомеровский эпос
также сложился па рубеже бронзового и железного веков
в древней Греции (XI—IX вв. до и. о.). Эго вполне зако­
номерное явление. В этом отношении историко-культур­
ный процесс на Кавказе мало чем отличался от процесса,
протекавшего в I тыс. до и. о. в южных районах Евра­
зии. Здесь также полностью закапчивался процесс при­
ручения и наиболее рационального использования всех
полезных животных и в первую очередь коня; завер­
шается выращивание основных видов культурных расте­
ний (ячмепя, пшеницы, проса, винограда, плодовых
деревьев), полностью стабилизуется хозяйственная основа
оседлых земледельческо-скотоводческих племен; наконец,
происходит производственное освоение нового металла —
железа, определившее собою весь дальнейший процесс
развития древнего населения нашей страны и создания
им своей культуры.
В прямом соответствии со сдвигами в хозяйстве про­
исходят изменения и в общественной жизни. Повсюду
завершается консолидация крупных племенных групп и
образование союзов племен. Расширяются и оживляются
межплеменпые и более широкие связи, чаще проявляю­
щиеся в бранных делах. Это в значительной мере облегча­
лось и массовым использованием коня. Теперь мы знаем,
что все эти показатели социально-экономической жизни
39 «История Кабардино-Балкарской АССР», т. 1, стр. 59.
Е.
Крупнов. Древняя история Северпого Кавказа,
стр. 331.
41 К. М а р к с и Ф. Э п г е л ь 'с. Сочинения, т. 21, стр. 162—163.
28
были характерны и для кавказских обществ начала
I тыс. до и. э. Это был один из активнейших периодов
в истории распадающихся патриархальных отношений
у племен Северного и Западного Кавказа, — та общест­
венная ступень, которая именуется «военной демокра­
тией». Несколько позднее этот процесс завершился созда­
нием в западной Грузин классового общества и образова­
нием Колхидского царства42, а на Северном Кавказе
Синдского государства (с V в. до н. э.) 43.
По моему глубокому убеждению, именно эта чрезвы­
чайно бурная эпоха I тыс. до и. э., изобиловавшая бран­
ными делами и героическими подвигами горских сынов
Северного и Западного Кавказа — носителей кобаиской,
прикубапской и колхидской культур, этнически родствен­
ных между собой, и ознаменовалась чрезвычайно важным
и высшим достижением духовной культуры — созданием
эпической песни и оформлением самых существенных
основ знаменитого нартского эпоса кавказских пародов.
Поэтому основное ядро эпических сказаний народов Кав­
каза так отчетливо и отражает сущность рапнежелезного
века, периода разложения патриархального строя и за­
рождения классового общества.
12 Г. А. Мелик и шпили. К истории древней Грузии. Тби­
лиси, 1950, стр. 236; «Истории Грузии», т. Т. Тбилиси, 1962,
стр. 36; 3. В. Аичабадзе. История и культура древней Аб­
хазии. М.. 1964, стр. 142.
А3 В. И. М о ш и н с к а я. О государстве Снидов. — ВДИ, 1940,
№ 3, стр. 204; «История Кабардино-Балкарской АССР», т. I.
стр. 52; «Очерки истории Карачаево-Черкессии», т. I, стр. 45.
.. ^ =2
Ш. Д. И н а л - И па
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ
ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ
КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ
(Опыт сравнительного изучения нартского эпоса)
Многонацнональность является одной из отличитель­
ных черт нартского эпоса. Народные сказания о нартах
широко известны среди абхазов, убыхов, адыгов (адыгей­
цев, черкесов, кабардинцев), осетин, а также карачаевцев,
балкарцев, ингушей, чеченцев, отчасти дагестанцев, сва­
нов и др. Наиболее глубокие корни и широкое распро­
странение эпос «Нарты» имеет в фольклоре абхазского,
адыгских и осетинского пародов. Сказания этих народов
и положены в основу настоящей работы.
Сравнительное изучение этого уникального памятника
устной народной поэзии освещает как древнюю культур­
ную общность народов Кавказа, так и национальное свое­
образие художественного творчества каждого из них \1
I
Осетинские сказания
Хозяйственная жизнь иартов во всех национальных
версиях отражена весьма сходно. Осетинским партам зна­
комо хлебопашество и скотоводство, металлообработка.
1 Автор опирается па публикации нартских сказаний, печатавшиеся в различных периодических изданиях, а также на
тексты сводных вариантов в русском художественном переводе.
Отсутствие академического издания национальных вариантов
нартского эпоса с соответствующим научным аппаратом, а также
незнание автором языка ряда оригиналов, несомненно, ограни­
чивают возможность охватить все важные самобытные черты
или детали тех или иных национальных версий нартских сказа­
ний (а они нередко имеют весьма существенное значение).
30
Они занимаются охотой. Много времени они проводят
в походах.
Жилищами для наргов служат обычно хадзары2.
Земледелие в осетинском эпосе нашло довольно широ­
кое отражение. Здесь говорится о сохе (носатой), кото­
рую дал партам бог грозы и урожая, о бороне из дуба 3,
о пахоте, о быках как тягловой силе, о мельницах на
роках, дарованных Донбеттрами — владыками вод, о воз­
делывании пшеницы и ячменя, о приготовлении пива
и т. д. В других национальных версиях (например, в аб­
хазской) пет такого разнообразия реалий сельскохозяйст- ,
венного производства, зато здесь мы находим описание
весьма архаических способов пахоты на волах (его зани­
маются великаны).
Осетинские нарты занимаются овцеводством, разводят
коз, содержат табуны лошадей. Охота — любимое занятие
всех иартов. У многих из них своя охотничья собака.
Происхождение собаки, как и первого коня (Арфаи), осе­
тинская мифология связывает с красавицей Дзерассой,
которая вместе с Сатаной родила и первую собаку на
земле. Главнейший объект охоты — олени; иногда нарты
доят оленьих самок, как, впрочем, и волков (их молоко
используется для закалки героев) 4.
Как п в других вариантах, в осетинских сказаниях
содержится описание обработки металла. Мифические
кузнецы с их несложным инструментарием (наковальня,
клещи, меха, кувалда) обрабатывают железо, чугун, де­
лают стальные мечи, медные кувшины, накладывают
медные заплаты на разбитые в бою черепа. Встречаются
упоминания и о кладах золота. Часто фигурирует кольцо,
в котором заключены счастье и сила богатыря. Некоторые
из выдающихся героев (чаще всего Батрадз) называются
булатными или стальноусыми.
Среди женских образов осетинского эпоса особое место
занимает Сатана5. С рождением Сатаны не связано ни
2 «Хадзар» — дом, строение, вообще помещение, где горит се­
мейный очаг и готовится пища.
3 «Нартскне сказания. Осетинский народный эпос». М., 1949,
стр. 42; «Парты. Эпос осетинского народа». М., 1957, стр. 28.
Очевидно, это делалось в порядке приобщения к тотемному
животному; вспомним также встречающиеся в нартских сказа­
ниях облачения в волчьи шкуры.
5 См.: В. Абаев. Мартовский эпос. — ИСОНИИ, т. X, вын. 1.
Дзауджикау, 1945, стр. 36—47.
31
4
Г\|1ЛПТ1ПИП
Г.ПГЛ
1ТЛТЮ ПЛ/'Г-
Т»
ПППОПНО
ПП11ЛГ111К
«начало», ни «конец» рода нартов. Сатана у осетин вы­
ступает не как общая мать всех нартов, прародительница
народа (как, например, в эпосе абхазов), а как мудрей­
шая из женщин, прорицательница и советчица, как «луч­
шая из нартских матерей» 6. Трудовая деятельность ге­
роини осетинского эпоса несколько ограничена по сравне­
нию с абхазской Сатансй-Гуашей — великой труженицей
иартского братства.
Двойник главного героя адыго-абхазского эпоса
Сосщщз—Сасрыквы Сослан Булатный, сын Урызмага,
рожденный из камня (скалы) и закаленный кузнецом
Курдалагоном в волчьем молоке, является и в осетинских
сказаниях одним из главных нартских героев.
В абхазских сказаниях нет каких-либо различий
между нартами по их родовой либо территориальной при­
надлежности или каким-либо другим социальным призна­
кам. В осетинском же эпосе все парты подразделяются
на три территориально-родовые группы: Верхний Нарт,
населенный родом Алагата, Средний Нарт, занимаемый
родом Ахсартаггата, и Нижний Нарт, где жил род Бората
(в частности, Уархаг принадлежал к роду Бораевых) 7.
Упоминаются и другие роды (например, Быцепта, Кармага, Алага, Ацата). Иногда воины отправляются в по­
ход по родам. Отчетливо проходит различие и даже неко­
торое противопоставление молодых нартов старшим
партам, простых — именитым: Урызмагу, Хамыцу, Сос­
лану, Батрадзу и др. Так, между Урызмагом л Сатаной,
с одной стороны, и молодыми нартами — с другой, возник
спор, кто лучше и храбрее из нартов — мужчин и жен­
щин 8.
В осетинском эпосе весьма ярко отразился длительный
процесс распада первобытпо-общинного строя, возпикиовения имущественной и социальной дифференциации,
образования начатков государственности. Так, видное
место в обществе нартов занимает алдар — владыка, гос­
подин, позднее князь, феодал, помещик (подобные образы
в аохазекпх сказаниях отсутствуют). Нартам приходится
бороться не только с великанами, злыми кадзамп и алдарами, но и с маликами — феодалами, князьями, во главе
® «Нарты. Эпос осетппского народа», стр. 192.
^е’ СТР*
«Яблоко нартов». Обработка для детей и
перевод С. Брптаева. Орджоникидзе, 1954, стр. 62.
«Парты. Эпос осетппского народа», стр. 304.
32
которых стоит царь9. Все эти всесильные владыки — не­
примиримые враги картой —• обладают несметными богат­
ствами: у них много золота н серебра, воинских доспехов,
конских табунов и другого добра, которое парты иногда
захватывают и делят между собой |0. В некоторых текстах
содержатся представления о захвате п межевании земли,
о «высокой знати» и «черном народе».
Встречаются в осетинском эпосе н упоминания о плен­
ных, обреченных на тяжкие мучения или занятых непо­
сильным трудом (в сказаниях говорится о том, что плен­
ники дробили камни, готовили строителям раствор
и т. д.).
В осетинских сказаниях видим отражение того, как
постепенно война становится источником накопления
богатства в одних руках. Побежденные платят дань ста­
дами (в частности, быками) и пленными самодуру Мукаре, алдарам, маликам (нарты платили Мукаре дань
девицами п, пока Батрадз не убил его и нс освободил плен­
ниц) |2.
Генеалогия и порядок наследования в осетинских ска­
заниях носят явные следы отцовского права, что отнюдь
не характерно, например, для абхазского эпоса. Герои
осетинского эпоса ведут родство по отцовской линии:
в сказаниях выступают Тар и его сыновья; Кандзаргас,
его сын Хамыц, ого внук Батрадз; Уархаг и его потомки
образуют как бы особые «патронимии»: Уархаг и его
сыновья Ахсар и Ахсартаг и др.
Нередко в эпосе говорится о долгах отцов, о наследии
прадедов, о наследовании по мужской линии, о доспехах
предков, об их завещаниях, об имуществе, оставшемся
от отца, о мести, и т. и.13
В осетинских сказаниях содержится яркое изображе­
ние древнего народовластия патриархального типа. В этом
отношении заслуживает особого внимания нихас (в совре­
менном осетинском языке это слово значит «беседа» или
«место народных собраний»). На нихасе нарты решали
важнейшие дела: вопросы войны, мира, общественного
хозяйства и пр. На нихас допускались только мужчины,
:
■
9 Там же, стр. 174.
10 «Нартскпе сказания», стр. 65.
11 Там же, стр. 92, 154, 160, 271.
12 «Парты. Эпос осетинского народа», стр. 97.
13 Там же, стр. 171, 178, 192, 202, 206, 210, 237, 264 и др.
3
Заказ № 1480
33
I
••л
I
причем правили здесь только старшие мужчины, воссе­
давшие на строго определенных местах, как и па пир­
шествах (купд), что также вполне соответствует патриар­
хальной идеологии.
Как мы уже говорили, в осетинских сказаниях парты
подразделяются на три рода. Они живут отдельными
семьями в одном «нартском селении», где были «верх­
ние», а следовательно, и «нижние» кварталы отдельных
поколений. Нередко в сказаниях читаем: «Ведут в село,
в бораевекпй квартал», где имеется «большой бораевскип
двор» 14. Поэтому понятны сетования мудрейших мартов
на то, что «коварные» нарты «станут делить табуны и
стада», на то, что происходит разлад «общего очага» 15.
Таким образом, в осетинском эпосе отразились наибо­
лее типичные черты патриархального общества: патронимпальный счет родства, порядок наследования, носящий
следы отцовского права, древнее патриархальное народо­
властие я обычай кровной мести.
Не случайно, видимо, кровная месть — классический
мотив патриархально-родового строя — является основой
многих сюжетов осетинского эпоса.
Весьма показательно в этом плане сказание о мести
Батрадза за смерть отца. Родовая вражда между потом­
ками Боры с картом Хамыцем привела к тому, что Хамыц
был убит. Как только сын Хамыца Батрадз узнал имя
убийцы своего отца, он отправился искать его. «Через не­
которое время, убив Сайиага, он отсек у пего правую
руку и, придя в нартское селение, швырнул ее к ногам
матери со словами: «Отомстил я врагу за кровь отцов­
скую. Снова можешь, пана, свой покой обрести» 16.
В осетинских сказаниях встречаем упоминания и
об откупе за убийство. Так, Батрадз требует с мартов
плату за кровь отца: «Так платите, нарты, — говорит он
им, — без слова лишнего мне за гибель отца, за обиду
матери» 17.
Вопрос о том, кто отомстит за кровь, является одной
из важнейших забот осетинских партских героев. «Кто
“ «1-Гарты. Эпос осетинского парода», стр. 89, 194, 289, 290,
308, 346.
Там же, стр. 290, 346.
«Нартскне сказания», стр. 337, 333.
Там же, стр. 285, 346.
34
отомстит за меня, тому оставлю меч свой и коня», — гово­
рит Созырко перед своей смертью. В ответ на это Батрадз
обещает: «Клянусь землей родной, что колесо Бальсага
мечом булатным разрублю я сам» 18.
Мстят не только братья и вообще родичи, но и родст­
венники по женской линии. Так, Хамыц освободил своих
семерых братьев, плененных чудовищем 19.
В осетинских сказаниях отразился и обычай примире­
ния кровных врагов путем материального вознаграждения
потерпевшей стороны. «Заплатим-ка дань крови пар­
там лучше», — читаем в сказании «Батрадз и Хафтаигур» 20.
Очень большое место в осетинском эпосе занимают во­
просы брака и семьи. Этой теме посвящены сказания
о женитьбе н разводе Урызмага с Сатаной, женитьбе
Сослана па Бсдохе — дочери Челахсартага и на дочери
солнца Ацырухс, о женитьбе Хамыца, женитьбе Батрадза
(Снмд лартов), сватовстве Ацамаза к красавице Агуиде,
браке Хамыца с Быцспон, женитьбе Хамыца на дочери
карлика Бнцснта Дтлчепага21 и др.
С точки зрения истории брачного института, в этих
сюжетах отразились как архаические, так и сравнительно
более поздние формы брака. В сказаниях представлено
немало брачных пар, которые живут со своим потомством
на территории мужа.
Принцип патрнлокАльного поселения супругов четко
выражен, например, в следующих словах матери Дзерассы: «Тех, кто рождается не на землях партов, уж во­
веки нарты за своих не сочтут». Это подтверждают и
сами нарты: «Все невестки наши при пас проживают, пн
одна не живет у своих родичей»22. В случае размолвки
или развода жена возвращается к родителям или бли-.
жайшему родственнику из ее рода. Так, Урызмаг, рассер­
дившись, говорит жене своей Сатапс: «Отправляйся ско­
рей к своим ты родичам» 23.
На основе осетинских сказаний трудно составить не­
ное представление об эндогамном или экзогамном браке.
18 «Нарты. Эпос осетинского парода», стр. 285, 346.
19 Там же, стр. 98.
20 Там же, стр. 184.
21 Там же, стр. 140 сл.
. 22 «Нартскне сказания»,* стр. 18.
23 «Нарты. Эпос осетинского народа», стр. 46.
35
3*
*
П
Так, Урызмаг был женат сперва па красавице Эльде из
рода Алагата, а потом стал мужем своей сестры Сатаны 24.
В осетинском эпосе отразился и обычай левирата и
платы за невесту выкупа — калыма. Обычай левирата,
согласно которому жена умершего брата становилась же­
ной его неженатого брата пли другого ближайшего ро­
дича, даже не упоминается в других национальных вер­
сиях, например, в абхазских сказаниях, как и калым —
выкуп за невесту скотом, оружием, а впоследствии и
деньгами. Согласно же осетинскому эпосу, Сослан, чтобы
получить в жены дочь солнца Ацырухс, должен был воз­
вести дворец у самого моря, обсадить его мифическими
деревьями Аза да еще пригнать три сотни звериного
стада. Дочь Сайнаг-алдара, красавица Агунда, сама назначила Ацамазу в качестве свадебного выкупа пригнать
з загоны се отца сто олепей-однолеток25 (не является ли
это отзвуком приручения оленей на Кавказе?) 2С. Упоми­
нается и приданое невесты («семь повозок чудных, в них
впряжены выносливые зубры; опп везут приданое не­
весты»).
Вместе с тем в осетинских сказаниях нс последнюю
роль играют сватовство, похищение невест, а также такие
мотивы, как любовь, ревность, верпость, измена и т. п.27
В южноосетинских сказаниях встречаются пышные опи­
сания женской красоты и страстпьте монологи о любви,
равно как и рассуждения о тайнах вселенной, судьбах
поколений и т. д.
Интересна топонимика и гидронимика осетинского
эпоса. Нарты знакомы не только с реками (повелитель
рек — Гатаг могучий) и озерами, но и с морями, главным
образом с Черным морем (Сау денджыз); на дне моря
жплп братья Донбеттры и их красавица-сестра Дзерасса. Сослан был обречен навеки жить у Донбеттров,
пока парты не вызволили его из этого плена. И вообще
Допбеттры — владыки морей, озер и рек и описание их
подводного царства занимает видное .место в осетинской
мифологии. Разгневанный Уархаг загоняет нартские табуны в море28. Урызмаг ведет нартов вдоль Белого и
24 «Нартские сказания», стр. 31, 33.
25 Там же, стр. 136, 388.
20 «Нарты. Эпос осетинского парода», стр. 260.
27 Там же, стр. 106, 107, 163, 201, 204, 234.
28 «Нартскпе сказания», стр. 7, 17.
36
Черного морен 29. В одном из сказаний говорится о том,
что река подхватила сундук Урызмага и унесла его
в Черное море30, где жил всесильный алдар — владыка
Чсриоморьл. Небесный кузнец Курдалагои, закаляя ге­
роя, хватает клещами раскаленного на огне Батрадза за
колени и бросает в море31. Ацамаз, чтобы попасть к алдару Мысыра, переплывает на своем коне Черное морс32.
В осетинском эпосе упоминается и другое — Восточное
море (Уартдзаф-море).
Весьма часто называется Гумскоо ущелье (Гумская
долина)—географическое название, сходное с такими,
как Гума, Гумста в центральной Абхазии и па Северном
Кавказе (река Кума, селение Гумлокт и др.) 33.
Среди осетинских мартов живут разные боги и покро­
вители природы, находящиеся то на дне моря (Допбеттры, как мы уже говорили, обитают в Черном морс),
то на небесах (Уастырджи, покровитель мужчлп-путпиков, живет высоко на небо, по частенько спускается па
землю па своем трех йогом коне и со своей борзою). Боль­
шая роль принадлежит и небесному кузнецу Курдалагону, который закалил главных героев осетинского эпоса,
подарил нартам первое пахотное орудие и др. Часто уполишаются в осетинских сказаниях Уацилла — божество
урожая, кривой Афсати — властитель зверей (туров, оле­
ней, коз, кабанов и др.), Галагоп — повелитель ветров,
Донбеттр — владыка вод, дочери солнца — Ацьтрухс п
Хорческа, дочь лупы — Мьтссырхап и др.
В осетинских сказаниях отразились не только языческие, но и более поздние религиозные представления,
особешго христианские, такие, как конец спета, рай, пре­
исподняя, Страна (или Владения) мертвых («Безымен­
ный» сын Урызмага вернулся из загробпого мира, ходил
29 Там же, стр. 41.
30 Там же, стр. 53—55.
31 Там же, стр. 270.
32 Там же, стр. 300.
33 Из другях топонимических названий осетинского эпоса
укажем следующие: Уазовская гора, Вершппа Уаскуппа, Вер­
шина Дывардаха, ущелья Адан п Урбыпа, реки Царцу п Уайс,
Поляна Уарыппа, Степь Зилахарская (Зплахар), Земля Луана,
Земля Гумпра, Ворота Цыза, Пещера Сека п др. («Уазовскуго
гору» ср. с абх. «Ауаз-абаа», т. о. Уазовская крепость, что
в ущелье р. Гумпсты близ Сухуми).
37
с отцом в поход, а потом снова вернулся на тог свет, на­
помнив, однако, своим родичам справить поминки
по нему» 34).
В эпосе осетпи упоминаются ангелы п святые (Никкола, Елна небесный, Мкалгабр, т. е. архангел Гавриил
и др.), а также бесы (кадзи), дьяволы, русалки.
Согласно осетипским сказаниям, тела умерших пре­
даются земле на родовом кладбище; покойников хоронят
обычно в чугунном гробу, а затем насыпают могильный
курган (сапада); погибшему в бою посвящали коня,
усопшему на грудь клали прядь волос, а врагу отрезали
руку п ухо.
Для идеологии осетинских партой характерно понятие
бога и даже единого «бога богов» как высшего верховного
существа, которое пребывает на небе. 13 осетинском эпосе
сильны богоборческие мотивы (в цикле сказании о Ват
радзе они занимают основпое место).
Нарты не хотели покориться никому, даже богу, и по­
этому погибли. Разгневанный бог выслал против них
Уастырджи. «Стали псе нарты рыть себе могилы, броси­
лись в могилы и смерть себе нашли, ибо решили они, чем
в рабстве жить, лучше умереть: «вечная слава — вечной
жизни ценней»35.
В партском эпосе осетин, как и других народов, по­
стоянно фигурируют определенные эпические числа —
семь, девять, двенадцать, сто (последнее упоминается
только в абхазских сказаниях). Во всех национальных
вариантах, в том числе и в осетинских, чаще других
встречается число «семь».
11
Адыгские сказания
I
В системе образов адыгского нартского эпоса, как и
абхазского, главное место занимают нарт Сосруко и Сатаней-Гуаша. Сатаней показана в гпосе как красивейшая,
многоопытная и мудрейшая мать нлп воспитательница
главных нартекпх богатырей.
Сосруко — сын камня, воспитанник Сатаней; в младенчестве он, как и его конь, питался кремнем; тело его
булатное; он был закален партским кузнецом Тлепшем,
34 «Нарты. Эпос осетинского парода», стр. 300.
35 «Нартскпе сказания», стр. 348, 351, 352, 419, 420.
38
пезакаленнымн остались только его бедра (по некоторым
вариантам — колени).
Главным подвигом адыгского Сосруко, как и абхаз­
ского, является возвращение огня36. Кроме него, Сосруко
совершает многие другие подвиги, которые характеризуют
его как самого могучего, ловкого и бесстрашного нарта.
Погибает Сосруко от волшебного колеса жаи-шерх.
Кроме самих нартов, в адыгском эпосе упоминается
карликовое племя ненов (в абхазских сказаниях они из­
вестны под именем а панов), одноглазые великаыы-нныжи,
чииты — извечные враги нартов, а также знатный род
Гуазо и др.
В адыгском эпосе, как и в осетинском, говорится о па­
шенном земледелии: «восемь волов попарно, друг за дру­
гом, плуг тянули». Парты возделывают просо, которое
убирают серпами. Они знают также коноплю, орех, тыкву
и другие культуры. У них имеется яблоня — «золотое де­
рево», полученное от бога плодородия, плоды ее созре­
вали за день. Парты любят виноградное вино (сано).
Часто говорится о скотоводстве (парты разводят овец,
коз, коров, лошадей, зубров, буйволов, свиней).
Ярко изображается в адыгском эпосе (как, впрочем, и
в других национальных вариантах) металлургия. Здесь
одинаково часто упоминаются медь (огромный медный
котел, в котором готовят пищу, медный амбар, медный
гроб, медная кошошия и пр.37 ), бропза и свинец (брон­
зовая и свинцовая плеть), железо и сталь (железное за­
остренное бревно в качестве иголки у великанши, желез30 Сказание о том. как Сосруко принес партам огонь, оце­
нивается исследователями по-разному. Е. М. Мелетинский, наир.,
видит здесь «добывание» или «похищение» огия как «... типич­
ные деяпнн культурного героя» (см.: Е. М. М слет и и с к и и.
Место партскнх сказаний в истории эпоса. — Сб. «Иартскпй
эпос». Орджоникидзе, 1957, стр. 49). Л. И. Алиева предпочитает
термин «возвращение огня», поскольку он вернее отражает фак­
тическое содержание сказания, где наличествует совершенно
иная эпическая ситуация и идет речь не о первоначальном до­
бывании, а о принесении огня, которого нет в данный момент
(оставлены дома кресала, напр.). — См.: А. И. Алиева. Сказа­
ния о Сосрыко в нартском эпосе адыгских народов. Автореферат
цнсс. М., 1964, стр. 9.
37 Крохотпьте йены разбили в сражении голову Джилахстапа,
и бог-кузпец Тлепш, как и абхазский Айиар-ижп и осетипскин
Курдалагон. спаял разрубленную голову, наложив на нее мед­
ную заплату.
39
■
пые подпруги, скованные Дабечем, стальное колесо жаишерх со сппцами и т. д.) 38.
В эпосе адыгов выразительно показано кузнечное
ремесло. Здесь представлены как бы три поколения куз­
нецов. Первый из них — Дабеч —работает в первой кузне;
молотом ему служит глыба скалы, а наковальней — валун;
он кует богатырские мечи. Центральное место занимает
Тлепш —бог железа и оружия. Он —ученик и подма­
стерье Дабеча, единственный его наследник в области ме­
таллообработки, пращур молотобойцев, родоначальник
всех грядущих кузнецов. У него железные ноги, которые
легендарный молотобоец выковал себе сам, когда лишился
ног. Тлепш берет раскаленное железо без клещей, голыми
руками. Вместо наковальни у иего камень, вместо молота —кулак. Все кузнечные орудия, в частности молот
и клещи (наподобие двух скрещенных змей), он смасте­
рил сам. Тлепш — всемогущий оружейник: он кует партам
боевое снаряжение, а также чинит-лечит разбитые в бою
стальные бедра нартов. Вместе с тем бог-кузнец
Тлепш — могучий и мудрый наставник, и даже прозорливая Сатаней обращается к нему за советами.
В адыгском эпосе выступает еще один кузнец — это
старый Худим, ученик Тлепша. Он кузнечил молотом
Тлепша, который они перебрасывали друг другу через
«семь краев».
Военные походы в адыгских сказаниях (как и во всех
других версиях) составляют основу многих сюжетов.
Нарты находятся во враждебных отношениях с племенем
чпнтов и ведут постоянную борьбу с великанами. Угон
скота, прежде всего табунов коней, — одни из побудитель­
ных мотивов партекпх набегов. Нарты нередко отправ­
ляются в походы и без видимой причины — на поиски
дальних краев, где герои могут проявить свое мужество
и удаль. В походе воина нередко сопровождают прпру39
ченные орлы и гончие псы39.
Верными друзьями и помощниками нартских богаты­
рей являются их кони (особое место занимает умный и
отважный конь нарта Сосруко Тхожей).
На вооружении у нартов — лук и стрелы, мечи, же­
лезное древко, инка, копье с раздвоенным острием, щиты,
3® «Нарты. Кабардинский эпос». М., 1951, стр. 39, 356, 440 идр.
39 Талг же, стр. 232.
40
кольчуги из красной меди, стальные налокотники, сталь­
ные ножницы (обычно в руках женщин). Нарты упраж­
няются в метании тяжелых камней, сбивании всадппка,
стрельбе из лука. Часты упоминания о тайных и непри­
ступных пещерах, входы в которые закрыты абра-камнем.
Адыгские сказания содержат упоминания и о крепостях
с бойницами и башнями, которые берутся с боем. Некоторые жилнща даже напоминают собою крепость: боль-'
лиге каменные дома, огороженные плетнем из колючего
терновника, с воротами. В таких жилищах, закрываемых
тем же абра-камнем, живут нарты и их извечные враги —
великаиы-пныжи.
В адыгском эпосе, как и в осетинском, довольно четко
прослеживается тгатрилннейпый счет родства. Происхож­
дение, как и личные .имена героев, устанавливаются по
01 цу: Канжоко— сын Канжа, Тотреш — сын Альбека,
Батраз — сын Химыша, Ашамез — сын Аши, Бадыноко —
сын Бадына и др.
Мотив кровной мести в адыгском эпосе занимает более
значительное место, чем в абхазских сказаниях (ей по­
священы сказания о Батразе и Ашамезе).
В иартском обществе, как оно предстает перед нами
в адыгском эпосе, отложились следы разложеппя перво­
бытно-общинного строя и дальнейшей соцнальпой диффе­
ренциации. Мотив имущественного неравенства нередко
звучит в адыгских сказаниях (как и в осетинских). Все
большее почтение вызывает богатство, появляются бедные
(например, Малеч и Жагиша) и богатые (папрпмер, ро­
дители Унаджоко, Тлебпца Малый — обладатель конного
табуна, пасущегося между двух морей, и др.) 40
Нарты имеют работников (например, свинопаса по
имени Горгопыж). Заметно выделяются могучие владыки
(у племени нспов, живущих в неприступной крепости,
был властелин по имени Белобородый). Некоторые нарты
в эпосе адыгов называются князьями: князь-дедушка
нартов (Пши-дада), Насреижаке — иартский кпязь С 30лотой бородой в волчьей шубе. Князем именуют и Бадыиоко (или Пшибадлноко) — «непримиримого врага кшгтов» и т. п.
В адыгском эпосе видим неоднородную массу нартов:
есть парты — витязи, славные и родовитые, герон-вониы.
40 Там же, стр. 355.
**.
41
!•
;
■
Я
гордецы. Некоторых из самых выдающихся нартов вел ичают «тхамадой», т. е. главой всех нартов или отдельном
их группы (ср. абх. «атахмада» — старейшина, старик).
Таков Насренжаке — тхамада нартов — и Уазырмее. Ря­
дом с ними выступают мирные жители, пастухи, псимущие слуги (их было много, например, у злого п могучего
Джилахстана, который жил в неприступной крепости со
своей красавицей-дочерью).
Яркое представление о далеко зашедшем социальном
расслоении, отразившемся в эпосе, дает сказание о смерти
Сосруко, где возлюбленная объясняет ему целый ряд
странных явлений, которые ему встретились на пути
к ней. Она растолковала Сосруко, что борьба сыромятных
чувяков с сафьяновыми, которую он наблюдал на дороге, — это столкновение двух враждебных родов. «Чу­
вяки из сыромятной кожи — бедный род. чувяки из сафья­
новой кожи — богатый род... Предстоит, значит, война
между бедным родом и богатым, и победит бедный
род...»41
В нартском эпосе отразились обычаи разных кавказекпх народов. Некоторые из них, например, аталычсство,
сохранились в этнографическом быту современных паро­
дов Кавказа — абхазов, адыгов, осетнп и др.
В частности, в адыгском нартском эпосе имеются ска­
зания, свидетельствующие о знакомстве нартов с обычаем
аталычества: нарты Сосруко и Бадыиоко воспитываются
чужими людьми в подземелье, в тайне от всех нартов
(в том числе и от своего отца).
Согласно некоторым адыгским сказаниям, парты, как,
впрочем, и великаны, живут большими патриархальными
семьями (у нартского кузнеца Дабеча было восемнадцать
сыновей от одной матери и от одного отца) 42. Мальчик
и девочка, родившиеся в одну ночь, должны были стать
мужем и женой, в знак чего на углах колыбелей вырезали
знаки обручения43. Так, например, Шужей перевязал
руку Малечипх повыше запястья шелковой лептой, желая
обручиться с ней.
Еще в недавнем прошлом в горском быту было немало
и других обычаев, перекликающихся с нартскими. Так,
41 «Нарты. Кабардинский эпос», стр. 130.
42 Там же, стр. 429.
43 Там же, стр. 355.
42
1
у мартов, как* это было принято у абхазо-адыгских племен,
после победы оставшиеся в живых противники отпуска­
лись домой невредимыми в качестве вестников гибели
вражеского войска (абх. ашоаць^оао— «вестник скорби»).
Упомянем и такие военные игры, как метание камней,
скачки, 6011 па лошадях и др.
В партекпх сказаниях изображается щедрое гостепри­
имство и почитание старших.
13 адыгских сказаниях о партах отразились и такие
обычаи, как существование специального дома (или компап,1) для гостей («кунацкой»), культа надочажной цени,
коновязи перед жилищем и др.
Из сказаний мы узнаем, что единицей измерения
длины у мартов служил локоть, па йоги они надевали
сыромятные чувяки, имели трехиогий обеденный столик
(ана) и др.
В адыгских сказаниях содержится описание музыкальПОП) и таицсвалмюго искусства древних адыгов. Состя­
зание в тайце было одним из любимых их занятий.
Среди этнографических параллелей привлекают вннмай не такие, как •почитание дуба, ношение волчьей шубы,
связанное, вероятно, с древними тотемистическими пред­
ставлениями; обычай класть в гроб умершего мужчины
прядь волос его жены 44, принесение в жертву богу ГГсатха
белой козы, гадание на фасоли и др.
Мы уже говорили, что во всех вариантах нартского
эпоса особое значение придается эпическому числу семь.
В адыгских сказаниях оно встречается также весьма
часто45.
В тополи микс адыгского нартского эпоса привле­
кают внимание прежде всего названия иартских поселе­
ний: Земля нартов, Село нартов, Страна нартов, Нартское
Ноле, селение Аледжа и др. Гор сравнительно мало: вер­
шина Харам, где происходят поединки иартских богаты­
рей; хребет Майкуапа, горы Старости и Ошхамахо (пли
гора Счастья — обитель богов). В горах нарты охотятся
на оленей, кабанов, иногда и на буйволов.
Почти в каждом сказании можно найти упоминание
о пещерах, нередко используемых в качестве подземного
41 Там лее, стр. 389.
45 Там же, стр. 322, 323, 325, 326, 333, 337, 376, 383, 385, 467,
409, 571.
43
&
жилища (сын Канжа, Шауей, вырос в ледяной пещере
на вершине Ошхамахо).
В адыгских сказаниях наиболее часто упоминаются
следующие реки: Ипдыл (пли Идыль) — Волга, Тэн —
Дон, Исыж, Ибг, Шхагуаша, Уля и др. Часто упоминается
море (Хазас-море), междуморье, заморские табуны и
копи— «настоящие альпы», морская рыба, заморские
враги и т. и. Нартскпс герои нередко переправляются
через море верхом на своих копях (Джамндеж — кош»
нарта Шауся — свободно перепрыгивает через море и
перегоняет обратно табуны могучих великанских ло­
шадей).
Абхазские сказания
Ц;
Согласно абхазским сказаниям, нартское общество,
организованное в материнский род, состоит из ста братьев
и их единственной сестры, рожденных одной матерью.
Такого большого семейного коллектива, символизирую­
щего собою весь народ, нет в других национальных
версиях.
В осиове хозяйственной жизни картов лежит коллектпвиое производство и потребление.
Нарты осваивают культуру винограда, из которого
делают вино и хранят его в зарытых в землю глиняных
кувшинах (аз^ацшьа). Они занимаются пашенным зем­
леделием — разводят просо, лен, коноплю. Пахота, как и
работа мастериц и кузнеца, изображается необычайно
ярко и выпукло. В сказаниях говорится о том, что обра­
ботка почвы производится с помощью тягловой силы жи­
вотного (как правило, пахотой занимаются только ве­
ликаны). Например, один работник так глубоко пахал
землю, что каждая вывороченная глыба была величиной
с дом.
Земледелие, охота и скотоводство составляют главное
хозяйственное занятие мужчин. Нарты содержат стада
овец, коров, свиней, табуны лошадей и пр. Пастухи имеют
при себе палку «алабашьа» и собак (ала-мацуаркуа,
т. е. «собаки прислуживающие»). Интересны упоминания
о том, что в качестве домашних собак нартам служили
волкп (акуцьма^уа нар'(аа рла^уа ракун).
С именем иартов в народе связывают обычай, согласно
которому абхазы еще недавно из каждой тысячи голов
своего скота одну сотню отпускали в лес—в честь тех,
кто «находится в лесу». Когда они отправлялись в поход,
за скотом смотрел народ, потому что «парты владели
своим скотом совместно со всем пародом» *16.
Сасрыква и другие парты приручили впервые лоша­
дей, и первые* всадники, согласно преданиям, были парты.
Им же принадлежала особая порода коней иод названием
«арашь». Нарты разводили и зубров, которых в сказациях иазывают «партекпмп буйволами».
Наглядное представление об охоте мартов дает следу 10щее сказание. Герой Алхуз был женат на женщине из
нарте кого рода. Однажды, когда к нему явились нарты,
он решил преподнести почетным гостям достойные дары,
отправился в горы и, пока по кончился пир, пригнал
много всякой дичи.
В партских сказаниях часто упоминаются изделия из
металла — меди п особенно железа. Эпитет «железный»
употребляется для выражения твердости, крепости, особой
ценности предмета. Помимо орудий кузнечного ремесла,
называются медные заплаты на черепах раненых картов,
медные котлы и мосты, железная падочажная цепь и
скамья, железны!! вертел, железная коновязь, железные
миски, железное седло, железные ворота, железные пере­
кладины, на которые опирается крыша дома, железное
(пли стальное) человеческое тело, железные усы и т. д.
Вместе с тем железо и сталь являются иногда пищей
для людей п их коней (новорожденного Сасрыкву кормят
железом). Золото в абхазском эпосе упоминается очень
редко.
Живут нарты (и даже карлики— «ацаны») в больших
высоких каменных домах, огороженных каменной же
оградой (в одном месте говорится, что на камнях этой
ограды были высечены какие-то знаки — письмена).
Коллективному производству и потреблению соответ­
ствуют общественное сознание и ряд таких бытовых черт,
как общий «нартский дом», общесемейный котел, длпипая скамья для совместных трапез, винный кувшин «на
сто человек», общее кладбище и т. п. Вместе с тем позд46 «Нарт Сасрыква п его девяносто девять братьев. Абхаз­
ский народный эпос». Сухуми, 1962, стр. 56 (на абх. яз.).
45
!
44
.
мне слои эпоса отражают распад и разложение первобытио-ощщшного строя. С появлением частно!! собствен­
ности усиливается разлад внутри нартского общества,
учащаются споры из-за общего котла, кувшина, в инограда и пр.
Существенное значение имеет описание военных похо­
дов. Весь быт нартов пронизан героикой боевой жизни.
Геройство, признающееся напвысшей добродетелью, про­
является главным образом в походах. Нескончаемые иоходы «для добывания славы» (хьыдрацара) ооразуют
основные сюжетные линии эпоса. Всякий нарт, когда под­
растет, должен был отправиться в поход — «на добывание
славы». Нартская конная дружина вооружена луком и
стрелами, а также кольчугами, гигантскими мечами,
плетьми л другими доспехами. В сказаниях упоминается
боевое колесо под названием аджинчархь (ср. адыгск.
жаи-шерх, осет. Бальсагово колесо). Цель войны - - добыча сокровищ, взятне неприступных крепостей, ирцнадлежащих злым существам, защита людей от великанов и чудовищ, открытие новых земель и т. гг.
В походах нарты постоянно сталкиваются с многом псленными опасностями, но нет такой трудности, которую
не смогли бы преодолеть эти суровые и непобедимые бо­
гатыри. Так, парты ведут успешную борьбу с насиль­
никами, злыми силами природы, дивами, драконами и,
особенно, с великанамп-людосдамп (адауьт, аииыжо).
Рассказы об этой борьбе составляют основное содержание
эпоса. Важное значение имеет и борьба за утверждение
брака и семьи.
Наиболее архаичным в абхазском эпосе (как и в осе­
тинском, п в адыгском) п в то же время необычайно
ярким, художественно совершенным и значительным яв­
ляется образ всемогущей матери нартов — Сатаней-Гуаши.
Сатаней — воплощение черт идеальной женщины, которая
«без солнца греет, без луны сверкает». Она выступает как
родоначальница н глава рода, устроительница семейного
очага, домоуправительница, чародейка и мудрая прорицателышца, предсказывающая будущее,
бессмертная мать и наставница народа, ие стареющая и
Это один из самых ярких женских образов мировой
поэзии.
Из других женских образов
выделяется единственная
сестра нартов — светозарная Гунда Прекрасная (с именем
46
ее связано несколько названии местностей в горной Аб­
хазии) 47.
Главнейшим героем абхазского нартского эпоса яв­
ляется Сасрыква. Это его в первую очередь абхазы иазывают «афырхаца» (букв.: «герон молнии», «повелитель
молнии»). Когда говорят, что героизм — главная черта
иартов, то имеют в виду прежде всего Сасрыкву. С его
именем абхазы, как и другие народы Кавказа, связывают
большое число легенд, преданий, поговорок. В разных
местах Абхазии на берегах горных потоков до сих пор
показывают места, связанные с его именем48.
Цикл сказаний о Сасрыквс — важнейший и наиболее
законченный в абхазском эпосе. В нем рассказывается
о рождении, подвигах и гибели героя. В абхазских сказа­
ниях Сасрыква — самый младший и любпмейшпй сын
Сатаней-Гуаппг, рожденный чудесным образом из камня.
В образе Сасрыквьт нашел свое воплощение гумани­
стический прометеевский миф. Ему, как и некоторым
другим нартам, присущи черты так называемого «куль­
турного героя», оставляющего после себя человечеству те
илн иные неизвестные ранее навыки и культурные ценности49.
Сасрыква совершает множество подвигов: укрощает
дикого коня, одерживает победу над прожорливым драко­
ном в подземном царстве, избавляет народ от несчастья
и др. Однако главнейшая тема этого цикла в абхазском
эпосе, как п в адыгском, — добывание огня.
В абхазском эпосе на протяжении всего цикла подчеркнвается сложность вз аи моотноше ни й С аср ы кв ы
47 В частности, по словам старого окумского жителя, на од­
ной из священных гор Абхазии под названием Иапи-Гупда каж­
дую субботу выпадал снег, и не всякому было дано подняться
на нее.
48 По преданию, в урочище Лидера близ Сухуми находится
древняя каменная гробница Сасрыквы (см.: Вл. Ч сриявс к и и. Записка о памятниках Западного Закавказья... — «Пя­
тый археологический ст»езд в Тифлисе», вып. I. М., 1882,
стр. 22). Другую его гробницу, датируемую ранним средпевековьем, народная память помещает в окрестностях селения
Амзара в Кодорском ущелье (см.: «Памятники культуры Гру­
зинской ССР, взятые государством под охрану». Тбилиси, 1959,
стр. 286).
49 Е. М. М елетпнек и й. Происхождение героического
эпоса. М., 1963, стр. 169.
47
с остальными нартами. Уже но рождению он считается
неравноправным, незаконным, не настоящим (ашппа)
нартом (Сасрыква родился от случайной встречи СатанейГуаши с нартским пастухом). На этом основан проходя­
щий через весь эпос антагонизм между ним и другими
нартами, которые не признают его своим братом. Зато
Сатаней целиком па его стороне, и потому он может не
только противостоять партам, но и превосходит их во
всем. Вместе с тем парты завидуют ему и, не желая до­
лить с ним славу, губят того, кто не раз выручал их
из беды.
Мы уже говорили, что 1» абхазских сказаниях нашел
яркое отражение век металла, когда человек научился
плавить из руды металл, обрабатывать его и делать такие
орудия, как молот, наковальня, клещи. Культ кузин и
железа олицетворен в обобщенном образе кузнеца
Айпар-пжи (имя его буквально означает «нартский куз­
нец» ), который делал «исключительно только медные
изделия»50. В сказаниях говорится, что правая рука
служит ему молотом, левая — щипцами, а колени — на­
ковальней. Айнар-пжп не только кует сородичам оружие
и орудия труда, но с помощью своих клещей и молота
искусно чинит разбитые в бою черепа и другие кости, де­
лая на них медные заплаты, а также закаляет юных бо­
гатырей.
Из оригинально-абхазских партекпх богатырей наибо­
лее выдающимися являются Хважарпыс (имя его означает
«Рододендроновый молодец») н Нарджхьоу — достойные
женихи сестры нартов, непримиримые, но благородные со­
перники, многоопытный Сит — старейший из братьев и
его сын Уахспт; бескорыстный Цвпцв — с виду скромный
п невзрачный, кажущийся иногда даже жалким, а по
существу — один из самых выдающихся нартов; могуще­
ственный Шьаруан, преисполненный чувства долга и
дружбы; колкий и язвительный Гутсакьа п др. Каждый
пз штх имеет свой характер и наделен реальными чер­
тами.
Для героев абхазского нартского эпоса характерны
высокие нравственные качества — правдивость, честность,
чувство собственного достоинства, преданность родной
;°11. Да и а 1И и а. Абхазский культ II быт. — «Хрнстиацскип Восток». Пг., 1917, стр. 171
48
:
земле, свободолюбие, стремление к подвигам, презрение
к смерти. Геройство (ахацара) дли них превыше всего.
Действующими лицами в эпосе явлются не только
люди, по и звери, птицы, животные, особенно легендарные
кони — «арашп»; они, как правило, наделены речью и ра­
зумом; парты нередко советуются с ними.
С точки зрения мировоззрения нартов, реальное суще­
ствование мира представляется чем-то само собой разу­
меющимся. 15 абхазском эпосе пет упоминаний о боге
(в отличие, например, от осетинского, где находим и бога,
и бога богов, и влияние христианства с его представле­
ниями о рае, аде и прочих атрибутах «того света»). Абхаз­
ские парты не знают пи молитв, ни жертвоприношений.
Существует только неопределенное сверхъестественное начало (адоуха), которым проникнута Сатаней (адоуха лымап). Вот почему все ее желания сбываются. В нартском
пантеоне мы видим также покровителей грозовых явлепни Афы, лесов и дичи Апргь-Ажвейпшаа и др., которые,
однако, представляются такими же в сущности обыкновеннымп людьми, как и сами парты.
13 абхазском эпосе, как и в других национальных вер­
сиях, сказания группируются вокруг имен главных гсроев, составляя малые и большпе циклы. Циклы эти,
вполне законченные, вместе с тем связаны друг с другом.
Основное содержание циклов составляет описание подви­
гов героев. Жизпыо и деятельностью главного героя —
Сасрыквы — абхазские сказания объединяются в единое
целое. Это отличает абхазский эпос от других националь­
ных версий.
Препятствия на пути героев и их преодоление создают
сложную композиционную структуру и способствуют на­
растанию конфликта (например, эпизод единоборства
Сасрыквы с великаном, а также ряд сюжетов добывания
жены и др.).
В сказаниях ярко выражена эпическая героизация и
идеализация богатырей, прежде всего Сасрыквы. Все
парты — герои, но они не показаны всемогущими: в эпосе
нередко выступают другие богатыри, превосходящие по
силе каждого из нартов.
Поражает монументальность образов основных героев
абхазского эпоса, краткость характеристик, простота и
строгость изложения, драматизм ситуаций, юмористиче­
ское описание некоторых героев. В то же время нартский
\
Заказ Л'1 1480
49
эпос широко обращается к фантастике как к изобрази­
тельному средству.
Важнейшим художественным приемом абхазских ска­
зании является гиперболизм. Гиперболизация достигает
папвысшсн степени в описании великанов, их внешнего
вида, образа жизни и действий. Неприятия гигантские
размеры этих безобразных существ вызывают чувство
брезгливости; гипербола подчеркивает их низкую природу
и нечеловеческую трудность борьбы с ними.
Абхазские сказания не отличаются вычурностью стиля.
Из художественных средств наиболее употребительны
эпитеты и сравнения. Имени матери мартов — Сатаней
постояппо сопутствует эпитет «гуашьа» («опора», «основа»). Эпитет «красивая», «прекрасная» настопчлво
употребляется рядом с именем сестры мартов Гунды.
Почти в каждом рассказе можно встретить образные онпсательныс сравнения, характеризующие отдельные сто­
роны жизни партой и внешность действующих лиц.
Абхазские сказания отражают топонимику Абхазии и
Северного Кавказа51.
К абхазским сказаниям близки убыхекпе нартекпе
рассказы (так, например, абхазское сказание о сватовстве
Нарджхьоу к Гунде Прекрасной почти тождественно соот­
ветствующему убыхекому преданию об Ерешхау, Хуазсрпише и Гунде Пшпдзе) 52.
Балкаро-карагаевские сказания
Поразительные совпадения устанавливаются между
абхазскими и балкаро-карачаевскими сказаниями, Это
объясняется, вероятно, не только глубоко уходящими
культурно-историческими связями, но является и ре­
зультатом длительного процесса взаимной этнической
инфильтрации между этими народами.
Согласно балкаро-карачаевским сказаниям, нарты —
люди огромного роста и силы. Опп проводили жизнь
в поисках опасностей п приключений, в набегах с целью
добычи, в странствиях, где можно было проявить удальство.
51 Подробнее об этом см.: Шалва И нал- И п а. Героический
эпос абхазского парода. — «Литературная Абхазия», № 3 (8),
1959. стр. 265.
52 С. ПишсгП. ИоситепЦ; апаШЛепз зиг 1ез 1апдйез е1
1ея 1га(]Шонз (Зи Списазе. Рапя, 1900.
50
Они вели постоянную борьбу с гигантскими
ми ого головымя п глупыми одноглазыми великанами эмегеиамн —людоедами. Увеселительные собрания с играми и танцами
нарты устраивали в доме Алиговых, где всегда висел над
очагом котел, вмещавший мясо сорока быков. Место дей­
ствия балкаро-карачаевских сказаний локализуется на
Сев ери о м Ка в казе, в частности в бассейне р. Кубани, где,
ио свидетельству С. Урусбисва, много памятников связывается с их н менам и (например, замки Чуаиа и Сыиты,
камеи I . со следами копыт коня Сосруко по р. Теберда
и др.). В своих походах они доходили и до Волги
(Эднля) 53.
13 балкаро-карачаевских сказаниях Сатаней выстунаст как* княгиня п жопа Сосруко, которого считали «карт­
оном», т. о. главою, «князем» картой (иногда его заменяет
Урызмек). Сосруко изображается как непримиримый враг
великанов («Сосруко и Эмсген .Пятиголовый») а мать
его — как грациозная и умная женщина — княгиня («Ска­
зание о княгине Сатаней»).
В балкаро-карачаевском сказании прожорливый силач
Алауган — муж великанши — приручил явившегося к нему
но морю жеребца—«тарпана» (в других сказаниях ои
называется Гомуда) для своих «нартских поездок». Это
был легендарный конь, понимавший человеческую речь,
питавшийся только железом (если не было железа, то он
сам находил в горах железную руду и грыз ее),' а седло
и подпруги его были стальными. Рассказывали и про нарта
Урызмека, у которого тело ниже пояса было сотворено из
свинца *51.
Одна из несен повествует о подвигах Чюэрды, который
княжил у абазин. В его отсутствие приехали к нему парты
из Кабарды. Принял их отец Чюэрды, слепой Курж (по
преданию, древнейшим абхазским родом считается
Куржв), и пригласил их в свою кунацкую, которая была
сделана из меди. Вернулся вечером Чюэрды и зашел
к гостям в волчьей шубе, а затем отправился вместе
с.ними в поход «грабить аулы», где и был убит выстрелом
дяди его матери, селение которого вместе с нартами он
53 С. У ру с бис в. Сказания о нартских богатырях у татаргорцсв Пятигорского округа Терской области. — СМОМПК,
вып. I, ч. 2. Тифлис, 1881, стр. 1.
м А. Н. Д ь я ч к о в - Т а р а с о в. Заметки о Карачае и ка­
рачаевцах. — СМОМПК, вып. XXV. Тифлис, 1898, стр. 75—83.
51
4*
I
Яг
грабил 55. У мартов был бочонок «агуиа» (ср. у осетин
чудесная чаша «амоига»), который ооычно наливался до
половины питьем, а если рассказ о подвиге оыл правдив,
то в конце рассказа бочонок сам собой наполнялся и три
раза переливался через край.
Другие сюжеты и детали балкаро-карачаевского эпоса
обнаруживают сходство с соответствующими аохазскими
и адыгскими сказаниями. Так, Рачикау мечем отсек* зло­
язычному Гнляхсыртану полчерепа, по нартекпй кузнец
Дебет (Деует) наложил ему медные заплаты, п после
этого он жил долго.
Балкаро-карачаевские сказания и в других случаях
совпадают с адыгскими п с осетинскими. Так, например,
в балкаро-карачаевском эпосе говорится о том, чго нарты
платили дань могущественному князю Пуку, считая его
божеством, пока Урызмек не освободил их от этого. «Бо­
горавный» Пук, спасаясь от преследований Урызмека,
укрылся в небесном стеклянном дворце и, разгневавшись
на иартов, напустил на них страшную засуху. Нарты на­
чали роптать, и Урызмек решил добраться и до небесного
жилья Пука. По совету всеведущей Сатаней, Урызмека
выпалили из пушки, хранившейся в доме Алпговых, и
он полетел па небо, где ловкий парт отсек Пуку голову.
После этого на земле опять наступил «берекет» —доволь­
ство и благоденствие, а любимец народа Урызмек, же­
нившийся на прекрасной княжне Сатаней, сделался гла­
вою нартов56.
II
Таким образом, быт, нравы, обычаи, религиозные пред­
ставления различных пародов Кавказа, отразившиеся
в сказаниях о нартах, свидетельствуют о глубокой архаич­
ности эпоса о нартах, об отражении в нем огромпых сдви­
гов, крупнейших качественных изменений в материальной
и духовной жизни древнего населения Кавказа на про­
тяжении многих веков. Сказания о нартах являются очень
древним по типологии эпосом и, ыесомиеыио, имеют ми­
фологическую подоснову; вместе с тем они в обобщенио-
художественной, нередко фантастической форме рисуют
картину исторического прошлого создавших его пародов.
В иартском эпосе нашли отражение разные периоды
социально-экономического и культурного развития наро­
дов Кавказа, начиная, может быть, с эпохи матриархата
и вплоть до развития классовых, феодальных отношений.
Многое из созданного за это время разрушилось, многое
изменилось, но первоначальная идейно-художественная
сущпосп партекого эпоса сохранилась удивительно
стойко.
Нартекпй эпос органически и неразрывно связан с ме­
стной почвой, с кавказскими, прежде всего западнокавказскими, условиями культурного и этнического развития.
Следует подчеркнуть прослеживаемое на археологи­
ческом материале единство и непрерывность этнического
и культурного развития местных племен, начиная с древ­
нейших эпох.
Возможно, однако, что кавказская почва является нс
единственным компонентом формирования иартского
эпоса57. Но мотивы, образы, сюжеты иного происхожде­
ния, проникавшие сюда в течение веков тем или иным
путем, постепенно подвергались сильному воздействию
мощного местного этнического субстрата и его куль­
туры. Этим сплетением и синтезом осиовного, кавказ­
ского, с иноплеменными элементами и объясняется
в значительной степени необычайная сложность иартского эпоса.
Наиболее ранние пласты иартского эпоса формируются,,
по-видимому, с начала бронзового века, а не в VIII —
VI] вв. до н. э., как это принято считать в существующей
научной литературе58. В такой необычайной архаичности
эпоса о нартах убеждают нас как редкая типологическая
древность эпоса, так и яркое отражение в нем начала
освоения металла, а также другие черты глубокой ста­
рины.
Распростраиение металла, последовавшее за неолитом,
повлекло за собой целую революцию не только в области
материального производства, по и в сфере идеологии.
55 А. Н. Дьячков-Тарасов. Указ, соч., стр. 84—86.
56 С. У р у с б и о в. Указ, соч., стр. 1—6.
57 См., напр.: В. И. Абаев. Скифо-европейские изоглоссы.
М., 1965, стр. 83.
5Й См.: В. Абаев. Нартовскпй эпос, стр. 117; Е. И. Крупн о в. Древняя история Северного Кавказа, стр. 373 и др.
52
53
Красноречивым доказательством зтого является сам партс кий эпос.
Исключительно важные изменения происходят в жизни
местных племеп в энеолитическую эпоху, охватывающую
па Кавказе в основном III тыс. до и. э. (на Северном
Кавказе — конец Ш—11 тыс. до и. э.). Это так называе­
мый медный век, который является органическим иродолженпем предшествующей неолитической культуры. Са­
мое главпое в этих изменениях — начало местной метал­
лургии. Месторождения меди в достаточном количестве
имеются как в горах Кавказского хребта, так и в Закав­
казье, что не исключает привоза изделий из меди (осо­
бенно в ранний период медного века) из Передней Азии.
Древнее население Кавказа, которое впервые познакоми­
лось с металлом еще в конце эпохи неолита, к концу энеолита постепенно осваивает выплавку меди из руды и тех­
нику литья в формах.
Анализ археологического материала эиеолитического
времени приводит к выводу, что в этот период в хозяйст­
венной жизни местных жителей происходят крупнейшие
сдвиги и изменения. Суть этих изменений состоит нс
только в употреблении неизвестных ранее металлических
изделий, но и в том, что на смену охоте и собирательству,
составлявшим основу существования людей предшествую­
щего неолитического периода, приходят земледелие и
скотоводство. О сочетании примитивного земледелия со
скотоводством свидетельствуют многочисленные находки
- кремниевых вкладышей серпов, каменных мотыг, боль­
ших зернотерок, зерен пшеницы и ячменя (близких к ди­
ким видам, известным в Закавказье), керамической по­
суды, костей крупного и мелкого рогатого скота. Эти
весьма выразительные материалы получены при раскоп­
ках эиеолнтических оседлых поселений.
Все это означает, что впервые в истории края хозяй­
ство аборигепов из присваивающего готовые продукты
природы превращается в хозяйство производящее. Это
было в основном однотипное хозяйство, хотя уже в энеолитическую эпоху в развитии культуры Северного Кавказа
и Закавказья намечаются и значительные различия, свя­
занные с природно-климатическими 11 племенными особенностями.
Эпоха меди и бронзы представлена на Кавказе многими
выдающимися памятниками: куро-аракскнй энеолит, очам-
чирское поселение, ноздиезнеолитичоекпе степанакертские
курганы, так* называемые «большие кубанские курганы»
(майкопские, повосвободненскно), дольмены и др. Она
достигает своего ианвьтешего развития в трех близких
локальных культурах — колхидской (западная Грузия
с Абхазией), прикубанской (западная часть Северного
Кавказа) и кобапокой (центральная часть Северного
Кавказа).
А. А. Иессеи выделяет на Кавказе три этапа медиооронзового иска: памятники раннекубанской группы,
среднекубаискпе и, наконец, кобапская культура и все
синхронные ей кавказские памятники. Причем «при вы­
делении для этого последнего этапа отдельных районов
или очагов металлургии и металлообработки район При­
купав ьл не был отделен от области кобанской металлургии
в Центральном Кавказе и ближайшим образом с ней свя­
занной западпозакавказскон или колхидской металлургии
в Грузни»59. В результате дальнейших исследований
им же устанавливается особый Прикубаиский очаг метал­
лообработки — местный очаг производства медных и от­
части бронзовых изделий во второй половине II и начале
1 тыс. до и. э. Характеризуя этот очаг, А. А. Иессеи пи­
шет: «В целом мы имеем вполне выраженный комплекс
орудий и иных предметов, распространенных только
в северо-западной части Кавказа и отличающихся от про­
дукции остальных кавказских очагов развитого бронзового
века полным или почти полным господством изделий из
меди, а не из бронзы» со.
Медный век па Северном Кавказе был более продол­
жительным, чем в Закавказье, причем рудной базой во
Н тыс. до и. э. служил гг, вероятно, месторождения Глав­
ного Кавказского хребта (большинство литых изделии
этого периода сделано из чистой меди). Вместе с тем ис­
следователи приходят к выводу, что «юго-западные склоны
Главного Кавказского хребта были экономически и куль­
турно теснее связаны с Северным Кавказом, чем с более
54
55
09 А. А. Иессеи. К вопросу о древнейшей металлургии
меди на Кавказе. — ИГАИМК, выи. 120, 1935, стр. 1 -о/,
Он же. Прикубаиский очаг металлообработки во второй поло­
вине II и в начале I тыс. до и. э. — «Краткие сообщения
ИИМК», выи. XVIII. М., 1947, стр. 19-20.
.
60 А. А. Иессеи. Прикубаиский очаг металлообработки
оо второй половине II и в начале I тыс. до и. э., стр. 19 20.
*
южными районами Закавказья, где во II тыс. до п. о.
была распространена совершенно иная культура ранней
бронзы»61. Однако «в эпоху развитой и поздней бронзы,
т. е. примерно с XVIII по XV в. до н. э., культура иаселения отдельных местностей приобретает чрезвычайную
пестроту и многообразие» 62.
Бронзу сменяет культура железа, с которым раньше
(еще в период поздней бронзы) знакомятся южные области Закавказья в результате торговых связей и военных
столкновений с государствами Передней Азии (п Малой
Азии и Египте железо было известно уже в середине
II тыс. до п. э.).
Таковы некоторые археологические материалы кавказ­
ской архаической индустрии металла. А что говорят об
этом сказания о нартах?
При характеристике основных версий партского эпоса
мы стремились показать, что древняя металлургия во всех
вариантах иартского эпоса является одним из важнейших
и исконных элементов материального производства. Такое
внимание к производству металла, в частности кузнеч­
ному ремеслу, могло иметь место лишь в период широкого
освоения неизвестных ранее меди и железа, оказавших
огромное влияние на весь ход истории древнего обще­
ства.
В образе абхазского Айнар-пжп отразилась, вероятно,
древнейшая ступень освоения кузнечного ремесла. Айиарижп еще не настоящий бог; у него нет даже собственного
имени, как у адыгского Тлепша или осетинского Курдалагона.
Мы уже говорили, что нартекпе сказания содержат цен­
ные сведения по истории земледелия и скотоводства.
Археологический материал, правда, пока еще скудный,
подтверждает существование на северо-западном Кавказе
оседлого (или полуоседлого) населения и примитивного
(мотыжного) земледелия еще в середине III тыс. до и. э.
Например, на стоянке Псоу (западная Абхазия) найдены
каменные мотыжки этого времени, напоминающие соот­
ветствующие малоазиатские орудия. В партском эпосе
отразилось несравненно более развитое сельскохозяйст­
венное производство. Здесь говорится о пашенном земле
делив с применением пахотного орудия и тягловой силы
животного (быка, осла).
Невозможно представить себе мартов без оружия р
боевого друга —коня. Как известно, коневодство начинает
развиваться со второй половины II тыс. до и. э.63 В За­
кавказье этого времени главнейшим нововведением было
именно распространение коневодства и использование ло­
шади для верховой п колесничной езды, о чем свидетель­
ствуют разнообразные археологические бронзовые удила,
рассчитанные на управление полудикими конями. Что же
касается Северного Кавказа, то, но мнению И. М. Дьяко­
нова, данных о коневодстве в этом крае ранее конца
• 11 тыс. до и. э., по-впдпмому, не имеется6'1.
Если древнейшие слои иартского эпоса отражают, ве­
роятно, ранний этап медно-бронзового века, а расцвет
иартского общества падает на начало широкого использо­
вания железа п лошади (конец II—начало I тыс. до и. э.),
то в плане социального и этнического развития в нем
также отложились различные напластования.
Трудно, ио-видимому, отрицать существование перво­
начального ядра иартского эпоса, о чем свидетельствует,
прежде всего, наличие единого, общего для всех носи­
телей эпоса, термина «парт»65. Наличие такого ядра
служит доказательством ближайшего генетического род­
ства тех племен, среди которых формировался нартский
эпос. Как термин «нарт», так и те древнейшие пласты,
мотивы и образы, которые составляют самую раннюю
часть партскнх сказаний, являются общими для всех трех
основных версий эпоса — абхазской, адыгской и осетинской.
Таким общим первоначальным ядром являются, на мой
взгляд, те сказания, которые связаны с матерью иартов
Сатаней и ее любимым сыном Сасрыквой. Это ядро условно
можно назвать матриархальным.
Сатаней-Гуаша в абхазском эпосе занимает недосягаемо
высокое положение. Это, несомненно, характеризует аохаз-
01 С. И. 3 а м я т и и п, Л. Г. И е ч а е в а и А. А. Ф о р м о з о в.
выл ^'^М^^бО^^стр1^1^333 И °Г0 кул1,тура< «Народы Кавказа»,
С2 Там же, стр. 53.
63 «Всемирная история», т. I. М., 1955, стр. 460.
64 И. М. Дьяконов. История Мидии. М., 1959, стр. 125.
05 Ср.: В. И. Абаев. О собственных именах нартовского
эпоса. — «Язык и мышление», т. V. М.—Л., 1935; Он же. Нартовскцц эпос, стр. 18.
56
57
I
I
1
4
р
окне сказаний как наиболее архаическую часть общекав­
казского нартского эпоса.
Почти иа всем протяжении абхазского эпоса эта ге­
роиня занимает центральное место, сохраняя в то же
время полностью свой демократический облик н свою перво­
степенную роль в хозяйственной п общественной жизни
нартов. Абхазская Сатаней — это вечно молодая, могучая
великанша поразительной красоты. Мудрая н иезавнсимая женщина, она никем не рождена н никому не принад­
лежит как жена. Отец нартов, о котором изредка упоми­
нается в абхазских сказаниях (л то очень кратко и
глухо), ие смог ни в какой степени ни заменить, ли
затмить ее. Сатаней бессмертна (если не считать единст­
венного сказания о том, что ее отравляет Нарджхьоу).
Это великий образ прародительницы и наставницы целого
народа. Все это рисует матриархальную родовую общину,
правда, на стадии ее разложения.
Нартсшш эпос содержит немало и других материалов,
изображающих яркую картину родового общества. Вот.
например, как описывается в одном абхазском сказании
жизнь карликового племени ацаиов: «Ацаиы вместе пасли
скот, вместе работали, вместе выходили на охоту, но дан­
ному знаку они одновременно стреляли в дичь, которую
делили потом поровну между собой; на войну также шлл
все вместе — мужчины, женщины, молодежь; все их жи­
лища одинаково были обращены в сторону восхода солнца.
Так и жили ацапы, не зная ни бога, пи владык» сг\
С именем Сатаней-Гуаши особенно близко и неразрывно связан Сасрыква — образ, являющийся ярким отражением переходного периода от матриархата к латриархату. Происхождение всех нартов, в том числе и
Сасрыквы, по материнской линии имеет важное значение
для доказательства необычайной древности абхазских сказаний.
Вместе с тем следует учитывать, что характер Сатаней
и ее роль в абхазском эпосе изменяются в направлении
определенного снижения ее роли. Эта нисходящая линия
развития завершается смертью се любимого сына Сас­
рыквы, вражду которого со всем нартским братством и
гибель которого она не смогла предотвратить. Вместе
С6
1962, ст|,178Т8-18Г(нааабх.73.)ДеВШ,0СТ0 ДС,ШТ" браТЬСВ>>- СухуМ"’
58
Iл }:
с уходом Сасрыквы как бы незаметно сошла и сама Сата­
ней, хотя о ее смерти ничего не говорится.
Большое место занимает в эпосе борьба за утвержде­
ние брака н семьи. Почти единственный способ заклгочения брака, который упоминается в абхазских сказаниях,—
это похищение невест. Нарджхьоу насильно увозит сестру
нартов Гунду Прекрасную, умыканием добывают себе
жену Сасрыква (он взял ее из божественного рода Лиргь)
п Шьаруан (из такого же рода Ажвейпшаа). В этом
факте, вероятно, отразилась ломка матрплокальмых по­
селений и переход к патрнлокальности. Характерно, что
дяди по матери и племянники по сестре помогают друг
другу в брачных делах. По случайно, видимо, тг то, что
при довольно развитом словаре кровно-родственных отно­
шений в абхазском эпосе менее употребительна термино­
логия свойства, выражающая отношения, возникающие
при индивидуальном браке.
Все это также свидетельствует о том, что в абхазском
эпосе о нартах нашли отражение пережитки матриар­
хальной родовой организации и переходной эпохи от
матриархата к патриархату07.
Пережитки материнского рода (в частности, проис­
хождение по матери при полном отсутствии культа пред­
ков) нашли наиболее яркое отражение в абхазских ска­
заниях в упоминаниях о ста братьях и пх сестре, рож­
денных одной матерью. Есть основания предполагать, что
такой совместно живущий коллектив братьев но своему
происхождению восходит к дуальной экзогамии и фратриальпому делению древнего общества.
В целом абхазские сказания ближе к адыгским; сов­
падения с осетинскими являются более редкими и менее
полными. Это, видимо, объясняется этнокультурным един­
ством абхазов и адыгов.
Как в абхазских, так и в адыгских сказаппях главнымп героями являются камнерождеииый Сасрыква, закаленный, как и у абхазов, кузнецом, и его мат 1 — Сатаней. Рождение Сосруко-Сасрыквы сходно описывается
1
в адыгскойм п абхазской
версиях. Как в абхазских, так и
в адыгских сказаниях важнейшим является цикл Сосруко—
67 Е. М. Ме лети иск ий. Совещание по вопросам, изуче­
ния иаптского эпоса народов Кавказа. — ТЮЛЯ, т. XVI, вып. 1,
1957, стр. 92.
59
р!
Сасрыквы, а его главнейшей темой — возвращение огня.
При этом весь эпизод борьбы с великаном представляет
в обеих версиях почти идентичное повествование.
Таким образом, при наличии во всех вариантах общего
ядра, восходящего, вероятно, к одному первоисточнику,
партские сказания у каждого народа имеют и черты глу­
бокого национального своеобразия.
Своеобразие абхазских сказаний состоит в том, что
здесь центральное место занимает родоначальница нартов,
безмужняя Сатаней-Гуаша, которая играет первостепен­
ную роль в жизни большой матриархальной общины.
Производство и потребление нартов — коллективное, хотя
уже упоминается развитие индивидуальной собственности,
разрушающей единство партского общества. Оригиналь­
ным является и мотив неравенства Сасрыквы, непризнание
и вражда нартов с этим «не настоящим» сородичем. Ука­
жем и па такие самобытные черты, как столкновение
партов из-за сестры и по поводу раздела имущества; сла­
бое воплощение кровной мести — классического патриар­
хального мотива 1т др.
Ряд мотивов и сюжетов абхазских сказаний о партах
совпадают с распространенпыми мотивами абхазских и
других сказок, особенно волшебных (мотив чудесного
рождения и закалки героя, борьбы с чудовищами — ве­
ликаном «адауы», драконом «агулшьап» и др., посе­
щения подземного мира, героического сватовства, магиче­
ской неуязвимости и др.). Видимо, это — результат
взаимодействия жанров фольклора — эпоса и сказки.
Патриархальный быт и патриархальная идеология,
процесс социальной дифференциации слабо отразились
в абхазских сказаниях. Порядки отцовского рода сильнее
отразились в адыгском и осетппском вариантах партского
эпоса, где мы находим патриархальный брак, обычай ле­
вирата и калым, патрогшмиалытый счет родства, суще­
ствование больших патрпархалъпых семей, культ старших,
патриархальное народовластие в форме общих мужских
собраний (осет. — нпхас, адыг.—хаса), выделение патри­
архального главы родовой группы, называемого у адыгов
«тхамадою», т. е. главою нартов; кровную месть — приз­
нанный классическим мотив патриархального общества,
появлепие покровителя мужчин-путников (осет. Уас60
тырджп), мотив имущественного неравенства и даже начпнающейся социальной борьбы.
Однако в целом нартскни эпос — памятник доклассо­
вого общества, отразивший в процессе своего длительного
бытования особенно последний — заключительный этап
первобытно-общинного строя.
Оседлые поселения, постоянные укрепления, сооруже­
ние крепостей, множество оружия, о котором говорится
и иартском эпосе, свидетельствуют об огромном значении
войн в жизни населения, находившегося на грани пере­
хода от родового строя к «военной демократии», основан­
ной на частной семейной собственности. Это было обще­
ство, где интенсивно протекал процесс выделения отдель­
ных богатых семей из рода и образования племенной
знати.
Военно-демократический строй составляет едва ли не
наиболее яркий фон иартскнх сказаний. Вероятно, именно
в эту «героическую» эпоху завершается в основном оформ­
ление партского эпоса как единого фольклорного памят­
ника. Однако парты, очевидно, еще не представляли собой
выделившегося из общества «военно-дружинного слоя».
Нарты всегда, по крайней мере в абхазских сказаниях,
выступают еще как единый род, единое племя пли парод.
Термин «нарты» вряд ли означает специально «воинов или
героев, решительно отличающихся от мирных пастухов»
(как это утверждает Я. С. Смирнова68), а служит, воз­
можно, обозначением какой-то родоплемешюй группы пли
объединения. Нартское общество в основном сохраняет
свое социально-экономическое и идеологическое единство.
Но это — единство периода разложения первобытно-об­
щинного строя. Уже наступил век «топора и меча», про­
исходит интенсивный распад родового строя, и выраже­
нием его является нартское военно-демократическое оощество с его нескончаемыми походами как промыслом и
воеино-дружинным бытом. Само появление героического
эпоса обычно связывается с процессом разложения пер­
вобытно-общинного строя, с образованием племен и их
союзов. Нартский эпос является одним из важнейших
источников для воссоздания основных черт этого оощества,
в котором можно видеть древнюю родовую организацию,
С8 Я.
С. С м и р и о в а. Военная демократия в нартском
эпосе.— «Советская этнография», 1959, Да о, стр. 01 оо.
61
!
.
1
р
по вместе с тем уже и начало подрыва, «и первое крупное
разделение общества на два класса» 69.
Поразительна многонацпональность партского эпоса,
выражающаяся в общности термина «нарт», ряда цент­
ральных героев сказаний (Сатапей, Сасрыква и др.), мпо'гпх сюжетов и мотивов п единой в сущности хозяйствен­
ной основы и идеологии партского общества. По-видимому,
многонацпональность сказаний о партах следует объяс­
нить той однородностью древней западнокавказской
этно-культурной среды, в которой жили создатели эггоса
в течение тысячелетий.
Этот вывод об этническом и культурном единстве древ­
него населения северо-западного Кавказа подтверждают
данные антропологии, лингвистики, археологии и этпогрпфни. Вместе с тем невозможно нс учитывать и того, что
различия этнического порядка имеют многовековую ис­
торию.
То, что является общим для всех национальных ва­
риантов партского эпоса, очевидно, и является наидревнейшпм. Таким объединяющим элементом выступает
прежде всего все еще загадочное название «нарт», а также
некоторые из осповиых сюжетов и собственных имен
(Сатаней, Сосруко п др.). По мере развития этнической
дифференциации, все сильнее начинают проявляться на­
циональные особенности: у каждого парода эпос пополияется новымл самобытными сюжетами, героями п пр.
В частности, этимологию некоторых имен героев абхаз­
ского эпоса можно объяспптг» только исходя из данных
абхазского языка. Таковы, например, Хважарпыс — «Ро­
додендроновый молодец», Цвицв — «Строгающий (па­
лочку)», Нарджхьоу и др. Эти имена, связаппые иногда
с архаическими релпгпозпымтт (например, тотемистиче­
скими) представлениями, относятся к древнейшему слою
абхазской лексики, образовавшемуся задолго до повой эры.
Многие из важнейших абхазских культурпо-псторп ч еских терминов, в частности почти вся религиозная опомастика, отпосящаяся также к древнейшей части осиовного словарного фонда языка, являются самобытно-абхаз­
скими: названия божеств, связанных с охотой (Ажвейншаа), пчеловодством (Анана-Гунда), раппей стадией
развития скотоводства (Цьабран, т. е. «Мать коз»), ЖоабК. Маркс п Ф. Энгельс. Сочпнеиня, т. 21, стр. 101.
62
ран, т. с. «Мать корой»), земледелием (Цаца) я др. Оми
не встречаются в языке родственных племен, в том числе
адыгских. Подобные примеры также служат подтвержде­
нием глубокой давности выделения абхазов как особой,
самостоятельной этнической единицы.
Данные нарте кого эпоса свидетельствуют о том, что
абхазо-адыгские племена некогда составляли более тесную
этническую группировку и занимали сплошную террито­
рию не только современной Абхазии, но и прилегающую
к 'пей значительную площадь за Кавказским хребтом.
В этом отношении представляют интерес абхазские топо­
нимы Ашвы (Литы), Страна Ашвы (Ашотоыла), Поле
Ашвы (Ашоадзы), как отмечал еще Л. Г. Лопатпнский, —
так абхазы называли весь Северный Кавказ.
Почти весь инвентарь абхазских дольменов близок
к инвентарю знаменитых ссверокавказскнх курганов: это
также указывает на этническую однородность населения
всего северо-западного Кавказа в энеолнтическую эпоху.
Общеизвестна необычайная близость замечательных
колхидской (территория современной Западной Грузии,
в том числе Абхазии), прикубайской и кобаиской (тер­
ритория центрального Северного Кавказа, в том числе
Осетии), синхронных археологических культур, расцвет
которых падает на первые века первого тысячелетия до
н. э., когда, по-видимому, в основном завершается формирование ядра партского эпоса, Устанавливается, что
основной комплекс дебельдиискнх археологических материалов, исследованных покойным М. Транш, обнаруживает
ближайшие связи с предшествующими родственными колхндской и кобаиской культурами в одинаковой степени.
Из этого факта вытекает, что очерченную территорию от
Западной Грузии через Кавказский хребет до современ­
ной Северной Осетии занимали в древности племена,
очень близкие между собой по культуре, а, возможно, и
по языку.
На последующее этническое развитие пародов Кавказа,
особенно Северного Кавказа, оказывали влияние как
внутренние процессы дифференциации и консолидации,
так п многочисленные вторжения различных иноплемен­
ных масс (скифы, сарматы, алапьг, гунны, хазары и ДР*)*
Они повлекли за собой уничтожение многих местных пле­
мен; другие, уйдя в горы, сумели сохранить свою само­
стоятельность. Западное Закавказье было в основном пз63
ш
бавлено от этих нашествий, что, в частности, содейство­
вало усилению абхазов в период раннего феодализма, их
консолидации в сравнительно крупную народность.
Проникновение ииоэтнических элементов закапчива­
лось, как правило, растворением в местной среде, хотя
язык аборигенов иногда оказывался побежденным языком
пришлого населения.
Одной из важных проблем этногенеза народов Кавказа
является установление принадлежности того этнического
субстрата, во взаимодействии с которым с течением времени
образовался современный осетинский народ. Для решения
этой задачи немаловажное значение имеет рассмотрение
абхазо-осетинских связей.
Невозможно отрицать значение кавказского элемента
в истории формирования осетинского языка. В противном
случае остаются без объяснения «многие важные струк­
турные и материальные элементы, составляющие специ­
фику осетинского языка и резью отличающие его от других иранских языков. Кавказский элемент вошол в осетпнекий язык не как внешнее заимствование, а как орга­
нический структурный фактор, как субстрат» 70.
Одного признания субстрата, однако, еще недостаточно.
Нужно определить конкретно, что это за субстрат. II здесь
возникает вопрос: что могут дать абхазо-адыгские мате­
риалы для выясненпя природы этого субстрата?
Глубокие связи языкового и культурного порядка про­
слеживаются между осетинами и народами абхазо-адыг­
ской группы. Признано, что антропологически осетины
являются близкими родственниками черкесов. Что же ка­
сается языка, то, говоря словами В. И. Абаева, «зачастую
абхазо-осетинские схождения слишком глубоки, чтобы их
можно было свести к простому заимствованию. Они за­
ставляют думать об общем местном субстрате».
Можно считать установленным, что между современ­
ными абхазами и осетинами, несмотря на принадлежность
их языков к совершенно различным семьям, наблюдаются
удивительные соответствия и параллели — языковые, этно­
графические п археологические. Подобные, нередко тождественные совпадения, трудно объяснимы одними только
взаимовлияниями, заимствованиями и пр.
А о а е в. Предисловие к кн.:
осетин. М.-Л., 1962, стр 7
64
4
Здесь я ограничусь лишь несколькими примерами.
Лрежде всего о термине «ауапс», которым абхазы назы­
вают осетин.
Известный кабардинский ученый середины XIX в.
Ш. Б. Ногмов считал, что иод именем «оссов» («яссов»)
в исторических источниках и преданиях выступают аба­
зины, а не осетины л, причем он настолько убежден
в этом, что неоднократно полемизирует с Карамзиным,
который отождествлял «яссов» русских летописей с пред­
ками осетин. При этом Ногмов пишет обычно не «оссы»
или «яссы», а «опсы»: «омские князья», «опскне плсмена»72.
Заметим, что балкарцы называют осетин «ебзе», сванов — «абзе», т. е. терминами, имеющими общий корень
с самоназванием абхазов — «апсуа».
Можно предполагать, что «опсы», о которых говорит
Ногмов, — это абхазские «ауапсы» (так абхазы и в наши
дни называют осетин). Однако не исключено, что «ауапсами» в древности назывались предки современных абазии
или какие-нибудь другие абхазо-адыгские племенные
союзы или объединения, вошедшие в состав будущих
осетин.
Заслуживает внимания еще одни термин. Это абхаз­
ское слово «акуджма» (акуц.ьма)—волк, которое в осе­
тинском выступает в форме «куджп» п означает «сооака».
«Кудж» у абхазов до сих пор встречается в качестве муж­
ского имени, а в недавнем прошлом оно было широко рас­
пространено среди абхазской знати (в III в. до н.^э. су­
ществовал колхидский царь но имени Куджи). Оощими
являются и такие слова, как «нала» — мать, «дада» ста­
рейшина, «ахш» — молоко, «апшвма» — хозяин, «азар»
песня и др.
Б. И. Абаеву удалось установить более шестидесяти
абхазо-осетинских лексических встреч73.
^Как совершенно справедливо указывает В. И. Абаев,
«абхазо-осетинская близость... является настолько яркой,
глуоокой и интимной, что можно было бы, в рамках оо
Щей этнографии, говорить об едином абхазо-осетинском
Нальчик,
Ногмов. История адыгейского народа.
с л.
72
СТЖе’ СТр- 112~тМ.-Л., 1949,
стп 7334ч
Абаев. Осетинский язык и фольклор.
017, 318—322.
5 Заказ М 1480
65
1958 стр
Вс. М и л л е р.
Язык
V
и
%
Г
:
;!
'3
г
'V
я?_.
5
этнографическом типе, отмеченном общими чертами рели­
гиозных верований, .мифов и обрядов».
Так, тождественным или близко сходным выглядит ряд
моментов религиозного быта, в том числе культы божеств
грозы, оспы, пчеловодства, кузин, охоты («абхазский охот­
ничий бог Ажвейпшаа — родной брат осетинского Лфсати,
сванского Апсат», — пишет В. И. Абаев)71.
Обращаясь к данным эпоса, мы видим, что общность
абхазских партских сказаний с осетинскимп проявляется
не только в типологии памятника, но и в сходстве ряда
важнейших сказаний и сюжетов, единстве самого назва­
ния «нарт», общности основных героев: Сатаней (осот. Са­
тана, Шатана), Гулда (осет. Агунда), Сасрыква (осет.
Созыр, Созырко, Сослан) п др.
Все эти факты мы не можем упускать из виду, когда
говорим о кавказском языковом и этническом субстрате
осетинского народа, чтобы судить об этом, теперь уже
никем нс оспариваемом, субстрате по возможности кон­
кретно-исторически. Возможно, этот субстрат не был одно­
родным (об этом свидетельствует и наличие в современном
осетинском языке двух основных диалектов, появление
которых, как известно, всегда тесно связано с этно-культурным развитием народа).
Во всяком случае абхазо-осетинские этнографические
параллели, не говоря об абхазо-адыгских, свидетельствуют
о том, что далекие предки этих народов, или часть из них,
некогда находились в непосредственном длительном обще*
пни друг с другом. Более того, не исключено, что тот
этнический субстрат или какая-то его значительная часть,
с которой в процессе длительного исторического взаимо­
действия органически слились позднейшие ираноязычные
пришельцы, воспринявшие целиком местную культуру,
в том числе героический нартский эпос, и в свою очередь
давшие части аборигенного населения свой язык, пред­
ставлял собои родственную или, во всяком случае, близ­
кую протоаохазскон среду не только в культурном, но,
может оыть, и этническом отношении.
Однако сам субстрат мог быть пе единым (хотя, не­
сомненно, кавказским в своей основе), что, возможно,
нашло свое отражение в осетинских племенных пазва318—322 ^ А^аев* Осетинский язык и фольклор, стр. 317,
ниях —Ир, Дпал, Дигор. С этой точки зрения особенно
интересно самоназвание одного из основных осетинских
племен — дигорцев, которое В. И. Абаев считает окаме­
нелым множественным числом распространенного на Заладном Кавказе племенного названия «дпг» (адыгн-черкесы) 75.
* *
Краткий сравнительный анализ абхазских, адыгских,
осетинских и карачаево-балкарских сказаний о партах
позволяет сделать вывод о том, что нартский эпос, полистадналеи. Древнейшие пласты его отражают в основном
медно-бронзовый век, а расцвет нартпады как более или
менее закопченной эпопеи относится к началу применения
железа (конец II —начало I тыс. до н. э.). Несмотря па
такой большой хронологический диапазон, охватываемый
нартским эпосом, в нем наблюдается во многом одинако­
вый уровень социально-экономического развития, что
объясняется чрезвычайно медленными темпами изменений
жизни древнего общества.
Героический партекпй эггос является самым крупным
памятником духовной культуры многих народов Кавказа —
абхазов, адыгов, осетин, балкарцев, карачаевцев, ингу­
ше]! и чеченцев, народов Дагестана.
Мпогонацпоиалыгость нартского эпоса может быть ве­
ским аргументом в пользу того, что были три самостоятельных центра формирования партских сказании — осетштскггй, адыгский и абхазский и, следовательно, с самого
начала существовали разные «национальные» варианты.
Однако вряд л (г это снимает проблему моиогеиетпзма —
проблему существования единого первоначального ядра
нартского эпоса. К этому ядру относятся прежде всего
общие для всех версий термин «парт» и собственные
Сосруко —
имена таких важнейших героев, как Сатаней,
1
Сасрыква и др. Эти интернациональные термипы, имена
и сюжеты восходят скорее всего к одному первоисточ­
нику — этническому субстрату, в результате исторического
развития которого образовались впоследствии три указан­
ных народа с родственными культурами.
Такие исследователи нартского эпоса, как В. И. Абаев,
Л. П. Семенов, Е. И. Крупнов тт некоторые др., относят
?■
■
л
6
75 Там же, стр. 105.
66
ч
67
5*
время вознпкновешгя нартского эпоса к VII в. до п. э.?6
Новые исследования по древней истории и археологии па­
родов Кавказа позволяют уточнить эту дату и отмести
время формирования основного ядра эпоса к III—
II тыс. до н. э.
Такая датировка, на мой взгляд, точнее отражает ту
политико-экономическую обстановку, которая была на
Западном Кавказе п нашла художественное отражение
в эпосе о нартах.
Известно, что с VI в. до и. э. здесь существовали такие
классовые государства, как Колхида, Боспорское и Синд­
ское царства, поддерживавшие между собой оживленные
торгово-экономические отношения. Интенсивное обраще­
ние монет в Колхиде VI—III вв. до и. э. (серебряных
«колхидок» с изображением человеческой и бычьей, реже
львиной, головы, с загадочными начертаниями, найденных
в большом количестве в Западной Грузии, а также
в районе Сочи и даже в Крыму в слое второй половины
IV в. до н. э.) является одним из веских доказательств
классового характера колхидского общества указанного
времени.
Из всех вариантов нартского эпоса, как мы стремились
показать в процессе анализа, наиболее архаичными и яв­
ляются абхазские сказания, наиболее явно отразившие
матриархальную стадию развития древнейших местных
племен. Из этого вытекает, что древнеабхазские и ближай­
шим образом с ними связанные родственные племена
были той этно-культурной общностью, в педрах которой
следует искать самые ранние истоки нартского эпоса.
С. Ш. Г а б,а р а с о
к ВОПРОСУ О НАРОДНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ
в НАРТСКОМ ЭПОСЕ
Нартскнй эпос — важный источник познания прошлого
создавших его народов, их образа жизни, материального и
культурного быта, психологии, мировоззрения. Именно
все больше ученые разных специальностей обрапоэтому
сказаниям о нартах
щаются к его изучению . Эпическим
некоторые
важные вопосвящено много работ, однако
либо
вовсе
не
исследованы,
просы картоведения пока еще
явлибо освещены сравнительно слабо. Одним из них
в нартском
ляется вопрос о народном мировоззрении
и в изучении эпоса
эпосе. Подобный пробел существует
других народов. Задача, сформулированная В. И. Лспипым, — создать «связные исследования», посвященные
отображению в многовековом творчестве народных масс
«их миросозерцания в разные эпохи» \ сохраняет всто
свою актуальность.
нартского эпоса
Нельзя сказать, что исследователи
~ пародпого мировоззрения,
совсем не касались вопросов
их комплексе, эти вопросы пока
Однако в целом, во всем
еще не были предметом исследования.
освещеДанная статья не претендует на всестороннее
икс мировоззрения нартского эпоса. У нее более узкая
задача, которая сводится в основном к постановке во­
проса. От правильной постановки вопроса, как известно,
зависит успешное его решение. Поэтому целесообразно
понятия
в первую очередь определить самое содержание
«мировоззрение эпоса».
76 В. Абаев. Нартовский эпос, стр. 117; Л. П. Семенов.
Нартскнй эпос п памятники материальной культуры. — Со. «Иартский эпос», стр. 89—89; Е. И. Круп по в. Древняя история
Северного Кавказа, стр. 373.
1-
»•н- лж * п“ ”5°дя“
1 В. Д. Бопч Б ру евпч.
творчестве. — «Советская этпографпя»,
69
щ
■
\
к. \
•л -
-к
_- •
«м«. ш
Зря
чсскуго философию, п частности ое родоначальников Фа­
леса, Анаксимандра, Анаксимена и др.4 Эти философы
действительно Пыли материалистами, так как первоосно­
вой всего существующего, носителем всех изменений и
превращении в природе считали материю: Фалес —воду,
Анаксимандр — апейрон (неопределенную и беспредель­
ную материю), Анаксимен — воздух.
Этими материалистами, по словам Герцена, был сде­
лан «первый полудетский, но твердый шаг науки», была
дана отставка олимпийским богам, играющим столь важиую роль в греческой мифологии, в частности в «Илиаде»
и в «Одиссее». «Судьба Олимпа была решена в ту ми­
нуту, как Фалес обратился к природе: отыскивая в ней
истину, он, как и другие ионийцы, выразил свое воззре­
ние независимо от языческих представлений... В Эле­
менте, в котором двигались ионийцы, лежал зародыш
смерти элевзинскнх и всех языческих таинств» 5.
Само собой разумеется, что такого материализма,
отрицающего языческую религию, не было и не могло
быть в нартском эпосе.
Если иметь в виду воззрения создателей иартского
эпоса (как и греческой мифологии), то можно говорить
не о стихийном материализме, а лишь о наивном реа­
лизме, свойственном каждому нормальному человеку,
не побывавшему, выражаясь словами Ленина, «в сума­
сшедшем доме или в пауке у фплософов-пдеалистов, чело­
веку, который сознает, что мир существует независимо от
него. Такая уверенность простых людей обычно теорети­
чески не осознана, они могут даже не подозревать, что
кто-нибудь может думать иначе. Наивный реализм носовместим лишь с субъективным идеализмом, отрицающим
реальное существование объективного мира; что же ка­
сается, например, религии, то она вполне может быть
свойственна наивному реалисту.
Примерно так же обстоит дело и с диалектикой; созда­
тели эпоса о нартах, как и все обыкновенные смертные,
пе отрицали движения; наоборот, их герои за самы и короткий промежуток времени объезжают весь мир.
По моему мнению, оно включает в себя следующие
компоненты:
1. Понимание создателями эпоса окружающего мира,
сущности предметов и явлений природы, а также челове­
ческой жизни. Сюда относятся, в частности, богоборче­
ские мотивы эпоса и религиозно-мифологические воззрения его создателей.
2. Толкование общественной жизни и общественного
устройства, охватывающее как фактически пройденные
создателями эпоса этапы развития, так и их обществен­
ный идеал.
3. Народную этику, тесно связанную с традициями,
нравами, обычаями, психологией создателей эпоса.
4. Эстетические взгляды, понпмаппе прекрасного и
безобразного, комического и трагического.
Из этих вопросов в данной работе будет рассмотрен
лишь один — богоборческие мотивы эпоса и религиозномифологические воззрения его создателей, определяю­
щиеся их пониманием окружающего мира, природы и
человеческой жизни.
*
щ
*
Как уже было сказано, некоторые исследователи
в своих работах касались мировоззрения, зафиксирован­
ного в нартском эпосе, в частности — понимания окру­
жающего мира. Так, например, К. Д. Кулов в преднеловпи к «Осетинским нартским сказаниям» писал: «Нс опасаясь впасть в преувеличение, о творцах эпоса можно
сказать словами Маркса тт Энгельса о древних греках,
что они были стихийными материалистами и наивными
диалектиками» 2. Аналогичный тезис выдвигает С. Батлев3. Однако ни один из названных
авторов ничем
не подтверждает это положение по гой простои причине,
что в нартском эпосе, па мой взгляд, пет ни материалпзма, ни диалектики как таковых. Нельзя не учитывать,
что говоря о стихийном
тт .
„
ПЛ1Г естественно-научном материализме
в Древней
_ «тгтгт
Греции, Маркс и Энгельс имели
ду не всех греков и не их мифологию или эпос, а гре-
'
■V
ь
х
:
*
I
•
I
Ш<2-
4 К. М арке и Ф. Э п г е л ь с. Сочинения, т. 20, стр. 142.
2 «Осетинские партекпе сказания».
стр. XXVI.
Дзауджнкау, 4948,
стр. ХУ1аРТСКП0 сказанпя- Осетинский народный эпос». М., 1949,
о027504, 513, 640.
А. И. Герцен.
т- Г М., 1948, стр. 147.
Избранные философские
произведения,
71
70
■
?
;
—
«Е-Д
ш
Не могли же творцы нартских сказании думать, что, на­
пример, Батрадз, который в один миг спускается с неба
иа землю и своим булатным телом сокрушает вражеские
крепости, все время находится в одном месте, в неподвпжиом состоянии. Но на этом основании считать их
диалектиками никак нельзя.
Говоря о наивной диалектике древних греков, Энгельс
разумел при этом их философию, и в первую очередь
Гераклита. Охарактерпзовав диалектическое понимание
природы, Энгельс говорит: «Этот первоначальный, нанвный, но по сути дела правильный взгляд на мир был
присущ древнегреческой философии и впервые ясно вы­
ражен Гераклитом: все существует и в то же время не
существует, так как все течет, все постоянно изменяется,
все находится в постоянном процессе возникновения и
исчезновения» 6.
Чтобы определить мировоззрение создателей нартских
сказаний, не следует представлять их философами и приписывать им различные теоретические положения, 0 которых они п представления не имели. Необходимо строго
учитывать историческую специфику эпоса.
Для раскрытия сущности мировоззрения, отраженного
в нартском эпосе, очень важно понять и определить ха­
рактер религиозно-мифологических воззрений и богобор­
ческих устремлений создателей этого эпоса.
Нельзя оспаривать положение, согласно которому иартские сказания, несмотря на свой героический характер и
связь с реальной жизнью, имеют мифологическую подос­
нову. И, видимо, неправы те ученые, которые считают
такое понимание данного вопроса ошибочным, объявляя
его «религиозно-мифологическим истолкованием» эпоса.
Исследователи нартского эпоса писали об историческом
и мифологическом в эпосе, но никто из них пока не ставил
вопроса, мифология и религия в нартских сказаниях.
Ьооонщ вопрос о взаимоотношении между мифологией
и религией принадлежит к числу недостаточно ясных.
дни исследователи (10. П. Францев, А. Ф. Анисимов) 7
считают миф явлением в основном религиозным, другие
(А. Ф. Лосей, С. И. Радцнг) склонны к противопоставлр
нню мифологии тг религии8.
авле"
Между этими ^двумя явлениями духовной культуры
древпих народов, оозуслоипо, имеется много общего, но
было бы неправильно отождествлять их. Религия и мифо­
логия, в особенности так называемая религиозная мифо­
логия, имеют одну и ту же сущность — они представляют
собой фантастическое отражение в сознании людей окру­
жающего мира, как природы, так и общественной жизни.
Они имеют одни и те же гносеологические н психологи­
ческие корни и причины возникновения: низкий уровень
производительных сил, невежество пародов глубокой
древности, когда о пауке нс могло быть и речи, бессилие
и беспомощность древнего человека в борьбе с природ­
ными явлениями, слепое им подчинение; сочетание
чувства зависимости со стремлением к удовлетворению
потребностей и желаний.
Вряд ли можно согласиться со следующим положе­
нием С. А. Токарева: «По своему происхождению мифо­
логия не связана с религией... Она имеет иные корни и
связана с элементарной любознательностью первобытного
человека, расширяющейся по мере трудового опыта»9.
С. А. Токарев, к сожалению, не указывает отличие кор­
ней мифологии от религии. Если они кроются в любозна­
тельности человека, то ведь она не чужда и религии.
«Но уже иа раппих шагах своего развития, — продолжает
С. А. Токарев, — мифология органически связывается
с религиозно-магическими обрядами, отчасти служа их
идейным обоснованием» 10. Если бы мифология имела
иные корни, она не связывалась бьг с религией органи­
чески на ранних этапах своего развития.
Нельзя забывать, что религия имеет единые гносеоло­
гические корни не только с мифологией, но и с идеали­
стической философией. Хотя религия является врагом
науки, просвещения, она сама возникла пз потребности и
стремления объяснить мир. То же самое, если не оолыпе,
можно сказать тг о мифологии.
Пя *
ср- Лосе в. Античная мггфологпя и ее историческом
гпя МШ1939’
стр’
С. И. Радцпг. Античная мифоло-
7 ™ Чта р„к с 11 ф‘ Энгсльс. Сочинения, т. 20, стр. 20.
Л,1 Ф?ЛнЛев* ^ истоков религии и свободомыслия.
М.—Л.,- Изд-во АН СССР, 1959, стр. 223—337; А. Ф. А н и с и м о пПрирода н оощество в отражении сказки и мифа. — «Ежегодник
музея истории религии и атеизма», т. I, 1957.
ш*тп»
Токарев. Что такое мифология? — Сб. «Вопросы
К! Релягни и атеизма», 1962, № 10, стр. 363.
Гам же, стр. 364.
73
72
■
■I 1
■!М
:
»
:•
Мифология исчезает в результате познания и укроще­
ния человеком сил природы, чего нельзя сказать о рели­
гии, ибо опи не одно и то же. Религия еще не есть мифо­
логия. и мифология может уже не быть религией.
Различие между мифологией и религией особенно
ярко выражается в их отношении к искусству.
Мифология стоит как бы между религией и искус­
ством; в то же время частично совпадает и с религией,
и с искусством. В се развитии, по моему мнению,
имеется следующая закономерность, уяснение которой
требует диалектического подхода. При своем возникнове­
нии и на самых ранних ступенях своего существования
мифология почти полностью по содержанию совпадает
с религией, но чем дальше она развивается, тем больше
приближается к искусству. Известно указание Маркса,
что греческая мифология составляла не только арсенал
греческого искусства, но и его почву. Совершенно оче­
видно, что в данном случае Маркс имел в виду не архаи­
ческую, так называемую хтоппчсскую мифологию с ее
звероподобными, уродливыми, дисгармоничными
су
ществами, а мифологию «олимпийскую», когда боги пол­
ностью становятся антропоморфными, принимая челове­
ческий облик.
В религии люди лишь поклоняются
своим богам,
а в мифологии, в развитой ее форме, они заставляют их
говорить и действовать, волноваться земными страстями,
Мифология „
но пояжр
" В03шшла иа ОДНОЙ почве с религией,
ботка пштоя,, б“натОДьно-Художествспная персраоотка природы и оощественной жнзшг, в какой-то мере
превратилась в искусство чего нельзя сказать с
Например, в гомеровских поэмах мифология ои религии,
сливаются воедино, становятся нераздельными. поэзия
Гомер
в одно и то же время и мифологичен и поэтичен, что
дает основание называть его поэмы «художественной ми­
фологией» (см., например, работы А. Ф. Лосева).
То же самое можно сказать и о героических пертских
сказаниях, имеющих для духовной культуры своих создателен не меньшее зиачеппе, чем «Илиада» и «Одиссея»
для греческого парода.
, Мифологические основы нартского эпоса исследованы
/К. Дюмезилем, В. И. Абаевым и Е. М. Мслстнискпм п,
И
с-д А и Ш е 2 П. Ьс&епйез $цг 1о«
В. Л о а е в. Нартовскпй
«аПез. Раиз, 1930;
эпос. — ИС0111Ш,
т. X, вып. 1.
74
;
!
110 это, конечно, 110 значит, что данный вопрос не иуждается в дальнейших изысканиях. Говоря о мнфологическцХ мотивах в иартском эпосе, следует ооратнть виимарелипюзпые воззрения его создателей, ибо
ЦИС И на
мифология и религия здесь тесно переплетены между
собой.
В иартском эпосе нашли отражение почти все формы
первобытной религии: тотемизм, магия, анимизм, антро­
поморфизм.
Вопрос о тотемизме изучен В. И. Абаевым в его моно­
графии «Мартовский эпос». На основе нсторпко-лпнгвистического аиализа 15. Л. Абаев доказал, что нарты имели
своим тотемом волка; имя родоначальника иартов Уархаг
означало «волк», но впоследствии это слово попало иод
табу и было заменено словом «бпразгъ». Таким образом,
нарты в плане тотемическом являются детьми волка,
о чем свидетельствует не только имя Уархага, но я многис данные эпоса, приведенные В. И. Абаевым.
Значительное место в лартекпх сказаниях занимает
такая форма первобытной религии, как магия. Однако
в эпосе мы по видим профессиональных магов, жрецов,
колдунов, шаманов ,2, представляющих, по-видимому, яв­
ление более позднего времени. К магическим средствам
воздействия на окружающую природу и людей прибегают
многие нарты, несмотря па свою богатырскую мощь.
Но эти действия ни в какой море по связаны с поклоне­
нием языческим богам, к которым нарты относились как
равные к равным.
Самая могущественная чародейка среди иартов,
безусловно, вещая н мудрая Сатана. Воздействуя своей
колдовской силой на природу, она изменяет погоду в же­
лательном для нее направлении, вызывает дождь, снег,
бурю, жару, превращает день в ночь и наоборот; сама
она по желанию превращается то в старуху, то в моло­
дую обольстительную девушку. Не напрасно ее называли
«арвы хнн аемае заэхы кзелаен» («хитрость неба и кол-
!:
А
I
1
II
.
'•
и
1
■
:
<■;
\
I
ш
8
!
.щ
V;
I
I
П
-I
11
Довство земли»).
1
;
Дзауджикау, 1945; Е. И. Молоти некий. Происхождение ге-
точного фольклора.
!
в
75
1
^5
. цГ
Я
•а
1
Нарты не раз обращаются за помощью к Сатане, и она
благодаря своей мудрости, чародейству и хитрости спасает их из самых затруднительных положении.
Сатана не только сама владеет тайнами магии, кол­
довства, чародейства, но делится ими с нарыми, в осо­
бенности с Сосланом—Сосруко, олагодаря чему он по­
беждает своих врагов, если даже они намного сильнее
его. Так, когда в страие мартов наступила суровая зима
и на долю Сослана выпало перегнать погибающий от
бескормицы нартский скот в теплую страну Мукары,
сына великана Тара, он советуется с Сатаной, п она учит
его, как вести себя. Сослану путем обмана удается зама­
нить Мукару в море. По молитве Сослана море покры­
вается толстым льдом, из-под которого Мукара не в силах
выйти. Таким же способом расправляются кабардин­
ский Сосруко и абхазский Сасрыква с великаном, у кото­
рого они похитили огонь.
В осетинском сказании Сослан терпит поражение
в единоборстве с юным героем Тотрадзом. Чтобы побе­
дить его во втором бою, он, по совету Сатаны, наряжается
в волчьи шкуры. Увидев его в таком одеянии, конь
Тотрадза, взращенный далимонами (чертями) 13, повора­
чивает обратно и уносится прочь. Сослан стреляет вдо­
гонку из лука и убивает Тотрадза. Таким же способом
в адыгском варианте сказания Сосруко расправляется
с Тотрешем, с той разницей, что здесь Сосруко наря­
жается не в волчыо шкуру, а в сшитый нартекпмн девуш­
ками (по совету Сатаней) кафтан; во время боя, по со­
вету^ той же Сатаней, Сосруко день обращает в ночь.
В аохазском эпосе Сасрыква сражается уже не с Тот­
радзом, а с великаном и побеждает его с помощью по­
поны, сшитой Сатаией-Гуашей для его коня. Во всех трех
случаях Сослану—Сосруко—Сасрыкве в борьбе против
его врагов помогают и магические колокольчики, которые
специально выкованы небесными кузнецами Курдалагоном—Тлепшем-Айнар-нжи по просьбе Сатаны.
В нартском эпосе шкура животного имеет особую ма­
гическую силу. Свидетельство тому —- победа, которую
приносит ослаиу волчья шкура. Но это не единственный
лучаи.
адыгском сказании великалы-иныжи, узнав
13 Согласно старым довериям
ные существа для чертей.
осетин, волки — самые страш-
.
«Произведения гого-осетпнского народа», кн. I. Цх1шиали,
^28, стр. 48 (на осст. яз.); «Фольклор Южной Осетии». Ста.
тФ» 1936, стр. 49 (па осет. яз.).
кн. I, стр. 48;
«Произведения юго-осетинского народа»,
ска«Фольклор Южной Осетин», стр. 42; «Осетинские нартские
зання», стр. 330.
76
77
.
■
;
о том, что подошвы Тхожея (копя Сос[)уко) являются
мягкими, заставили его скакать по каменному руслу мел­
кой реки. Тхожси по выносит этого п погибает, но перед
смертью он советует тяжелораненому Сосруко (колесо
жан-шерх отрубило Сосруко ноги) снять с него шкуру,
влезть в нее и продолжать биться с врагами. Сосруко так
н поступает п сражается с великанами еще семь дней и
семь ночей, пока не кончаются его стрелы.
В осетинском варианте старый Урызмаг, решив при­
нести партам еще какую-нибудь пользу, залез в шкуру
буйвола м и уговорил нартов бросить его в море. Волны
принесли Урызмага к черноморскому князю, которого
Урызмаг побеждает благодаря своей хитрости и с по­
мощью других нартов; им достался многочисленный скот
п другие богатства этого князя.
К магическим средствам часто прибегают и другие
парты: в осетинском варианте — Ацырухс, Бценоп, Ацамаз, Хамыц, а иногда даже всемогущий Батрадз 15, в аб­
хазском — Уахсит, в кабардинском — Шаусп, Ашамез,
Адшох, Шхацфица.
Особенно большое место в нартском эпосе занимает
так называемая лечебная магия. Правда, в эпосе нет про­
фессиональных знахарей. Однако сами нарты магическим
способом моментально вылечивают даже безнадежно боль­
ных людей. Так вылечил Ахсартаг нм же самим раненную
Дзерассу, дочь Допбеттра (которая потом стала его женон); Сослан—«дочь семи братьев». Жене Мысыралдара
стоило провести руками по телу тяжело больного, как он
моментально выздоравливал. А дочь солнца, красавица
Ададза «пролезала между кожей и мясом» и самые тяжелые раны ее мужа Субалца мгновенно заживали. В адыг«П|Ш
ском эпосе жена Тлебпцы, Бпдох, исцеляет .
своим теплым дыханием В абхазском в роли чудесного
голубь. Своим прикосновением он
исцелителя выступает
исцеляет трех братьев, раненных Уахситом.
В нартском эпосе мы часто встречаем и такие, отно­
сящиеся к мапш, явления, как чудесное превращение и
\
Ш
■■
I
!
ш
11
§
I; н$
<
I
Л
Я
I
1
!
1
I
>
(
•
ч
> после принятия хри)ТСК1П*1 ИНОС ЛП1П1
пошедшему в иа|
бог немедленно выполняст их
стиаиства осетинами; этот языческих божеств, то к ним
просьбу,6. Что касается
эпосе с такими молитвами никогда
парты в осетинском
нс обращаются.
Такие обращения встречаются в адыгских сказаниях.
Например, красавица Адшох, чтобы испытать мужество
незнакомого всадника и отношение его к пен, просит бога
морей и рек Псмхогупшу превратить ясный день в тем­
ную ночь, поднять ураган, чтобы река Инджиг затопила
землю и небо разрывалось па части от грома п молнии;
псе происходит так, как хочет Аднтох ,7. Шауей просит
гору Ошхамахо (обитель богов) послать па землю силь­
ный ветер, стужу и снег. Просьба эта тоже удовлетво­
оборотничсство, которые объясняются анимистическими
воззрениями. Раз вся природа одухотворена, все может
превращаться во все в самом прямом смысле этого слова.
Выше мы говорили, что Сатана способна принимать
вид старухи и молодой девушки. Такими способностями
обладает не только она. Дочь Допбеттра Дзсрасса похи­
щает у партов золотое яблоко, превращаясь в голубя.
Свою будущую жену, дочь солнца Ацырухс, Сослан встре­
тил впервые, когда она приняла вид оленя. Сам же
Сослан, чтобы проникнуть в башню красавицы Косер,
был. превращен Сатаной в вихрь, а когда проник в башню,
стоявшую между небом и землей, опять обернулся в са­
мого себя. Дочь Бальсагова колеса, послужившая причи­
ной гибели Сослана, первый раз явилась к нему в образе
прекрасной лани. Бог водной стихии Доибеттр превра­
щается в рыбу, Уастырджи —в лису; Афсати — в мед­
ведя; жена Хамыца Бцеион днем имела вид лягушки,
а вечером превращалась в писаную красавицу; жена Мысыр-алдара по желанию тоже принимала вид голубя
и т. д.
Самым же «многоликим» оборотнем в мартеном эпосе
является Сырдон, которого совершенно справедливо про­
звали «нарты фыдбылыз», т. е. злым «гением мартов».
Нартам он оказывает большие услуги, но часто обманы­
вает их и вредит им. «Хоть частенько не ладили парты
с Сырдоном, но все же они крепко любили его». Сырдон
может принимать вид старика, старухи, молодого чело­
века, молодой девушки. В одном сказании он обращается
даже в лисий хвост, а потом в шапку, и все это для того,
чтобы повредить Сослану, которого он считает своим давиишипм врагом. В этом отношении в адыгском варианте
роль Сырдопа выполняет старая колдунья Б ар ьш бух.
Она обращается в шелковые путы, в трехрогую золотую
рукоять плетки, в золотой шлем, чтобы узнать, как можно
погубить Сосруко и его коня Тхожея. В абхазском эпосе
уязвимое место Сасрыквы и его коня Бзоу узнал вели­
кан, превратившийся в огниво.
В нартскнх сказаниях наряду с магией действия мы
встречаем и магию слов, выражающуюся в основном
в молитве, обращении к богу в тех случаях, когда персо­
наж эпоса хочет призвать на помощь божественную силу.
В осетинских сказаниях нарты с такой просьбой часто
обращаются к богу богов, т. е. к христианскому богу,
!
• ■■
1 ш
:!■!
с места»
,9. сокровищем партов считалось их золотое ябДругим
л°ко, способное исцелять от всяких болезней и залечи­
вать любые раны. В некоторых вариантах упоминается и
Другое яблоко, воскрешающее мертвых. Оно было отнято
У Далпмонов (чертей) Хсаром и Хсартагом. В эпосе фигу­
рирует также дерево, которое цветет от заката до лолуном созревают плоды. Оно тоже не прнночи, а к утру на
похптпл Айсана.
надлежало нартам, пока его ле
напитка, сваренного
из этого котла
Чудесный котел партов таков, что
в нем, хватает на семь лет. Если иапнткоа
102, Ю7,
сказания», стр. 12, 43, 50,
10 «Осетинские нартскнс
«И и т. п
М., 1957. стр. 130.
17 «Марты. Кабардинский эпос»
!“ Там же, стр. 477, 479. сказания», стр. 292.'
«Осетинские нартские
79
78
!
I
;!
I!
т.
':'!
щ
о волшебряется
,8.
К магическим
примыкают п представления
своист­
ных предметах, обладающих необыкновенными
ли це и каждом
вами. Такие предметы встречаются чуть
сказании
партах.
Среди оних
главное место занимает, безусловно, знаме­
нитая чаша Уацамопга, обладающая свойством отличать
правду от лжи. «Много сокровищ было у мартов, но среди
них больше всего дорожили они чашей своей: Уацамопга.
Драгоценное свойство имела эта чаша — если кто-либо из
пирующих говорил правду о своих подвигах и о доблести
своей, она сама поднималась прямо к губам человека.
Если же кто-либо хвастался понапрасну, не трогалась она
■
I
I
Н
■
ж'Ф
гщ.
;
!
г!
!
г
!
смочпть лоб новорожденного, то ребенок целый год не
нуждается в груди, — рассказывается в эпосе.
Кроме яблока, в эпосе о нартах упоминаются и другие
чудесные предметы, которые воскрешают мертвых: вол­
шебная бусинка (цыкурайы фаэрдыг) 20, войлочная плеть
(ею еще можно превратить человека в любого живот­
ного). Упомянуто и чудесное молоко, которое возвращает
человеку молодость. В волшебное зеркало .можно видеть, что происходит во всей вселенной; ПОД чудесной
шапкой человека никто не видит, а ему самому все видно;
на волшебном ковре можно полететь в любое место; коса
косит сама, без человека, вертел сам жарит шашлык,
а свирель сама играет. У Сатаны такое кольцо, что когда
Сослан чертит им круг на берегу моря, там поднимается
вдруг большой железный замок, который от Сослана по­
требовали великаны в качестве выкупа за его невесту —
дочь солнца Ацырухс.
Возможно, что некоторые чудесные предметы и даже
отдельные эпизоды, связанные с ними, проникли из вол­
шебных сказок, но это ничуть не умаляет их значения
для характеристики магических представлений, отразив­
шихся в нартском эпосе.
Магические представления нартов тесно связаны с их
анпмпстпческпмп воззрениями и, в особенности, с аипматизмом, который в духовном развитии первобытного об­
щества предшествовал собственно анимизму и представляет собой веру во всеобщую безличную одухотворенность природы.
В нартском эпосе неодушевленных предметов нет; вся
природа живет единой жизнью: радуется, печалится,
смеется, плачет. Когда Сослан поехал свататься к дочери
солнца Ацырухс и в ее доме на многострунном фандыре
заиграл чудесную песню, «закачались в лад песне высо­
кие стены замка и горы стали подпевать Сослану»21 •
этом отношении осооенно выделяются сказания об Ацамазе, который волнует своей игрой па золотой свирели
всю природу22.
20 «Цыкурайы фа?рдыг» букв, означает: «бусинка, проси че
хочешь». По старинным поверьям осетин, она бывает в нас
ядовитой змеи, у которой ее отнимают люди; она обладает сво
ством исполнить любые желания своего обладателя.
21 «Осетинские нартекпе сказания», стр. 139.
22 Там же.
80
:
I
I
.
I
I
В сказаниях об этом герое мы ясно видим и апиматизм и магию. Совершенно прав В. И. Абаев, ставящий
Ацамаза в один ряд с такими певцамн-чародеямп, как
Орфей в греческой мифологии. ВяГшямейнеи в Калевало.
Горант в «песне о Гордуис», Садко в русской былине.
В осетинском варианте песня Ацамаза имеет силу солнца,
влекущего за собой весну, что дало основание В. И. Абаеву
считать Ацамаза солнечным героем, а его брак с Агундой
весенним мифом 23.
Оружие тоже является одушевленным, как и все, что
окружает нартой, Оно не выносит бездействия. (Когда
молодой герой Саууай. собравшись в бой, попросил
у своего отца Капдза оружие, тот ответил: «Стальной
клинок меча моего в жажде боя изогнулся, острием вон­
зился в рукоять и синее пламя испускает, лук мой жецепями к железным столбам прикован, и в жажде
бояиспускает он красное пламя. Если сможешь овладеть
им, будет оно твое, а не сумеешь убьет» . ЛК 1 * *
Саууай открыл дверь того помещения, где находи.
•
оружие, меч устремился к нему и сруоил железныйетоло,
которыII стоял на пути, по Саууай схватил меч зар>ю *
и усмирил. Лук тоже рванулся и выпустил три стрс. »•
оп чуть не сорвался с железных столбов, по оауу*
подхватил.) У мартов есть и чудесная пспрооива . I
церекова кольчуга, которая сама является к герою в
минуту опасности. В адыгском эпосе железо
небесного кузнеца Тлепгна за пальцы, а огонь шипит «не тронь», меч Батраза при появлении враг
с
выскакивает из пожен и говорит: «Больше пев
'
ждать» 25.
В еще большей мерс «очеловечены» в нартском эпосе
шт
Дикие звери, птицы, животные. Можно сказат>,
являются почти такими же действующими Л11Г^ полей'
как и люди. Они наделены человеческим разум - ,
чувствами и речью.
Многие из них-—друзья нартов, оказывают им большие Услуги, помогают в трудные моменты, а искотор >
вРедят им.
23 В. Л б а е в. Мартовский эпос, стр.
24 «Осетинские нартекпе сказания», стр. «1 С„.
«Творчество осетинского народа , т. I. Орджоникидзе,
стр. 327 (на осет. яз.).
..
_ ГТГ) 294.
25 «Нарты. Кабардинский эпос ,
6
Заказ Л1*, 1480
81
;!
1
,
м
I
и
1
1
т' .
V
5ч
Ш
■
$
1
*
1
5
;
«•
Г
;
:
.
щ
■ш
Напрпмор, ласточка является верным другом ,,
мартов.
Когда кто-нибудь из них попадает в беду, ласточка
изве­
щает его соратников. Сатана обычно посылает ее за
Батрадзом и Сосланом, призывая их на помощь. Когда
Сослана смертельно ранит Бальсагово колесо и он истекает
кровью в поле, из всех птиц, которых ом просит сообщить
нартам об этом несчастье, только ласточка выполняет
его просьбу. (Орел, коршун, ворон, лисица относятся
к Сослану враждебно, и он их проклинает: ворон, мед­
ведь, волк, увидев Сослана в таком положении, плачут от
горя, и он их благодарит.)
Среди животных, друзей героя, особенно выделяется
конь. «Огнеподобные кони мартов» (как их называют
в абхазском эпосе) являются лучшими их друзьями. Пока
они ничем не заняты — стоят в подземной кошошне и
питаются железными опилками, а если остаются без хо­
зяина и за ними некому ухаживать — грызут удила.
В случае необходимости нартекпе кони вместе со своими
всадниками мгновенно облетают весь мир, поднимаются
в небеса, преодолевают любые препятствия; они дают
партам разумные советы, помогают им на войне, выру­
чают их из самого трудного положения.
О всеобщем одухотворении природы свидетельствует
и отношение мартов к небесным светилам, в частности
к солнцу, которое занимает большое место в религии и
мифологии почти всех древних пародов. Среди этих паро­
дов вряд ли можно найти такой, в жизни и идеологии
которого в тон или иной форме и степени не прояв­
лялся оы культ солнца. В этом отношении не составляли
исключения и создатели нартского эпоса. Причем культ
солнца здесь проявляется не в том, что парты покло­
няются ему как фетишу или божеству, а в том, во-первых,
что некоторые сказания, в частности циклы Ацамаза и
Сослана, очень близко стоят к солнечным мифам, а сами
эш персонажи являются солнечными героями и что,
во-вторых, само солнце — одно из центральных действую­
щих лиц эпоса. Солнце в сказаниях о нартах имеет человсческин облик и человеческие свойства и даже находится
с нартами в родственных
^ояшшют' етдочерГТ^
"уждТ^”" ЙГ-
Й2Г.Ы-
Царство мертвых, чтобы достать лист
82
1
I
|
. Нарты очень дорожат Ацырухс и охраняют со, как"
* кровище. Когда ее похищает .Хивы Алдар (владетель
крепости Хиз), Батрадз, сокрушив ату крепость, осиобождает Ацырухс и с триумфом приводит обратно к Сослану.
' Другую дочь солнца. Хорчоску, вместо с дочерью луны
Мысырхап похищает семиглавый крылатый великан
Капдзаргас. Освобождая своего предка Уона, находивше­
юся п плену у того же великана, Батрадз выручает и
этих красавиц и приводит к партам. Хорчсску выдают
замуж за Хамыца —отца Батрадза, а Мысьфхап — за
Уона (предварительно оба старика окупаются в молоко
молодости, которое Батрадз привез из страны Караидзау,
к превращаются в молодых люден). Третья дочь солнца,
Адэдза, любит нартского героя Субалца (родившегося
в один с вею день) и становится его женой. Свое.му
свекру Уархтанагу она доставляет подарок отца-солнца —
чудесную кольчугу, у которой воротник пел песни, отво­
роты подпевали, рукава хлопали в лад, а полы плясали.
Наконец, еще одна (безыменная) дочь солнца выступает
в роли названной сестры Батрадза и помогает ему
разыскать Сослана, который томится в плену у кадзнсв.
Действующим лицом эпоса является и ветер: он тоже
Друг и благожелатель нартой. Но в отличие от солнца и
его дочерей, ветер фигурирует в эпосе гораздо реже
(в частности, он сообщает Батрадзу, что Сайнаг-алдар
У"ил его отца Хамыца).
1аковы некоторые
зме в
Деть во
Но
нельзя считать приведенные <(>•“> •
я„ляются
религиозного миросозерцания, каков
0дуХОтпонапрпмер, магия и развитый анимизм. _
,натекает из
Ренне природы, аннматпзм, непосрод
древних
идеологического синкретизма представ.
Дпиматпам
ЛЮДей и наглядно иллюстрирует их сложи осп..
появился на той ступени развития
^0(. самому
чело •
век не отличал себя от природы 11 ,у11} ы;„,|иа.чи и нем
себе. Те аффекты и ощущения, копира
^ свойствами,
предметы и явления природы, ° уШС9леииые «У11'1 '
превращая их, таким образом, в ' *
ирпроДУ* 111 ‘()и
Анпматизм одушевляет, одухо ' ссТПОвапие ДУ1 ’ 0
пе значит, что он предполагаетсупсот^ Йут„«т..у.
уподобляет природу человеку ь«
83
1
•I
§
' V
I
№
в
ь ш
:9
}'
к*
I
!
!
!
Ч
!
%
32
:
т
И щ
I
Ж
г:::
!:
!
В*
*
'•
;*
ничего не говорит о наличии души даже в самом человеке. В аниматизме иока еще нет речи об объяснении
природы и самого человека, потому что человек, как уже
было сказано, пока не отделяет себя от природы.
Когда человек в своем развитии доходит до осознания
своего «Я», возникает необходимость объяснить самого
себя, понять те физические и духовные процессы, кото­
рые происходят в исм как в природном существе. К отнм
процессам относятся сон и сновидения, болезни, смерть
и т. д. На этой ступени и возникает анимизм (от латилского аыпма — дух, душа) — вера в духов, в существова­
ние «души», которая якобы есть у человека, животных,
растений, предметов и явлений природы н управляет
ими. «Начальное недифференцированное представление
об оживленности или одухотворенности человека в этой
природе раздваивается. Возникает представление о душе
и теле, их раздельности и возможности самостоятельного
существования душл» 26.
Исторически аииматизм предшествует
Однако в нартском эпосе они сосуществуют. По аиимнзму.
представ­
лению нартов, человек умирает лишь тогда, когда душа
докидает тело, а пока душа находится в теле, человек
бессмертен27. Это представление особенно хорошо иллю­
1
стрирует абхазский эпос. Например, мужественный Алхуз
два дня и две ночи бился с великаном и никак пе мог
одолеть его: «Алхуз смог попасть в уязвимое «место
смерти» и выпустить душу из могучего тела великана».
Но когда Алхуз увидел, что великан хочет погубить его
.
! $ у,
И
жепу Гунду Прекрасную, «от бешеной злобы запустил
стрелу с такой силой, что она пронзила великана на­
сквозь, поразила его в самое «место смерти» 28. Аналогич26
М. О. Косвен. Очерки истории первобытной культурыМ., 1953, стр. 149.
же
27 Следы этого религиозного верования сохранил ись д
в современном осетинском языке. . Наир., когда
.
человекоиочень
хочет чего-нибудь или находится в тяжелом состоянии,
говор'
«Мае уд схауы» («Душа П01шдает меня»); в таких случаях Р)
ские скажут: «умираю» (от голода, от жажды и т. д.). 0° У1
рающем же человеке осетины говорят: «Пае уд псы» («Душа1
кидает его»). Об умершем человеке: «Йае уд систа» («МУ
ушла от него»). Последнему выражению соответствует руссь
«испустил дух». Но осетинское «уд» соответствует «душе>>28 «Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девят
братьев. Абхазский народный эпос». М., 1962, стр. 122—123.
ное объяснение видим в описании оитпы между велика
нами и Сасрыквой. («Не знали великаны, где то самое
место на теле героя-парга, в котором душа заключена,
Поэтому не имели никакой силы пн стрелы их, ии
шашки».)29
13 осетинских сказаниях о душе Сослана ничего не говерится, но и у него уязвимое место — колени, оставишсся незакалсниымп. Колесо Бальсага, узнав об этом
от Сырдона, ударяет Сослана по коленям, перерезает их
и таким образом губит героя. В адыгском эпосе колесо
жан-шерх поражает уязвимое место Сосруко — его нопг.
Однако Сосруко нс умирает даже тогда, когда враги закапмвают его и землю; он не умер, так как «не расстался
со своей душой». Сосруко, говорится в сказаниях, продол­
жает жить иод землей, в Царстве мертвых; он воз­
рождается весной, подобно всей природе, и тянется
к свету земли: тогда даже слышен его голос.
К. М. Мелстниский связывает этот мотив с мифом об
умирающей и воскресающей природе. В плане же миро­
воззренческом это по что иное, как анимизм.
13 иартском эпосе отразилось и представление о «внеш­
ней душе», характерное для древней религии и мифоло­
гии многих народов. Согласно этому представлению, души
пекоторых людей находятся не в них самих, а в какомннбудь предмете или животном. В иартском эпосе «виешией душой» обладают великаны, с которыми приходится
бороться эпическим героям. Борьба осложняется тем, чго
Для победы нужно сперва найти, где спрятаны души ве­
ликанов.
Уахснт — герой абхазского
^спрятанных
что
Душа
” великана — одна из трех 11
в желудке
в
глиняном горшочке, которым I • д „серна в брюхе
У зайца, сам заяц - п желудке у .,сеР'‘”У
У зубра, который живет на высоком 10р ' чуд0вшца ЕмнВ адыгском эпосе говорится, что Д> ‘ в сг0 трехноиежа, похитившего у нартов семена В ’ а узнает, что
гом скакуне31. В осетинском сказаниш ’о
три гоЛуоя;
иа вершине Бурхох в железном лаРр
во втором —
в
первом из нпх - сила великана Бабыца,
30 1ам же> СТР- 246.
31 Т?тМ же» СТР- 87.
84
-
Л: I / |
I
_7
«Нарты. Кабардинский эпос», стр. /«•
85
V
;
ого смелость, п третьем - душа. Только поймав этих 1
осп, Сослан вместе с ними убивает Бабыца32.
(Ср.голу_
на­
риант согласно которому местонахождение души велик;ша Мукары описано так: на горе пасется олень, у него
в желудке ларец, в ларце три ласточки: л одной нэ этих
ласточек заключена сила Мукары, в другой сто надежда,
в третьей его душа.) 33 Душа, сила и надежда великана
Бызгуана оказывается в трех стрелах, находящихся на
его башне34. Душа сына Битара заключена в ого кин­
жале 35.
Представления
о душе нс всегда были одинаковыми,
' Душа как нечто нематериальное
— продукт сравнительно
высокого развития сознания древних людей. Первона­
чально же она мыслилась как нечто, имеющее материаль­
ную форму; ее местопребыванием считали печенI
>, сердце,
глаза и пр. «Это представление
о телесности души, —
говорит Л. Я. Штернберг, —
жить очень долгую эволюциюконечно, должно было перепришло к убеждению,, что если ирежде чем человечество
существует душа, то она
должна быть другой природы, абсолютно
противоположной природе телесности —
нне о божестве, которое подобно тому, как продставлесначала мыслилось существом
абсолютно антропоморфным,
т. е. чело в е коп одоби ы м, потом превратилось
в представление о существе особого
порядка, духовного» 36.
Телесность Души принимала
столь конкретную форму,
что если человек имел
какой-нибудь
флзпчеекпи педостаток или был калекой,
то
считалось,
что «на том свете»
(куда переселяется
душа)
выглядит
точно так же: хромает, не пмеет руки и т. д.
Нам кажется, что в
нартском эпосе налицо именно
представление о телесности души;
.материальным и находящимся в душа мыслится чем-то
в какой-то определенной
части тела. Как Л1Ы
видели,
у
Сасрыквы таким местом
является правое колено;
у
великана,
которого убивает
^ ахепт, душа находится
«в месте смерти». Можно пред32 «Нартские сказания», стр. 111—114.
23 «Творчество осетинского народа», стр. 90.
34 Там же, стр. 102.
35 «Фольклор Южной Осетии», стр. 67.
30 Л. Я. Штернберг. Первобытная религия. №у
стр. 319. См. также: М. О. К о с в е н. Указ соч., стр.
1939,
|
положить, что душа копя Сослана — Сосруко — Сасрыквы
спрятана в его копытах (подошвах)—единственном его
уязвимом месте. Представление о «материальности души»
в нартском эпосе отражено и в тех случаях, когда гово­
рится о ее пребывании пне тела великана.
С анимизмом в нартском эпосе тесно связано пред­
ставление о загробной жизни. Ко времени формирования
нартекпх сказан и 11 вера в то, что физическое существова­
ние человека не прекращается йм есте с его смертью,
а продолжается как таковое, по-видимому, уже ушла
в прошлое. Загробную жизнь нартский эпос связывает
с отделением души от тела н переходом ее в Страну
мертвых. Когда Урызмаг в подводном царстве нечаянно
убил своего безыменного сына, «земле отдали Допбеттры
тело мальчика, а душа его улетела в Царство мертвых,
м владыка тон страны Барастыр посадил мальчика к себе
на колени»37.
Наиболее детальное изображение загробного мира ри­
сует сказание «Сослан в Стране мертвых», во многом
напоминающее «I > ожсст вопи у ю кол» ед! I го ». I Госеще I гие
Царства мертвых живым человеком является весьма
архаичным религиозно-мифологическим мотивом (ср. по­
сещение загробного мира Гильгамешем, Вяйнямейисном,
Кухулпном, Одиссеем, Гераклом и другими героями древ­
него эпоса и мифологии).
Из сказания о путешествии Сослана в Страну мертвых
видно, что, по представлению создателей нартского эпоса,
загробный мир выглядел почти так же, как и земной,
с его горами, равнинами, лесами, озерами, реками.
^ входа к мертвым стоит привратник Ампои; подооно
греческому Харону, он нс впускает никого из живых.
Сосла ну удается проникнуть туда благодаря помощи его
умершей жены Бедохи, но некоторым вариантам
Атупды, к которой он пришел за чудесным листом за,
предназначенным для его невесты Ацырухс. Бедохл попрежнему предана Сослану, достает ему лист Аза и но
могает поскорее выбраться из Страны мертвы. .
Благодаря помощи Бедохи, Сослан часто и о ''Д<
СВ°ИХ врагов. Здесь отразилось верование, согласно кот
рому покойники с «того света» могут помогать своим
‘ЖИВЫМ родственникам (ср. старое осетинское выражение,
.
К
I
«Осетинские нартские сказания», стр. 41.
86
1
87
И
____________ . |
Ч
г
!
произносимое на поминках: «Хардмаз уыл а уд фит»
(Да покровительствуют они вам).
Царство мертвых имеет своего владыку — Барастыра,
который определяет меру воздаяния каждому покойнику
за его земные дела. Мы узнаем, какие поступки счита­
лись добродетельными и какие дурными. Хорошие, чест­
ные, благородные люди попадают в рай, говорит ска­
зание; там они блаженствуют. Люди дурные, вредные,
нечестные находятся в аду, где подвергаются тяжким
мукам.
В Царстве мертвых люди нуждаются во всем, чем они
располагают на земле. Их могут обеспечить этим лишь
живые, в первую очередь —их родственники. Обеспечи­
ваются мертвые по-разному. Прежде всего нарты забо­
тятся, чтобы склеп для покойника был поудобней.
А Сослан даже сам перед смертью поручает Урызмагу и
Хамыцу сделать в его склепе три окна: одно па восток,
другое на юг, третье —на запад, чтобы солнце светило
ему с утра и до вечера. Вместе с покойником, согласно
сказаниям, в склеп кладут вещи, которыми он должен
пользоваться в загробном мире. Тот же Сослан перед
смертью просит положить рядом с ним его лук и стрелы.
(Любопытна и такая деталь: Сослан настаивает, чтобы
показали ему его гроб н погребальную одежду, так как
Сырдон, извечный антагонист Сослана, сообщил ему, что
нарты якобы сделали гроб из змеиной кожи, а погребаль­
ную одежду сшили из кожи лягушки. Но оказывается,
что погребальные одежды сотканы из драгоценного
шелка, а гроб выкован пз червонного золота.)
Важное место среди похоронных обрядов, зафиксиро­
ванных в нартском эпосе, занимают посвящение 38 и по­
минки, как бы призванные снабдить покойника съест­
ными припасами и напитками. Поминки мыслятся как
нечто совершенно обязательное; без них, как следует из
-V
о том,
сказаний, умерший будет голодать. (Ср. сказание
землю, чтобы
ца
как сыну Урызмага пришлось вернуться
добыть все необходимое для «годовых поминок», так как
Урызмаг не справлял их по сыну.)
По моему мнению, именно верой в загробную жизнь
объясняется такой известный партскому эпосу и зафик­
сированный в прошлом у многих пародов обычай, как
кровная месть. Люди, находившиеся в плену пагубных
религиозных представлений, верили, что погибшему от
чужих рук не будет покоя на том свете, пока за пего
ие отомстят его родственники, пока они не уничтожат
убийцу. Обычай кровной мести был страшным бичом
в дореволюционной Осетии, как и у других горских иароIIа почве кронной мести, переходившей из поколения
ДОН.
уничтожали друг друга,
в поколение, норою целые семьи
термин
«Мае тугисэег» —
(Широкое распространение имел
обычно
называл
мои крономстптель, — которым осетин
ближайших
родственни­
своих сыновей, братьев, а также <
I
I
,.срж«ош,я мысли
“Сил. Например. Сослан
именно на вере в
перед смертью говорит нартам, ото
. Царстве мертвым, пока т отомстит уошще м
™г колесу, „ один па ого»“
а»
выполнить эту просьоу. (110 ||С1^ I
м — его сысмерть Сослана мстит Батрадз, а по
ральсаг0пым
новья Байтар и Битар, ногпошнс нм '
вЫХ много враколесом.) У самого Сослана в Стране * I
‘
туДа за
гов, погибших от его руки. Когда 011,
Ь «ГУ за себя,
листьями Аза, они пытаются
1 дз съШ Албега,
Самый страшный среди них, юный
Iе » загр0биого
по некоторым вариантам в03ВР^|°т Сослана. По друмпра для совершения мести и >011В
между Сослапом
гим же вариантам последний поеднп
побеждает
и Тотрадзом происходит в Стране * Р Батрад3а Сайюный герой. Исполнена жестокости А
своего отца
наг Алдару или Бурафарныгу за
Хамыца.
птпазившейся в скаГоворя о вере в загробную жизнь, Р ^ чт0 отиошс:
зэлшях о нартах, необходимо отмети
отрицательное,нне нартов к Царству мертвых в
_ создатели эпоса
неприязненное. Можно сделать вывод,
зв
Этот ооряд продолжал существовать у осетин до сравни­
тельно ледавпего времени, главным образом в форме «базхфаел*
цпсын» (посвящение копя покойнику), легшего в основу стлхотвореипя Коста Хетагурова «Уаэлмаэрдты» («На кладбище»). Подроонее его описание см.: Б. Багиев. Суеверия п предрассудки
СЛТ*пгССКГ’ ВЫП' 1х> Тп$лис’ 1876* стр. 4—10. Ср.: Б. А. К а;
ряд П0СВЯ1ЦеП11я коня у осетин. (VII Международный
М 1964 а"тР°п°логичсских и этнографических наук. Доклады).
!
88
89
}
-
!; 1
'
*
:
8
1
'
'
%
:
т
предпочитали земную жизнь. 13 целом
п\' миросозерцашло был характерен оптимизм, жизиерадостность,
п корне
противоположные .христианскому взгляду на человече­
скую жизнь, как на юдоль печали и испытаний, ниспос­
ланную свыше в награду за блаженство в загробном мире.
Когда Сослан поехал в Царство мертвых за листьями
Аза, покойные нартские девушки просили
его остаться
там с ними. «Не хочу я жить в такой
стране, где пасыщаются только видом вкусной с,
еды, хочу я вернуться
в Страну партов, — сказал Сослан девушкам п
погнал
дальше своего копя»39. Увидев возвр а щ сине Сослана
па
землю, все мертвецы хотели последовать за
ним
I!
просили привратника Амниона:
И нас наверх ты отпусти за ним,
Ты впдншь, мы от холода дрожим,
Вода и хлеб здесь вкуса нс имеют,
Здесь солнце нас своим теплом не греет 40.
Такое отношение к загробной
жизни напоминает
поэтические творения древних
где говорится
греков,
о том, что лучше быть
на земле, чем царями
в потустороннем мире. У рабами
Гомера Ахиллес,
тоскуя в царстве тепей по земной жизни, говорит:
Лучше б хотел я живой,
как поденщик, работая в поло.
Службой у бедного пахаря хлеб
Нежели здесь над бездушными добывать свой насущный,
мертвыми царствовать
мертвый 41.
Так
---• отразились в нартском эпосе формы первобытной
религии — тотемизм, магия, анимизм. О наличии в дале­
ком прошлом, при матриархате и патриархате, подобных
религиозных представлении у народов, создавших нартскгш эпос, свидетельствуют не только нартские сказания,
но и многие предметы материальной культуры, обнару*
жениые при археологических раскопках иа Северном Кав­
казе. «На одних из этих предметов сказались анимисти­
ческие воззрения их творцов (мифологические сцены
оорьоы со змеями, следы солнвчилпл культу и др.), ДРУ'
солнечного
!
39 «Осетинские нартские сказания», стр. 145.
40 «Нарты. Эпос осетинского нятиш«* — *"
41 Гомер. Одиссея. М. -Л., 193Р5ОДа>>’ СТР' 171стр. 228.
90
гпе самым определенным образом отражали вору в тотемы
п древние тотемнческне культы (фигурки животных
и птиц). и« наконец, третьи были связаны, очевидно,
с магией»42.
*
*
13 нартском эпосе большое место занимает антропо­
морфизм. Если аппматпзм является началом, исходной
точкой анимизма, то антропоморфизм (очеловечение при­
роды) представляет высшую ступень его развития.
Антропоморфизм нартского эпоса, проявлением которого служат в основном образы языческих богов, пред­
стает как бы связующим звеном между религией и мифо­
логией. которая уже приближается к искусству. Здесь
мы находим конкретное подтверждение выдвинутому
выше тезису о том. что в религии люди своим богам
лишь поклоняются, а в мифологии заставляют их гово­
рить и действовать; образы богов становятся художест­
венными.
Характером мифологии создателей сказаний о партах
определяется такая важная сторона мировоззрения нарт­
ского эпоса, как объяснение вселенной, т. е. космогошгчеекпе представления. Согласно партскому эпос_,
лепная делится на пять частей:
Т1_пты Т1Х друзья
1. Земля, на которой живут люди - партъг и х ДР>^
и враги; 2. Небо - местопребывание бого^п ДРУ^^^
божптолей; 3. Вода, где обитают Д
/,. Поджителп во главе с владыкой вод™1..
в далпмопов,
земелье, преисподняя — оопталище -< Р‘’*нЫй мир —
кадзтг (чертей, бесов) и, наконец, »•
тли43.
Царство мертвых, находящееся внутри • •
в0 все
1Ь,тр вселенной — земля.
телеке
части ЛПЧ)<1, обитатели других '
землю;
Мих
« эпос папомпПо нартов, являются языческие оогг
кх количеству и разнообразию яар
карело-фкипает
греческий эпос, скандинавскую «ЭДД>»‘
скУю «Калевалу», ирландские саги.
»■
^Руппов. Древняя история Северного Кавказа.
43 ^ОДобн
ое Деленле налицо в осетинском эпосе.
91
*
I
■:'!
!
I
.
Нартские бот представляли собой
различных спл и явлений природы I ол^цетвореп)Г0
жизни. По ним можно судить о главных II °°ЩССТВОИЦоЙ
отраслях А’озяй
ственной жизни создателей иартского эпоса.
Приводе!,
перечень богов, выступающих в партском эпосе.
1. Общим для всех национальных
версий иартского
эпоса и наиболее популярным
является
бог-кузнец:
в осе­
тинском Курдалагоп, в адыгском — Тлопш, в абхазском
—
Апнар-пжп44.
2. Осетинский Афсати — бог охоты, покровитель
охотпиков, и благородных зверей. Адыгский
Мазитха
—
лесов и охоты. Абхазский — Ажвейпшаа — бог охоты. бог
3. Осетинский Фалвара — покровитель мелкого
рогатого скота. Адыгский Амыш — бог животных.
покровитель стад. Абхазский бог лесов и дичи (имя
не
упоминается).
4. Осетинский Уацилла — бог грома, молнии и уро­
жая. Это божество в адыгском представлено в двух ли­
цах: Шибле —бог грома и молнии, Тхаголедж — бог пло­
дородия. Абхазский Афа — бог грома и
МОЛНИИ II
Джаджа — бог плодородия в эпос не вошли.
5. Осетинский Донбеттр — бог водпой
стихии. Адыгская Псыхогуаша — богиня морей
н
рек.
В абхазской
мифологии такого божества нет.
Помимо этих богов, общих для всех национальных
вариантов, в каждом из них есть своп боги, отсутствую­
щие в других. В осетинском: Уастырджн — покровитель
мужчин, путников и вопиов. Сафа — покровитель домаш­
него очага и надочажной цепп; Тутыр — бог волков. Галагон — бог ветров; Еарастыр —
владыка загробного
мира. В адыгском: Тха
—
бог
богов,
Псатха — бог жизни; Пако — бог Уашхо — бог пеба;
зла. В абхазском
Адоуха
высшая сила, некое сверхъестественное
начало;
Саунау — богиня мукомольного дела.
Нартские <юги, кроме адыгской Псыхогуаши и абхаз­
ской Саунау, все являются мужчинами. В осетинском
пантеоне оогов нет ни одной женщины. Это
интересно
тем более, что среди богов
У скифов (наиболее древних
1
предков осетин) было три женщины, и том числе порхоппая богпия 45. Такое различно объясняется, по-шгднмому,
тем. что у создателей ггартского эпоса псе более укрой' лялггсь патриархальные отпошсння; одним из отзвуков
дапного факта ]г было вытеспеппе жепщнп из числа богоп.
Характерной особенностью иартского эпоса является
то, что в нем религиозно-мифологические представления,
пройдя сквозь призму художественной фантастики, при­
обретают своеобразную окраску, приближаясь к земной
жизни. Это относится и к богам; в шгх нот той мистики
и иррационализма, которая составляет главную характер­
ную черту поздпеппшх моиотетгстпчсских
религий.
Вообще в них мало специфически «божественного»; нарты
своим богам не поклоняются, не молятся, нс приносят
жертв. Боги партой своим обликом и поведением почти
не отличаются от земных людей. По мнению нартов, боги
первоначальпо жили па земле40 тг лишь впоследствии
(в силу причин, которые не разтэясттяготся) были выпуждеиы подняться на небо.
В отличие, например, от греческих, боги иартского
эпоса пе обладают даже бессмертием; осетинский герой
Ьатрадз истребляет небожителей десятками, в адыгских
сказаниях бог зла Пако погибает о г рук
»са, а бога Амыша умерщвляет красавица
Нартским богам свойственны все ( \ ’ Т1 ПСпхололюдеп - как физические, так н нравствен
^ 0ТДыгичеекпе. Подобно людям, ошг едят, пы , . 4 ,* отпо.
хают, спят, любят, ненавидят, злятся. рад>
* дствсншепия с людьми отличаются ТТР0С’™Т"”^
сказаниях
"остью ‘ и даже питпмпостыо. В нвк0™^ ботов; «Нарт
говорится, что парты были сотрапезник* *
г гостят
*МХ*РД аемнуюзт утлдысты дауджьттпмю> . заигрыватт,
лруг у друга педелями. Боги даже ггь
0 Сатаной (по она выгоняет их из своего дома; только
Сафе Удается обольстить Сатану, которая гго устояла
$оп — «Др®вН,1Й
гом, во фактически он выполняет64 ЛинаС не называется бо•гол н Тлепш. Покповптолг
Те же Функцпл, что и КуР;
релпгпп абхазцев — Щашва п *Узнечного ремесла в языческой
^ шпа - в опосс не упоминается.
п
йк *и«р0;»
« «Фольклор ГОжпой Осетпи»
.^ута, д. 18 (ск
ского научно-исследовательского
«Уастырджп и парт Маргудз»).
на.),47 «Нартские сказания». Дзауджикау, 1946, стр. 64 (на осе г
93
1
II
II.
?
:
|
I
:«
■
;;
ж
!
I !
:
.
перед его подарком, выкопанным пм самим
ЮЧ'| и
Но I Мри
ском варианте
чудесным И(о
жичком) 18.
>н
х
ар\ага.
МП миру И чогц,
1.
У
родоначальнике.
Нартский эпос может служить хорошей иллюстрацией
•■немей
Лчсара и А \сл|п/»г />
новорожден ныл »•;
к известному положению древнегреческого философа Ксе­
лмаип им'о очага С.афа, мира они
2.
13
доме
покриви
нофана (развитому впоследствии Спинозой и п особено (арки:
На пшдьои Айн
преподносят Сослепу
пости Фейербахом) о том, что люди создали богов по
дочери
Сашкг.'
е.-'а
Лгу
иды.
Иною. у Сафа,
маза и
I
своему образу п подобию.
на
пиру
в
честь
ч'.мггашшка,
сына
Урыамага
Отношения между богами и людьми
Лусаны,
или
Крым
.....
Интересно, что моги
в нартском эпосо
, г.напоминают подобные отношения
собираются
нз-за
лю;кчл{\
дол.
в
греческой
мифологии,
с той разницей,
что в партском эпосе боги вмешиваются
Среди нартскнх о» . : нот главною и нсимогущргог ка­
в дела людей меньше, чем в греческом. Как
ким
был греческий о*'вс (авторитету и власти которого
правило,
нарты совершают свои подвиги без
подчинялись
йоги). иерархия,
13 мартеномхарактерна*
нзмчоскодг
помощи богов (грече- ,
псе все
()()П.остальные
.равноправны»;
екпе боги принимают
активное участие в повседневных
1Я греческого пантеона, отсутствует. Иероятио, ото оотжеделах людей, в особенности в войнах; вспомним хотя бы. |
’ ’ т(;}1 трм ||Т,,
С;,МОм партском обществе не оы.то
как велп себя боги в Троянской войне; на стороне греков
свойственного гомеровской Греции классового расслоения,
выступали богппп Гера и Афпиа Паллада п боги По,д ^ р
,[азнал олимпийских богов «вполне реалясейдои тг Гефест а па стороне троянцев - богини АфроШ1|Мв аристократами*) 4Э.
„т йгр
Среди нартскнх богов нет ни алых, ля вредных, и..
днта, Артемида Латона п оогн Арес и Аполлон).
Взаимоотношения между самими богами в партском
()1Ш относятся к нартам весьма благожелательно п оказыпают пм .)аз1|ЫС
услуги. Вспомним хотя бы сказание
эпосе тоже несколько иные, нежели в греческом. Гречеекпе бопг находятся между собой в более тесной связи:
,,цем Исб0>к„телиодарили Сослана»: Уастарджп дарит
брачпые отношения между ними — обычное явление. Мы
ге|)ою замечат0лЬ1Шй меч; Афсатп — часть своего скота,
знаем их родителей, братьев, сестер. Они друг друга или
Фалвара учит магическим словам, благодари которым ол
любят, плп ненавидят, пли дружат, пли враждуют, обмаможет охранять нартскне стада от хищных зверел.
нывагот друг друга, мужья п жены изменяют друг другу
Уацилла дарит хлебные зерна; Курдалагоп - соху: лун т. д. Таких интимных отношений между нартекпмп
беттр обещает вертеть колеса нартскнх мельниц, а ‘ ДД
богами нет и быть не могло хотя бы потому, что все они
гон — посылать благоприятные ветры, когда нарты
являются мужчинами. В некоторых сказаниях осетинского
веять зеДЯ0 Подарки, приносимые в лице Сослана
варпанта упоминается о сыновьях Афсатп, Фалвара,
партам, означают новый этан в их жизни, так как Д•
Уацплла, но ничего не известно об их женах и вообще оо
впервые начинают пользоваться этими благами. 1ш
их семейной жизни.
ривают также п Айсану (Крымсолтапа), сына .
Подобно греческим богам, постоянно находящимся на
воспитанника Сафы; Уастарджп дает ему евоеп I « ^
Олимпе, нартскне боги в адыгском эпосе пребывают на |
«обгоняющего ветер», Елиа — своего «громовнкш.« •
«горе счастья» — Ошхамахо (Эльбрусе), а в осетинском—
рыб одним выстрелом’уничтожает любое войско: I.
на небе. Но в отличие от греческих богов, все время нахо- .
лук-самострел; Уацилла — булатный меч.
Ща­
дящихся вместе, нартскнх богов мы редко видпм
В адыгской ворсин Сосруко, гостнвшпн у Д '•
в сборе. Правда, в адыгском сказании «Божественно0
сываст на землю пх чудесный напиток са1Ю
рг0 130,сано» говорится, что боги каждый год собирались у 00га
иамн, ц с тех П0]) иарТЫ сами пр1®ггавлип<
„'учит
жизни Псатха лить чудесный божественный напиток сапопл°Дородня Тхаголедж дарит партам семена
Но фактически мы их видим вместе лишь один раз, когда
выращивать его
опн пригласили на саиопитно парта Сосруко. В осетин
*>
%
ь
к :
■
\.Г
■
:
48 «Творчество осетинского
•
'
народа», т. I, стр. 31—35.
94
(
49 А. М. Г о Р ь к и й. Собр. соч., т. 27. М., 1953, стр. 137.
95
\\
II
, I
Свон меч, а Айсайе — своего боевого коня. В иеСослану сказаниях Уастырджн оказывает партам активкоторых
помощь на войне. Несмотря на это, по моему мнеяую
шио, было бы неправильным счптать его богом войны
(вообще кажется странным и непонятным, что такого
бога нет в нартском эпосе).
Особое место » осетинской версии иартского эпоса
занимают 001 подпои стихии Доибеттр д его дочери, напоминающне русалок.
Возможно, что наличие этих образов обусловлено длн— скифов, сарматтельным проживанием предков осетин
аланских племен у моря. В адыгских и абхазскнх
СКИХ II
сказаниях подводное царство, насколько нам известно,
рек Псмхогуаша упоне изображается . Богиня морей и один
раз (так же, как
эпосе
лишь
мпнается в адыгском
бог неба, не участвующие
и безымянные «бог богов» и
в эпическом действии).
в своем подводном
Доибеттр постоянно находится
царстве.
только однажды, но приглаНа землю он поднимается
сыновья-олизшешпо Уархага (когда у него рождаются
цецы). На небо мы его видим также один I* ’
шш, где боги одаривают Сослана («0т,1Р’
‘ строяг
обращается он к Солнцу, - отныне нус
- ^ раяРИыы
мельницы на моих оегущпх водах, <
*;
в воде
моим дочерям, чтобы они днем и ночью в I
колеса. Вот мой подарок земным людям» Б
в эпосе
Доибеттр но сравнению сб°СдЛКчным, безвыглядит менее активным, норою дан
нартов
молвным. Несмотря на это, он играет
'ы „ышедшей
ечет, важную роль. От его дочери Д- 1’ у,)Ызмаг,
““У* за >|аР™ Хсартага, рои^ап0ибеттроп становится
Хамыц н Сатана. Бценон из рода Д
13 „екотожепон Хамыца, матерью знаменитого
детств0
рых вариантах Урызмаг и Хамыц пр
зыШШНЫй сын
У Допбеттров, у них воспитывается
ки отца. ТаУрызмага, пока случайно нс ПОГ1^ас ть предками нартов
«им образом, Допбеттров можно си
НС обнаруживается
по материнской линии.
В других национальных версиях
и их богами.
кровно-родственных связей между 11с I
Из всех нартских богов самую значительную роль
в эпосе играет небесный кузнец Курдалагоп — Тлепщ—.
Айпар-ижи. Он делает для нартов панцири, кольчуги,
шлемы, мечи (например, для Сосруко нм выкован меч из !
чудесной косы бога плодородия 1 хаголеджа), щиты,
копья, стрелы, стремена и подковы для их боевых коней.
Польше того, им закалены в небесной кузнице Батрадз
ц Сослан, вследствие чего они становятся неуязвимыми.
Бог-кузнец мгновенно залечивает нартам разбитые в бога
головы, прикрепляя к ним медные занлаты, пли даже
изготовляет новые черепа. В одном из сказаний гово­
рится, что бог-кузнец запаял разрез на спиле Хамыца,
после того как Сатана вынула оттуда раскаленного Бат
радза; бог-кузпец способствует появлению Сосруко на
свет; но просьбе Сатаней он вырубает его из камня. Ви­
димо, все эти факты говорят об отражении в эпосе эпохи
овладения людьми железом 50. Век железа в развитии обще­
ства знаменателен тем, что люди впервые начинают широко
заниматься земледелием. Это тоже отразилось в нартском
эпосе. Данный мотив в большой мере связан с образом
небесного кузнеца Курдалагоиа — Тлепша — Абмара-пжн.
Своп пашин нарты впервые вспахивают сохой, получен­
ной от Курдалагоиа. Тлепшем изготовлен первый серп;
кроме того, он кует плуги, молоты и другие орудия.
Из сказанного видно, что Курдалагоы — Тлопш —
Айнар-пжи играет в нартской мифологии такую же роль,
какую играет Гефест в греческой мифологии, Вулкан
в римской, Ильмаринен в карело-финской.
Насколько значительную роль играют железо и куз­
нечное дело в жизни нартов, доказывает тот факт, что
в сказаниях фигурирует не только один небесный кузнецМастерством кузнеца в осетинских сказаниях владеет н
Сафа. В адыгском эпосе этим ремеслом занимается, ПО­
мимо Тлепша, его учитель Дабсч и его ученик Худим. ^
В осетинской мифологии и языческой религии напоолес популярным божеством являлся Уастырджи51 (сня­
то]"! Георгии)
покровитель мужчин, путников п войной»
по мнению В. И. Абаева, это слегка христианизирован
ный образ старого солнечного божества. Уастырджи даря*
'
:
I !
К
I
'
1
I
п
\
■
:
;
I
-
щ
:
1
чг
I
■
52 «Осетинские иартскис сказания», стр. 81.
97
7 Заказ К? 1480
50 Е. И. Крупнов. Древняя история Северного Кавьа
стр. 373 и др.
51 «Фольклор Южпой Осетии», стр. 41—42, 161—162.
96
! 1.1
:
I
■
-Г
Лишь в одном абхазском сказании
о том, что
нарт Уахсит женится на сестре богаговорится
охоты Ажвенпшаа.
Во взаимоотношениях между нартами и их богами
1ПРа тптудалось
этап развития
общинно-родового
когда1*людям
в известной
мерс покорить строя,
силы
прпродьГ И пользоваться ее благами, прсооразшшшы
ми
ЧеЛХтдаКбогоТбордаства в нартском эпосе связан с имс- !
пем^Батрадза, г.,1?
......
Ж. Дюмезнль и В. И. Абаев,
отрицая достоинств
Батрадза как земного человека,не идеального
витязя,
неукротимого и бесстрашного борца против зла, считают
его грозовым божеством пли богом-мечом наподобие
скифского53. Е. М. Мелетнпский, отрицая божественное
начало в этом образе, считает Батрадза типичным эпиче­
ским героем, воплощающим «новую, законченную форму
эпико-героической идеализации. Вместе с тем, — пишет
он, — сила Батрадза выражена средствами фантастпческой гиперболизации» 54.
Не подлежит сомнению, что Батрадз — эпический ге­
рой. В то Яле время, нельзя не учитывать специфичности
этого образа. На мой взгляд, Е. М. Мелетнпский недо­
оценивает тот факт, что Батрадз — герой-нолубог, типа
Геракла и Гильгамеша. Об этом говорят как его поведе­
ние и весь его облик, так и некоторые важные моменты
его «биографии».
Мать Батрадза происходит из .морских божеств Доноеттров, а его отец Хамыц является их племянником по
матери.
2. Батрадз рождается необычным путем. Оскорблен­
ная партами Бценон, перед тем как покинуть их страну»
магическим спосооом вызывает в спине своего мужа Хамыца опухоль и туда вдувает зародыш ребенка. Через
некоторое время Сатана извлекает из опухоли раскаленпого младенца Батрадза. Это напоминает рождение
Афины пз головы Зевса, а Диониса из его ребра.
3. Детство свое Батрадз проводит под водой, возможно
У родичей своей матери, ибо земля не может прокормить
его. Нарты выманивают его из воды путем обмана, кото­
рому научила их мудрая Сатана.
53
О. ВишегП. Указ.
Мартовский эпос, стр. 62—08. соч., стр. 179—189;
м Е. М. Мелетпнский. Указ. соч., стр. 199.
98
/(. Батрадз постоянно пребывает на небе вместе с не­
божителями, спускаясь на землю по зову своих соплемен­
ников, когда они нуждаются в его помощи.
5. Батрадз обладает такими необыкновенными качествами, такон сверхчеловеческой силой, что сравнительно
легко одолевает даже самих богов.
0. Верховное божество — бог богов — признает, что
смерть Батрадза от него не зависит, ибо он появился па
свет помимо его воли.
В предисловии к изданию абхазского нартского эпоса
III. Д. Ииал-Ииа пишет: «В представлении нартов реаль­
ный мир существует как что-то само собой разумею­
щееся. О сотворении мира богами не сказано ни слова»55.
Это правильно постольку, поскольку речь идет о язы­
ческих богах. Но в осетинском варианте мы имеем дело
нс только с ними, по и с христианским богом, с именем
которого связывают сотворение мира. Этот бог появился
в эпосе позже, с проникновением христианства в Осетию,
но нельзя упускать из виду, что мы должны изучать
партские сказания и отраженный в них общественный и
культурный быт, психологию, мировоззрение создавших
его народов не только на первоначальном его этапе, но и
пока
иа всем протяжении их исторического развития,
формировался эпос.
Нарты, попадая в трудное положение, часто обра­
щаются к богу: «Хуыцэеутты хуыцау, ма?хп, хуыцау, кзед
ж м а?
мао лсташ тыххяей сфаелдыстай... уад зэуый
явуый сараз» («Бог богов, мой бог, если ты для чегонибудь меня сотворил... сделай то-то и то-то») и
бог немедленно удовлетворяет их просьбу. В некоторых
сказаниях встречается выражение: «Хуыцау адэомы куы
сфаелдыста...» («Когда бог сотворил людей...»).
Здесь речь идет, конечно, не о языческих богах,
а о безымянном боге, являющемся единым, бесконечным,
всемогущим, всеведущим и вездесущим, т. е. о христиан­
ском боге, который управляет миром с помощью оесчислепиого множества духов высшего и низшего ранга, со­
ставляющих его свиту или воипство.
.
Против них и выступил па борьбу Батрадз. Он оеслощадпо истребляет небожителей, зедов, дуагов (ангелов;
девяноста девяти
55 «Приключения нарта Сасрыквы п его
братьев», стр. 10.
В. Абаев-
7*
I
I
99
•Ч-'
III ■4
’
г
'
и прочих святых и в конце концов выступает против самого «бога богов».
Батрадз борется против христианского бога, его спитых и христианизированных языческих богов Уастырджи
и Уацилла (святого Ильи). Подлинно языческие (и по
имени и по своей сути) боги Курдалагои, Афсати, Тутыр
и др. в этой борьбе участия не принимают.
Было бы неправильно усматривать в борьбе Батрадза
с богами прометеевские мотивы, так явно проявляющиеся
в адыгской версии нартского эпоса. Батрадз бьется с бо­
гами не из-за огня или каких-либо других земных благ,
а потому, что он их ненавидит. А ненавидит оттого, что
они христианские боги, а ом язычник. Таким образом, здесь
мы видим борьбу между двумя религиями, языческой и
христианской.
Как доказывают исследователи, иартекпй эпос возник
в VII—VI вв. до и. э. и формировался до XIII—-XIV ви.,
т. е. до нашествия монголов, разгромивших средневековую
Аланию. Христианская же религия начала проникать из
Византии в Осетию в V в. и одержала победу в X в.,
когда она была принята официально. На протяжении
этого времени происходила борьба между двумя рели­
гиями (языческой и христианской), что не могло не
найти своего отражения в эпосе.
Своеобразие богоборчества нартского эпоса на этом
этапе заключается еще и в том, что против «бога богов»
выступили не отдельные герои, а все нарты. Неприязнь
к богу доходит до того, что они совсем перестали мо­
литься ему п делают свои двери высокими, чтобы, входя в
них, им не приходилось нагибаться и бог не подумал, что
они ему кланяются. «Долго служили мы богу, — говорят
нарты, —- а он ни разу нам не показался даже. Теперь пусть
выходит он против нас, пусть померяется с нами силой» •
Гибель Батрадза и всех нартов в борьбе против оога
символизирует поражение языческой религии и пооедУ
христианства в Осетии.
Природные и общественные силы олицетворяются
в нартском эпосе не только в образе богов, по и в образе
великанов (осетинские уаиги, адыгские иныжи, абхазски0
адау). Великаны — извечные, непримиримые враги нартов, ведущих с ними непрерывную борьбу. В отношения*
мартов к великанам отразилась их борьба, с одной сто­
роны, с природой за жизненные блага, с другой — против
враждебных им иноземных племен.
Среди материальных благ, добытых людьми в борьбе
с природой, наиболее важным для них был огонь. При­
обретение огни означало качественно новый этап в жизни
человека, оно ознаменовало новую эпоху в развитии об­
щества. Отсюда понятно, почему культ огня занимает
такое большое место и религии, мифологии и эпосе древ­
них пародов.
И борьбе за добывание огня явно выделяется Сосруко — Сослан, И абхазском сказании Сасрыква своей
стрелой сбивает самую яркую звезду, излучающую тепло
и свет, ггобы помочь партам, замерзшим от холода,
Но эта звезда не может согреть мартов, им необходим
земной огонь, которым владеет великан.
Сасрыква побеждает его, добывает огонь и спасает
партой от холода. То же самое видим и в адыгском сказа«Как Сосруко добыл огонь». В осетинском эпосе Сос­
кип
не
добывает для нартов огня, он гонит иартекпй скот,
лай
гибнущий
от холода и бескормицы, в теплую страну Мукарьг, побеждает великана в магическом соревновании и
что
убивает. Здесь огонь заменен солнечным теплом,
в сущности одно и то же57. Земной огонь для нартов
в осетинском эпосе добывает Сырдои.
Тхаголедж
Мы уже упоминали, что бог плодородия
положило у них начало
подарил нартам семена проса, что
земледелию.
Но просо похитил Емннеж, «заклятый враг человече­
ской радости... чудовище с телом дракона и лицом вели­
кана». Сосруко уничтожает Емпнежа и возвращает нар­
добыванию проса
там семена проса, что равнозначно
У первоначального его хранителя58.
В абхазском сказании «Почему парты пошли походом
па великанов» нарты побеждают великанов и добывают
виноград, яблоки, персики, инжир, черешню.
сказаниях
Нетрудно понять, что в перечисленных
в лице великанов мы имеем дело с силами и явлениями
природы, в борьбе с которыми нарты добывают сеое раз­
личные жизненные блага. В пользу такого толкования
Данного вопроса говорит и то, что великаны изоора” Ср.: В. А б а е в. Иартовскпй эпос, стр. 51—52. 169.
08 См.: Е. М. М ел стпн с кпй. Указ, сот., стр.
;
I
50 «Осетинские нартские сказания», стр. 482.
100
■
1
!
I'
:
■
Г;
!
I
I
• {
I
I
I
<
щи
.
101
I
.
:
и
|
:
у
;
жаются как существа глупые, но обладающие необычай­
ной физической силой. По сравнению с великанами парты
кажутся карликами, но побеждают их умом и хитростью.
Великаны, однако, — не только олицетворение вра­
ждебных сил природы. В сказаниях о борьбе с ними запе­
чатлелась и борьба с враждебными набегами и нашест­
виями 59.
Яркой иллюстрацией двоякой роли великанов в нартском эпосе служат сказания о борьбе двух главных героев
эпоса — Сослана — Сосруко и Батрадза против них.
Сосруко борется с великанами за огонь, семена проса,
пастбища. Батрадз же в основном противостоит великанам, которые нападают на партов, грабят их страну, по­
хищают детей и женщин.
Носителями зла в нартском эпосе (в осетинском варпанте) выступают, кроме великанов, еще и далимоны —
хайраги — кадзи (черти, бесы). Они фигурируют по
только в нартских сказаниях, но и во всем осетинском
фольклоре, занимают значительное место в религиозных
верованиях осетин.
Далимоны вредят партам как только могут. По науще­
нию Сырдона, они убивают коня Сослана, пустив в него
из подземелья своп смертоносные стрелы. В одном сказа­
нии ими схвачен даже сам Сослан, и хозяйка далимоиов
прибивает его за рукава и шаровары к стейке, где иартекпй богатырь висит, пока его не освобождает Батрадз.
Далимоны берут в плен Уархага — Уархтаиага и мучают,
пока Хсар и Хсартаг не выручают их.
*
}
I
.
У. Б. Д а а г а г
КАВКАЗСКИЕ БОГАТЫРСКИЕ
СКАЗАНИЯ ДРЕВНИХ ЦИКЛОВ
И ЭПОС О НАРТАХ
I
*
Таковы религиозно-мифологические и богоборческие
мотивы в нартском эпосе. Несмотря на мифологнзм ми­
ровоззрения создателей нартского эпоса, в нем имеется
довольно сильная струя реализма. В данном случае мы
имеем в виду не наивный, а, главным образом, художест­
венный реализм, благодаря чему нартский эпос имеет
большую познавательную ценность и является незаменимым источником изучения материального и культурного
быта создавших его пародов в далеком прошлом.
59 См., напр.: «Нарты. Кабардинский эпос», стр. ^364, 434.
^
(Здесь великаны рпсуются как существа, которые граоят. X
вают людей, уводят их в рабство. Ср. абхазский народный эпо о
!
:
Образы великанов в кавказском эпосе представляют
его древнейший пласт, занимая в нем исключительное
место.
Великаны фигурируют не только в героических сказа­
ниях. Мы встречаем их и в сказках — волшебных и богатырских, и в генеалогических преданиях и легендах типа
«1е<*еп(1с8 (1ез опдтся», и в древних сказаниях о богаты­
рях. Надо сказать при этом, что жанровое оформление
образов не всегда является их доминирующим признаком,
хотя и зависит от него определенным образом.
В нашем исследовании мы нс затрагиваем вопроса
о центрах происхождения и формирования нартского
эпоса, потому что он требует еще более глубоких ком­
плексных изысканий со стороны историков, 'археологов и
лингвистов. Из этого, однако, не следует, что мы стоим
па позициях равномерного п пропорционального распро­
странения нартского эпоса на Кавказе. Бесспорно, что
У осетин п адыгов партиада сохранилась значительно
лучше, чем у других народов. Абхазские сказания о пар­
тах представляют еще одно архаическое разветвление
иартиады. Вместе с тем даже признание определен­
ных центров формирования нартского эпоса не исключает
более широких представлений о богатой эпической траДИЦИИ И сложных процессах ее внутреннего развития
У многих кавказских народов. Героико-эпическая арадивсегда укладывается в рамки цикДня, на наш
... парной”—, имея более широк»
своего
:
■
!!!'
!
11
%
! :
!
:
'
§
:
;
I,
1>
.
I
выражения.
Остановим внимание на некоторых вопросах, имеюЩпх отношение к х удожествеыиой специфике нартского
■
103
II
!
1
эпоса. В данном случае мы имеем в виду художествен­
ную организацию эпических сюжетов в партском эпосе
вообще.
Применение сравнительно-исторического метода иссле­
дования эпических произведений различных кавказских
народов приводит к убеждению, что в эпосе — в его доциклпческой и циклической формах (и в богатырской
сказке)—довольно часто встречаются общие местатак называемые «1ос-1 сот шипев».
Здесь выделяются устойчивые но своей конструкции
сюжетные комплексы мотивов, деталей, эпизодов. Тс или
иные сюжетные комплексы как общие места в эпосе под­
чинены общей динамике повествования. В силу известной
направленности его в сторону героической разработки
сюжетов н образов обозначенные сюжетные комплексы
имеют довольно постоянные эстетические функции, вы­
ступая в роли своеобразных определителей героических
объектов эпоса. Однако при всей внутренней устойчи­
вости здесь они подвержены довольно частым перемеще­
ниям. Перемещаемость и определенная текучесть наблю­
даются как внутри эпического жанра, так п вне его гра­
ниц, как внутри национальных версий партского эпоса,
так и за их пределами. Вопрос этот очень сложен, и мы
не ставим себе цели подробно рассмотреть его, а лишь
фиксируем само явление, характерное для определенных
эппчеекпх форм (в конкретном случае для нартских сказаний).
Приведем некоторые примеры.
В нартском эпосе широко известен мотив рождения •
героя из камня. Этот мотив признается исследователями
очень древним, рождение из камня почти всегда, во всех
национальных версиях, связано с именем Сосруко —
Сасрыквы — Сослана. Вместе с тем в осетинском эпосе
подобное рождение приписывается другому знаменитому
нартскому герою — Батрадзу, а в ином случае и СырдопуВместе с тем в осетинском же эпосе есть вариант, где
Сосруко рождается не из камня, а является сыном Сасаиа
и даже принимает участие в рождении «своей нероднвшей матери» (см. сказание «Как родилась Сатана».^
В. Миллер. Осетинские этюды, ч. 1). В некоторых
вариантах осетинского эпоса Сосруко, как и Урызмаг
Хамыц, — сын Дзерассы. Во всех подобных случа^
имеет место явление художественного перемещения
!
;!
I.
нарушение определенной устойчивости, отнесение черт
одного героя к другому, поглощение признаков одного ге­
роя другим. Сам же мотив рождения из камня может рас­
цениваться как один из определителей эпического бога­
тырства, когда «каменная природа» героя есть примета
его несокрушимости и мощи. В таком случае этот мотив
мог быть использован сказителем для характеристики
сюжетгероев вообще. Еще более заметно перемещение мотив
вого комплекса в другом примере. Имеется в виду
спасения от смерти старого мужа . Обычно это спасение
Урызмага в осетинских вариантах, Уазырмеса — в адыгских. В состав рассматриваемого сюжстпого комплекса
постоянно входят эпизоды о «чаше с отравленным пазмеями, гадами;
витком», наполненной ядовитыми
о стальных усах героя, совершающего подвиг в спасении
«старого мужа». В адыгских вариантах стальные усы ге­
рои и подвиг спасения старого мужа обычно приписаны
Сосруко или Бадыиоко. В осетинском эпосе подвиг пронзапия гадов стальными усами героя отнесен п к Хамыцу
н к Батрадзу одновременно. В. И. Абаев замечает, что
в батрадзовском цикле кое-где «проглядывают признаки
того, что Хамыц и Батрадз — одно п то же лицо. В дигор--- часто с эпитетом
ских вариантах ими Хамыц встречается
(Болат-Хамыц).
Между
тем тело из
Болат «стальной»
признаком
Батрадза,
а не
стали является отличительным
своих стальХамыца... В частности, когда герой концами
ных усов пронзает гадов в чаше, то этот подвиг припи­
сывается то Хамыцу, то Батрадзу» Б В. И. Абаев склонен
объяснять эту двойственность лингвистически от мон­
гольского Хабпчи-Батыр, которое в аланском преврати­
лось в Хамыц и Батрадз. Приведенные нами примеры
перемещения не составляют исключения. Многие черты и
свойства осетинского Сырдоиа, как и сопровождающие
этот образ сюжетные комплексы, повторяются, например,
в чечено-ингушских вариантах, где все это отнесено
к Батоко-Ширтга; его сын, как и сын Сырдоиа, оказы­
вается сваренным в кипящем котле; лошади БатокоШиртга, как и лошади Сырдона, режут гуоы. Ооа они
мстят партам, а затем выручают их из осды и т. д. (см.
II
ш€
.
: I!
»:'л
!!
:
1
I
Ш
ССКГ, вып. V, стр. 38—39).
ИСОНИИ, Т. х, вып. 1
1 В. Абаев. Мартовский эпос. —
Цзауджикау, 1945, стр. 62.
105
104
X-
Вместе с тем текучесть «общих мест», их
националь­
мое варьирование как явление художественного
щения «определителей героизма» от одного героя перемок дРу.
тому, нз одного национального варианта
1! Другой не
только свидетельство общности и национального
образия нартского эпоса. Это явление мы склонны-МИОГОрас­
сматривать как в известной мере закономерное, связан­
ное с особенностями устного народного словесного эпиче­
ского искусства, где канонический текст сказания почти
исключается, где возможны самые непредвиденные, ко­
нечно в пределах эпической традиции (но по в пределах
жанра!), художественные варьирования.
В этой связи обратим внимание еще на одно ирра­
циональное с точки зрения логики эпического повество­
вания явление. В партском эпосе всех народов без исклю­
чения Сатана — Сатаней — Села-Сата и т. д. почти всегда
выступает в роли «нероднвшей матери» Сосруко — Со­
слана — Сасрыквы — Сеска-Солсы. Однако в осетинском
сказании о рождении Сатаны от мертвой Дзерассы,
так же, как в древнем ингушском мифе о рождении СслаСаты, Сослан и Сеска-Солса фигурируют до рождения
своей породившей матери. Именно они караулят умер­
шею, от которой, после осквернения трупа небожителем
родится Сатана — Села-Сата.
Указывая на явление передвижения определенных
сюжетов, .мотивов и деталей повествования, либо на ирра­
циональное смещение сюжетно-логических структур,
устоявшихся в эпосе, мы должны оговориться, что все
это не исключает представления о наличии в нем до­
вольно стойких характеристик эпических героев. Одиако
сам факт вариативности противодействует односторон­
ности суждений оо эпических образах как первозданных,
ве шо устойчивых и будто бы неизменных в своей древ­
ней основе.
Благодаря указанному явлению перемещаемости, те
пли иные сюжетные комплексы входят и в эпическую
поэму, и в самостоятельные сказания, и в сказку, пре­
имущественно богатырскую. Естественно, что в эпосе они
звучат в оуквальном значении, т. е. как эпическая бьтль.
Б художественной атмосфере сказки эпические элементы
теряют тенденцию к «достоверности» повествования.
Не ставя себе задачи определить генетическое соотно­
шение сказки и сказания, мы вместе с тем отмечаем ваЖ.
106
I
1
ность изучении эпоса но только в пределах его жанра,
но п в более широких границах.
У дагестанских народов нет нартского эпоса, подобкого сказаниям пх соседей. Однако весьма распростраценными здесь являются так называемыо нартскно
сказки, в которых, как мы уже отмечали, сохранились
эпические сюжеты, типичные для кавказского богатыр­
ского эпоса. Эго следует сказать и о богатырских сказках
чеченцев и ингушей в наиболее архаической их редакции.
Здесь, по-видимому, мы встречаемся не столько с яв­
лениями деформации эпического рассказа и иерерождения его в сказку, сколько с фактом одновременного сосуществоваиня эпических сюжстоо в разных повествовательных жанрах. Вполне можно предположить, что
дагестанские сказки о велпканах-богатырях, как и сказанял, в которых фигурируют богатырские образы и присутствуют другие оничсскне компоненты, исходят из
одного общекавказского фольклорного фонда.
Что касается циклического эпоса, то в сравнении
с разрозненными сказаниями он представляет собой более
позднюю по времени и сложную по своей системе художественную форму. В эпических циклах, а тсм более эпической поэме, очевиден процесс переработки и художест­
венной организации ранее разрозненных героических
сюжетов в конгломерате сложных исторических, эпичсских, географических, языковых, эстетических и прочих
образований.
Все это полностью относится и к нартиаде.
Не случайно В. Ф. Миллер, ссылаясь на известное
положение Г. Герланда2 и В. Гримма3 по поводу древ­
негреческого эпоса об Одиссее о том, что вся «Одиссея»
составилась из отдельных эпических сказаний, связанных
в одно целое, в свою очередь, указывал на «перераоотку'
в партском эпосе древних сказочных сюжетов» и на про­
цесс «вовлечения в круг богатырских сказаний отдельных
сказок»4.
<М>иг2' 1869° Г1 Й " <3' А'1ег1есШзсЬе
I
МагсЬеп ш бег Обузое. Мад-
АЬЬашИипдеп бег
V- .з
Ог1шш. Им 8аде уоп РоНрЬет ВегПп, 1858.
4 у* еп Акабепт бег М’ззепзсЬаПеп г и
— «Этпогпол
М и л л е р. Кавказско-русские параллели.
I афическое обозрение», 1891, кн. X, стр. 187.
107
■
*
‘
Кстати, в рассуждениях по поводу сказания об одно­
глазом великане в кавказском эпосе В. Ф. Миллер писал:
«Осетины ввели сюжет о похождениях с одноглазым людоедом в цикл своего национального эпоса, приурочив
к своему богатырю Урызмагу. Таким образом, заключил
ученый, «сказка» переходит в былину» 5.
По наблюдениям В. И. Абаева, в нартском эпосе
имеется много пережитков начальной стадии становления
эпоса. Ученый справедливо считает, что на данной ста­
дии отдельные сюжеты и мотивы, до того как они опре­
делились в циклы, имели «разрозненное п самостоятель­
ное существование»6. Эта фрагментарность — явление
первичного состояния эпоса в его разрозненном виде.
С другой стороны, наблюдается фрагментарность вто­
ричного состояния эпоса. Она — результат такого видоиз­
менения эпоса, которое обусловлено известной степенью
его деформации на поздней ступени бытования.
В богатырских сказках и героических сказаниях мно­
гих народов Кавказа наблюдаются п первое, и второе
состояния иартской эпопеи.
О втором следует сказать, что отдельные части, как
осколки иартской эпопеи, возвращались на родственную
основу общекавказской эпической традиции, сложив­
шейся у народов Кавказа в развитой форме. Здесь извест­
ные сюжеты знаменитого иартского эпоса соприкасались
с не менее древними эпическими комплексами местного
происхождения, которые, со своей стороны, тоже воздей­
ствовали на него.
Изучение древних сказаний, преданий и богатырских
сказок позволяет определить несколько типов великанов,
встречающихся в кавказском фольклоре:
']) мифические великаны-чудовища;
2) одноглазые великаны-людоеды;
3) великаны-богатыри. Сюда относятся:
а) исполины, выступающие в роли древних насельни­
ков Кавказа и предшественников иартов;
б) великаны-силачи, по-своему олицетворяющие тру­
довую мощь человека: могучие рыболовы, пахари, косари,
способные совершать колоссальную работу;
|
легендариые осиовопов) богатыри-родоначальники,
отдельных фамилии и родов;
лондонки
народа.
г) пеликаны защитникивеликаны
первой и второй
что
Следует заметить,
п одноглазые людоеды) и
чудовища
групп (мифические
всегда оцениваются как персов сказках и в сказаниях>11Ы
О. Всликапы же — богатыри
как положительпажи сугубо отрицател!
в большинство случаев воспринимаются
вы о образы.
упомянутых образов великанов
3 процессе анализа
Iикаться пределами их жанровой грамы не будем ограни1 • мы придерживаемся того мнения,
дацпи. В данном случае
либо вторпчпости того пли
что вопрос о первичности
иного жанрового осмысления образов и сюжетов не всегда
их художественной оценки.
является основным критерием
жанрового разграЭто, однако, не исключает важности и
там,
ндейно-ос тот 11 ч ее к и х фуи к* ц 11 й великанон
ипчеиня
ои р еделс ино.
где они выявляются доста точ п оствеипой
сущности образов
В ыя сп еш I е и до Пи о-х удож е характеристика проливают
кавказских великанов и их
творчества пародов
спет на многие стороны эпического
возможность проследить эвоКавказа. Это дает не только
гснетическое соотиолюцню эпических образов, выяснив
эноса, по
тонне древних великанов с героями иартского Кавказе
на
показать общие истоки их формирования
в условиях древней эпической традиции.
Мифические великаны-чудовища
Мифические великаны-чудовища встречаются и в сказ­
ках, и л сказаниях. В сказках эти великаны чаще назы­
ваются дэвами, иногда каджами, а у большинства даге­
станских народов (исключая лезгин) и У плоскостных
чеченцев
— нартами7. великаны, как правило, представ­
Все мифические
ляются страшными фантастическими чудовищами, оли­
цетворяющими
зло. Г. Халатьянца, в древнейших армянПо наблюдениям
ских преданиях дэв — это злой дух, борющийся против
:
сказочные
7 В данном случае имеются в виду
капы, а не герои эпоса.
109
5 В. Ф. Миллер. Кавказские сказания о циклопах.—
графическое обозрепне», 1890, кн. IX, стр. 37.
6 В. И. Абаев. Мартовский эпос, стр. 22.
108
1
нарты-вели-
:
1
'
Ж
и
■
В
1
&
всякого добра. В армянских же сказках, по свидетельству
того же автора, указанное представление о злых духахдэвах заметно изменяется. Здесь это «не дух бестелес­
ный, бессмертный, а полудемон и получеловек, т. е. нечистый дух в образе гиганта, исполина, нередко снабжен­
ного несколькими головами» 8. Ом подлежит смерти, даже
человек может его убить, обмануть, устрашить; он может
взять себе жену из людей. Он живет в подземном царстве
или царстве мрака, иногда в пещерах высоких гор и
в чащах дремучих лесов. Он постоянно является облада­
телем неисчерпаемых богатств, похитителем прекрасных
девиц. Его огненные копи и буйволы вмиг облетают всю
вселенную. И все это представляется захваченным, уне­
сенным у царей и богатырей, которые, в свою очередь,
проводят много лет над истреблением злых дэвов и воз­
вращением своего добра 9.
Дэвы хорошо известны и в грузинских, мингрельских,
сванских и других кавказских сказках, где они изобра­
жаются как чудовищные великаны-людоеды непомерной
силы, иногда со многими головами.
В картвельских сказках, по характеристике А. Грена,
«дэвы имеют свои замки на высоких горах; часто такой
дэв носится по небу на трехногой лошади, похищая
с земли красавиц. Дэв силен, но неповоротлив и даже
глуповат, отчего смертные часто убегают от его пресле­
дований» 10.
В картвельских горных легендах упоминаются каджи.
А. Грен считает их местным эквивалентом дэвов. Он объ­
ясняет этимологию слова «кадж» первоначально в значе­
нии храорец, удалец, потом злой дух. Каджи живут под
предводительством Ешмы (очевидно, от Аешма Авесты).
Подобно дэвам они имеют свои замки, они также увозят
красавиц; каджи почти всегда являются победителями
в оорьое. Известно, что Ампранн, посланный богом на
землю для истребления дэвов, приковывается каджамп
к вершине Эльбруса за то, что он хотел даровать людям
Г. А. Халатьянц. Общий очерк народных аР??яН?ой5
сказок. — «Сборник материалов по этнографии», вып. 1.
1 ’
стр. 151.
9 Там же.
*
_п*р» 1890,
Ю А. Грен. Заметка. — «Этнографическое обозрение ,
№ 1, стр. 259—200.
110
то же происходит ][ с арПримерно
беззаботную жизнь. _Артаваздом , которого каджи примянскнм Прометеем
повывают к вершине Арарата.
> Авеста, суИзвестно, что в эпоху, когда создаваласт
ществовалн вс]ювання в каких-то полубогов нли ангелов
духа зла, Ааграмайлнуса (Арпмана), которых называли
<1ае\та (дэвы). Верования эти выработались в определен­
ные доктрины, запечатленные в книге «УелсШас!» или
Угс1ао\та-с1а1а», т. с. законы против дэвов п.
<- Многие учеиьи», в числе которых были Г. Халатянц и
Л. Геико, видели вдовах и каджах кавказского фольклора
отражение древней райского учения Зороастра.
Признавая определенное влияние древнеиранской мифологшг, выразившееся в представлении о духах зла л
злобных чудовищных донах и каджах, следует сказать,
понятие об этих образах на Кавказе
псрвоначалыюс
обусловлено воздействием
что
это
(мнфологической, сказочизменилось. Изменение
местной фольклорной традиции
определнла харакнон, эпической), которая, в основном, и
™ мифические в—,, О„„0в сказтинные дэвам и каджам, чаще всею псг,)е14
нзмепенках. Вместе с тем они фигурируют в нескД 11аделеиы
ном виде и в сказаниях. Великаны-чудо
мог\гвсесокрушаюгцой физической силон. I <>
Ло этп
щество их состоит в силе волшеоноп. а1
* бон юте я
великаны всегда враждебны людям, нот 1 1
от ни
с ними. Злобные великаны никогда не
кавказских
в положительной роли, ни в роли ДРеи
аборигенов.
Рассмотрим несколько примеров.
«Черный
Великан-чудовшцс из аварской 44 *
Он понарт» — это, прежде всего, мифическое су \
^ чел0является как щит тучи, как буря, тле < г*оритсЯ| что
века и бесследно уносящая его. о сьс '
щпТ черной
молодец «оглянулся назад и увидел.
черный нарт,
тучи, догоняющий их; как буря, нал с л ^ молодца по
011 дя верхом на трехногом коне, удар
. Тгааисйоп
п 1атез Б а г т е 81 е р е г. Ь® 2?гпл г и а^Ахези Хлугс ьасн
уе11е, уо1. 1-3. Рапе, 1892-1893; СЬ. ^ 1875_1877.
оея зесШошя йе 7огоаз1ге, хо1. 1—^- ь ь ’
111
Ж
:
голове копытом; в сто сторон полетели сто частей
его
тела» ,2. В данном случае невольно возникает
МЫСЛЬ
о том, что представление о великане в виде тучи и бури
есть древнее олицетворение грозового явления.
«Черный нарт» обладает способностью оживлять мерт­
вое тело и вдувать в него жизнь; он имеет «две жизни».
Великан-чудовище обладает метаморфическими свойст­
вами, он способен принять облик волка, ястреба и т. и.
Всликап-чудовшце может превратить своего врага в камень, рассылать живое тело на мелкие кусочки и, в свою
очередь, оживить его.
Следует заметить, что великаны чудовища встре­
чаются в тех дагестанских сказках, сюжет которых раз­
вивается в эпико-богатырском направлении. Подобные
великаны представляют враждебную силу, с которой
сталкивается герой-богатырь. И в этой борьбе герои с ве­
ликаном выявляется наряду с другими еще одна черта,
а именно глупость великана, которая обычно побеждается
умом и смекалкой сказочного героя.
В ипгушских и чеченских сказках встречаются ги­
гантские фантастические чудовпща-гарбаши. Живут они
в безлюдных местах. Их представляют иногда девятиголовымгг. По словам Ч. Ахриева, гарбашп «имеют оселок,
оживляющий мертвого человека, стоит только провести
им по телу мертвого» 13. По некоторым ингушским сказа­
ниям, гарбаш представляется в виде женщины огромного
роста и непомерной силы, которая способна «одним своим
волосом связать тринадцать могучих богатырей». Она
людоедка, готовая встретить с острым ножом заблудив­
шегося путника, принять его на ночлег и сожрать на
утро м. Гарбаш подобного рода всегда отрицательный
персонаж.
В балкарско-карачаевских
л
сказаниях гарбашам соотртто'г В^ЮТ эмегс1ш* Эмегены, по замечанию С. Урусбиева,
П:,еЛ°ВеЧеСКОе МД°°» 01Ш безобразны на вид, иногда
ниях* ^Глаз^м^00
эмегены так рисуется в сказаего представилась громадной величины
женщина «эмегепа» с откинутыми назад через плечо пер,3 5СКГ’ вып- И- Тифлпс, 1869, стр. 38.
Котики ТПип'?Л\1вЧаппт^т?* ^хриева к сказанию «Орхустойцы я
|”"т?ЛГп,^3'
'■
112
187‘. ^38-
I
сами; она чинила трещины земли при помощи иглы,
которая была величиной с. хорошее бревно, а нитки —
как аркан», герой решился «потихоньку подойти к ней
сзади и тотчас взять со перси себе в рот и таким образом
сразу стать ее молочным сыном» 15. Дочь эмегены тоже
громадная и страшно уродливая дева: «зубы у нее были
так велики, что нижние клыки доставали до носа, а верхпне опускались ниже подбородка; увидев детей, эмегеиа
их «тут же принялась глотать» ,6.
К этим образам близко примыкают великанши даге­
станских нартских сказок.
В аварской: сказке «Морской конь» 17 сообщается, что
сказочный герой «нашел человеческий след шириною
в локоть, длиною в три, глубиною в локоть в землю».
Он идет по этому следу и добирается до конца леса; гля­
дит—гладкая поляна, посредине поляны семь башен,
верхушками до неба достают, вокруг железный забор со
человеческой
.
<г V
.
г
I
т
пои и,а в потолок упиралась. Герой приложил™ губ»ш
к сс груди. «Теперь ты мой сын, а я твоя м*
,
*
зала великанша, — если бы тьт не прикоси>.
1
груди, то вот что я бы с тобой сделала», ш
надвое кошку, сунула в золу, затем проглотила •
В лакской сказке «Мачеха и пасынок» у *
тоже каждая грудь переброшена через плечо.
Р
дошел к ней и, незаметно схватив за грудь, оы Р
м
сад молоко, после чего великанша признала сг
В сказочном фольклоре народов Дагестана воооще^
вестей образ лесной женщины-ведьмы со св
плечо,
пола грудями, одна из которых перекинута ^ Р
ыков
Эту лесную женщину называют У аварц
<<албаштп»?
алоашти, у даргинцев ояжук. Сам те<? свисающими до
прикрепленный к женщпие-людоодке
дагестанские
земли грудями, по-видимому, пропнк б ^ мы встрссказкн с Востока. Не случайно нечтоголным-згомбюль» 19.
чаем, например, в турецкой сказке «Салкым
.
!
.
I
1
:
.
!
,6 СМОМПК, вып. I. Тифлпс, 1881, стр. 8.
.7
«е. стр. 9.
.8 рСКГ’ вып. II, стр. 9-16.
19 ,,2К0П- Ф°пд ДАГМИИЯЛ, д. 106, ск. 209.
Турецкие народные сказки». М., 1967, стр. 96.
8
Заказ № 1480
:
113
- 1
Здесь на высокой горе «находится мать сорока дэпов»,
которая рисуется в следующем виде: «сидит жепщпиадэв, словно минарет, одну ногу протянула па одну гору,
другую на другую; груди, подобные бурдюкам для масла,
закинула за спину и жует камень величиной с узел; ры­
чание ее слышно за полчаса пути, дыхание вылетает как
зимний ветер и смешивает землю с пылыо, руки у нее
в восемь аршин».
Обратим внимание еще на одну существенную деталь.
Во всех кавказских вариантах герои, прикладываясь
к 'груди гигантской людоедки, становится ее молочным
сыном.
Обычай установления молочного родства является од­
ним из древних обычаев кавказских горцев. Сам факт
отражения этого обычая в сказаниях и сказках пародов
Кавказа20 указывает на их древнюю формацию. Вместе
с тем он подтверждает своеобразие оформления рассматриваемых образов на кавказской почве.
Мифические великаны дагестанских, ингушских ска­
зок, карачаево-балкарских и других сказаний имеют
много общего.
Вполне вероятно, что на Кавказе представление
о злых, жестоких и всемогущих существах восходит
к древнеиранским дэвам. Вместе с тем нельзя при этом
исключать значительное влияние и местной фольклорной
традиции, в том числе и мифологической, которая про­
явилась в изображении чудовищных фантастических
образов.
Влияние кавказской традиции можно проследить в том
видоизменении мифического образа, которое очевидно во
многих случаях.
Рассмотрим для примера аварскую сказку «На горе
нартов», сюжет которой хорошо известен народам Север­
ного Кавказа 21.
В поисках сражения герой-богатырь отправляется на
«зеленую гору». Богатырь слышит страшный громовой
голос, который кричит ему: «Птицы даже не смеют оста­
навливаться на моей горе, а ты, человеческий сып, как
К гсрою-молодцу приближался
смел прийти сюда?». молодец начали борьбу, по пули и
большой нарт. Нарт и
стрелы обоих не поражали ни того, пи другого, После
долгой борьбы герой победил парта. На другой день ге­
рой вновь отправляется на своем черном богатырском
коне на зеленую гору в поисках сражения. Достигнув
вершины горы, он видит дворец, обнесенный высокими
железными стенами. Растворив сильным ударом ворота,
он въезжает во двор, где встречает несколько мартов.
«— Привет вам, парты, — крикнул он.
— Если бы не приветствие, сделал бы из тебя закуску, — пробормотал одни из самых старых мартов.
— Откуда и зачем ты явился па нашу гору, куда не
смеет прилетать даже птица? — гневно кричали возмущепные парты.
с кем сра— Потому-то я и пришел сюда, 1То ищу
зиться, — гордо ответил молодец.
„
большой
Около мартов находились железный ло.
^
камень. Нарт спросил сына бедняка, чем он мог о У
дать его в своей храбрости и ловкости.
тот
— Вот ОС.™ бы ты смог с разбегу ороыпмя. на йот
острый камень! — ответил молодец, надсяс ,
этом непременно умрет.
Но нарт не умер и благополучно выполнил это.
— Ну, еще что прикажешь исполнить.
I
сына бедняка.
.
тмт т.,
— Желательно было бы посмотреть, с^0/*
‘ оу_
бросить вверх этот стальной брус и поим<
нами, — ответил молодец, надеясь, что парт не
г0710се
ниц будет сдержать брус, который ударит е!
Однако нарт легко взял стальной орус и ^Р^ил
так высоко, что тот совсем почти скрылся и' * 1 ’ одец
тем поймал одной рукой. Такую силу и ловко
внДел впервые.
~~ Давай лучше драться, — смело сказал молодец
п«уг
«арту. На это нарт согласился. Оки
Д/шх
с Другом ц боролись с утра до вечера, и
I ■*
•.
с
'.V
:
I
гр
?:
*
8
II
!
I
.
. I
20
Любопытно, что в упомянутой турецкой сказке о мат I
сорока дэвов деталь о прикосновении героя губами к груди
сутствует. Это, по-видимому, объясняется тем, что данный о
чай вообще неизвестен огузам.
г» Рукоп. фонд ДАГНИИЯЛ, д. 118, ск. 335.
114
”.ТрÑё„ ®
„,™ б„11Ьба
„о — —ел
в землю.
115
8*
!
I .
— Вот уже ты побежден, — сказал нарт молодцу
II он стал обнажать саблю, чтобы отрезать ему голову
— Что же, ударь саблей, умолять о пощаде я Ие
буду, — ответил молодец.
— Нет, я передумал, не стоит убивать такого
храбреца, как ты,— сказал нарт и вложил саблю
в ножны. Нарт был отчаянным храбрецом и огромным
силачом. Он любил показывать свою силу перед другими.
И на этот раз захотелось ему покрасоваться перед молод­
цом, показать смелость, силу и могущество. Он заявил,
что сможет войти в воду под лед и. разбив головой лед
пятпдесятнметровон толщины, выйти оттуда. Парт и мо­
лодец отправились на берег моря. Нарг опустился в море
под лед. Молодец думал, что нарт не сможет разбить лед
и замерзнет там. Не успел он подумать об этом, как лсд
с грохотом треснул, и парт вышел невредимым. И когда
нарт вторично залез в морс под лед, молодец стал про­
сить бога, чтобы он увеличил толщину льда еще на
пятьдесят метров, так, чтобы нарт не смог высвободиться.
Теперь парт напрасно карабкался, бился и метался.
При всем напряжении всех своих могучих сил он смог
высвободить только голову. Видя, что ему нечего ждать
спасения, нарт сказал молодцу:
— Ничего ты не сможешь сделать споен саблей, она
не отрубит моей головы. Лучше ты сходи и мой дом. Там
над дверыо находится меч: тем мечом ты н отруби мою
голову.
Молодец пошел за мечом парта и когда вернулся,
нарт попросил:
1
гопГ ^осле моей смерти вынь из моего живота кусок
' МотГШЬ его’/? К111нкон моей опояшься,
чтппгт
0ТРУ°ПВ нарту голову, принялся ломать лед.
кГа и т!)аТЬСЯ Д0 его живота. Он вскрыл живот вели­
кан увила”!'71 оттуда кУсок сала. Только он это сделал,
вместо со своеГсобакойаВШУЮСЯ Ж0Ну’ бежавшуЮ К
что знала об опасности?
•"^^чК.сйГ0*4'
собаке, — произнес. *
это
сало
жена.
сало, ты мп-Лт обязате*ыю хочешь попробовать^ это
баке, она готод,п„ВЗЯТЬ себе еще КУС0К. а этот отда11
Д11ая’ ~ настаивала жена.
Молодец послушал жопу и бросил сало собаке. Собака,
съев его, упала замертво.
— Вот, видишь, если бы ты съел его, значит, ты бы
умер; ну теперь бери кишку и опояшь ею это дерево, —
сказала жена, указывая па дерево. Когда молодец вынул
у парта кишку и опоясал ею дерево, кишка так врезалась
в дерево, что оно разлетелось пополам. Молодец погиб бьг,
если бы жена его вовремя не подоспела. Убитого, обез­
главленного парта они оставили во льду...»
Сказка представляет интерес во многих отношениях.
Прежде всего она имеет прямую аналогию со многими
нартскими сказаниями, в которых .встречается тождест­
венный образ могучего великана.
Возьмем для примера осетинское сказание «Сослан и
Мукара», распространенное во многих вариантах22.
В страшно холодную зиму парты, жестоко страдая от
бескормицы, решили послать стада в богатые пастбища
великана Мукары... Сырдоп подстроил так, что жребий
гнать скот выпал Сослану. Когда Мукара увидел на своих
владениях чужие стада, он пришел в ярость: «Что ты за
пес, что ты за осел, что смеешь пасти свой скот на моей
земле!» Сослан не сказал великану, кто он такой и на­
звался простым иартекпм пастухом. Мукара много слы­
шал о партах и о знаменитом их герое Сослане. Огг решил
разведать у пастуха, насколько силен и опасен Сослан.
«Нс знаешь ли ты, в какие игры любит играть Сослан?»
«Кое-что знаю, — отвечает Сослан, — одна из его игр та­
кая: он велит партам получше отточить свои мечи, затем
подставляет шею, и нарты быот по ней мечами изо всех
сил, от мечей сыплются искры, а па шее Сослана не
остается даже царапины».
Мукара желает немедленно испытать на себе эту,
весьма понравившуюся ему игру, подставляет шею л про­
сит «пастуха» ударить по ней изо всех сил. Сослан на­
деется одним ударом отсечь голову у Мукары, однако
нанесенный нм сокрушительный удар не причиняет вели­
кану ни малейшего вреда. Так же безболезненно прини­
мает Мукара и другие «игры» Сослана: он ловит ртом
22 См.: ССКГ, вып. VII. Тифлис, 1873, стр. 1; «Памятники пародного творчества осетин», вып. I. Владикавказ, 19-э, стр. /о,
«Сказания о нартекпх богатырях». М.» 1900, стр. 9-1; В. Аоаев.
Мартовский эпос, стр. 48.
117
116
прпп каменные
п выплевывает
под­
пущенные ГТпюмаД-ыс
«шбы, их,
которые
ставляет лоб под громадн ^
ом лба вкатывает их
скатывает на него <<па Упр11ДУмываст,
обратно па вершш,У Г°Р
ет Мукарс влезть внаконец,
море II
еще одну «игру». ° Р
ловОЙ достигнет
ждать, пока лсд над в™
лсд и вылезти
наружу,
условленной
толщины, после чего Р
й Мукары намерзает лед
По молитве Сослана, '
удается высунуть только
ему ГОЛО»,.
ным
ЗКЛКЯ*.—«•
>
жену, Сослан с победой возвращается домой.
В одном из осетинских вариантов говорится, что - у
кара, как и Черный парт из одноименной аварской сказ * ,
приближается, как «черная туча».
В нартском сказании, как и в дагестанской ска.зь ,
эпический герой сам идет во владения великана: Сослан
гонит на пастбища Мукары нартский скот, а молодец
отправляется на «зеленую гору», чтобы «найти там
сражение», проявить свою доблесть, храбрость, силу и
победить того, «кто храбрее его». Появление Сослана
земле великана приводит его в ярость. «Что
на
что ты за осел, что смеешь пасти свой
ты за пес,
земле!», — кричит великан. Присутствие молодца
на .моей
«зе­
скот на
леной горе» тоже вызывает страшное негодование воли*
каиов-нартов, которые кричат, что на их землю нс смеют
прилетать даже птицы.
В отличие от осетинского варианта сказания, в дагестанскои сказке появляется традиционно-эпический эпнЯЖ»* СХВ?ТК,и М0л°дда с великаном, когда веудапярт от улоРн®и борьбы, высоко подняв героя, так
Р
п землю, что тот входит в нее по колени •
И в сказания, и в сказке пеликан сильнее, могущест­
веннее, по глупее героя, который побеждает великана
не сплои, а превосходством ума и хитростью.
Мотив состязания п виде богатырских игр героя с великаном присутствует по только в иартских сказаниях,
но п в дагестанской сказке. Здесь великан по иаущешно
молодца бросается с разбегу на острые глыбы, бросает
ввысь огромный стальной брус и свободно ловит его.
В осетинских сказаниях эпический герой пытается сра­
зить пеликана тем, что предлагает ему ловить ртом пу­
щенные стрелы, подставлять лоб под каменные глыбы
и т. д.
В адыгских сказаниях о нартах24 Сосруко состязается
подобным же образом с великаном — ппыжем с целью по­
губить его. Ииыж отталкивает лбом лущенные камни,
глотает отравленные стрелы, раскаленный сошник.
Из всего сказанного видно, что образы велнканов-чудовнщ не имеют ярко выраженных жанровых контуров.
Более того, художественное оформление этих образов
в сказке и в сказания во многом совпадает.
Великан, несомненно, имеет мифическую природу;
кусок сала или кишки, вырезанные из живота чудовища
после его смерти, продолжают действовать как «раг$ рго
1о1о»
собны
великана, либо опояшется его кишкой. Хо
и отражает древние мифологические продета .
.. ч ело-0
века, на нем заметно уже значительное
капказ.
эпико-богатырской традиции, определившей^
ском фольклоре достаточно явственно.
р мпфоК числу древних образов, содержащих мпо! нс «иФо
вел н капы,
логические черты, относятся и одногла
ие_
получившие на Кавказе довольно широкое рас I
Р
НПО в Различных фольклорных жанрах.
Одноглазые великаны-людоеды
аЕ
а^ф335.
.»
«Народные •"&*?№*«?«
русские сказки,, т. 1. М„ 1855-1864 стр
//8
часто
Тип ^ великана-циклопа принадлежит древнейшей
эпохе
Ниц» Гот тип зафиксирован еще у Гесиода в «Теого^ ’-Щесь в число детей Урана и Гоп были три цик2' СМОМПК, вып. XIГ. Тифлис, 1389, стр. 10.
119
!1
;Н
лопа: Бронтес, Стсропес и Аргес, что соответствует
Грому, Молнии и Блеску. Это были страшные великаны,
обладавшие огромной силон и сверхъестественными свой­
ствами. На лбу они имели одни круглый глаз, от которого
и произошло название циклопов — круглоглазых.
В теогоннческом мифе у Гесиода циклопы выступают
в роли ковачей молний и помощников Гефеста, который
в глубине Этны выковывал для Зевса и других богов и
героев чудесное оружие, В более поздних сказаниях
циклопы представлялись как исполинское племя отдален­
ных времен. Опо будто бы и оставило после себя громад­
ные «циклопические сооружения». В эпоху Гомера цик­
лоп перестает быть божественным, попадая в героический
эпос, где встречается то одни, то несколько циклопов.
Как известно, в IX песни «Одиссеи» циклоп назван
Полифемом. У Гомера он — порождение моря, сын Посейдопа и нимфы Тоозы. Циклоп древних греков пред­
ставлен грубым исполпном-людоедом, живущим вне чело­
веческого общества. Полифему сопутствует определенный
сюжет, который после Гомера принято считать «классическим».
Помимо классического сюжета о Полифеме и кавказчргки^р!111015’ !13вест1Ю более двенадцати сходных с греазиатских пяаШШ у Разных европейских п некоторых
ьЩ —
гйый:
...... ". бу“'
версию занмствован-
публикация Дпеца26- псточннков); у огузов впервые
здесь великан называется ДепёI ецом-темепеглазым
его единственный глаз находптся на телтптп.- ,Так
Лихо «тоглмо"» Уо?““ ~ Д"““"
у русских —
известно немцам,
В
25 Ь. Ъап§1ез. Без хоуа^ез йе 8тс1Ъаё 1е тапп. Гап-» . п
20 II. Б1 е г. Бег псиен1е1еск1е О^Ьиг^сЪе Сук1ор хег(1
тН <1еш котепзскеп. ВегИп, 1811.
27 В. С. К а р а д ж п ч. Српске
1821, № 37.
пародие прнповзетке. — «Беч»,
28 А. И. Афанасьев. «Народные
№ 419; 0 н ж о. Поэтические воззрения
русские сказки», т. 1У»
М., 1808, стр. 099.
славян на природу, т. П.
120
В. Гримм, систематизируя сказания об одпоглазых
своей известной работе «Е)1е 8а§х* уон Ро1урЬеш»29,
указывал на то, что «внутренняя поэтическая сила каж­
дого народа, хотя п сохраняет основы сказаний, однако
собственной
таинственно накладывает на них печать его
жизни»30.
Основная идея образа, его сущность во многом опре­
делялись характером народа, у которого эпический тип
получал художественное развитие.
По совершенно правильному наблюдению М. И. Кома­
рова, арабы, греки, латыши и другие приморские народы
помещают великана па острове; народы, удаленные от
моря, относят его к горам и лесам. Огузский Депё-Гец,
как и сербский: Днвляи, живут в горных пещерах, рус— Лихо-одноглазое —в лесной: избе, арабская великанша
скин циклоп — во дворце 31.
одноглазый исполни
Однако в большинстве случаев
дасохраняет тимические черты древнейшего типа. Это
ПОГ1ЛОпало основание многим ученым видеть в циклопе
щопне мифологических представлений. С круглым кр
ным глазом великана ассоциировалось древнейшее мифо­
логическое представление о солнце-глазе. По предан х
индусов, солнце создано из глаз Брамы; в едах с •
называется глазом Варуиа, у древних персов он
* '
Ормузда. Глаз Одина в скандинавском эпосе то/ \
Цпнровался
с солнцем.
Ф. Буслаев
искал в основе предания о циклопах
У различных народов общность в истории их^веровании
и мифологии 32. Он, как и некоторые ученые (М.^Мюллер,
Л. Воеводский), видел в Полифеме солнечное оожество,
Другие признавал!! в нем грозовое божество (И. ПУ1Г>
А. Афанасьев
и др.).
М. Комаров,
однако, верно усмотрел в циклопе
только бога-громовпка. Он обращает вшгмаииет на эв
люцию этого образа, который из области религиозного
МиФа со временем «спускается в героическим эпо >
О г I ш т. Указ. сом.
3 °^ластц ^мпфов народпых^п^
32 Ф. Буслаев. Исторические очерки РУсско
ловесности и искусства, т. I. СПб., 1801, с 1 •
33 М. Н. Комаров. Указ, соч., стр. 100121
Народной
I
I
I
!
•!
1
■Н
:!
'
’ 1
:,1
1
;
:
5
‘
Обоаз велпкапа-настуха-одноглаза широко известен на
Кавказе в иартских сказаниях л сказках у мпнгрсльцев«, кабардинцев35, осетин36, дагестанцев37, чеченцев
II ингушей38.
В кавказском эпосе мы как раз н встречаемся с явлен нем чисто эпического оформления образа, хотя одноглазый людоед и здесь не лишен многих мифологических
черт.
В. Миллер в своих интересных работах о кавказских
великанах39 определяет разные циклы. Ученый отделяет
цикл сказаний, относящихся к «формуле Полифема», от
цикла сказаний, «живо напоминающих греческое — о ско­
ванном Прометее». В. Миллер считает, что кавказские
сказания типа Полифема, распространенные у различных
народностей Кавказа, занимают и среди других пародов
весьма видное место. Сюжеты об одноглазо, как и сам об­
раз исполина, подверглись на Кавказе ИЛ! шип ю других
сказании о великанах, которые, но наблюдениям В. Мил­
лера, тоже весьма распространены в кавказских горах.
1о его убеждению, «все кавказские рассказы вообще
олиже стоят к древнегреческому, чем европейские» 40.
™ЛСР считает» что можно объяснить эго необычное
совпадение древнегреческого сказан ия, восходящего за
тысячелетня до н. э., с мингрельским, записанным по­
давно, тем, что первоначально родиной рассказа об одно­
глазом велнкане-людоеде следует признать Малую Азию.
Отсюда он перешел и в греческий эпос. Миллер полагает,
что рассказ о велнкане-людоеде, проникший в греческий
эпос из Малой Азии, некогда ходил из уст в уста среди
древнего населения по берегам Черного'
моря и без зна34 СМОМПК, вып. V, отд. 2. Тифлис, 1886, стр. 97.
35 «Сказка о Хагоре». — СМОМПК,
1891, стр. 80.
вып* XII, отд. 1. Тифлис,
36 ССКГ, вып. VII. Тифлис, 1873
поездке
в Дагестан летом
9.
1882.37 Д. Н. Анучин. Отчет о » СТР.
- ИРГО, XX, СПб., 1884, стр. 40.
38 ССКГ вып. IV, отд. 2. Тифлис, 1870, стр. 12; «Этногра­
фическое
обозрение», 1901, № 1, стр. 43-45.
39
В. Миллер. Кавказские предания о великанах, прньо
ванных к горам.-ЖМНП, 1883, ч.‘ 225 вып 1* Он же. Кав1890Ки1ш ТГП. ° Дпклопах- — «Этнографическое обозрение»,
*Этногпа<Ът.0пипгЛг
0и же*1891,
Кавказско-русские
параллели.
тнографя*®слк°0о обозрение»,
кн. X, № 3.
• ер. Кавказские сказания о циклопах, стр. Зь
122
«петельных изменений сох ранился у некоторых народов и
до наших дион. Свою позицию в этом вопросе он под­
креплял высказываниями 13. Гримма, который в своей
работе «ГМе 8а^о хон Ро1урЬет» указывал на явную
прнвнссонность рассказа о Полифеме в эпическое повествованис «Однссеп». Этот сюжет, по его мнению, с одной
стороны, представляет вполне закопченное целое, с дру­
гой—он не совсем согласуется с характером героя. Рассказ привнесен в греческий эпос и включен в число
приключений Одиссеи, как п приключения некоторых героев восточиых сказок. Вообще же ученый уверен в том,
что колыбелью «Илиады» и «Одиссеи» была Малая Азия.
Мингрельский вариант Миллер признавал настолько
близким к греческому, что относил его не только к одному
сказочному сюжету, по и к «одной редакции» этого СШ­
жета. Из ингушских сказаний о великанах циклопиче­
ского типа Миллеру был известен только вариант Чаха
Ахриспа, опубликованный в IV выпуске «Сборника све­
дений о кавказских горцах» в 1870 г. О нем Миллер вы­
сказывал мнение, что это сказание бедно и вставлено
в другой рассказ, передаваемый Батерхом богатырю ЛялСулта.
По наблюдениям ученого, этот вариант юлее
напоминает осетинский, что вполне естественно
стоне географического соседства ингушей и
*
В обоих рассказах герой встречает гигантского с
‘
пасущего стадо овец. Но в дальнейшем и°1,с"
‘ ‘
* В чеченской
'
Дятел.
нет намека на то, что великан имеет
— ослсплсл,,шь один глаз и отсутствует главный мотив
чеченскнй рас­
что
яие его героем. Миллер предполагал,
сказ случайно оборван и существуют другие варианты,
кончающиеся ослеплением великана41. Но его убеждению, громадный человеческий череп, в котором прячутся
братья, зашел в рассказ из других сказаний о великанах.
в которых такой череп, по молитве мартов, оолекаотся
плотыо и на время воскресает («Осетинские этюды», ,
Здесь череп — только случайная и не имеющая
значения подробность. Наконец, герой в чеченском ска­
зании не обнаруживает ни малейшего героизма л тол
кое-как доползает до ближайшего оврага, так что вся
соль подобпьтх сказаний, подчеркивающих ум и паход
41 Там же, стр. 38.
123
I
:■
5:
)
I
вость человека в противоположность глупости пеликанов,
совершенно «испарилась» в чеченском варианте 42.
В то время В. Миллер не располагал многими ДРУгимн кавказскими сказаниями об одноглаза*, которио
стали известны несколько позже.
Б. Далгату, спустя 20 лет после публикации Ч. Ахрнева, удалось записать у ингушей такое сказание, которое полностью восполняло сюжетные пробелы предшест­
вующей записи.
Б. Далгат отмечает «основные» и «специальные»
черты сходства между греческим и записанным нм ппгушским вариантами.
Полифем представляется пастухом-скотоводом, ухажи­
вающим за своим стадом; точно так же изображен
ингушский одноглаз. Дубина Полифема -это «свежий
ствол из обрубленной маслины дикой»; ингушский одно­
глаз имеет также огромную палку, которую он вдевает
в череп и приносит на плече сидящих в нем богатырей.
Придя домой, Полифем прежде всего раскладывает «яр­
кий огопь». И ингушский одноглаз раскладывает огонь
спать14^)1ШШ11 пятеРых ^Яатырсй, поедает их и ложится
I
I
I
. *!;„в Ш1гушском варианте ослепление
великана иропзводится острым орудием. Г1о
ослеплении
одноглазого
исполина и в греческом, и в
ингушском рассказах герои
У-ходят живыми, хотя в
увечье.
ингушском герой и получает
Ученый обращает
внимание па то. что
ваемом ингушском сказании
в рассматрпУма и хитрости
заметно протлвоноставлепне
_ — героя — глупости
почти всем кавказским
великана, что присуще
Несмотря на имеющееся
сходство
ингушского
гРе~
сказаниям
и сказкам
такогои рода.
ческого сказаний об одноглазом циклопе, в первом паолюдается локализация некоторых деталей, вообще свойлик^наТбогашряхеСКи Кав1ШСК0Й Разработке темы о ве-
I
Пгрсмптпо СООТВСТСТВ,П1 11 сам образ одноглазого пастуха
____11а °бщпе типологические черты) получил на
«Чочеисклй»" аяргтР'г^аВКйЗС1Ше сказаш'я о циклопах, стр. 39.
слуГ рМ,11дет об ингушском вар]1аите.0К0М СМЫСЛе’ " ДЗНП°'
• далгат. Стпанихша
обозпйипп Кав?5?зского богатырРеппе», 1901 кн. ХЬУШ.
т
Кавказе своеобразную разработку. И здесь заметно сказываотся общекавказская традиция в изображении' велика нс ко го бо га т ы р ств а.
Образу велпкана-одноглаза в большинстве случаев
в кавказских сказаниях сопутствует определенный сю­
жет, напоминающий или в известной мере совпадающий
с древнегреческим сюжетом об одноглазом циклопе По­
лифеме.
Вместе с гем у кавказских пародов наблюдается своеобразное дробление темы одноглаза. При этом характерно
вариативное скрещивание отдельных эпизодов и деталей
в различных художественных контурах.
Надо сказать, что само насыщенно кавказских сказа­
ний осетин, ингушей, чеченцев, дагестанцев, адыгов, ка­
рачаевцев, балкарцев и др. эпизодами н деталями, отно­
сящимися к теме одпоглаза-пастуха, носит устойчивый
характер. Одноглазому великану посвящено и множество
сказок, в которых сюжет о встрече с ним братьев бога­
тырей стал почти общим местом. Все это говорит о ши­
рокой распространенности п живучести на Кавказе дан­
ного сюжетного комплекса.
В чем же проявляются эпическая амплификация дан­
ного сюжета на Кавказе и специфика художественного
изображения кавказского Полифема?
Рассмотрим некоторые примеры.
В осетинском сказании «О том, как великан поймал
Урызмага» 44 рассказывается, как Урызмаг, отправившись
с партами за добычей, заметил у подошвы горы пастуха
громадного роста, со стадом овец. Прискакав к пастуху,
Урызмаг соскочил с лошади и поймал лучшего оараиа,
величиною с порядочного быка. Ом не мог удержать оарана: баран поволок его за собой, и Урызмаг попался
в руки одноглазому великану-пастуху. «А, мое солнышко
Бодзол! Спасибо тебе, что доставил мне чем можно оуДет вечером помазать себе по крайней мере по гуоам и
по пальцам», — обрадовался великан и бросил Урызмага
в пастушью суму. «Что ты там шевелишься? Ведь если
придавлю вот этак, ребра у тебя посыпятся вовнутрь.
сидн там смирно!» — грозил великан шевелившемуся
в суме Урызмагу, который принялся за съестные при
пасы великана. Великан пригнал свое стадо в пещеру,
I
44 сскг, вып. VII. Тифлис, 1873, стр. 9-10.
125
!
I!
!
■1
!
I
;
!
1
за собой громадно]! скалой,
щеру нп
нок, вертел, я вот лакомый кусок зажарю, который
сегодня притащпл мне Бодзол», — обратился великан
к сыну. Сын принес железный вертел. Великан взял вертел, падел па него Урызмага и поставил его у огня, а сам,
усталый, в ожидании шашлыка, повалился ^ очага спать.
Вертел пе прошел сквозь Урызмага, а прошел между те­
лом и платьем, поэтому, только великан повалился спать
и захрапел, Урызмаг соскочил с вертела, разжег вертел
докрасна и воткнул ого в хороший глаз великана. Урыз­
маг убил и сына его. С досады и злости великан кусал
себе пальцы, но ничего но помогало. Настало утро, и вел икан, отвалив от входа скалу, сел на порог и стал по одной
выпускать овец. В стаде великана был большой белый
с длинными рогами козел, любимый козел великана.
Урызмаг наскоро зарезал этого козла, снял с него шкуру
с рогами, оделся в нее л пошел на четвереньках первым.
«Это Гурчи, — пдп умница, Гурчн, иди попаси стадо,
н пригопи вечером домой... Иди, иди!..» Он погладил его
по шерсти н пустил. Когда стадо вышло, Урызмаг вскрикнул: «А я здесь ведь, слепой осел!» Великаи с досады
тут же околел, а Урызмаг погнал большое
стадо к иартам.
Прнведенные варианты сказан™
иллюстрируют пскоторые примеры кавказской
«переработки» обще]"! темы
о циклопе.
В греческом варианте, как известно, людоед разры­
вает людей н тут же пожирает их. В кавказских сказа­
ниях людоед обязательно зажаривает или «поджаривает»
свои жертвы, для чего вводится такая предметная деталь,
как шомпол или вертел; в осетинском варианте одноглаз
протыкает Урызмага шомполом, но он проходит пе через
его тело, а сквозь одежду. Наличие шомпола вызывает
и своеооразпый вид увечья героя, который оказывается
00 ужаренным, либо с обгоревшими боками45
этом
При
пор ’ е“К° “^изменяется и способ
ДОедом (прп помощи раскаленного шомпола).
расправы с лю45 В
чеченских сказаниях известны,
*»УР с 5обгоревшим
боком», «Обгоревший напр., такие, как: «Ти« др.
Алц», «Иччархо п парт»
Пб
I
].1 качество примера кавказской переработки темы
о циклопе можно указать и следующее: великан прячет
богатыря и пастушью сумку-хурджпн или дупло своего
зуба. Способность великана помещать богатыря в сумку
пли в карман штанов иллюстрируется в тех сказках и
сказаниях, где речь идет о великанах. Здесь часто упо­
минается п «огромный череп» лошади (в ингушских,
мингрельских) либо чудовищного гиганта (в осетинских),
где прячутся могучие великаны-богатыри. Такой череп
приносит хозяину его «огромная собака», сопровождаю­
щая одноглазого пастуха. В приведенном осетинском ва­
рианте неожиданно упоминается сын великана, который
в сюжете не играет никакой роли.
В роли предводителя стада кавказского Полифема доволыю часто фигу р 11 р у от говорящий коз ел - в ел икай
с длинными рогами. Возможно, что образ говорящего
козла из кавказских сказании и сказок имеет какое-либо
отношение к тем мифологическим представлениям, кото­
рые засвидетельствованы в древней религии некоторых
кавказек и х и а | юдо в.
У ингушей, например, в прошлом существовало поверие о трех языческих божествах, которые считались
братьями. Божества эти — Амгали-ерда, Тамыж-ерда и
Мятцелп. О Тамыж-ерда Б. Далгату удалось записать
интересное предание. Тамыж-ерда — значит Крылатый
Дух. Этот дух, по преданию, являлся людям в виде гово­
рящего козла с длинными рогами.
Предание повествует о следующем. Житель аула
Хули, некто Борд, пас однажды стадо баранов у подошвы
Красных гор. На закате солнца к нему вдруг подходит
козел с длинными рогами и повелительно говорит: «Иди
за мной!» Борц ответил: «Как я могу следовать за тобою,
когда мне некому поручить свое стадо?» «Не бойся, стадо
твое будет цело», — говорит козел. Борц последовал за
ним. Когда они поднялись др середины Красных гор,
козел говорит Борцу: «На этом месте вы, хулохойцы,
когда будете ходить к нам на поклонение, должны ужи­
нать, а после ужина до утра соблюдать пост». Не доходя
До вершины горы, козел опять говорит: «Здесь вы, воз­
вращаясь из моей пещеры, должны остановиться и прого­
ворить нараспев: «Ар дац, бер дац» (не буду говорить,
11е буду делать). На вершине горы, у самой пещеры, ко­
зел сказал: «Вот здесь будет мое местопребывание. Сюда
127
■
V
I
I
V
:
!
!:!
II
И
:•
вы должны Приходить поклоняться мне и уходить отсюда
до восхода солнца. Если лучи его застанут вас в этой
пещере, вы все попадаете без памяти на землю». После
этих слов козел превратился в эфир, объявив пастуху,
что оп —не козел, а Тамыж-ерда. С тех ■
пор.! жители
стали ходит па Красную гору на поклонение этому
«ерда». В честь этого «чудесного и великого орда» еже­
годно, во время покосов, совершалось местными житслями орппшальпое торжество, обрядовая сторона которого
проходила в порядке, указанном в приведенном предании
о явлении козла46.
В даргинской сказке «Одноглазый великан», записан­
ной Д. Н.-Анучиным47 в 1882 г. в Дагестане, сюжет и
образы (великаиа-одноглаза, а также героя, ослепившего
его, эпизод со шкурой козла или барана и т. д.) схожи
с сюжетом и образами вышеупомянутых ссверокавказскнх сказаний, с которыми дагестанского одноглаза
роднит общекавказская великанская традиция. Однако
даргинская сказка по
своему характеру и сюжету значителыю ближе
к
древнегреческому
эпизоду (Одиссей у Полцфема).
В даргинской сказке рассказывается о том, как буря
разбила кораоль. Все находившиеся на корабле погибли,
спаслись только два человека. Их выбросило на остров,
ППГСШ1Ш травой* Пройдя несколько шагов, они встретили
к ™а30Г° великапа’ гиавшего стадо, присоединились
из спешу' ГШЛИ ° его ПещеРУ* великан схватил одного
шил упря-пт/6^ 11 зажаРил на вертеле. Тогда другой рекол н п1)отгн\мг°ГДа великап спал» 01Г раскалил железный
взревел от болц и осле.Гн. еД1шствешшй глаз- Великан
- стадо •, ппт С
Н Другое УТР° он стал выпускать
свое
гостем, омеп11вш11м егоУШ1гоПеОКОН-ИТЬйСО вторьш своим
шкуру, падел ее на себя „
У°'Ш оаРапа> С!1ЯЛ с пег0
пещеры. Не найдя человек
четвеРеиьках вышел из
крпк сбежались другпе
ВСЛ11Кант стал кричать, па
Доораться до моря сел ня ®Лпканы- Во человек успел
ветер пригнал его к другому бер^ П°ПЛЫЛ' Попу™
!
!
!
!
:
I
46 Б. Далгат. Первобытная религия чеченцев.— <<ТеРс 4
сборник», вып. III, кп. 2. Владикавказ, 1893, стр. 102—103.
47 См.: Д. II. А и у ч и и. Указ, соч., стр. 40.
В приведенном примере, как и в других дагестанских
сказках с подобным сюжетом, говорится о море, о бурс и
разбитом корабле, с которого спаслись два человека, чего
совершенно нет и чеченском и осетинском вариантах По­
лифема. Вместе е тем буря на море н гибель корабля,
необитаемый остров — все это приближается к эпизоду
с Одиссеем.
В даргинской сказке сохраняется и общее для всех
кавказских сказаний и сказок на эту тему сюжстпое
ядро: тот же одноглазый пел и кии-пастух, гнавший свое
стадо, зажаривание на вертеле его жертвы, ослепление
великана раскаленным железным шомполом, переодева­
ние героя в шкуру — в данной сказке барана, а не козла.
В отличие от чеченского и осетинского вариантов, здесь
в конце сказки герой не угоняет стада великана, а бежит
к морю и отплывает на доске, спасаясь от преследования
других великанов, сбежавшихся па крик одноглаза. По­
явление в сказке многих великанов есть специфически
дагестанское привнесение в сюжет, которое, между про­
чим, встречается довольно часто.
Несколько иную разработку образ одноглазого вели­
кана получает в кумыкской сказке «Об одноглазом вели­
кане, вырывавшем плодовые деревья из ханского сада» .
Характерно, что наблюдаемое в сказке некоторое ви­
доизменение образа одноглазого великана сравнительно
с приведенной нами даргинской сказкой, а также и нартекпми сказаниями, сопряжено с известными измене­
ниями и сюжетной: линии повествования.
В этой сказке рассказывается слВДу,°1^СС|' ^[ сад распоУ одного хана был прекрасный ФРУ*™ фрукты, хап
ложоипый возле берега моря. Ко: да
плодовые до­
стал замечать в саду вывернутые с корнем
ц
ревья. (Здесь опять, как и в ка с ГОонем деревья —
сказках о великанах, выворочеины
^ д хаНа обнаевндетельство присутствия великан •;
гх босых ног.
ружилц на земле следы каких-то
* *
который при­
дан посылает своих людей (слуг)
« Здесь они увкводит их к пещере под большой екало . ^еиы сухие
Дели следующее: «Возле
р куда они вошли,
Деревья из ханского сада. В пеЩ 1 >
128
с кумьнхго"' С*)<ШД ДАГИИИЯЛ' л- 91’ стр' 212_221' ПореВОЛ
выполнен автором статьи.
9
Заказ М 1480
*
г;
V Ч
иИ
м
129
1
гс
|
пускали в великана стрелы, а он метался вправо п влево
в надежде поймать своих врагов, и ггри этом натыкаясь
на деревья и ломая их в ярости. Люди тем временем убе­
жали к морю, где увидели корабль, на который успели
сесть. Великан же, выбившись из сил, свалился, заорав
страшным могучим голосом. На крик великана прибежал
другой одноглазый великан. Он схватил руками большое
дерево и, вырвав с корнем, побежал за людьми, отчалпвшимн от берега. Тогда великан, подбежав к берегу, изо
всех сил швырнул в корабль огромпое дерево, которое
не попало в пего, вызвав лишь волну, чуть не захлест­
нувшую корабль. Люди же благополучно возвратились
домой».
Приведенная сказка содержит традиционные для ска­
зан и Гг об одноглазом циклопе сюжетные детали и образы.
Здесь только необычно само ослсплсшго одноглаза, кото­
рое производится не раскаленным шомполом, а пущен­
ными в глаз стрелами из луков. Одноглазого великана
из кумыкской сказки многое роднит с кавказскими вели­
канами вообще, существующими в сказаниях тг сказках, и
вне связи с сюжетом кавказского Полифема. Обратим
внимание на то, что одноглаз, представленный в данной
сказке, не пастух, а скорее охотник, так как о нем гово­
рится, что он появился «с мясом дичи». Как и многие
кавказские и дагестанские великаны, он оставляет на песке
«огромный след от ноги», обладает «ужасным голосом»,
вырывает с корнями деревья, которые носит на плечах,
и способен одним ударом о землю разбивать их вдребезги.
Он швыряется не только огромными деревьями, но л
огромными глыбами, наподобие того, как бросаются глы­
бами великаны из нартских сказаний, иаггример, могучий
пастух Колой-Кант из чечено-ингушского сказания .
Следует сказать, что образ одноглазого великана
встречается и в других дагестанских сказках, например,
в лакской сказке «О трех велпканах-иартах», среди кото­
рых есть и одиоглазьп"! великаи-пастух, в даргинской
сказке «Семь братьев и семь сестер» 50, аварской сказке
«Сулеймаи и циклоп» 51 и многих других.
были кучи разпых фруктов из того же сада. 13 углу
в скале была выбита печка, возле которой лежал длин­
ный железный шомпол-лом (шампур). В другом углу
находился большой глиняный кувшин с водой, а в глу­
бине пещеры — широкая и длинная постель, сложенная
из мягкой травы. Люди сели тут отдохнуть. В это самое
время в пещеру зашел, держа в руках мясо дичи, одно­
глазый великан. Увидев людей в пещере, он положил
мясо па выступ и на языке, непонятном людям, сказал,
указав на фрукты: «Ешьте», — что дал нм понять и зна­
ками. Но перепугаипые до смерти несчастные люди при
виде одноглазого великана не только нс подумали есть
фрукты, но, услышав ужасный голос этого чудовища, при­
жались друг к другу. Между тем он вышел из пещеры,
закрыв вход огромным камнем; несчастные люди очути­
лись в ловушке.
Г ,1пС.?тпЯ 11еК0Т0|)0е время одноглазый великан вернулся
вавшиГп^еРСВ°М Нй плвчах’ 0ТТ0ЛК"УЛ камень, закрыразбпл его вдребезги*1Щетаги?1"1” ДереВ° ° край входа’
ее. Когда пет
епкам,г 011 наполнил печь и зажег
уголья, ОН выбрал средншодеГмГ113 " °бразовались
лого. Одним нывколг Аптп 0Де Самого жцРного и тяжетело на большой железныйш™ °МУ голову п> нанизав
нУю курицу легко
тмпур, начал есть, как жареСгев все, он подошел к Г МЯС0 от костей пальцами..
опрокинув его в рот выпил ^ЬШОМу кувштшУ с водой н,
и 12о ~|^г?льг,воду-По™
лег на постель
человек, опомнив-
3 сРазу пустиптг 1Ь- °1Ш влезли на верл-
который тут же вытек разбпыч стрелы в глаз великана,
Великан
заорад ц
Ь “° ВСе СТ0Р°ИЫвыбросил страшно
стрелы из глаза вскочцв ца ноги, вытащил п
вход^п, °беП№1 РУками о’громпч под,"е®ал к выходу и,
он и „Г™, ее в Угол, где пап.т° глы^у> закрывавшую
перек не °°тарпвать кпутренпост6 СИДЧ тоДи- Тут >ке
(
■
;
енделг'г тг ДогаДавишсь протяттт Ь пе1рергл вдоль и поппгватьмЮДв:.ВеЛПкан ВЬ1шел из пет ”” ” уступу> где
Цыпочках' ™ ВТ° Время люди спует1ЩрЫ и стал прпелуих ослепптоЫ°еЖал1Г из пещенг/ т?*®0* с выступа и на
I за от Г° Великапа, люди лРп ВИДя поДстеРегавшего
перехитрить:
’ 01111 с разпых сторон
“ пииыЯ»гг г -
:
I
130
I
и
■
$
Й
’
131
т
I
I
1
*
:
■
1
и
:
1
, ||
: 1
!
;
!
;|
'
!
!■
<
(!
!
■:
49 Б. Д а л г а т. Страничка пз северо-кавказского богатыр­
ского эпоса сттз 37_38
50 Рукой. фонд ДАГНИИЯЛ, д. П5. ск. № 121 (сказку рассказала Амипат Адзы Кизы пз селения Урахп).
51 «Аварские сказки». М., 1965, стр. 184.
9*
'
■'
I.
и
I
I
(|
I?.
.1
I
I
!
1
'
Отмеченное памп разнообразие в изображении одно­
глазого великана, варьирование известного сюжета, сви­
детельствует о полнокровной жизни этого образа в капказском фольклоре. Все это подтверждает органическое
родство кавказского одноглазого циклопа с традицией
великано-богатырского эпоса, на почве которого он, повпдпмому, и сформировался па Кавказе.
Таким образом, специфика художественного изобра­
жения одноглазого великана в кавказском фольклоре сводптся к следующему.
Здесь представление об одноглазом великане смсшппается с представлением о других великанах, которые
заполняют кавказский эпос, составляя его древнейший
пласт. Это, в свою очередь, способствует развитию архаи­
ческого образа в эппко-богатырском направлении. Л унда
мифологические, сверхъестественные черты и свойства
цпклопа известпым образом подавляются богатырской
традицией, развитой у народов Кавказа. Благодаря ей
одноглазый великан, спускаясь в героический эпос, так
сказать, приобщается к «миру люден».
Прежде чем приступить к характеристике других
образов великанов, заметим, что тип одноглазого цпклопа
не только воспринимал определенные черты других кав­
казских велнкапов, но и сам воздействовал па них.
В некоторых сказаниях чеченцев одноглазым изобра­
жается и чудовищный «ногаец». У пего есть трохногпй
конь, быстрый, как стрела. Этот образ олицетворяет
в историческом эпосе отрицательное восприятие в прошлом_ северокавказскнх пришельцев-завоеватслей52, на что
Дудаев в статье «Чеченское племя»,
мыр 1 “ ^•••^0В0РЯТ’ что Чечнею завладели иеведочто пик
чеченцам пришельцы... Предание говорит,
одноою1ми Т5”СПОЛИНСК11й рОСТ’ часто представляют
В кабардинской
сказке «Кто больше» калмыки в прсдставленпи
народном, может быть под влиянием какйхнибудь псторических
испытаний, являются с атрибутами
сверхъестественной силы и чудовищного роста54.
II!
!
52 «Терские ведомости», Владикавказ, 1880, № 45 («Про
лодца-чечепца и богатыря Иогая»).
мо53 ССКГ, вып. VI. Тнфлпс, 1872, стр. 17.
54 СМОМПК, вып. XII. Тифлис, 1891,
стр. 93.
132
15 некоторых мифологических преданиях чеченцев и
ингушей одноглазыми рисуются и могучие лесные женщииы-велпкашпи, пляшущие при лунном свете с закипутыми за плечи грудями.
Б. Далгат в прошлом веке записал у ингуша Гапыжа
Лбпспнча Келигова-Фельхапова преданно об алмасах, которос представляет интерес 11 а л I гчием ] I ввести ого по
«Одиссее» мотива.
Полифем, как известно, объясняет сбежавшимся цик­
лопам, что его ослепил «Никто». Аналогичный случай
повторяется и с ингушским алмасом, который па вопрос,
кто ого ранил, — отвечает: «)1 сам», имея в виду охотпика, назвавшего себя таким именем55.
Еще более наглядный пример взаимовлияния эпиче­
ских образов встречается в адыгском эпосе (кабардинский
вариант), Пдось в одном из сказаний в роли кавказского
Прометея предстает «богатырь с одним глазом во лбу»,
который, по словам сказания, «дерзнул проникнуть
в тайны Тха 56 и пробрался в расщелину между обеими
вершинами, в то самое место, где поднимается огромная,
видимая для глаза, скала ... Но потерпел бессмертный
Тха дерзновенного поступка ... и приковал его к скале
длинною цепью за шею ... Много лет прошло с тех пор;
богатырь состарился ... В наказание за дерзкую попыт­
ку богатыря, Тха послал хищную птицу: коршун приле­
тает к нему каждый день и безжалостно клюет его
сердце» 57.
Примечательной особенностью данного сказания является не только смешение типов великанов разных цик­
лов. В могучем прикованном богатыре можно заметить
следы древнейшего представления о циклопах, заточенпых в подземелье. Оно, как известно, запечатлено в древ­
негреческой мифологии Господа тг не совпадает с оолее
поздним изображением циклопа в гомеровскую эпоху.
Само же помещение циклопов в недра тго характерно ^для
кавказских сказаний об одноглазых великанах. Кабар­
динский вариант составляет исключение.
Предания о великанах, прикованных к горам, известны
многим народам Кавказа. В. Миллер, глубоко изучивший
!н
•:
'•
й
I
!
I.
;■
■ш
!!
! •
I
■
:
щ
кш
:I
*
I т
■
I
Ш
з
I
! !Д
«
'
II
Ч
5; Б. Далгат. Первобытная религия чеченцев, стр. 116.
' Тха — у адыгов всемогущий языческий бог.
СМОМПК, вып. XII. Тифлис, 1891, стр. 37.
133
I
11
I
ш
т
»
I
■
к
!
I
и
1$
г
1 •
I
г
■
указывает на цикл сказании на Кавказе,
этот вопрос,
напоминающих
греческое —о скованном Нро«живо
метее»58.
__
^ .
Все кавказские сказания типа «Прометея» — оо Амирани — у грузин, Ампрани из рода Даредзановых — у осе­
тин, Рокапи — у пмеретип, Абрскнлс — у абхазов, Артападзе — у армян —В. Миллер считает родственными. Псе
они, как и разные чудища Востока — Шпдар^ Мхер, Зохак, по мнению ученого, представляют «ближайшую
родню» греческого Прометея. Его же В. Миллер, основы­
ваясь на древнегреческих источниках (Раизаи, 1, 30. часть
ССХХУ, отд. 2), определяет как «древнего бога опгя»,
«огнеиосиого бога», в честь которого в Афинах ежегодно
устраивались бега с зажженными факелами.
Нам представляется важным наблюден но В. Миллера,
который в образе кавказского Прометея (в частности,
в грузинском варнапте об Ампрани, записанном А. Гело­
вани) увидел оогатырскне «черты из других кавказских
преданий о великанах»59.
Великаны-богатыри
В кавказском фольклоре —в сказках, сказаниях и
преданиях — ярко и красочпо обрисованы разнообразные
великаны эпического склада, папоминающие «старших
богатырей»60 русского былинного эпоса.
В отличие от мпфологичесш
IX существ, велпкапы-богатыри представляют в некотором роде уже «общественную
категорию», определяющую их жизнь по человеческому
подобию. Несмотря на то, что великаны эти различаются
и своим видом, и степепыо архаичности, и другими при­
знаками и свойствами, все они изображаются
людьми,
а не демоническими существами, состоящими из
полуплоти. Великаны-богатыри в большинстве случаев (в ска­
заниях, преданиях, сказках) пе противоборствуют
человеку, как мифические великаны. Действие
рассма■грнваемых персонажей разворачивается
в
УСЛОВИЯХ
.
!
II
58 В. Миллер. Кавказские
ванных
предания о великанах, прикок горам, стр. 100.
59
Там же, стр. 106.
00 По терминологии М. Халаиского («Великорусские былппы
Киевского цикла». Варшава, 1885, стр. 183).
134
обстоятсльствах, приближающихся к условиям человечес ко го существования.
Основными атрибутами рассматриваемого типа великанов являются такие черты и свойства, которые представ­
ляются исключительно богатырскими. Огромный рост, непомсрная сила, способность выполнять колоссальную ра­
боту, съедать неимоверное количество пищи —все это
является своеобразным критерием их богатырства. Опре­
деляя идсЛио художественную роль и назначение великапов-богатыреи в кавказском фольклоре, следует сказать,
что и данном случае уже можно наблюдать некоторое
жанровое разграничение в характеристике указанных
образов.
Особенно наглядно эго прослеживается в преданиях и
жазаш-тях. Здесь специфика восприятия п толкования
аелнканов-богатырей определяется тем, что они довольно
часто выступают в роли древних насельников, будто бы
живших до появления лартов. Нартскле же герои, как из­
вестие», осмысляются в эпосе как особый народ, который
предшествовал теперешним людям.
Этпо-псторичсское обоснование поэтических образов
(волнканов-богатырей и мартов) в кавказском эпосе, по­
жалуй, и является проявлением их особой роли, которую
они там играют. Зато в сказках, где великанам-богатырям
тоже отведено значительное место, эти образы не имеют
подобного этио-нсторнческого толкования. В сказке па
первый план выдвигается другое — любование силон великана-богатыря, идеализация трудовой способности
большого могучего человека (какими выглядят здесь ве­
ликаны), его возможностей совершать огромную раооту
пахать, косить, тащить одной рукой сразу тринадцать
ароб сена и т. п. Надо отметить! что любование силой и
тРУДовым могуществом всликанов-богатырей имеет место
не только в сказках, но и в кавказских преданиях и ска­
заниях.
Естественно, что представление парода о великанах
прежде всего основывалось па гиперболе. Для Кавказского фольклора следует иметь в виду по крайней мере
Дна вида гиперболизма.
о
Первый вид — это гипербола прямолипейная, она оо
.V словлена определенным мировоззрением народа, его
«реальными» представлениями, что не исключает поэтп
ческой фантазии о далеком прошлом, о событиях я лю
/35
I
щ
|
:
III
;
!
1!
II
!*
у
^Т«-
■
!
;
дях или загадочных существах п т. и. При этом возможно
преувеличение и стихийной силы, либо олицетворение
человеческого могущества в образах великанов, либо
понятие о каком-то «историческом» народе, жившем
когда-то; наконец, гиперболическое изображение пред­
ков, всегда положительных, могучих богатырей, полумпфических, по вполпе «исторических» личностей.
Второй вид — гипербола относительная. Она имеет су­
губо поэтическое назначение. В большинстве случаев эта
гипербола основывается на художественных построениях
и приемах эпического действия. Тогда любой «преувели­
ченный» объект (могучее божество, либо враг в виде чудо­
вища и т. п.) теряет свое первоначальное значение.
В условиях конфликтной ситуации эпического рассказа
преувеличение могущества, величины и т. и. отрицатель­
ного персонажа может достигать различных превосходных
степеней — возрастающей гиперболы. Тогда она служит
раскрытию героической сущности положительного персо­
нажа, показу его превосходства даже в условиях неравной
борьбы с исполином (мотив Давида и Голиафа).
Указанные виды гиперболизма не исключают и его
другие формы, но именно эти наиболее характерны для
оогатырекпх сказок и героических сказаний многих кав­
казских народов.
Прежде чем охарактеризовать все эти образы, показав
их специфику на общекавказском фойе, обратим внимапие на некоторые особенности тех сказаний, в которых
вообще присутствуют великаны.
В сказаниях моносюжстного плана, какими представ­
ляются нам наиболее архаические редакции рассказов
о великанах, преобладает богатырская среда; здесь фигу­
рируют великаны, со всеми присущими им богатырскими
качествами. Вместе с тем отсутствует ярко выраженная
ситуация конфликта — борьба героя с великанами, как
в эпосе. Здесь преобладает конфликт внутренний, когда
имеет место только столкновение между великанами.
В сказаппях полисюжетного состава преобладает эпи­
ческая среда. В таких повествовательных рассказах
ооычно действуют различные эпические персонажи. Среди
них и мифические великаны, и исполины-богатьтрп,
и подлинные эпические герои. Характерно при этом, что
сюжет насыщается коллизиями не только внутреннего,
по и внешнего характера.
136
I
Возвращаясв к- образам тяжеловесных великановбогатырей, рассмотрим первоначально их наиболее архаи­
ческую разновидность.
Во всех сказаниях о них говорится как о явлении да­
лекого прошлого. Эти великаны жили на земле «раньше
мартов», — говорит столетний сказитель ингуш Газбык
Газневпч Буржаев61. Другой сказитель, Ганыж, пере­
давший 13. Далгатув 1802 г. архаическую редакцию сказапил о Гарбаше, утверждал, что среди этих великанов
были мужчины и женщины; жили они совершенно отдельно от обыкновспных людей и вели особый образ
ЖИЗНИ °2. Эти пеликаны оставили после себя исполинские
костяки, с которыми обычно встречаются герои.
Мотив встречи богатырей с костяком весьма древен и
очень распространен в партских сказаниях63. В двух
известных вариантах сказаний у Ч. Ахриева (запись
1870 г.)01 и ГЗ. Далгата (запись 1892 г.)05 рассказывается
о том, как герой — иарт-орштхосц Соска-Солса увидел
тазовую кость таких колоссальных размеров, что смог
проехать через се отверстие на коне. Соска-Солса удивился и стал просить бога, чтобы он воскресил великана,
но без глаз. Бог сделал это, по великан стал просить его,
чтобы он дал ему глаза. Соска-Солса испугался, как бы
бог не исполнил просьбу великана, и взмолился, чтобы
Гарбаш опять умер.
В варианте Ч. Ахриева воскрешенный по просьбе
Соска-Солсы человек — такой большой, как гора. Он пере­
дает интересные сведения о жизни в далекие времена.
«Большой человек» говорит, что раньше всюду был один
лес. На вопрос Соска-Солсы, что он прежде ел, большой
человек пошарил кругом и, взяв большой камень, растер
его руками и начал есть. «Мы ели это (т. е. песок и камень). Но был у нас и хлеб такой, что с двумя хлеоамн
люди могли путешествовать и кормиться четыре месяца».
$
'
Я
ш
■II '
■; Ш
; И
-Г:'.;
1*1
8 а
I
:I
1-1
;!:1
I
I
I
1!
I
81
I
богатыр-
01 Б. Дал га т. Страничка из соворокавьазс
отличается
, но по
аягт^-яг#-*
181.
03 В. Мп л лер. Кавказско-русские пар
01 ССКГ, вып. VIII. Тифлис, 1875, стр.ерокавказского богатыр­
С5В. Далгат. Страничка из ссве1
ского эпоса, стр. 50.
!
;
137
'
I*
ч
и
I
исполни говорил, НЛО в Х^уТУГ'^рами.
сгга-
I
Й?,Ж ГГД =Гие И, д!к„Ы
'
:
:
!
|
!
были люди огромного роста и необыкновенной физической
силы, по не отличавшиеся, подобно жившим раньше их
великанам (нныж), умом и находчивостью»68. Эту же
мысль фиксировал С. Урусбисв в отношении карачаевобалкарских сказаний о нартах69.
Б. Далгату посчастливилось записать одно из древних
сказаний о Гарбашах. В отличие от указанных вариантов,
Гарбашп изображены здесь не как люди, воскресшие ИЗ
глубины веков, а как действующие персонажи, напоми­
нающие эпических героев. В сказании о Гарбашах пока­
заны богатыри тяжеловесного вида, их встретил ыарт —
орштхойскпй герой Чопа Борганов, проезжая по лесу.
Из мизинца одного Гарбаща вытекала кровавая река.
Оказывается, он порезал свой мизинец, чтобы не заснуть
и не пропустить своего соперника. Великан так могуч, что
его можно разбудить не иначе, как свалив па его голову
огромную подрубленную чинару, к которой он присло­
нился. Прославленный парт-орштхоевец Чопа кажется ему
всего-навсего мухой.
Приближен не второго Гарбаша сопровождается тума-
быть умнее, но зато у них не будет тон олагодати, какай
была в те времена.
О встрече нартов с тазовой костью или черепом нодобного псполпна рассказывается н в осетинских-- сказаниях.
В одном из них нарты, отправившиеся на охоту, в темноте
набрели на что-то похожее на пещеру и заночевали в поп.
Утром они обнаружили, что это череп погибшего
Они помолились, чтобы костяк ожил, но только гиганта.
ный зреипя. Молитва их исполнилась, и перед лишенними,
кряхтя и охая, встал во весь рост великан невиданных
размеров... «Кто ты такой? — спрашивает Сослан. — Я из
племени Гумири (великанов); мы владели раньше всей
землей, но вымерли. А вы кто такие? — Мы — парты: —
А чем вы питаетесь? — Мясом и хлебом. — Несчаст­
ные! .. — А чем вы питались? — Соком земли. — С этими
словами великан зачерпнул полную горсть чернозема и
попросил Сослапа подставить ладонь. Великан выжал из
земли сок и предложил его выпить Сослану. «Теперь, —
сказал он, — в течение недели ты будешь сыт».
Сослан просит показать, в какие игры играли Гумири.
Великан вырывает с корнем огромное
его, сносит до основания холм66.
Дерево и, метнув
По замечанию В. И. Абаева,
лпсь,
в этом сказании отразнво-первых, распространенные
что нынешним людям предшествовало
представления о том.
во-вторых, тут слышится отзвук легенды племя гигантов,
когда люди могли жить просто соком земли67.
о золотом веке.
запий
°’ (^аоула всех рассмотренных вариантов скаглубокую
™ В далекое прошлое, что подтверждает
племя гпгантпр ппСТЬ СаМ0Г0 сюжета- Мысль о том, что
перещннх люттрй Рвдшествовало поколению партов и течто указывал л’ пп°^_ОДИТ п в„адыгском эпосе о партах, на
появления в Кабердс теперешш,х°людей жили1'
*
нарты. Это
60 Отрывок сказания цитируется по ки.: В. И А б а с
товекпй эпос, стр. 84. См. также: «Памятники народного творче­
ства
Нарния осетин», вып. 1. Владикавказ, 1925, стр. 64—65; в.<(Сказао нартекпх богатырях. Осетинский эпос». М., 1961)’
стр. 297—300.
стр. 81.
67 В. И. Абаев. Партонскпи эпос,
'
138
г
!
И:
.
й1
I.
:
Ш
■
т*
т
■
ш
р
■
;
Ж
т
ПОМ 70.
!
!
В этом сказании имеет место конфликт внутреннего
характера, здесь быотся между собой великаны, а но ге­
рой с великанами, как обычно бывает в героическом эпосе.
Враждебные встречи нартов с великанами, или кара­
чаево-балкарскими эмсгеиами, или осетинскими ойгутамп,
как известно, составляют одни из главных мотивов,
варьирующихся в севсрокавказском нартском эпосе.
В рассматриваемом сказании о Гарбашах основу конф­
ликта составляет борьба за невесту. Само изображение
борьбы передается в архаических красках. Вот как изоора-
щ
I
П!
:
$.
I
08 СМОМПК, выв. XII. Тифлис, 1891, стр. 47. Это же зафик­
сировано н в «Заметке» собирателя кабардинских сказании
о партах. — ССКГ, вып. V. Тифлис, 1871, стр. 48.
™ СМОМПК, вы и. I. Тифлис, 1881, стр. 2.
' Почто похожее встречаем в осетинском эпосе. В сказании
«Сослан и сыновья Тара» приближение богатыря сопровождав
появлением тучи: «Вдруг видит Сослан — показалась вдали
Движется туча, а под нею бежит по земле глубокая оорозд*...
По вот приблизилась к нему туча, и увидел он, что эта не } *
а исадпик скачет к нему. Конь под всадником ростом: с; гор>,
а сам всадник на коне, как стог сена. От Дыхания
Д
1 ноля его туман поднимается над степью». «Сказаш
ских богатырях». М., 1960, стр. 96.
м
:
.
139
;
^
к
'
.
:
I
,
I
I: ;
4
т----!1
жается битва за невесту, когда борьба идет не на жизнь,
а на смерть: «Когда туман приблизился, то Гарбаш схва­
тил чппар, вырвал его с корнями, обчистил, как траву, п
приготовился в ожидании врага. Когда противник при­
близился к тому месту, он кинулся на него. Тот тоже
схватил чинар, и они начали бить друг друга; чинары
поломались. Тогда они схватили топоры и стали’наносить
удары, но у них обоих были волшебные оселки и, потерши
ими, они заживляли раны. В конце концов они оба зоне
вели и упали мертвыми».
Оба Гарбаш имеют облик обыкновенных люден.. но их
В числе Гпппчтт.
.
селкп* заживляющие рапы.
Достапшаяся Чопё Богатыпша’ оказываотся 11 ,,х новости,
ложонне героя
Га Гз. ,;ГГК'а’ "Т° “
чрн одном условии: «. „ „“2* соглашается лишь
тянувшись во весь ноет ?!!
0 ног,г> 11 еслн ты, вы11ешь До моих колш, то т , "ГГ'”
И»» достаДостанешь, то я „ ты „с голи Г? Г°А"ШЬСЯ’ « °сли не
сделал так п „е достал Он
ДРУГ Для ДРУ™». Чопа
До-
20И плаи- В сравнепщ1УГбоГеР0П иообЩо оттеснен на
ролмо Гарб"-
;
I
которой ппогГ толм'° созерцает вели. агрузки; :,Десь он
;
I
!
!
в разДошмД”'1 '«"«битными
•™‘т2«п
зафиксировано ЕУДп* вециого повеетЛ ас’ сохранили
гатом.
в Рассказе ГаныС зя*°Вания- как ото
«ЙТ ■
71 ССКГ, вып. VIII,
ч д, '
Б- Д“цн° ошибочно, на
стр. 28.
:
наш взгляд, великаны-богатыри фигурируют в числе
«лесных люден». Как’ известно, «лесные люди» — это пер­
сонажи из области народной мифологии, имеющие в фольк­
лоре ингушей и чеченцев довольно определенную типо­
логию. Гарбаши рассматриваемого вида представляют уже
не мифическую, а богатырскую категорию. Это совершенно
очевидно следует из самого сказания; настоящие «лесные
люди» наделены мифическими свойствами (они могут
внезапно появляться и исчезать в виде огненного чудо­
вища) н по своей сущности отличаются от тяжеловесных
богатырей, олицетворяющих физическую силу и могуще­
ство человека. В данном сказании о Гарбашах говорится,
что это были «настоящие мужи», а не какие-то существа,
состоящие из нолуилоти. О Гарбашах сообщаются вполне
реальные подробности. Они полюбили одну ногайскую
княжну, предложив ей выбрать достойного. Одни из Гарбашей, притом тайком, воротился к ней, за что другой
Гарбаш подстерегает его, чтобы отомстить, когда тот
проедет на арбе с невестой л деньгами. Между ними про­
исходит драка, и Гарбаши убивают друг друга. Герою же
остается невеста и огромное богатство.
Как видно, вест» сюжет насыщен бытовыми деталями.
Мотив кровавой реки, вытекающей из мизинца вели­
кана, в данном варианте отсутствует; выпало и красочное
изображение богатырской схватки — только сказано, что
между лесными мужами произошла драка и они убили
ДРУГ друга; исключены подробности и богатырской пробы
жениха. Эпизод этот, кстати говоря, специфически войнахСК|,Й 1Г не встречается в других кавказских сказаниях.
Мы отмечали уже, что в преданиях о происхождении
в 1)ол,г подуисторпческих, полулегендарных родоначальни­
ков тоже фигурируют великаны-богатыри.
Не имея возможности более подробно остановиться на
1,х Рассмотрении, приведем для примера лишь одно из
?7Их преданий. Оно касается переселения цоринцев из
алгая в Цорн72 и представляет интерес эпической
трактовкой темы, что очевидно из самого рассказа: «В се­
лении Тумги Галгаевского общества ... находятся два
каменных столба; это памятники, поставленные жителями
предкам их — Гун и брату Цпкма. Гуй, говорят, был дву-
у/
л
I
•ятш
::
1
II
Я
%
:
,
!
■
••.
!
!Г.I
!
}•?
.
:
, I
^>е7нь?н°еРЙИЦЫ’ онп жо цовтушиицы, плиц бацбийцы, проживаюв Ахметовском районе Грузинской ССР.
140
I
\
й;
141
■
I
^5
»
!
ротып'
один
рота-суп-задним;
спереди, а другой
сзади; рот
мясоон елорал
он
передним
ртом,
в передний
I
I
I
I
II
I
I
ясо с костями, а в задний выбрасывал кости; когда он
кончал то его слышали из Хамхпнского оощества в Джераховском через горы и леса; роста был огромного, .югатырского (могила его, по уверению сказителя, имеет о—
6 сажен длшш).
Тумгшщы себя называют «гунноух», что значит — по­
томки Гуя. Само переселение Цикмм в Цорн произошло,
по преданию, по следующим причинам. Однажды Цпкма,
рассердившись на брата Гуя, повез его в Тифлис и там
отдал его в руки ханов, которые заковали его в цепи.
Но Гун одним движением разорвал цепи и возвратился
домой. На пути к родине, верст за 20 от Галгая, из Моцхальского общества, он крикнул брату: «Смотри, берегись,
брат, я иду; не попадайся мне па глаза!» Цпкма, услышав
грозный голос Гуя, бежал в Цорн. Гун остался жить
в Тумгиодпн; его потомки и посейчас живут в Тумгн» 73.
Родоначальник Гун изображен подлинным эпическим
богатырем. Он наделен непомерпоп силой, одним движе­
нием разрывает он цепи, в которые его заковали враги.
Могучи и голос Гуя гремит над ущельями. Как и подобает
Р°Допачальник Гун зараз съедает целого быка
орц’Гк™™"!Ег,"другого ,род”'
сказывают:
ЛТЖ
винное колесо
его с земли» 74 И, наложив путы на коня, один поднимал
Вамполы
В системе образов великанов кавказского эпоса вам­
полы еще более приближаются к эпическим героям.
«Вамполож» — это ингушское слово, означает
каны» (единственное число «вампол»). Эти образы очень
«велиярко запечатлены в богатырских сказапиях вейнахов.
Вамполы— это люди богатырского склада, они больше н
сильнее обыкновенных людей. Впервые в печатных источ­
никах о них упоминает Ч. Ахриев в своей небольшой
заметке75. Здесь о них говорится как о народе, т.
Далгат. Родовой быт чеченцев и ингушей е.в в этно­
сом.73—Б.ИНИИК,
вып. IV. Грозный, 1934, стр. 21.
" ^. Яковлев. Ингуши. М., 1925, стр. 25.
прош75 ССКГ, вып. VIII. Тифлис, 1875, стр. 6.
142
I
м
историческом смысле. По преданиям, памполож были
после джелтов (греков), которые жили в одно время
с Соска-Солсои. Тогда п долине Терека проживали кабар­
динцы, с которыми вамполы вели беспрерывную войну.
По ингушским народным преданиям, сообщенным Ганыжем Б. Далгату, вамполы некогда обитали в стране, где
живут ингуши. Предания говорят, что в пещере возле
старинной церкви Тхаба-орда в Галгае находятся огромныс тазовые кости вамнолож; но время засухи их берут
и держат в поде, чтобы вызвать дождь76. Весьма ценным
является сказание о вамполах, которое Б. Далгат записал
у того же рассказчика. Оно представляет наиболее полный
вариант известных сказании о великанах определенного
вида.
Надо сказать, что особенностью сказаний о вамполах
является тот философско-этический смысл, который опре­
делен следующей народной сентенцией: не будь самоуве­
рен, нс гордись, не хвались своей силой. Сильнее сильного
всегда можно найти!
По-видимому, мысль эта постоянно занимала народный
ум, что подтверждается и тем, что она пронизывает мно­
гие сказания — ле только чеченцев, ингушей, по и кав­
казских горцев вообще.
«Сказание о вамполах»77, несмотря на художествен­
ные приемы гиперболизации, тоже носит характер реаль­
ного бытового повествования. Рассказ начинается с уве­
рения, что все в нем правда, но было это давно.
«Было это давно, по старики передают так. Был в од­
ном селении человек, который в присутствии своей жены
поднимал корову за хвост, переносил через забор, опускал
па землю, опять поднимал и переносил назад, после этого
всегда он бил свою жену и спрашивал у нее: «Скажи,
кто сильнее меня па свете?» Жена не могла указать
никого. Об этом узнала жена Пез-Амиева; опа пришла
и жене силача и сказала ей: «Что же ты не знаешь, когда
п, последняя женщина в селсппп, и то знаю это; пусть он
переправится через гору; на топ стороне горы люди удят
рыбу; пусть оп с ними померяется сплою они сильнее
г<с ” .5
ОТО
1
;
!
ш
ш&
Ж
ш&
ш
«Й
*
КОСТИ
на высочайше даропанпые средства ,
^кавказского
богатыр
77 Б. Далгат. Страничка из сево!
«кого эпоса, стр. 43—45.
143
■
г
I
его»... Силач перешел через гору и увидел трех человек,
удивших рыбу. Он сказал нм: «Давайте силу пробо­
вать!» — «Зачем нам силу пробовать. Мы не знаем, зачем
ты пришел, нди лучше сюда, а там мы н силу попробуем».
Оп подошел к ним. Тогда одни из братьей сказал: «На*
держи удочку, пока я схожу на двор». Тот взял УДОЧку;
тотчас же зацепилась за нее рыба а стала ого тянуть
в воду. Тогда тот, который сидел поблизости от него, сидя,
рЫ-
■
I
I
I
I
У\
Сказав это, он подул на него и отпросил его к среднему
брату, тот дунул и отбросил его к третьему орату; и
так он стал летать от одного брата и другому. «Нот
бог послал нам забаву, есть чем иозаоавиться»,
— ГО воршш они. Возвращаясь домой, они также дули из
пего, и он летел впереди их по дороге. Остановившись
отдыхать, они пообедали, легли спать и оставили в сто­
роне силача, намереваясь опять поиграть с ним, когда
проснутся. Он, однако, убежал, когда они заснули. На до­
роге он встретил одного человека-вамнола огромного роста,
без одной руки и без одного глаза78; одной рукой он вез
тринадцать ароб сена. Оп обратился к вамполу со ело- .
вами: «Хи дели хашусъ» (я твой и божий гость). После
этих слов вампол не мог его по Припять79, и он преддожил ему влезть па арбу и укрыться рогожкой. «Нет,
мне дан более оезопаспое место». — «Куда же поместить
ты
те я.» — «Ну, полезай в штаны». И силач вест» скрылся
’ГаЛГ ; Вампол пошол ссб° Дальше. Навстречу
пушкп' - <к^рата'рь1бака-,<<Нс впдал ли ты нашей игты лочжип ^акоц Пгрушкп? Ничего я пе видал». — «Нет,
’ должно быть, видел, лучше скажи» — «Уходите
прочь
и мало
размахнулся и
лпсь от одного удара. Вампол Щеке, п°ивсе
три повалиобратился к своему гостю:
78 Как увидим из рассказа, этот великан нс был
от рождения.
одноглазым
79 Тут выступает вся сила обычая гостеприимства у ингу­
шей, перед которым преклоняется и великан.
80 По другому чеченскому сказанию, записанному И- Семе­
новым (см. «Туземцы Северо-восточного Кавказа». СПб.,
стр. 107—121), огромный великан прячет богатыря Говда в свои
карман вместе с копем п оружием.
г»”:,™06-10
'
«с поГ,
144
I
«ВырвнЦа одни волос сзади у мена». Тот уперся
обеими ногами (о зад) и, надрываясь, насилу вырвал один
волос и передал вамполу. Он взял волос, перевязал всех
троих братьей н сказал: «Их, теперь расскажите мне, что
такое у вас произошло? ..» 81
Остановим внимание на образах шшполоп Все они
люди, которые отличаются друг от друга споен физичсскоп силой и некоторыми другими признаками.
О нервом великане в сказании сообщается, что «был
в одном селении человек», следовательно, великан этот
признается человеком, жившим в селении, а нс в лесах и
пещерах. У него была жена. Этот силач брал корову за
хвост и переносил ее через забор. Три брата велпкапарыбака предстают такими могучими богатырями, что за­
бавляются с первым силачом, как с игрушкой, они дую г
на него, перебрасывая, как пушнику.
Но великан «без одной руки п без глаза» (по не одно­
глаз) оказывается сильнее трех братьев-рыбаков. Он ве­
зет одной рукой «тринадцать арб сена», а первого силача
запросто помещает в свои штаны. Одним ударом валит
он трех братьев, «которых нелегко побить», и перевя­
зывает их своим волосом, напоминающим толстую бе­
чевку.
Любопытно, что само повествование об этих богатырях
ь сказании идет в первом лице. Здесь все они являются
непосредственными, живыми участниками эпического дей­
ствия, за исключением одноглаза, который фигурирует
только в воспоминаниях одного из вамполов; все это елужпт своеобразиым подтверждением «реальности» зпиче
ских богатырей.
Несмотря на некоторое различие, все упомянутые об*
разы
представляют определенный тин великанов богаты
рей эпического
то же
пршшетва. Все опи не людоеды и л* ^ иЮи и их» так
тРУДом. Художественный замысел :т1‘
Ш1 крестьян
сказать, философия заключаются п
;,м МОгутоот«ом
ского труда, в любовании силой и 1 РУД
человека.
I
I
'
;
|.
!
!
:
!
глазш?аЛСе следУет традиционный расокпа ,,Ио,мчП'Ь'\
бр1ТГп
который СЬОЛ О
1 Ч*ЬВВ, ЦПсИ0лИН0М-Л10Д0еД0М,
д
10 Заказ
1480
145
Щ
:
;
тебя человек», — ответила жена. — «Где он?» — «В мест­
ности Гл рейту за 88, что возле Озера лягушек, там он оро­
шает поля. Тот человек сильнее тебя», — сказала жена.
Узнав это, карабудахкентец сел на лошадь и поехал искать
ТОГО человека. Не доезжая Озера лягушек, карабудах­
кентец приблизился к болоту, возле которого увидел че­
ловека, орошающего землю.
«Не иди туда, утонешь!» — крикнул ему орошающий
землю, но карабудахкентец не послушался и провалился
в болоте вместе с конем. Орошающий землю подошел,
вытянул из болота одной рукой карабудахкентца с колем
и поставил возле оросительного канала. Затем он смыл
грязь с карабудахкентца, посадил возле костра и сказал:
«Скоро придет моя жена с едой, тогда и поешь!» Долго
они сидели в ожидании. Вдруг подул сильный ветер. Ка­
рабудахкентец удивился и спросил: «Что за ветер?» —
«Это моя жена идет», — сказал орошающий землю. Кара­
будахкентец действительно увидел женщину. Она шла при­
храмывая. На одном плече эта женщина несла корзину
с хлебом, на другом — огромную корзину с котлами супа.
Хозяин стал есть и съел большую часть еды, так что гость
не смог насытиться. Тогда орошающий землю попросил
жену взять гостя домой и там накормить его. Хромая
богатырка, нагруженная корзинами и котлами от обеда,
шла так быстро, что карабудахкентец па коне не поспе­
вал за ней и без конца терял ее из виду. Издали он успел
заметить, в какой дом она вошла.
В ожидании обеда карабудахкентец увидел, что богатырка занялась любовными делами со стариком. Разозлив­
шись, он схватил столб под крышей, чтобы разрушить
се и опустить на любовников. Это не смутило жвнщинуоогатырку: она одной рукой поддержала и выпрямила
ст°лб, а ногой поправила бревна... Разозленный караоу­
дахкентец уехал. Когда он проезжал поле, то увидел друг­
ого человока-пахаря. Пахарь одной ногой пахал, другой
шшои бороновал. Одной рукой сеял семена, другой рукой
Доставал из хунжура89 хлеб и ел его. Караоудахкентец
опросил пахаря спрятать его от богатырки, и тот лометт 1л ^го ц хунжур вместе с лошадью. В тот момент подо‘ а богатырка, пустившаяся па поиски карабудахкентца.
сказках ДР^ги лД]ИВ0СТН0Й у кумыков и других горТцевР Дагестана,1 речь идет об одном бедном парно. ^
Однажды он отправился в поисках раооты н_ Гаоасатнскпй район83. Там он нанялся на работу к оогатому
Хозяин поручил ему пасти на хуторе девять оунволов, дав для животных фураж и для раоотника одни
мешок кукурузной муки. Парень этот отличался непомер­
ным аппетитом. Он по только быстро съел мешок куку­
рузной муки, но каждую ночь резал и съедал по оуиволу.
Всех буйволов он съел в течение девяти диен. После этого,
взвалпв на себя девять оставшихся от буйволов голов,
он отправился на Урахпнский84 базар. За девять голой
оп купил конопли и, сделав нитки, вернулся на хутор,
где пз девятп буйволиных шкур сшил бурдюк80. В Киз­
ляре у богатого купца-вннодела оп паполпил бурдюк
спиртом и поволок его до селения Карабудахкеит86. Там
парень остановился у возвышенности Джаиджамахар, ибо
пе смог поднять бурдюк, сшитый из девяти буйволиных
шкур л наполненный спиртом. Возле бугра парень нашел
губденца87 с большим жпвотом, лежащего на спине. Губдепец пообещал поднять бурдюк на бугор при условии,
что парень даст ему выпить часть спирта. Но губдеисц,
подняв бурдюк на бугор, выпил весь спирт. Тогда между
парнем п губденцем началась драка. К этому месту подъ­
ехал на коне одпп карабудахкентец. Узнав причину драки,
караоудахкентец схватил обоих и, сунув их в правый и
1ТГМаНЫ’ ПОехал к себе домой: Дома карабудахкеигоп пЛ.п Жене ПРПГ0Т0Ш1ТЬ обед, вынул своих плепнп"ж”"'" « » "»■' "ос™ «, «арабу»,1в присутствии гостей: «Есть ли
В мире сильнее мепя и красивее
тебя?» — «Есть сильнее
русски/язык с°^шк(жоп)Ивмп д’
№ 58/‘- Перевод сказки па
с-:
65 Бурдюк - мешок для вица
животных.
пли воды, СШИТЫЙ ИЗ КОЖИ
6С
Карабудахкеит — го
',асти Даге°таПа
селенпя Губдсл Карабу*
;
:
Г"«V»"»
146
147
\
'
Ж
щ
$
я
&
1
■
'
I
:
%
■
ж
т
!
т
.
■■
■
т
■у.:-:
1
4
I
-р—•
10*
■
!
!
!
.
1
здесь верховой?»
ответГ'по1никого Тштдел. лп
Женщина
отошли, а Пахарь
пахарь
’
есть хлеб, доставая его из хуижура. Вдруг
продолжал
он заметил что-то, попавшее ему вместе с хлебом ц застрявшее в расщелине зубов. Это был карабудахконтеп с лошадью. Пахарь вытащил их изо рта, поставил
на землю н сказал: «Иди». Карабудахпептон, отъехал
от пахаря, по вернулся к нему и спросил, отчего у пою
выпал зуб, в расщелину которого он попал вместе с лошадыо.
Далее следует традиционный рассказ о встрече «семи
братьев» с пастухом-исполнном, о котором говорится:
«К нам подошел пастух вместе с овцами, впереди ко­
торых шел козел огромного роста. Пастух бросил свою
пастушью палку в козла, чтобы повернуть стадо, а козел
махнул головой, чтобы избежать удара; при этом он за­
дел ^рогами всех нас, семерых братьев, н одним движением
разбросал во все сторопы. Копчик его рога коснулся моего
зуба и выбил его».
Мы привели эту кумыкскую сказку, которая неизвестна
в печати, для того, чтобы показать ее аналогию с кавказ­
скими сказаниями, сходными но сюжету и образам. Ку­
мыкская сказка, несмотря на определенную локализацию
<ттртппППТаЛа В Се<Ш ту Мирскую традицию, которая
заметно проявляется в эпическом творчестве
1
л
народов
Кавказа.
;
рей \тазаннпгп1В1аЗСК0В тРаАпЧ,ш » изображении богатызапи^цной^^Дхакая^^ГТ^11*1 и В “««грсльской сказке,
развптлю сюжртп Т/Я * 0 хУД°>кествснной композиции,
она очень &Э “ ХарактеР™ богатырских персонажей
и к дагестанским
.Ипг^шскпм сказаниям о вамполах
грельской сказке красной ° великаиах-богатырях. В мипспльнее спльного нгргп? !
10 пР0Х0«ит та же идея идеализация могущестт '0>КИ0 паЙтн. Здесь имеет место
13 сказке расскаитпо еловека 11 сг° труда,
который вместе с тем я?ТСЯ
ОДпом великане-енлаче,
^счо. Бывало сядет Хечп1Л И ^ольш°й обжора, по имени
*леоа> и выпьет более
°оед 11 съест более ста лудо»
Рплезкно занимался кяг' П^Д0В вина- Зато Хечо всегда
4 земледелием, так и виноделием,
90
0ТД- III, с?р^2~ззЫП' Х’ отд‘ иТифлис, 1890, стр. 326—331 П
148
л потому хлеб и вино у него были в достаточном количе­
стве. Случилось так, что в один неурожайный год у Хсчо
но стало вина. Великан с бурдюками пошел к царю про­
сить вина, и просителя отвели в марашг (винный погреб),
в котором стояли иребольшие сосуды, наполненные шшом.
Великан, к общему удивлению, осушил все сосуды до дна,
в бурдюке великана поместилось более 1000 пудов вина,
и он преспокойно понес их домой. По дороге Хечо устал
и сел отдохнуть у подошвы одной горы, на которую должен
был подняться. 13 ото время подошел к нему один человек и предложил свою помощь. Хсчо обрадовался и обе­
щал незнакомцу в награду за труд напоить его вином на
вершине горы. Незнакомец взвалил бурдюк на плечи и
вмиг дотащил до вершимы горы. Хечо, развязав ушко бур­
дюка, предложил незнакомцу пить, сколько он хочет. Тот
опорожнил весь бурдюк. Пошла ссора между ними. В это
время подъехал к ним один человек по имени Кажи91 и,
разняв их, одного положил в один карман, другого —
в другой п повез к себе домой. Дома, вынимая пленников
из карманов, Кажи похвастался перед женой, что такого
силача л великана, как он, нет в целом мире. Жена на
это возразила, что в мире найдется такой великан, перед
которым он покажется букашкой. Рассердило это Кажи.
Взял он лук п несколько стрел, каждую в сто пудов, поехал
искать соперника. Ехал он три года и три месяца н доехал
До обширного поля, среди которого был разведен большой
огонь. Над огнем висел преогромный котел, в котором
что-то варилось, а около огня спал еще невиданной им
величины человек. Кажи пустил стрелу и попал в спину
великана, но тот не пошевелился. Он пустил другую
стрелу в него — и великан проснулся, а когда он пустил
третью, то поднялся великан в виде горы. Кажи испугался,
и давай бог ноги! Бежит Кажи без оглядки, а за ним то­
мится лесной человек Н&ш. В это время на одном иоле
видит Кажи странного и вместе с тем страшного пахаря
который, запрягши в плуг несколько десятков нар буй­
волов, нахал землю. Кажи направился к нему и, подойдя,
вопросил спасти его от преследователя. Земледелец взял
ад ДКажи» — кремень в переводе с мингрельского.
ш
к
■
т
т
т
*
ж
т
&
■и
1
I
Я
I•
:
.
йу&й;
““гг ’оиТш
и чего/ 8атем отдает детям как игрушку (И. Мик а в а. Сказки
I
епАЫ гор. М., 1960, стр. 49-52).
I
149
Г I
|
•В
«Ь «БАЛ
4;
из которой он доставал
«•;</ С /уЛ/орОМ В ПОЛОЖИЛ В СуМКу,
/. нлхирю I/ ионр'-ып
<<;ш*ва. Лесной человек //о;/о///<*./
/который бесшзконл е/о МИрШАИ со;/.,.
е/о Ь'ЫДа/Ь 70/0,
о/с/а / ь, //о, ко/да ./пеной неловок
'Дом.'/еде.'/ед пе./ел сну
земледелец о/рубил СО 0/0
с/ж/ И целой ЧИНЫ: Требо//аТЬ,
. Цао/ал чао обода,
0/0 /члену, Н 7е,*/о выброс//./ за 0/р;|;/у
|;.1ЖП В/////17, '//о Л еин
нелнкому у/НШЛгцшч своему,
//, в
обо//, С0С7 чинши /»:/ //ее/.о л/л.// ' с всро/шмх
Ш/Х<фН //ОС/Л
ПН //удов /шив, в еще более норищ к, </о
ПН1НЧ11 И 0ОЛСО
а /.ори/о себе
/ч, 470 обед э/07 она нчлч/кнли в коры/ о,
Пресно/-,0/1/10
Придет
///ерС7
I. /I И//'/.,.
СIIМВ ж**
НИ ГпЛЧП /
Н3//7Ь
ДОМОЙ
I бо/Л/.
Цч1 ли ЧЧН/Н1 НнНЛЧД.1ЧПЩ ПОНрОСПЛ жену
||’юкп,
положили
в
ь‘о|/М7о.
а
корыю
на
/олову
Гм ВЯ1ЫМ
;
!
:
II НОНИН /1Н/ЦОЙ. ||||'Н«рОЛ1 ПрНПМО/ ДОМОЙ II зе.м I«*//.« 0*0 ||
I мы рВ1Т||рВ1||11И||IЬ I•«1/1)П) откуда он, ку/1а и зач< > нуте
|||НГИ1.УН1- I ООН II рМСГКМММ I НМ Ч/1|1|< Ж е И с ЦОЮ очередь
нм мрн р/иТ/нИНЛ 1и1ЖН смою 1Н"1 ори 10 и НС. I ре*н ею II
1111ХЧ НДН1 11111 ОрНТМШ с 111011И0МН1М пмпухом. И .на сказка
41111Н|Н1ННЧН1 гпнтмннннП: гит,пен С1М1Ы1010 нсе|да иаитп
мОШ!1п1 1,4
а/
А
М!
|1н ииич киикминкин . милицииN иолмкниы ооппыри жн
а\ | нн и .'ич'ич а 1ИЫ1ИИ и гриди ли/дпП, с которыми они
нпиунтмн 1\аК II у 'НидоИ, V нн\ есть жены и ими гогошп
ИМ иищ\, ни Иипимри н ведаю I огромное количество пищи,
И|И1 >чнм ниииии в\ ииггемимн ммдчорК1нннч и\ мойр, и
пи\ Инн инн лниимаичнм иелоиимм трудом и и а и»ч
гмнпн вреде чмтмвч инродвый идеал гр%\до.мооин, Один
1п ее N лети рмеу, другеВ ее.еч тринадцать аро гена,
цечеа ерериич землю* чепидчый едеееремеии.» пашет и
ие\тц\ну Пре -чем е\ цч у, оиеоеицеогь вымолишь оодь
кию равны шжввеч'ь ерееелееее е\ еогнтьцвчин 1*со .ии
ее воины ее ее к\ улич никакой во иноовои силон иронрн
в\еииа. кед де\цчиа, ее имеют неииееиих оселков, екни
нннв\и\ \идчац\ е \ и Э\е прежде всею люди силачи,
IV'' '^'В\еча е\ ееиеииым е\ лечительиим ири.таксм.
1иечтЛЦМИ^ и '''*
еер.иах муиооть ио
\ тиЧ'\"л Ц члц ^''ЧУМ''пи'4' ич нечестие, »ие иди рд ‘
Х'Длкчдте
\\ифичео\ли\ жчекаиеи
чешилюи Ч Ч'Г 1' 4<к
и'и"л 'ЦК'Лешол еще ч4 уии ей \
" '
У'цфмчу'ч"ли\, а \уе\учи\ \чч\\сиря4^ Кд^
.'"ЛЧ'Ч-V ч'Чч^^'Л С Ч>'
1
г
особенность рассказов
мы видели,
^
^
^
состоит в явном
преобладании бытовой, а не героической тематики
Характерно л то, что эти пеликаны скорее отличаются
млролюоием, чем воинственностью. В большинстве случаев
„ни действуют сами по себе и пх богатырские свойства
не //а ходи/ героического применения. Последнее, однако
не исключает наличии в сказапиях и оогатырских
"
сказках
о «еликанах-богатырях некоторых эпических
мотивов.
тоже культивируемых в связи с этими образами.
Укажем па некоторые ИЗ НИХ.
1. Они чески и мотив — испробовать силушку богаты рску/о, зафиксированный во многих кавказских сказапиях
н сказках, известный и в русском былинном эпосе.
2. Мотив
богатырское дуновение. Кавказские
велнкапы дуют на менее сильного богатыря, который переле­
тает при этом, как перышко. Это напоминает богатырское
дуноноипе Святогора, от которого отлетает Илья Муромец.
2. Кап камские великаны часто помещают богатырей
и карман, подобно тому, как это делает Святогор, засажи­
вающий Илью «в глубок карман».
/к Мотив 1ке|унствитслы[0стн великана к ударам богатыря
ТОЯхС 1кшсемсстио распространен в кавказском
эпосе, Эдоск, как это было видно из примеров, изобра­
жены такие исполины, которых можно разбудить ле
иначе, как ударом по голове огромной подрубленной чи­
нарой. Нечувствительны такие богатыри и к ударам
п'рнл, каждая из которых «в сто пудов», как Святогор и
Полевица а русском были ином эпосе, воспринимающие
оега гкурские удары Ильи и Добрыни, как комариные укусы.
о, Эиичоо.,кого крестьянского богатыря-пахаря Микулу
Селяишюпича
напоминают и могучие кавказские пахари
и Косари.
Псе чг\\1
определенным образом характеризует эплче^кую нрир01у кавказских великанов, в которой трудно
мх>мицгься,
Многие
исследователи русских былин разделяли опп■;П\'кп\ героев иа ' Старших * богатырей я * младших >.
К ^ *арщ;»,\» > ччмчхткрям. как пззссгно. ОТЕОСЯЛП. СзЯ:0лу Солашшовкчй. Больгу. Сухмава. Дона к
• Iс.: * ка •: дч Кч>.: к ? ан а к С:• з:: :• нс..
;к :: оьыя5Е*.‘М ъзоее
I-':* '
:-;л у..- ?:еп 'Тгт-:.-:
”- ' ’
• ;-
.
!
.
:
!!
;;
[
I
;
1
.
Л
I
1ч
могущую выдержать его «На ней лежит огромный бога-
!
1
ТЬ11в\Саоактсрнстико былинного эпоса сравнится ию-нстопичесют методом В. Миллер и М. Халаискип. как из­
вестно, придавали особое значение пзучсшпо кавказских
сказаний о горных великанах. По утверждению М. Xаланского, здесь образ «старших» богатырей очерчен весьма
ясно» в отличие от были и, которые, по мнению ученого,
«не заключают в себе определенных указании на великанов, представителей добогатырского периода «старших»
богатырей94. В своих сравнительных поисках М. Халанский, кстати сказать, обращался к примеру из осетинского
нартского эпоса, сказанию о встрече Соеру ко с великаном
Мукарой95. Он фиксировал внимание на этимологии са­
мого названия: «Тых-ФиртМукара», т. е. «сын силы», «Си­
лач Мукара», который, но сказанию, «был князь скал».
«Это название, — писал М. Халаискип, — напоминает на­
шего Святогора» и отмечал при этом «возможное влияние
на него кавказских сказаний о горных великанах» 96.
В то время исследователю не были известны многие
другие сказания о кавказских великанах, которыми мы
располагаем теперь. Все они, на наш взгляд, вполне под­
тверждают интересный вывод русского ученого о том, что
в кавказском великано-богатырском эпосе образ «старших
оогатырей» действптелык > «очерчен весьма ясно»,
В дополнение ко всему сказанному относительно кавказекпх велпканов-богатырей укажем еще на одного их
• представителя. Мы имеем в
:
!:
I
Тем не менере«Пп П|)исущпм" емУ древними атрибутами,
рыболовов и т тличпе от мирных великанов — пахарей,
шша народа п'ппп Пер°Д Пам?т «роический образ защитесТественньвшРСвДойствСИо^1аРВеЛ,Г °бладает 11 СПСР?Ъ'
мифических леполпнов
Д
отлшшется от гРУоЫХ
Шарвелн выражается в с^естает,ая особенность образа
рационализме. Оп воплощает
не только силу,
Пеликма?РСоче;ХсДав
ГбразГшарвелп
зать о глупых
I
М-Халан^пй.уад.ад
.
I •
152
1М_
мифо-богатырских свойств только усиливает представле­
ние о могущество героя, ие умаляя ого реалыю-эиического
восприятия, Таким образом, Шарвелн — это богатырь
иного идейно-эстетического оформлелпя. Он — великан,
отличающийся от древних примитивных гигантов.
Вот что рассказывают в пароде о Шарвелн97. «В давнис времена лезгины имели очень сильного, могуществеипого, храброго богатыря-велпкаиа (лохлевапа). Говорят,
что он был неуязвим, его не брали ин стрелы, ни удары
сабли и меча. Шарвелн не боялись ни горные туры, шг
маралы, ни джейраны, молоком которых он питался и
доил их па бегу. Когда шел он по дороге, птицы п соловьи
садились к нему на плечи. В один миг мог он добраться
до вершины Шалбуз-Дага и вернуться обратно. У него
был волшебный меч огромной величины, и если он ударил нм по скале, то огромная гранитная скала разруша­
лась. У него был такой страшный громовой голос, что
когда кричал он во время боя, оглушенные враги уми­
рали от страха. Шарвелн всегда вел борьбу с врагами
народа. Его никто не мог победить. Один, без младших
оогатырей и друзей, он мог воевать со стотысячной ар­
мией. Никогда в жизни не знал он поражения н не уны­
вал. Но однажды в горы пришла такая тьма вражеских .
войск, что небо и земля стали черными. На Шарвелн,
когда возле него было мало его друзей, напали вражеские
войска. Сколько ли убивал он врагов, они были неисчис­
лимы. Враги нанесли ТЛарвели столько ран, что они не
Клевали заживать, и от крови его образовались кровавые
ки. тогда Шарвелн крикнул небу, прося помощи.
ее^98КИХл земле, но ни от неба, ни от земли не получил
Тог
01Г УГ1ал 11 почувствовал свою гибель.
Шарвелн позвал своих друзей и сказал им: «Я
Ж
Ш
■
й
$.
ш
Л
Л
>
'•
I
;
ш
-й
Щ
§
I
оЛЛезг,шс«и« текст, записанный в 1941 г. в ауле Хпех;
публикован
°тр. 17. По в сбоР«ке «Лезгийрпн фольклор». Махачкала, 1941,
98 » На Русск. яз. Е. Ахмедова.
к цебу опт?ПОе 00РаЩенпе великана-богатыря во время битвы
астРальиоГт
землс можно расценивать как атрибут древней
вольно чарт Релппш п солярного культа. Его отраженно до­
водов Ляг встРечается в памятниках материальной культуры
КаК известнпеСТ.аиа 11 Чечено-Ингушетии. Астральная религия,
т°Р°й, л© т кУЛЬТИВировалась в древней Албании, в состав коТеРрптот)1пг Авеющимся историческим данным, входила и часть
П° Реторт 1т,тЬ1ношного Дагестана. (См.: К. В. Т р о в е р. Очерки
1 кУльтуре Кавказской Албании. М.—Л., 1959).
153
$
;
I
I
скоро умру, но вы не забывайте меня. Когда вам нужна
будет помощь, приходите в полночь к горе Келедхов
(гора в Ахтах) л закричите три раза: Шарвелп, Шарпелп,
Шарвели! Тогда я приду к вам на помощь». Говорят, что
после этого, когда враги нападали на лезгшг, они звали
Шарвелп, он вставал, шел на помощь, и парод побеждал
врага. По преданию, Шарвелп бессмертен, п даже в наши
дни старики, услышав в ночной тиши щебет птиц, гово­
рят: «Это разговаривает Шарвелп».
Очень интересно и замечательное чеченское сказание
«Гезама Али и Толом-Аго». Оно недавно записано в Че­
чено-Ингушетии у Ихваиа Ибрагимова фольклористом
Ахметом Мальсаговым ".
Действующие лица этого сказания изображены вел 11канами и в этом отношении не отличаются от своих кав­
казских собратьев. Однако здесь эти образы получают по­
вое содержание, проникаясь идеями высокого гуманизма
и народной морали, пронизывающими все повествование.
О Гезама Али, т. е. сыне Гезама, говорится, что он
был хорошим пастухом-хозяииом, который в поисках
пастбища отправился со своими овцами в дальние горы.
О Толом-Аго (здесь это просто двойное имя) сказано,
что это «был среди партов именитый нарт», который на­
водил ужас на окружающих. Если облик Гезама Алл рпсуется в щыкновенном виде человека-богатыря, то ТоломАго изображен как исполин: «На
сам величиной с половину горы». коне величиной с гору,
В отличие от мирного занятия
А го выступает в роли захватчика. Онпастуха Али, Толомотправляется к Гезама Али с намерением
плеиить его и отобрать отары
овец.
Первое столкновение богатырей выходит за пределы
обычной эпической
борьбы и по существу сводится к пси­
хологической схватке. При появлении Тололг-Аго «вели­
чиною с полторы» хозяин не выпроваживает незваного
гостя. Более того, вопреки установленному на Кавказе
о ычаю, по которолгу первым должен «отдать салам»
гость, а не хозяин, Гезама Али внезапно первым гостепрппмно приветствует неизвестного пришельца. Этим он
Фактически ооескураживает его, что и подчеркивается
В газете «Лв154
в сказании, когда говорится, что после этого, т. е. после
неожиданного дружелюбного приветствия, «робость закра­
лась в сердце Толом-Аго». Физическая проба сил между
богатырями фактически начинается с момента трапезыугощения: «Не успел Толом-Аго съесть п половину ба­
рана, как Гезама Али съел целого барана. Не успел То­
лом-Аго выпить и одной чашки навара, как Гезама Али
опорожнил весь котел». После всего этого Толом-Аго
вернулся домой пн с чем. Через четыре года он отправляет к пастуху 63 мартов, которые должны пригнать овец
и пленить их хозяина. Когда 63 парта пришли к Гезама
Али, он сказал нм: «Сам я ие пойду, а овец забирайте».
Они взяли овец и ушли. В ответ па это мирный пастух,
вернувшись в свой отчий долг без овец, принялся за изго­
товление лука и 63 стрел. С этим он и отправился к нар­
там. Появление богатыря рисуется в подлипло эпических
красках: «Что это за огни горят?» — «Это пламя от копыт
Гезама Али, быотцпхся о гору». — «А что это за туман сте­
лется?» — «Это пар из ноздрей копя Гезама Али». За­
просто расправившись с 63 нартами и взяв своих овец,
герой возвратился долгой. Спустя некоторое, время Гезалгд,
Али просит у отца разрешения навестить «друга» и от­
правляется к Толом-Аго, и на этот раз бросает ему вызов
к битве. «Как же я буду с тобой драться, когда я вели­
чиной с полгоры тг тебе не поднять меня?» — говорит
Толом-Аго своему «супротивнику». В данном случае про­
тивник народного героя преувеличен до гигантских раз­
меров для того, чтобы резче подчеркнуть богатырскую
Доблесть Гезама Али, имеющего обыкновенный вид.
(Здесь мы имеем мотив Давида и Голиафа и, кроме того,
пример гиперболизма «от противного».) Сама схватка
изображается в сказании но вселг правшгалг традицион­
ного эпического боя: «Гезама Али приподпял Толом-Аго
и по голень вогнал его в землю, Толом-Аго приподнял
безалга Али и тоже по голспь вогпал в землю. Схватил
Али Тололга и вогнал его в землю но самую грудь».
Традиционность богатырской битвы подтверждается
многими примерами из кавказского богатырского эпоса.
Так, в одной из дагестанских сказок могучий великан
говорит герою по имени Ахмат: «У тебя к еде большие
способности, но на что ты еще способен?» На это Ахмат
говорит великану: «У меня есть и другие спосооности,
Дпвай биться». Тогда великан хватает Ахмата и, крикнув.
155
скоро умру, но вы не забывайте меня. Когда вам нужна
будет помощь, приходите в полночь к горе Келсдхов
(гора в Ахтах) я закричите три раза: Шарвели, Шарпелп,
Шарвели! Тогда я приду к вам на помощь». 1.спорят, что
после этого, когда враги нападали на лезгин, они звали
Шарвели, он вставал, шел на помощь, и народ побеждал
врага. По преданию, Шарвели бессмертен, п даже в паши
дни старики, услышав в ночной тиши щебет птиц, говорят: «Это разговаривает Шарвели».
Очень интересно и замечательное чеченское сказание
«Гезама Али и Толом-Аго». Оно недавно записано в Че­
чено-Ингушетии у Ихваиа Ибрагимова фольклористом
Ахметом Мальсаговым ".
Действующие лица этого сказания изображены вели­
канами и в этом отношении не отличаются от своих кав­
казских собратьев. Однако здесь эти образы получают но­
вое содержание, проникаясь идеями высокого гуманизма
и народной: морали, пронизывающими все повествование.
О Гезама Али, т. е. сыне Гезама, говорится, что он
был хорошим пастухом-хозяином, который в поисках
пастбища отправился со своими овцами в дальние горы.
О Толом-Аго (здес! > это просто двойное имя) сказано,
что это «был среди партой именитый парт», который на­
водил ужас на окружающих. Если облик Гезама Али р 11суется в обыкновенном виде человека-богатыря, то ТоломАго изображен как исполни: «На копе величиной с гору,
сам величиной с половину горы».
В отличие от мирного занятия пастуха Али, ТоломАго выступает в роли захватчика. Он отправляется к Гезама Али с намерением пленить
его и отобрать отары
овец.
Первое столкновение
выходит за преде^
обычной эпической борьбыбогатырей
и по существу сводится к пс
хологической схватке. При появлении Толом-Аго
«в еличппою с полгоры» хозяин не
вьщроважпвает
незваного
гостя. Более того, вопреки „
установленному на Кавказе
обычаю, по которому первым
гость, а не хозяин, Гезама Али должен
внезапно «отдать
первым салам»
госТ
приимно приветствует неизвестного пришельца. Этим 0
фактически обескураживает его, что и подчеркиваете
99 Впервые опубликовано на чеченском языке в газете
нпнекпи путь» («Ленппан некъ»), 24 мая 1967 г.
((6"*"
154
в сказании, когда говорится, что после этого, т. е. после
неожиданного дружелюбного приветствия, «робость закра­
лась в сердце Толом-Аго». Физическая проба сил между
богатырями фактически начинается с момента трапезыугощения: «Не успел Толом-Аго съесть и половину ба­
рана, как Гезама Али съел целого барана. Не успел То­
лом-Аго выпить и одной чашки навара, как Гезама Али
опорожнил весь котел». После всего этого Толом-Аго
вернулся домой ни с чем. Через четыре года он отправ­
ляет к пастуху СЗ мартов, которые должны прпгнать овец
и пленить их хозяина. Когда 63 парта пришли к Гезама
Али, он сказал нм: «Сам я не пойду, а овец забпрайте».
Они взяли овец п ушли. В ответ па это мирный пастух,
вернувшись в свой отчий долг без овец, принялся за изго­
товление лука и 03 стрел. С этим он и отправился к пар­
там. Появление богатыря рисуется в подлинно эпических
красках: «Что это за огни горят?» — «Это пламя от копыт
Гезама Али, бьющихся о гору». — «А что это за туман сте­
лется?» — «Это пар из ноздрей копя Гезама Али». За­
просто расправившись с 63 партами и взяв своих овец,
герой возвратился домой. Спустя некоторое, время Гезама.
Али просит у отца разрешения навестить «друга» и отправляется к Толом-Аго, и на этот раз бросает ему вызов
к битве. «Как же я буду с тобой драться, когда я величиной с полгоры и тебе не поднять меня?» говорпт
Толом-Аго своему «супротивнику». В данном случае про­
тивник народного героя преувеличен до гигантских раз­
меров для того, чтобы резче подчеркнуть богатырскую
доблесть Гезама Али, имеющего обыкновенным вид.
(Здесь мы имеем мотив Давидам Голиафа и, кроме того,
пример гиперболизма «от противного».) Сама схватка
изображается в сказании по всем правилам традицион­
ного эпического боя: «Гезама Али приподнял голом- го
и по голень вогнал его в землю, Толом-Аго приподнял
Гезама Али и тоже по голень вогпал в землю, хватил
Али Толома и вогнал его в землю по самую грудь».
Традиционность богатырской битвы подтверждается
т
— примерами из кавказского богатырского эпоса
многими
Так, в одной из дагестанских сказок могучий пели
говорит герою по имени Ахмат: «У тебя к еде оолыписпособности, но на что ты еще спосооены) На это^ хл с
говорит великану: «У меня есть и другие способности,
Давай биться». Тогда великан хватает Ахмата и, крикну
155
I
Приближение образов великанов к богатырям героиче­
ского склада можно наблюдать и в нартскнх сказаниях
абхазов, где два пласта кавказского эпоса — великанобогатырский я героический — представлены в своеобразпом художествсшгом единстве. В абхазском нартском
эпосе заметны значительные совпадения с однотипными
богатырскими сказаниями о великанах у вешгахов, осетшт, адыгов и сказками дагестанских пародов. Здесь есть
и мифические многоголовые чудовища типа авестийских
дэвов с явными элементами древнего каннибализма и т. п.
Одно из чудовищ, например, настолько могущественно,
что «проглатывает Сасрыкву с конем, другое — поглощает
кипящий отвар с мясом ста быков» 101.
Здесь также постоянен и рельефен образ всликанабогатыря, паделеипого громадной физической силой, —
великана-пастуха, который, наподобие многих кавказских
великанов, «кончиком палки выбросил в пропасть ка­
кой-то обглоданный череп с помещавшейся в нем целой
армией людей, которым череп показался пещерой...» 102
Любопытно, что великанов-богатьтрей в абхазских сказашшх окружает почти тот же, специфический для вели­
кано-богатырского эпоса чеченцев, ингушей, дагестанцев
11 других кавказских народов, сюжетный комплекс мотивов, эпизодов и. деталей.
В нартскнх сказаниях абхазов переход от великан­
ского богатырства к эпическим героям-нартам общекав­
казского характера наглядно прослеживается па ооразе
Сасрыквы.
Сасрыква — это и великан-пастух, и тгартекпй герои,
с присущими ему героическими чертами.
сказанпй и
Как
Дагестанских
спит
как
тыри, он легко перепрыгивает вер. _
(также держи
нартский дом, держа под мышкой 1 •пз великаио
за хвост корову и перепрыгивает
великану-богатыр
в ингушских сказаниях). ^ П0Д001
0асрьтква встреча
многих кавказских сказаний и сказ >
«Солнце — мое!» — бьет его об землю. Ахмат до колол
входит в нее. Потом Ахмат хватает пеликана и, крикнув;
«Аллах —мой!»— по пояс погружает его в землю. Вели­
кан поднимается и снова, схватпв Ахмата, крикнув —
«Солнце— мое!» — бьет об землю и с трудом втыкает его
по пояс. Ахмат, выбравшись, кричит: «Аллах
мой!» —
п бьет великана о землю с такой силой, что тот входит
в нее по горло.
Ахмат отрубает ему голову и, забирая баранов и го­
лову великана, уходит к своему кунаку» 10°.
Но в чеченском сказании народный герой по отрубает
голову врагу, как это бывает по традиционному эпиче­
скому стандарту. Богатырский поединок завершается тор­
жеством нравственной силы народного героя, который
окончательно повергает врага тем, что заставляет совер­
шить полезную для парода работу, как раз посильную
такому исполину, как Толом-Аго. Гезама Али приказы­
вает ему натаскать издалека «три больших кургана земля,
разровнять их и вспахать землю».
Таково содержание и образы этого замечательного
героического сказания чеченцев.
В анализируемом сказании мы имеем наглядный при­
мер художественного воплощения глубокой мысли народа.
Как продуманны и завершены здесь эпические образы!
Для яркости их изображения используется поэтическая
гипербола. Преувеличение одного из персонажей до раз­
меров с «половину горы» определяет замысел эпического
рассказа. А состоит огг в идеализации народного героя,
каким предстает могучий и смелый пастух Али. Преиму­
щества народного героя раскрываются, с одной стороны,
с помощью преувеличения, с другой — художественного
контраста. Однако контрастная гипербола применяется
только в изображении врага, который рисуется в гигант­
ском впде (величиной «с нолгорьт»). Пастух же Али вы­
глядит обычным человеком. Могущество героя подчерки­
вается не преувеличенными его размерами. Оно состоит
пе только в физической силе, но в силе его духа и разума’.
Все это как раз и обеспечивает торжество народного
идеала, которым венчается сказание.
эпос101 Вес ссылки делаются ио статье Ш. дрджопиклдзе,
аохазцев». — В сб.: «ТТартсшш опое».
СТР. 107
102
Там же.
гп
ДАГНИИЯЛ, д. 92, стр. 227-231; сказка эта
котоптт;^ гУт,тЖ?Ве0Т1ШГп<сдагестанск0Г0 сказителя Ляу Лкавопа.
у|е?о в и"з4 г. “
Г‘; 3аШ1СЬ ЭТ0Й “п 1,Р°п8ВеДеНа
156
!
157
«наполовину высохшего пахаря», накрывшего его, вместе
с конем, глыбой земли, поднятой пахарем (в чечено-ин­
гушских сказаниях и дагестанских сказках 1 срой попадает
в карман исполина!). Сасрыква, так же как это делают
великаны, «отправляется в одиночку в далекий и опас­
ный путь с единственной целью: выяснить, есть ли гденибудь на свете герой, более могущественный, чем отг,
и померяться с ним силами» шз.
И вместе с этими великано-богатырскими чертами
Сасрыква имеет уже общеиартскую «эпическую биогра­
фию», которой обычно у великанов ист.
Он, как Сосруко, Сослан, Соска-Солса и др., рожден
из камня, в его рождении принимает участие СатапейГуаша и небесный кузнец. Сасрыква, в отличие от вели­
канов, наделен умом, хитростью и смекалкой.
Сасрыква, унаследовавший от велпканов-богатырей их
многие черты в гораздо большей степени, чем адыгский
Сосруко, осетинский Сослан и др., вместе с тем уже
подлинный герой общсиартского типа.
Абхазский Сасрыква, как и осетинский, адыгский
Сосруко, — это высшее воплощение культа воинской
доблести, физического могущества и ловкости.
Образ абхазского Сасрыквы весьма интересен с точки
зрения сочетания черт и свойств общекавказского вели­
канского богатырства и обтцеиартской устойчивой ге­
роики.
В абхазских сказаниях встречается и образ вели­
канши, которая сажает могучего героя па колени, и спе­
цифически кавказский мотив, характерный для сказании
о великанах, — прикосновение героя к ее груди как знак
усыновления. Здесь даже тот же образ старухи-матери
грозных великанов, у которой безобразно большие груди»
перекинутые через плечо. «Герой незаметно подкрался
к ней и, желая усыновиться, прпкусил зубами се
гРУДи» 4. Эта великанша, которая (точно как в даге­
станских нартекпх сказках) «поместила несчастного аб­
хазца», как именуется Сасрыква, вместе с колем в свое
корыто, поставила все это себе на голову и пошла домой,
..
преспокойно продолжая прясть. В абхазском эпосе вели­
каншей оказывается л Сатаней-Гуаша — мать ста сын о*
нм ф Д* Р н а л - И п а. Указ. соч., стр. 100.
104 Там же, стр. 103.
/5$
вей. 13 кавказской нартнаде Сатана, как правило, ие ри­
суется в таком виде, в абхазских же сказаниях опа могу-'
чая богатырша:
Питою своею толкнув, Сатаней-Гуаша
Громадный бук с корнем вырвала, Сатаней-Гуаша.
Нош копчиком толкнув, Сатаней-Гуаша
И скалу большую вырвала, Сатаней-Гуаша,
Ногтем ее вдавила, Сатаней-Гуаша ,о:\
)
Совершенно очевидно, что образ абхазской СатапейГуаши в части своих богатырских качеств во многом
перекликается с подобными ей женскими типами кавказского фольклора (и в особенности с богатыршами вейнахских сказаний и дагестанских сказок).
Бесспорно, что «вторая», так сказать, великано-бога­
тырская натура абхазской эпической героини — свиде­
тельство архаичности этого образа.
Итак, в качестве древнего исходного начала общекавказского героического эпоса мы* признаем сказания
о великанах, образы которых расцениваются нами как
весьма архаическая типовая категория, во многом опре­
деляющая сущность эпических образований. Изучение
архаических образов богатырей проливает свет на при­
роду эпических героев более лоздиего периода развития
эпоса, когда он сформировался в эпопею, а также на про­
цессы становления эпического жанра у народов ^авказа
воооще. Выяснение всего этого тем более необходимо,
что» несмотря на крупные успехи картоведения, говоря
словами известного кавказоведа Н. Дрягииа, «до сих пор
остается спорным вопрос, чем являются распространен­
ие среди горцев Северного Кавказа (а в вариантах,
встречающиеся и в Закавказье, включая Армению) ска­
зания о нартах» 106
| Сравнительное
____ изучение этих образов у дагестанцев,
чеченцев и ингушей, осетин, кабардинцев, балкарцев, ка­
Рэчаевцев, абхазов, свапов и т. д. привело к полному
105
100
>Ке' СТР‘ 108'
1930 СТр РдТЛЧеский сборник», выгг. VI. Л., Изд-во АН СССР,
159
убеждению в значительном сходство их у всех кавказских
пародов. Степени соприкосновения образов великановбогатырей настолько поразительны, что нужно говорить
не о случайных совпадениях, а чуть ли не о версиях
древнего богатырского цикла. При этом совпадение про­
слеживается не только в образах, но л в сюжетах,
эпизодах, деталях, окружающих великанов-богатырей.
Сказания п сказки о велпканах-богатырях па Кавказе
настолько распространены, образы великанов настолько
разнообразны, что это обстоятельство, по-видимому, при­
вело в свое время М. Халаиского107 и В. Миллера 108
к мысли о том, что великаны из кавказских сказаний по­
влияли на былинных великанов и великанш.
Образы великанов-богатырей фигурируют в сказаниях
двух видов, которые условно можно разграничить на ска­
зания моносюжетного н полнсюжетного состава.
В первом случае богатыри действуют как единствен­
ные, вполне самостоятельные персонажи единообразного
сюжета. Хотя эти образы и различаются по своему виду
(в зависимости от степени их могущества и проявления
других «богатырских качеств»), в сказаниях такого рода
их героические функции еще весьма ограниченны. По ха­
рактеру своей деятельности и самой художественной при­
роде богатырские образы определены здесь в статическом
плане. Это богатыри внутренней силы, богатыри-силачи,
которые нс совершают активных действий, соответствую­
щих подвигам героических личностей в эпосе.
Сказания моносюжетного плана почти исключают кон­
фликтную ситуацию героико-эпического характера. Здесь
ооычно статическим образам соответствует и относительно
«бесконфликтный» сюжет, в котором героическое действие
еще слабо выражено.
Однако, несмотря на то, что велпканы-богатырп при­
надлежат к «статическому типу», не являясь эпическими
героями в полном значении этого слова, в действитель­
ности это наиболее древние их прототипы.
В деятельности великанов-богатырей, которые больше
только упражняются в своей спле, съедают неимоверное
количество пщцн, совершают огромную работу, будучи
в роли пастухов, пахарей или рыболовов, определяются
,07 М. X а л а н с к и й. Указ, соч., стр. 35.
108 В. М н л л е р. Кавказско-русские параллели,
160
стр.
166.
многие эстетические функции будущих эпических героев,
В сказаниях о велпканах-богатырях выявляются и постепенно накапливаются такие черты богатырства, которые
в состоянии полпсюжстного развития эпоса приобретают
новое качество. В этой связи, па наш взгляд, и опреде­
ляется генетическая проблема качественного перехода
«статического» богатырства к «динамической» героике,
т. с. к героическому проявлению этого богатырства. Эта
проблема может быть сформулирована и как проблема
конфликта, противопоставления одних эпических образов
другим, одних сюжетных ситуаций и мотивов — другим.
Мы старались на протяжении нашего исследования на
материале кавказского фольклора сформулировать опре­
деленную концепцию; сущность се состоит в признании
у многих кавказских народов древней всликано-богатырской и эпической традиций. На ее основе, на наш взгляд,
и развивался героический иартский эпос.
Традиция эта сказалась на формировании эпических
образов, которое проходило в процессе их сложного худо­
жественного взаимодействия л обогащения.
Нартскис герои кавказского эпоса во многом унасле­
довал и черты и свойства древних кавказских титанов.
Образы мифических ислолпиов, олицетворяющих грубую
физическую силу, в процессе их эволюции лропнкалпсь
новым содержанием. Если древпие титаны характери­
зуются чертами грубого примитивного существования,
то о богатырях типа вамполов — пахарях, рыболовах
и т. п. — этого нельзя сказать. Не случайно поэтому
с ними связало и нравственно-философское осмысление
эпической темы, на что мы уже обращали внимание.
Формирование богатырских образов в эпическом на­
правлении происходит не только за счет пх героизации.
Наличие у эпических героев «интеллектуальных данных»,
отсутствующих у великанов, па наш взгляд, является
основным критерием их качественного преобразования.
Рационализация богатырства осуществляется на оолее
высоком уровне развития народной эстетической мысли.
Естественно, что само складывание героических хаРактеров в нартской эпопее происходило в определенных
исторических, этнических, идейно-эстетических условиях,
в которых бытовал героический эпос па Кавказе и котоРые безусловно надо учитывать.
11
_.'Г
1
Заказ № 1480
I
Б. А. Калоев
НЕКОТОРЫЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
К ОСЕТИНСКОМУ НАРТСКОМУ ЭПОСУ
I
Осетинские иартскне сказания содержат обширный
этнографический материал, который представляет большой научный интерес и является ценным дополнением
для познанпя культуры осетинского парода и многих эле­
ментов его быта в далеком прошлом.
В этнографической науке партекпй эпос, в частности
осетинский его вариант, еще пе стал объектом серьезного
научного исследования. Правда, в трудах В. Ф. Миллера 1
и В. И. Абаева2 даны примеры использования эпического
материала в качестве одного из важных нарративных
источников этнографической науки. Так, в статье
В. Ф. Миллера «Черты старины в сказаниях и быту Осе­
тии», на основе данных нартского эпоса рассматривается
этническая преемственность некоторых черт осетинской
культуры. В. Ф. Миллер впервые обратил внимание на
то, что в сказаниях о нартах нашли отражение не только
элементы материальной и духовной культуры алан-осе­
тин, пх мировоззрение, нравы, обычаи п т. д., но и неко­
торые отголоски л следы скифского быта (известные,
например, по описанию Геродота).
Между тем осетинский нартский эпос содержит данные для воспроизведения тех важных сторон мировоззрения осетин, народного быта, нравов и обычаев, многие из
которых давно утрачены.
1 В. Мл л лер. Черты старины в. сказаниях и быту Осел т
2 В. Абаев. Мартовский эпос. — ИСОНИИ, т. X, вып.
Дзауджпкау, 1945.
ТИЛ. — ЖМНП, 1882, VIII, стр. 191-207.
162
1
;
!
Этнографические данные, которые содержатся в осебыть серьезным подспорьем при
тннском эпосе, могут
эпоса.
определении территории формирования
Некоторые сказания осетинского эпоса сложились еще
п I тыс. до и. э., хотя в целом в эпосе нашли отражение
многих эпох. Однако основное ядро его создавачерты
В. И. Абаева, в перпод
лось, как уже пзвсстпо из работ
центральной
части Северного
в
пределах
средневековья
Кавказа. Об этом свидетельствует, например, наличие
в нем ряда конкретных топонимических названий равнин­
ной и горной полосы: Татартуп, река Кума, Кумекая равкоторые встречаются под
нпна Адаихох (гора Ада) и др.,
пыие
существующих картах
теми же названиями и на
главных
частей эпоса в предэтого края. О формировании
также
многократные
горьях Ссверпого Кавказа говорят
упоминания в нем гор, перевалов и т. д.
Наличие в осетинских сказаниях монгол ьских черт
(привнесенных, по-видимому, ордами Тимура, вторгнувшимпся в горы Западной Осетии и т. д.) может служить
также, как нам кажется, аргументом, свидетельствующим
о формировании основного ядра эпоса в пределах Цен­
трального Предкавказья в период средневековья. Но
вместе с тем в осетинских сказаниях о нартах отражепа
прежняя территория расселения алан; об этом свидетель­
ствует постоянное упоминание в эпосе рек и морей, в том
числе Черного моря. Известно, что современная Осетия
ие имеет больших рек и находится далеко от морей. Тем
пе менее в осетинской мифологии значительную роль
играют такие божества, как владыка морей Донбеттр и
рек Гатаг, занесенные на Центральный Кавказ, по-впдпм°му, предками осетин из прежпего места пх обитания.
осетинском эпосе отводится исключительно большое
Ме°то Донбеттру. Достаточно отметить, что от него ведет
Свое начало род нартов, он является отцом выдающихся
нартских героев — Батрадза и Сырдона. «Связь нартов
^ водной стихией и ее властителями — Донбеттрами,
пишет В. И. Абаев, - проходит настойчиво через весь
с ос» • Все это свидетельствует о том, что некоторые
т зания огладывались тогда, когда предки осетин нах
тт"*
от современной Осетии и паселялп ™
2 На’ л°бережья Черного п Азовского морен. Одна
В. Абаев. Мартовский эпос, стр. 34.
163
И*
иаиболее ярко в партских сказаниях запечатлелись территория расселения алан в эпоху позднего средневековья
и их соседство со многими современными кавказскими
народами. В эпосе говорится о том, что парты живут
в окружении многочисленных соседей; с одними они вра­
ждуют, не раз вторгаясь в пределы их территории с целью
грабежа, угона скота, а с другими находятся в дружбе
и даже совершают совместные военные походы. Можно
составить представление и о размере страны партов
(стоит партам совершить двухдневный поход, как они
оказываются па территории соседнего народа). Во всем
этом нетрудно усмотреть упоминания о расселении алан
в эпоху средневековья в центральной части Северного
Кавказа, где они близко соседствовали с абхазами, с адыг­
скими племенами, с современными горцами Грузии, наро­
дами Дагестана л Чечено-Ингушетии. Арабский географ
X в. Масудп, совершивший путешествие по Северпому
Кавказу, отмечает наличпе у алан такого соседства.
К числу народов, близко примыкавших к аланам, Масуди
относит и абхазов. «Рядом со страною аланов, — пишет
он, — живут абхазы, исповедующие христианскую рели­
гию, и в наше время у нпх есть царь (царь алапов силь­
нее их, и область пх простирается до гор Кабхль)»4.
Аланская территория отличалась в эту пору густой насе­
ленностью. Для аланских сел и хуторов на равнине Цен­
трального Предкавказья было, по-видимому, характерно
смешанное родовое поселение; это подтверждается и.дан­
ными нартского эпоса осетин, где говорится о том, что
в партском селении было трп рода (фамилии), каждая из
которых занимала определенный квартал. Однако в горах
у алан, как и у осетин, несомпенио, преобладало родовое
поселение. Известно, что каждый из пяти древних осе­
тинских родов, вышедших (по данным средневековой гру­
зинской надписи в известной нузальской церкви XIII в.)
из селения Нузал, имел сначала здесь же, в Алагирском
ущелье, свое родовое селение. Позже от этих родов обра­
зовались, по преданию, многие осетинские роды, которые
переселились в другие районы горной Осетии. Однако
о поселениях алан в горах в эпосе ничего не говорится,
то, на наш взгляд, еще раз свидетельствует о том, что
казе
1902,’ стр. 54
аУ Л * В« ^веДеппя арабских писателей о КавАзербайджане. - СМОМПК, вып. XXXI. Тифлис,
!
!
I
осетинские партские сказания формировались главным
образом в пределах степной полосы Центрального Пред­
кавказья.
В осетинских сказаниях довольпо точно отразплся тпп
поселения алан па плоскости. Во многих сказаниях встречастся упоминание о том, что в селении мартов жпвут
три рода: в верхнем квартале располагается род Ахсартаггата, в среднем — Алагата и в нижнем — род Бората.
Каждый из этих родов имел своп особенности: парты из
рода Бората были счастливы и богаты, род Ахсартаггата
отличался мужеством, а род Алагата — храбростью и лов­
костью. Эти особенности уже есть свидетельство классо­
вого расслоения в нартском общество; подобные явления
наблюдались и у алап, а позже и у осетин, у которых
имелись сильные и слабые, зиатпыс и незнатные роды.
Важную роль в общественной жизни мартов играл
нихас — древпейший орган управления родо-племенных
организаций создателя эпоса. В осетинском эггосе нихас
встречается часто под названием «большой иартскпй ни­
хас», что дает возможность предполагать наличие в нартском селении и фамггльных них асов, на которых об­
суждали и решали вопросы, касающиеся отдельных ро­
дов. Видимо, «большой нихас» был органом управления
племен или нескольких родов, что мы видим и у мартов.
Судя по некоторым фольклорным и этнографическим
данным, нихас у алан, как и у осетин, в далеком прошлом
представлял собой совет родо-племеипых старейшин.
Позже у осетин па нихасе уже могли присутствовать все
взрослые мужчины, хотя решающим голосом пользова­
лись по-прежнему только родовые старейшины. Отметим
также, что до присоединения к Россия и введения рус­
ской администрации, в период так называемого Особа,
когда Осетия распадалась па несколько самостоятельных^
обществ, на нихасе решались важнейшие общественные
Дела, вопросы войны и мира, суда, рассматривались всяобщества, так и це­
кие действия как отдельного члена
пляны походов («балцев»).
из огр»ш— На тгпхасе проводились упражнения в стрельое, I}
’де\шя
норечлгг; здесь сказители создавали лу* • Р'
и_
народного творчества. С установлением
стративной власти на Кавказе некотор IУ
ть в 06были упразднены, и все же он продо
165
164
:
1
ществениой жизни осетин важную роль (теперь на пихасе распределяли подворные земские повинности, рас­
ходы па общественные постройки и т. д.) 5. Анализ
этнографического и фольклорного материала дает возмож­
ность предполагать, что ппхас (мужские собрания), веду­
щий свое происхождение от родового строя, имел рас­
пространение также и у некоторых народов Северного
Кавказа (у адыгских народов он известен под назва­
нием «хаса»). Нихас был важнейшим общественным
учреждением у алан-осстии и в период средневековья.
Наличие нихаса у алан подтверждается и некоторыми
памятниками материальной культуры, сохранившимися
в ряде мест горной Осетии. К числу таких, например,
относится так называемый Нартскпй ппхас в селении Лац
Куртатинского ущелья Северной Осетии. Судя по археологическим раскопкам, село это было основано аланами
после гуннского вторжения. По-видимому, тогда же возппк и ныпе существующий здесь нихас, как неотделимая
часть любого аланского села. Нихас этот находится
в центре поселения и представляет собой небольшую
площадь; на одной стороне ее расположен],I полукругом
большие камни для сидения, причем некоторые из них
имеют вид кресла; на них, по преданию, садились имени­
тые нарты: Уртлзмаг, Сослан, Батрадз и др. Учитывая, что
нартскпй нихас в селепии Лац — единственный памятник
своего рода в Осетшг, можно полагать, что он осповап
не современными осептами — позднейшими поселенцами
этих мест, а их предками — аланами.
Нихас как родо-племенной совет
у алап-осетип имел,
несомненно, много сходных черт с подобными учрежде­
ниями у соседних кавказских народов — ингушей, чеченцев, кабардинцев и др. Вместе с тем, как показывает ана­
лиз этнографического материала, истоки нихаса, воз­
можно, уходят и в скифо-сарматский мир. В этом аспекте
нельзя не заметить большого сходства между осетинским
них асом и михмаи-ханой (домом для гостей) горных
таджиков, в частности ягнобцев, которые близки осети­
нам по языку. В отличие от других пародов Средней
Азии, у ягиобцев до наших дней сохранились специальные
постройки, куда собирались мужчины селения для об-
суждения общественных дел или проведения свободного
от работы времени с.
На рте кин энос содержит интересный материал и для
выяснения вопросов, характеризующих хозяйственную
деятельность населения края от древнейших времен до
эпохи раннего средневековья. В сказаниях о партах
нашли отражение почти все виды занятий обитателей
предгорьев Центрального Кавказа: охота, рыболовство,
скотоводство, ремесла, земледелие. Охотились нарты глав­
ным образом на оленей7. Упоминание о других диких
животных, в том числе и о самых распространенных
в современной Осетин — турах, в эпосе встречается
весьма редко. Широкое распространение оленей в древ­
ности на Северном Кавказе подтверждается и археологи­
ческими раскопками. Так, во многих скифских городищах
(VI — IV вв. до и. э.) не обнаружено костей других ди­
ких животных, кроме оленя и кабана8. На археологиче­
ских раскопках в кобапских и* особенно скифских могиль­
никах, найденных на территории Северного Кавказа, По­
волжья, Средней Азии и горного Кавказа, встречаются
два вида изображения оленей: так называемого «скиф­
ского» оленя и благородного оленя. Из них первое изобра­
жение считается более древним, способствовавшим появ­
лению и развитию второго вида изображения. По мненшо
некоторых исследователей9, проникновение скифского
5 А. Б. В горах Осетии (Из путевых пабросков). — «Казбек»,
1902, № 139; Б. В. П ф а ф ф. Путешествие по ущельям Северной
Осетии. - ССКГ, вып, I. Тифлис, 1871, стр. 198.
с С. П. Толстов. Древний Хорезм. М., 1948, стр. 315;
Л. II. Кандауров. Патриархальная домашпяя община п ооЩипные дома у ягпобдев. — «Труды Института этнографии
АН СССР», т. III, вып. 1, 1940, стр. 23.
7 «Осетинские нартские сказания». М., 1948, стр. 13: «Дверь
шатра открылась, вошел Лхсартаг, он принес тушу уоитого
оленя». Т а м ж е: «Разделил гумский человек оленя на три части
и сказал Сослану: Твое право, нарт Сослан, выбирать первому
любую часть» (стр. 91); «Побежали партекпе юноши нсполпять
слова Урызмага — вот уже волокут они тушу оленя...»
(стр. 194); «Стало уже смеркаться, и вот средп леса па по^пе
пасется па земной траве большое стадо оленей...» (стр. о-о).
Нередко образ оленя в эпосе принимает жепщнна, в частности
дочь солпца Ацырухс.
Кабардип8 Е. И. Крупно в. Краткий очерк архсологии
о
поселениях
скоп ДССР. Нальчик, 1946; Он же. К вопросу
. пяа
скифского времени па Северном Кавказе. -— «Краткие Д°0^щоиия
0 Докладах и полевых исследованиях НИМИ», вып. лл1\, ш-ы.
9 Н. Л. Членов а. Скифский олепь. — «Материалы п асследования по археологии СССР», № 115; «Памятники скпфо-сарматской культуры». М., 1962.
166
167.
«звериного» стиля, в частности изображения «скифского»
оленя, в кобапскую культуру находит здесь богатую
почву, что способствовало развитию местного изобрази­
тельного искусства, в котором особое место отводится
благородному оленю.
Все это не случайно. Как известно, олень считался то­
темным животным у скифов, н все изображения, связан­
ные с ним, имеют, по-видимому, тотемическое происхожде­
ние. Как доказано В. И. Абаевым, одно из больших племен
скифов Сака, обитавшее в Средней Азин, носило тотем­
ное название — саг (в переводе с осетинского означает
«олень»). Это же слово повторяется во многих скифских
личных именах и племенных названиях 10. И хотя в иартском эпосе олень уже не является тотемным животным,
пережитки тотемизма обнаруживаются еще во многих
его сказаниях.
Охота занимала значительное место в хозяйстве осетин и в более позднее время. Богом охоты и покровите­
лем охотников и диких животных, особенно оленей, туров
и коз, считался Афсати, занимающий среди персонажей
эпоса далеко не последнее место. Этому божеству охотники молились в надежде убить «хоть какого-нибудь самого последнего невзрачного оленя, козу пли другое
животное» 11; ему посвящали песни, в которых Афсати
рисуется покровителем «бедных охотников». Одна лз
таких песен была обработана Коста Хетагур овым и стала
самой популярной народной песней в Осетин. В ней,
в частности, говорится, что из «белых рогов оленя сде­
лана для Афсатп кровать» 12. О важности охоты в жизни
осетин говорит п нал1гчпе у них особого «охотничьего
языка», которым пользовались во время охоты.
Приведенные этнографические сведеппя об Афсати
находят многие аналогии в осетинском эпосе о партах 13.
В сказании «Чем небожители одарили Сослана», напри­
мер, говорится, что «все благородные звери в горах и па
равнинах» находятся под охраной Афсати, который сто­
рожит их и не пропускает к ним «земных людей». Когда
стр 37^179^ 198^ & 6 В* ^сетинскш1 язык п фольклор. М.—Л., 1949,
11 Г. Ц а го л о в. Охотничий .
и обряды у осетин (этнографические заметки). — «Терскиеязык
1895, № 53.
7, ' К?^та *етагУР<>в- Собр" ведомости»,
соч.
в
пяти
томах, т. I, М.,
Изд-во АН СССР, 1959, стр. 96.
13 «Осетинские нартекпе сказания», стр. 79.
168
|
!
Сослан попросил Афсати пожалеть бедных людей и дать
им часть своего скота, тот согласился, но потребовал от
на ртов, !Тобы они, отправляясь на охоту, брали с собой
три пирога и упоминали его имя, а также отдавали пра­
вую лодыжку убитого зверя первому, кто встретится им
па охоте11. Указанные обычаи свято соблюдались в Осе­
тии почти всеми охотниками.
В эпосе Афсати наделен волшебной свирелью, при
помощи которой он созывает «свой скот» 15.
Анализ археологического, этнографического и фольк­
лорного материала дает возможность предположить
возникновение образа этого божества в глубокой древиости в лределах Центрального Предкавказья. В осетпиской мифологии Афсати является одним из древнейших
элементов кавказского субстрата, восходящих к кобанской
эпохе. Многочисленные кобаиекпе привески в виде оле­
ней, туров, медведей и других животных, а также изобра­
жения сцеп охоты, найденные в могильниках Северной
Осетин 16, свидетельствуют не только о важном значении
охоты в хозяйстве древних кобаицев, по и, по-впдимому,
о глубоком почитании ими культа божества Афсати.
Ареал распространения Афсати охватывал, кроме осетин.
11 Рид других пародов Центрального и Западного Кав­
каза. При этом у балкарцев, карачаевцев, сванов п абха­
зов имя его — Апсай — сходно с осетинским — Афсати 17.
На основании этого некоторые авторы заключают, что
культ божества Афсати тгропик к этим народам из Осе­
тии 18. Абхазское божество охоты имеет очень много
сходных черт с осетинским19; абхазы, как и осетипы,
широко пользовались охотничьим языком.
В отличие от осетинского эпоса, в абхазском и адыгском21 его вариантах божество охоты почти не запечат-
•:
15
же» СТР- 166.
Кавказа.
^•> 1960 стржо-374^ЛИ0В’ ДРСВПЯЯ истории Северного
гичеекпй словарь осетппекпг/ч
А б а е в. Исторпко-этимоло
,8
т- т- Мм 1958, стр. 374.
балкарской диалектологии,
лекгт.тг
.^Риалы
и
исследования
по
,3 ТТГЫ
1962, стр.Исторпко-этнографпчсскпе
146.
очепт-тг
г» Ф°ЛЬКЛ°РУ»Д* И и а л - Нальчик,
И п а. Абхазы.
16
20 Г;ТГУА'УМ1Г’ 1960; Г. Ц а г о л о в. Указ. соч.
21 ,<<гтаРты- Кабардинский эпос». М., 1951.
^Ратьев мКЛ1°ЧеН1ГЯ нарта Сасрыквы 11 ого Девянорта девяти
169
и
)
лено. Все это позволяет предположить, что первоначально
образ мифического божества Афсатп зародился у древних
кобаицев. Аланы-осетины, смешавшиеся с носителями
кобанской культуры, восприняли это божество и сохра­
нили его в своем быту и в устной народной поэзии.
Наряду с охотой в осетинских сказаниях отразилось и
рыболовство; оно было вторым подсобным занятием древ­
них обитателей Северного Кавказа. Видимо, не случайно,
что в осетинском, адыгском и абхазском эпосе о рыбо­
ловстве упоминается почти исключительно в цикле Сосруко — Сослана, который исследователи считают самым
древним пластом эпоса. Фольклорные свидетельства о ры­
боловстве как об одном из древних занятий племен Се­
верного Кавказа находят особенно яркое подтверждение
в памятниках кобанской культуры, среди которых немало
предметов с изображением рыбы22. Данными археологии
установлено, что в эпоху бронзового века и в более позд­
ний период рыболовство получило особенно большое раз­
витие в бассейнах Кубани и Дона23, а также в Керчен­
ском проливе, где находились крупные рыбные промыслы
Босиорского царства. Археологические сведения довольно
убедительно подкрепляются материалом нартского эпоса:
в ряде сказании говорится о том, что нартьг ловили рыбу
исключительно в больших реках или в море. Так, в одном
из осетинских сказаний рассказывается, что во время пу­
тешествия Сослан встретил на берегу «большой реки»
трех оратьев-великаггов, занимавшихся рыболовством.
Удилищем для каждого из них служило огромное дерево,
а вместо червяка — крупное животное24. В осетинском
эпосе, в отличие от адыгского и абхазского, довольно
часто упоминается повелитель рыб — Хиандои-алдар или
Кафты-сар-хиапдоп-алдар, который относится к партам то
враждеоно, то дружелюбно. Так, в сказании «Смерть Со­
слана», он предложил знаменитому нарту, преследуемому
1
I
|
колесом Бальсага, убежище, но тот категорически отказалей, заявив, что от пего «рыбой воняет». В другом
сказании Хнаидон-алдар характеризуется иначе: прибыв­
ших к нему лартских героев Урызмага, Хамыца и Со­
слана он встречает без всяких почестей и даже поселяет
их в своем курятинке25.
Л о объяснению В. И. Абаева, имя Кафты-сар-хиаидоналдар20 означает «глава рыб, владетель пролива»;
в этом названии он видит правителя Босиорского царства,
владевшего Боспорским проливом с его огромным рыб­
ным богатством. «Отношения партов к «Алдару про­
лива»,— пишет В. И. Абаев, — напоминают отношение
скифов к боспорским царям, когда расчетливая дружба
нередко сменялась открытой враждой и взаимная помощь
военной силой легко переходила во взаимные распри»27.
Известный востоковед В. Ф. Минорский в своей
последней работе 28 считает интерпретацию В. И. Абаева
вполне убедительной. Известно, что в глубокой древности
из Боспора, имевшего огромные рыбные промыслы,
экспортировали рыбу в большом количестве в Грецию,
а затем в Рим. Скифы называли Азовское море «Карбалукь» — «Гигантская рыба, осетр». Само название города
Паитикапей В. И. Абаев объясняет как иранское «понтикагга» (путь рыб) и отождествляет Кафты-сар с властитсл ем Паити кайся.
Таким образом, в осетинском эпосе запечатлелся не
только древний рыболовный промысел, но и некоторые
данные о взаимоотношениях скифов с другими народами.
В современной осетинской мифологии сохранилось ста­
рое скифское название Каф (большая рыба осетр), от­
носящееся, по определению В. И. Абаева,, к группе восточиоиранских слов29.
Отметим также, что еще до недавнего времени в горах
Северной Осетин, в некоторых селах, там, где пет даже
22 «Более мелкие изображения животных, преимущественно
змеи и рыбы, — пишет С. П. Уварова, — повторяются весьма
часто па шейке топоров, на их боковых гранях» («Материалы
по археологии Кавказа», т. I. М., 1900, стр. 19). Б. В. Техов.
Об одном погребальном комплексе из города Цхинвали. —
ШООНИИ, вы и. XI, 1962, стр. 310.
23 Е. И. Крупнов. К вопросу о поселениях скифского
времени на Северном Кавказе. — «Краткие сообщеппя о докладах
и полевых исследованиях ИИМК», вып. XXIV, 1949, стр. 41.
«Осетинские нартекпе сказания», стр. 181.
25 Там же, стр. 385.
26 Хнаидон— имя, «алдар» — владетель, князь. Кафты-сар
27 В. и. Абаев. Осетинский язык и фольклор, стр. 237.
. 28 К. Г а г к а е в. Рец. на кн.: V. М1 п о 1 з к Уд1-огД о! 1Ье ИзЬез. — БопДогаЬскиск аиз АУ^аег, 2е115с11пци
(1‘е Вищ1с Лез Могёеп1апс1ез», 56 Вс1., 1960. - ИСОНИИ, т. XXI ,
вып. 1, 1961, стр. 179: Историко-этимологический словарь осетии9 В. И. Абаев.
СК°го языка, стр. 575.
770
77/
и речек, жители ежегодно устраивали празднества в честь
покровителя рыб — Допбеттра, для чего накануне празд­
ника они отправлялись в город пли в казачьи станицы и
закупали там рыбу. Этот факт свидетельствует о том, что
у предков осетин было широко развито рыболовство; от­
голоски его сохранились в осетинском быту до недавнего
времени (праздник в честь покровителя рыб) 30.
Основу хозяйства нартов составлял мелкий и круп­
ный рогатый скот и табуны лошадей. В сказаниях, дей­
ствие которых происходит в пределах предгорной рав­
нины, говорится о том, что нарты разводили I». основном
крупный рогатый скот и лошадей. В этом упоминании
довольно точно отразился характер занятий населения
Центрального Предкавказья с древнейших времен до ла­
ших дней. По свидетельству Е. И. Крупнова, из 88 экзем­
пляров костей животных, найденных здесь в скифских
поселениях, 44 принадлежали крупному рогатому скоту
и 4 кости — лошадям 3|. В отлично от равнинных районов,
в горах разводили главным образом овец п коз. В ряде
осетинских сказанпй упоминается об отарах «черных
овец», содержавшихся в горах. Развитие скотоводства и
особеино овцеводства привело к заселению ещо в I тыс.
до н. э. самых высокогорных районов Кавказа32.
К этому же периоду относится и появление здесь отгоии ой системы скотоводства, которое также упоминается
в некоторых сказаниях эпоса. Основным занятием горцев
(алан) было отгонное овцеводство, летом — на высокогор­
ные пастбища, а зимой — в Прикумские малоснежные
степи33.
Отгонное скотоводство широко бытовало у горцев Глав­
ного Кавказского хребта п в более позднее время. Однако
в осетинском нартском эпосе в основном нашел отраже­
ние оыт алан и их хозяйственная деятельность в период
средневековья. В этом убеждают нас свидетельства о на­
личии у нартов табунов лошадей, разведением которых
могли заниматься, аланы, владевшие обширными просто­
рами Центрального Предкавказья. Глубокое социальное
зТ Полевые материалы автора статьи 1959—1962 гг.
иприсоии т,о Р РУ ПН?.В* К вопросу о поселепиях скифского
времени на Северном Кавказе, стр. 38.
Ь. И. Крупнов. Древняя история Северного Кавказа,
стр. 307.
м. и. Артамонов. История
172
хазар. Л., 1962, стр. 363.
!
!
расслоение, происходившее в их среде до начала монголь­
ского нашествия, вызвало выделение крупных табунщиков
к скотоводов. Это зафиксировано и в эпосе, где в одном
из сказании говорится о крупном владельце стад, имев­
шем большое количество крупного и мелкого рогатого
скота и «множество одинаковых коней серой масти»34.
Из всех домашних животных нарты больше всего лю­
били и допили копя. В сказании повествуется о том, что
когда нарты однажды переживали суровую зиму, в кото­
рой глубокие снега скрыли все их пастбище, они больше
всего боялись за судьбу своих копей.
По-видимому, аланы предпочитали разводить для
своей конницы лошадей так называемой «ссверокавказской породы», известной ныне под названием кабардин­
ской35. Превосходные качества аланского коня вопло­
щены в образе знаменитого Арфапа — коня Урызмага.
Арфану нс страшны даже грозные снежные обвалы, он
переходит их смело, разбрасывая «тучи летящего снега
своей могучей грудыо» зс. После монгольского нашествия,
когда аланы-осет11иы были оттеснены в горы, опн из-за
ограниченности территории и сурового климата уже не
11 мели: возможности содержать табуны лошадей; постепенно у них исчезла эта порода коней.
В эпоху средневековья аланам-осетпиам был известей
и колесный транспорт: это подтверждается и данными
фольклора. Так, в одном осетинском сказании говорится
0 том, как красавица Агуида, вышедшая замуж за Ацамаза, была доставлена в долг своего супруга на сереоряиой колеснице, запряженной семью оленями, а вещи не­
весты были привезены па семи нагруженных повозках .
Конь играл большую роль и в других, в частности
погребальных, обрядах алан-осетин в период раннего
средневековья. По данным археологии, аланы продолжали
соблюдать, вплоть до VIII в., а может быть п до монголь­
ского нашествия, древний погребальный ооычаи скифов
захоронения коня с покойником38. У них существовал и
35 ^Осетинские партекпе сказания», стр. 302.
скоп дррп К Р У и и о в. Краткий очерк археологии Кабардпн30
!
ц
и,
(
и
.
;
’ СТр* 38'
37 гр етинские нартекпе сказания», стр. 44.
Л®м же, стр. 363.
Т. VIII; В. А. ка38
л о е в (п^Терлальг по археологии Кавказа», ..
иоряд посвящения копя у осетин. М., 1964.
173
■
’
'
другой обычай, по которому в могилу покойника
клали
снаряжение его коня39. Поселившись в
горах, осетины
сохранили древние погребальные
традиции своих предков:
они посвящали коня покойнику,
устраивали
в честь умершего, изображали коня л а многих скачки
моглльных камнях л па древних усыпальницах и т. д.
Таким образом, конь играл важную роль во многих
областях жизни алап-осетпн.
Вторым после скотоводства важнейшим
занятием нартов было земледелие: в эпосе
все
виды хлебных злаков, чаще___
всегоупоминаются
— просо, однапочти
из древ­
нейших и ланболее распространенных культур стенной
полосы Центрального Предкавказья. По определению
лингвистов, современное осетинское название проса
(иау) идет из скифского языка, что свидетельствует о воз­
делывании этой культуры еще скифо-сарматскими племе­
нами Северного Кавказа40. После монгольского периода
культура проса совершенно исчезла из быта
алап-осетпн,
поселившихся в горах. Она была
заменена более морозоустойчивыми зерновыми
злаками, в частности я ч мелем.
из которого нарты,
как
и
аланы-осетины, приготовляли
пиво.
Важное значение в хозяйстве алан-осетин в период
средневековья получило развитие ремесел и кузнечного
дела: это подтверждается многими сказаниями эпоса.
Судя по данным археолопш, в предгорьях Центрального
Кавказа, по-видимому, было несколько крупных ремеслен­
ных центров вроде Верхнего Джулата41, в которых распо­
лагались компактно гончары, мастера по обработке ме­
талла, кузнецы и др. Упоминания о таких «специализи­
рованных» селениях находим в одном из иартских сказа­
ний. В нем говорится, что, когда парты захватывали чу­
жие селения, они старались «сохранить цов»42. Особенно большого
кварталы кузнеобработка металла. Напболее развития у алан достигла
талла у осетин-алан б
распространенным видом меделали
ыли железо и сталь, нзорудия,
которыхнреДонп
вооружение, сельскохозяйственные
39
«Археологические раскопки в районе станицы Змейскон
в Северной Осетии». Орджоникидзе, 1961.
41 / Аг» * Абаев* Осетинский язык и фольклор, стр. 198. м
в Северт^й Ос°е™Кстр. ^-ТзГ В РаЙ°Ие СТаИИЦЫ
42 «Памятники народного
Кавказ, 1925, стр. 41.
творчества осетин», вып. I. Влади-
I
меты домашнего обихода. Слава о высоком мастерстве
аланских оружейников была известна далеко за преде­
лами Алании. Так, византийский историк VI в. Халкендплас писал: «Аланы простираются до горы Кавказа...
они делают превосходные кольчуги... из меди изготов­
ляют оружие, называющееся аланским» 43. Находки образ­
цов оружия и украшения конской сбруи и костюма алаи-"
Осетии в амойских катакомбах говорят о широком использованни в то время многих видов металлов, в том числе
золота и серебра, которые применялись главным образом
для украшений. Среди находок в змсйскнх могильниках
имеется 13 сабель, большая часть которых местного,
аланского производства, много бронзовых золоченых бля­
шек, височных колец и т. д.44
Данные письменных источников и археологии о высоком развитпи ремесла и оружейного дела у алан находят
убедительное подтверждение в осетинском фольклоре.
Так, в партскнх сказаниях упоминаются многие виды ору­
жия45 партов: меч (кард), копья (арц), секирообразные
топоры (цирхь), луки (ардьти), стрелы (фат), щиты
(уарт), кольчуги (зьар), шлемы (така) 46 и т. д. В эпосе
говорится также об изготовлении нартами предметов до­
машнего обихода и сельскохозяйственных орудий из же­
леза, в частности лемехов для плугов и серпов (археологи
нередко находят их в аланских катакомбах). Значитель­
ное применение имела у партов и медь, из которой делали
котлы для варки шгва. Производство медных пивовариых
котлов было развито у осетин, по-видимому, с древней­
ших времен и до недавнего прошлого. С ростом произ­
водства металлов развивалось и кузнечное дело. Наличие
Двух богов — кузнецов Курдалагопа и Сафа в осетин­
ском нартском эпосе свидетельствует о важном значении
кузнечного дела в хозяйстве алап-осетпн в эпоху средне­
вековья. Небесный кузнец Курдалагоп «не только ковал
оружие для героев, но п закалял самих героев» .
43 «Материалы по археологии Кавказа», вып. 1. М., 1888,
стр. И8.
44 «Археологические раскопки в районе станицы Змейскон
в Северной Осетии», стр. -129—135.
«Осетинские иартскно сказания», стр.
тсяйяшшн46 Е. И К о V и п о в Краткий очерк археологии Каоардп
скоц АССР стрУ39- В И Абаев. Мартовский эпос, стр. 9..
«Е. И. Крупнов. Краткий очерк археолопш Кабард,шокон АССР, стр. 39; В. И. Абаев. Мартовский эпос, стр.
|
174
175
■
:
1
'
!
!ч
1
!
.
!
\
Наиболее яркие параллели в материальной культуре
находим в описании их
осетин и
__ в сказаниях о партах
_
жилшц и оборонительных сооружения башен и замков.
В эпосе представлены почти все формы жилища обитате­
лей степной полосы и горных райопов Центрального Пред­
кавказья. Так, в сказании «Как появился фандыр» упо­
минается один из древпейших типов жилья — землянка,
которая была тайным домом Сырдоиа. Но данным архео­
логии, подобного рода жил нищ были широко распростра­
нены в древности па Украине и в степных и предгорных
районах Северного Кавказа. В земляпках жили древние
кобанцы, скифы, а также, по-видимому, и часть алан.
Интересно отметить, что в предгорных районах Юго-Осетии еще в начале XX в. многие осетины иногда исполь­
зовали земляпкп в качестве жилья. В нартекпх сказаниях
часто упоминаются шалашп, строившиеся просто из веток, а ппогда пз звериных шкур. В сказании «Красавица
Дзерасса» говорится о том, что Ахсар имел свой шалаш
пз звериных шкур на берегу моря. Кстати, кочевым алан­
ским племенам были известны только кибитки 48. Однако
в эпосе об этой форме жилья нет никаких упоминаний и
говорится только о шалашах. Для древних обитателей
гор жилищем служили также пещеры, которых так много
по оооим склонам Главного Кавказского хребта. В ка­
честве жилья пещеры использовались и героями нартекпх
сказавши в одной из таких пещер, например, жила дочь
солнца Ацырухс, ооерегаемая семью великанами. Чаще
отарыЖшш великашл> охранявшие огромные
Наряду с древними формами
наются жилшца горцев и более жилища в эпосе упомппрежде всего горский каменный позднего происхождения,
крышей, состоящий пз одного дом с плоской земляной
часть такого дома называлась пли двух ярусов. Жилая
черкпваются огромные
хадзар. В сказаниях подного пиршеств! вппп,2аЗМерЬ1 хадзаРа: во время свадебустроить джигитовку В ГГ СЮДа ”а К0Ие смельчак мог
рится, ЧТо БатпяГ Г 0ДП0М 113 нартеш.х сказаний говоНартскиц доЛ е Г™ \На своем коис в Большом
А, затем^хлесхнув
по всему
стпе49. Вся кпптп/ К0ПЯ’ ВЫск°вил
в дымовое отвер—
ося крыша осетинского
49 ВДИ, 1949, № 12, стр. 304.
хаДзара держалась на
«Осетинские лартскце
сказания», стр. 31е.
176
огромных столбах, находившихся в центре помещения.
Согласно другому сказанию, тот же Батрадз, ворвавшись
в «Большой дом» Бората, схватил «столб, на котором
держалась крыша», и поднял его 50. Или: от крика Батрадза с порога «Большого дома Бората содрогнулись по­
толочные балки» хадзара и «многолетняя сажа посыпа­
лась па пирующих»51. Хадзар считался самым почетным
местом в доме. Здесь устраивались пиршества в честь
родовых и патронимических богов, отмечались семенные
празднества и т. д. В хадзаре находился исугасающнй
очаг, над которым свисала с потолка очажная цепь, счи­
тавшаяся святыней осетинской семьи. С очажной цепыо
прощалась девушка, выходившая замуж. Вокруг очага
обводили молодую невесту, чтобы приобщить ее к новой
семье. Очаг, располагавшийся большей частью в центре
хадзара, делил его па две половины — на мужскую (пра­
вая) и на женскую (левая). Все эти характерные черты,
связанные с хадзаром и уходящие в глубь веков, упоми­
наются в ряде сказаний эпоса.
Большой интерес представляют также приводимые
в эпосе сведения о башнях и замках, появлепне которых
у алаи-осетин относится к эпохе ранпего средневековья.
Однако количество этих оборонительных сооружений осо­
бенно выросло в Осетии после монгольского периода и
оттеснения алан-осетии в горы, когда строительство башен
стало необходимостью в связи с начавшейся межплемен­
ной и межродовой борьбой. Сооружение башен, которые
подразделялись на жилые, боевые и сторожевые, продол­
жалось в Осетии почти до начала ХУНТ в. Башни строи­
лись до семи ярусов высотой; они были собственностью
ие только родов, но и отдельных больших семейств^ Жи­
лая башня состояла обычно из трех ярусов; первый сло­
жил помещением для скота, второй — для жилья, а тре­
тий—для обороны. В одном пз осетинских сказании
говорится о том, как Урызмаг и Хампц, напдя^ своего
ДеДа Уархага, привели его в старинную давно заорошеннУю жилую башпго их рода. Оли поднялись на второп
яРУс, где находился хадзар, «то священное место, где пылает огонь» 52. В старину в качестве жилья у осетин не-
1
50 Там же, стр. 362.
5о Там же, стр. 261.
~ Там же, стр. 21.
12 Заказ Кз 1480
177
М
-
- башни (и одном пз
редко использовались и семпяруспыс
Урызмаг и Сатана жили
сказаний говорится о том, что
прошлодг, когда в гов семиярусион бапнте) 53. В далекоммеждоусобпая
борьба,
рах Осетии още боЗ°'баШтш обычно держали воспнов нижнем ярусе
пленпых. Упомипапне об этом находим в сказании «По­
следпий поход Урызмага». Урызмаг, захваченным в плен
черноморским алдаром, был заключен в нижнем ярусе
башпи54. В нартском эпосе упоминаются различные типы
башеп, даже железная п летающая башни, в которых
жили нартские красавицы Акола и Косер 55.
Приведенные данные о башнях, содержащиеся в нартскнх сказаннях, свидетельствуют о том, какое значение
придавалось этому виду оборонительных сооружении
в жизни алан-осетии в средние века и особенно после
монгольского периода нх жизни. В этой связи уместно
заметить, что еще в первой половине XIX в. при заклю­
чении брака у осетин родственники невесты давали свое
согласие лишь в том случае, если семья жениха пли его
род имели свою башню.
Не менее важпую роль в жизни алан-осетии играли
замки (галуаны), строившиеся, по-видимому, и в пред­
горных районах Центрального Предкавказья. Об этом сви­
детельствуют данные археологии и письменные источ­
ники. По данным Масуди, в центральной части Северного
Кавказа находилась не только столица Алании Масс, но
и^ряд крепостей56. Галуаны представляли собой комплекс
оооронптелышх, жилых и хозяйственных построек, обне­
сенных высоким каменным забором. В период феодализма
галуаны были принадлежностью осетинских алдаров, бадплат, а также некоторых зажиточных горцев. В партском
эпосе галуаны изображаются неприступными крепостями
наподобие крепости Хпзп, которой посвящается отдельное
сказанпе57. К древним горным постройкам Осетии отно­
сятся также заппадзы (усыпальницы), которые подразде­
ляются на три группы — па подземные, полулодземные и
падземные. Появление заппадзов в горах Кавказа были
вызвано острой земельной теснотой, стремлением горцев
53 «Осетинские нартские
сказапия», стр. 289.
54 Там же, стр. 62.
55 Там же, стр. 132, 294.
56 Н. Л. К а р а у л о в. Указ, соч., ч,1
стр. 54.
57 «Осетинские нартские сказапия».
178
!
использовать «каждый мало-мальски пригодный земель­
ный участок под пашшо, а не под могильник» 58. В нартскпх сказаниях упоминаются главным образом надземные
склепы, датируемые VI в. н. э. Их распространение охва­
тывает только северный склон Главного Кавказского
хребта от горной Чечни до Балкарин. Надземные склепы,
принадлежавшие обычно отдельным родам, сооружались
высотой до трех ярусов. Особенно много таких склепов
встречается в известном «Даргавском мертвом городе»
в Северной Осетии по р. Гизельдои. И в осетинских нартекпх сказапнях основной формой погребения являются
именно надземные склепы, в которых были похоронены
выдающиеся нартские герои Батрадз, Сослан и Дзерасса и
где родилась знаменитая Сатана. Многоярусные надзем­
ные склепы имели обычно несколько отверстий в стенах.
Назначение этих окон довольно четко поясняется в одном
из сказаний: умирающий Сослан позвал своих братьев
Урызмага и Хампца и велел им построить для пего склеп
с тремя окошками. Одно пз них он просил поставить на
восточной стороне склепа, чтобы по утрам его озаряли
солнечные лучи, другое — над пим в середине стены,
«чтобы солнце светило ему в полдень», а третье — на за­
падной стороне, «чтобы вечером оно прощалось с ним».
Данные этнографии подтверждают наличие большого ко­
личества склепов в горной Осетии с подобпьш располо­
жением окошек59. Более того, в рассматриваемой форме
захоронения нашли отражение древние погреоальные
традиции алаи-осетии эпохи средневековья, связанные
с верой в продолжение жизни в потустороннем мире.
Небезынтересно отметить также, что к числу надземных
склепов в эпосе относится и небесный склеп Софин, где
был похоронен, по указанию бога, Батрадз. Много при­
шлось потрудиться духам и даугам, чтобы оттащить туда
стальное тело нартского героя: двенадцать пар волов не
м°глц сдвинуть его с места. И когда им, наконец, удалось
Доставить тело Батрадза, они никак не могли внести его
в склеп. Когда его проносили головой, он упирался локтямц, когда же вносили ногами, они расходились и за58 Е. и. Крупнов. Галпатсшш могильник.-ВДИ, 1938,
Л* 2 (3)
1
59 В. В. Бунак. Черепа из склепов Г°РИ°™
СР»“;
нельно-антропологическом освещении. «Соор1 \ }
Ропологип и этнографии», т. XIX, 1953.
12*
179
!
!
I
стревалп в проходе. Так продолжалось^ до тех пор, пока
бог не уронил три слезы, из которых образовались в гор­
ной Осетии три самых популярных полуязыческнх-полухристианских святилища: Таранджелос, Мыкалгабыр Л
Реком.
Эпизод этот можно объяснить исторически как отра­
жение борьбы у алан-осетин христианства с язычеством.
Победителем при этом оказывается осетински]! языческий
бог (что свидетельствует о слабом развитии христианства
в Осетии). Здесь запечатлей первоначальный период
христианизации алан-осетпн византийскими мпссиоперамп, выступавшими против языческих верований этого
народа и, в частности, против архаических погребальных
обрядов, одним из которых было захоронение в склепе.
Близкие параллели с партами отмечаются также
в пище и напитках, в одежде, в предметах домашнего
обихода и т. д. Особый интерес представляют пиво и
исчезнувшпй ныне, так же любимый, как и пиво, лапиток ронг. Данные языкознания о происхождении пива
и ровга подкрепляются н археологическими находками,
в частности, в змейскнх аланских катакомбах обнаружены
многочисленные глиняные кувшины с носикамн-елпвами,
в которых, по предположению археологов, содержался
какой-то наппток, которым, несомненно, могло быть пиво
или ронг, широко бытовавшие у алан-осетин в период
средневековья60. Пиво и сейчас является самым распространенным напитком у осетин.
Яркое отражение нашли в эпосе религиозные воззре­
ния алан-осетпн и особенно дохристианские верования,
уходящие в глубокую древность. Выше уже отмечалось,
что некоторые языческие божества у осетин, упоминае­
мые в эпосе, восходят к эпохе кобанской культуры (на­
пример, охотничье божество Афсати). С развитием других
отраслей хозяйства у древних племен центрального СеверпРлГтпг.отгаВКа3а’. ® частности, скотоводства, земледелия и
*крртпя-ттг\т* ИХ °ЫТу появляются и соответствующие ооПВИПТ хп 130ВПТеЛ11, которые были восприняты от НИХ
®Гшан2Г0Я8Ы,НЮШ лаР°Дами скифами, сарма-
Наряду со многими божествами п эпосе упоминается
единый бог, которому подчиняются все остальные бо
жсства. Этот единый бог, возникший, по-видимому в пе­
риод христианизации алаи-осетпи, является не чем’иным,
как прежним племенным божеством этого народа. Новая
религия занесла к алапам-осетииам и ряд других хри­
стианских божеств (в частности, Уастырджи — святой
Георгин), которые в осетинском эпосе именуются небожителями. Уастырджи был известен в осетинском лантеоие еще до .монгольского нашествия; об этом свидетель­
ствует изображение его па стене известной нузальской
церкви, датируемой XIII в. В иартском эпосе Уастырджи
выступает как иолухристиаиское-полуязыческое божество,
которое находится в сложных отиошешгях с партами: то
он дружен с ними и даже дарит Сослану свои меч, то
враждует с ними. Вероятно, здесь отразилась борьба хри­
стианства с язычеством у алан-осетин в период рапиего
средневековья. Согласно опцеапшо в эпосе д новериям
осетин, Уастырджи — небожитель; услышав призыв о по­
мощи, обращенный к нему, он мигом спускается на своем
трехногом коне, обгоняющем ветер; нередко Уастырджи
появляется среди земных обитателей в образе простого
человека, а в сказаниях о нартах — п в образе черной
лисицы. В осетинской мифологии л этнографии УастырДЖц известен как покровитель мужчин, воинов н путин*
ков. Именно поэтому осетинки боялись произносить имя
этого божества, называя его всегда иносказательно
«лапы дзаур» (бог мужчин). Отправляясь на войну или
в Дальний путь, горцы просили благословения у УастырДЖи, который должен был вселить в них мужество, отвацу
11 пожелать им счастливого пути. Часто Уастырджи по
является на земле со своими сыновьями, которые так
>ке упоминаются в фольклоре и мифологии осетин,
Во не играют значительной роли (в одном сказании гово­
ря. что Батрадз убил троих из семи сыновей Уастыр*
00 «Археологические раскопки
о Северной Осетии», стр. 105.
в Районе станицы Змейскои
180
;
В осетинском эпосе объясняется происхождение трех
г^УЛяРИеЙщих у осетин долуязыческих-долухрп
22 свя™х: Рекой, Мыкалгабыр и Таранджелос попп»тся их характерные черты. Появление
ЯТ°Я, По-видимому к эпохе монгольского нашествп
Й® В»»Радза, в котором ош. фкгурвруюх,
по
Ределению В. И. Абаева, жизнь алан-осетпн этого
181
!> •
риода61). В это же время, по-видимому, появилось и другое извсстное божество осетин—Гатартуи, который счи­
тался у осетин «покровителем равнины». Важно отме­
тить, что эти божества почитались не по всей Осетии,
а только в районах их расположения. В отличие от эпоса,
в языческих молитвах осетин в любых районах Осетии
всегда упоминались имена Рекома, Мыкалгабыра и Татартупа; это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что
в далеком прошлом они были хорошо известны на всей
территории расселения осетин.
Наличие близких фольклорных и этнографических параллелен в нартском эпосе отмечается и во многих других
случаях. В первобытной религии осетин известно, напри­
мер, поклонение деревьям, горам шш даже куче
камней, где могли пребывать дзауры (духи-покровители).
В таком месте ежегодно в определенный день устраива­
лось пиршество — куваидоп — в
честь
покровителя,
сюда же приходили на поклонение верующие, принося
для этого три пирога и напиток. Все это нашло отражение
и в ряде сказаний эпоса. Так, в сказании «Как Батрадз
спас Урызмага» имеется упоминание о священной горе,
куда нарты ходили молиться с пирогами и кувшином
ропга.
Из области общественной и семейной жизни наиболее
ярко отражены в эпосе представления осетин о загробной
жизни. В сказании о путешествии Сослана в Страну
мертвых, например, описано, как одни люди получают
возмездие за совершенные на земле преступления, а ДРУ"
гие
— вознаграждение за добрые дела. Здесь отразились
нравственные понятия древппх осетин о дурных лостуиках
непочиташщ родителей п неуважении к старшим,
супружеской неверности, скупости, пегостепрпимстве
и др., за что на том свете, в аду (зиндои), люди полу­
чали соответствующее наказание; к хорошим делам
причислялись: помощь бедным, умение не брать чужого
доора, гостеприимство и т. д., что обеспечивало человеку
на том свете, в раю (дзанат), — блаженство. Вершителем
судео людей в Стране мертвых являлся Барастыр, кото­
рый определял людям наказание или поощрение.
61 В. И. Аб
а е в* Иартовскпй эпос, стр. 66—67.
182
По представлению осетин, как и иартов, ворота загробиого мира были открыты только До заката солнца.
Поэтому осетины в прошлом строго придерживались обы­
чая хоронить по ко шов до заката солнца, «дабы нм не
пришлось бродить у запертых ворот загробного царства
вплоть до зари» 62. Согласно мифологическим представле­
ниям, вторым лицом после Барастыра в Стране мертвых
является Амнион. Он сидит на дороге, спрашивает покой­
ника о его делах па земле и указывает праведному путь
в рай63. В иартских сказаниях Амином выполняет не ме­
нее ответственную задачу: он охраняет железные ворота
Страны мертвых, которые открываются по указанию Ба­
растыра. Подъезжая к этим воротам, Сослан крикнул:
«Амнион, открой мне ворота!» — «Когда умрешь ты, сами
откроются перед тобой эти ворота, — ответил ему Амнион. — Не может живой войти в Страну мертвых, и нс
властен я открыть тебе эти ворота».
В иартском эпосе запечатлелись погребальные обряды
осетин, часть которых (посвящение коня покойнику,
оплакивание, устройство многочисленных поминок и т. д.)
восходит к скифской эпохе. Так, в сказании «Смерть Со­
слана» ярко описано оплакивание нартами умирающего
Сослана:
дорогой ткани. В названном екмашш Сослан'"Зало’
чтобы ему показали приготовленные для п
ные одежды из драгоценного шелка, его гроб из червон­
ного золота. В старину у осетин исключительно важное
значение в погребальных обрядах придавалось поминкам
устраивавшимся по умершему в течение года. Но словах
Миллера, на поминки горцы смотрели как на «кормлени
Мертвых». «Нельзя более оскорбить осетина, ““б?и5^ 1
Т0Р> — как сказать, что его мертвые голодают» . /V
этнографии о наличии в прошлом у осетин этого раз• Р
тельного обычая находят большое количество фольклорльи подтверждений. В нартском эпосе этому обРЯДУ
ВяЩено целое сказание «Как Сырдон устроил
по
своим покойникам». В нескольких строках сказа!
сз
11 л л е р. Осетинские этюды, ч. II. М., 1882, стр. 245.
же, стр. 246.
64 Там же, стр. 287.
183
, этого обычая: упрекая
С ьфдонТ за° н арушеп п о "т р ад и цпол по го обычая по устрой­
ству поминок, нарты хотели съесть его единственную
корову. О соблюдении номинальных ооычаев у картов
говорится и в ряде других сказаний. В партском эпосе
содержатся упоминания и о более древних погребальных
обрядах — например, захоронении копя с покойником.
В .литературе уже не раз указывалось, что выезд Сослала
на коне-чучеле нз загробного мира отражал древний
екнфекпй погребальный обряд. По описанию I еродота,
пртт погребении скифы убивали лошадей, предиазпачепных покойнпку для путешествия в загробном мире, сипмалн с нпх шкуры от набпвалн их соломой, обкладывая
этими чучелами могилу. Говоря об этом, ЗК. Дюмезиль,
а за ним В. И. Абаев справедливо замечают, что нельзя
отделять «этих траурных копей» скифов, па которых царь
въезжает в загробный мир, от «траурного коня» Сослала,
иа котором ои возвращается из загробного мира65.
После монгольского периода обряд конского жертво­
приношения был заменен у Осетии обрядом посвящения
копя покойнику (взамен приношения в жертву целого
животного отрезали кончик его уха и клали в могилу).
В осетинском эпосе содержится подробная характертгстпка древиейшего струнного щипкового инструмента осе­
тин арфы (ей посвящено целое сказание «Как по­
явился фандыр»). Это — несомненное свидетельство того,
что нарты придавали особое значение арфе и ценили ее
олыпе другого популярного у них музыкального пнетрумента
Дттп —- свДФещт> которая принадлежала знаменитому
Ацамазу. Создание первой арфы-фан дыр связапо с иметрттт рфпТ?01тт П ПР0И301^Л0 при весьма печальных обстояУЖПРПАГ* по РПДЯ Д0М01Г’ ^ыРДОН обнаружил с большим
Он взиЖГ СВ0ИХ сыновей’ павших от мести Хамыца.
иадпатт рТтт ?УКИ старшего сына и натянул две-
)
КРОВЬ СРПТТГгпх ’
<а СТРУИ1Т Те ®Ь1ЛИ
ИЗ ЖИЛ, ЧТО Н6СЛИ
сыновей «пп лппт сьшовев>>* ^ел °и над останками своих
Сырдон лррпплп™ Струвам УДаРкл и запел-зарыдал».
ществу. Беря фаидьщ°вок Фандыр в дар нартовскому обнам суждена погибе л^’
ска8али: <<Еслгг даже всем
Он расскажет оТс» ’
Навеки остаиетс* жить фандыр.
65 В. Абаев. Нартовскпй эпос, стр. 55.
184
'■
>
;
По словам Коста Хетагурова, игра иа арфе была
«исключительной привилегией наиболее даровитых муж­
чин. Эта отрасль народного творчества, — говорит он, —
особенно любима и полна прелести» 66. Под аккомпане­
мент арфы народные певцы обычно исполняли высокопоэтичные лартекпе песни. По данным этнографии, арфа
сохранялась как наиболее уважаемый музыкальный
инструмент еще до недавнего времени во многих районах
горной Осетин. В настоящее время арфа вышла из упо­
требления п встречается лишь в республиканском алсамбле песни н танца, а также в некоторых художествен­
ных самодеятельных коллективах. Осетинская арфа всегда
имела двенадцать струи п по своему устройству отлича­
лась весьма большой архаичностью. Это говорит о древ­
ности ее происхождения, что подтверждают и данные
партского эпоса.
Интерес]го отметить, что в других национальных вер­
сиях партского эпоса народов Северного Кавказа упоми­
нания об арфе не встречается. Между тем у абхазов и
народов адыгской группы арфа еще в конце прошлого
.столетия имела значительное распространенно67. По дан­
ным Ш. Д. Ииал-Ипа, абхазам была известна четырна­
дцатиструнная (аюмаа) и даже двадцатнетрунная (ахымаа) арфа68, адыгские народы пользовались семиструн­
ной. Среди народов Закавказья этот музыкальный инстру­
мент бытовал только у сванов (чангп). Сванская арфа
имела от 8 до 12 струи и отличалась, по словам
В. И. Абаева, большим сходством с осетинской69. Осо­
бенно широкое распространение арфа получила у осетин.
Определить появление арфы на Кавказе помогают дан­
ные археологии и языкознания. Вероятно, оно было свя­
зано со скифами, принесшими ее из Средней Азии, где,
сУДя по находкам Хорезмской археологической экспеди­
ции Института этнографии АН СССР, она имела значи­
тельное распространение (в первую очередь у праноязьтчиых иародов, в частиостн у древних хорезмийцев).
В раскопках этой экспедиции в районе нижнего течения
сс Коста Хетагуров. Собр. соч. в пяти томах, т. III, стр. 235.
г 67 С. И. Танеев. Заметка о музыке, танцах и песнях урусМовцев. — «Вестник Европы», 1886, № 1.
68 ш. Д. И П а л - И п а. Абхазы. Исторпко-этнографические
°*ерки Сухуми, 1965.
*
о99
9 В. И. Абаев. Осетинский язык п фольклор, стр. о-—
185
<
обычая: упрекая
раскрывается подлинная сущность этогообычая
по устройего единственную
корову. О соблюдении поминальных ооьтчасв у портов
говорится и в ряде других сказаний. В партском эпосе
содержатся упоминания и о более древних погребальных
обрядах — например, захоронении копя с покойником.
В литературе уже не раз указывалось, что выезд Сослана
на копе-чучеле пз загробного мира отражал древний
скифский погребальный обряд. По описанию I еродота,
при погребении скифы убивали лошадещ предпазиачеииых покойпику для путешествия в загробном мире, етшмалп с них шкуры и пабивалн их соломой, обкладывая
этими чучелами могилу. Говоря об этом, Ж. Дгомезттлъ,
а за ним В. И. Абаев справедливо замечают, что нельзя
отделить «этих траурных копен» скифов, па которых царь
въезжает в загробный мир, от «траурпого коня» Сослана,
на котором оп возвращается из загробного мира °5.
После монгольского периода обряд конского жертвоирппошения был заменен у осетин обрядом посвящения
коня покойнику (взамен пртюшеппя в жертву целого
животного отрезали кончик его уха тг клали в могилу).
В осетинском эпосе содержится подробная характери­
стика древнейшего струнного щипкового инструмента осетпп арфы (ей посвящено целое сказание «Как по­
явился фандыр»). Это — несомненное свидетельство того,
что нарты придавали особое значение арфе и ценили ее
больше другого популярного у них музыкального инстру­
мента — свирели, которая принадлежала знаменитому
дцамазу. Созданлс первой арфы-фандьтр связапо с име­
нем ырдона и произошло при весьма печальных обстоя/|^твах* РПДЯ Домой, Сыр дон обнаружил с большим
Отт' р^тг°С^аИКГГ свопх сьш°вей, павших от мести Хамыца.
Он взял кисть руки старшего сына
__
и патяиул двенаДДать струи, «а струны те были из жил, что несли
кровь сердцам его сыновей». Сел он над останками своих
сыновей, «по звонким струнам ударил и запел-зарыдал».
Сырдон преподпес свой фандыр в дар иартовскому обществу. Беря фандыр, нарты сказали: «Если даже всем
нам суждеиа погибель, то навеки останется жить фандыр.
Он расскажет о нас».
65 В. А б а е в. Нартовскпй эпос, стр. 55.
184
По словам Коста Хетагурова, игра па арфе была
«исключительной привилегией наиболее даровитых муж­
чин. Эта отрасль народного творчества, — говорит он, —
особенно любима и полна прелести» 66. Под аккомпане­
мент арфы народные певцы обычно исполняли высокопоэтичные партсклс песни. По данным этнографии, арфа
сохранялась как наиболее уважаемый музыкальный
инструмент еще до недавнего времени во многих районах
горной Осетин. В настоящее время арфа вышла из упо­
требления и встречается лишь в республиканском апсамбле песни и танца, а также в некоторых художествен­
ных самодеятельных коллективах. Осетинская арфа всегда
имела двенадцать струн и но своему устройству отлича­
лась весьма большой архаичностью. Это говорит о древ­
ности ее происхождения, что подтверждают и данные
иартского эпоса.
Интересно отмстить, что в других национальных вер­
сиях иартского эпоса пародов Северпого Кавказа упоми­
нания об арфе не встречается. Между тем у абхазов и
народов адыгской группы арфа еще в конце прошлого
.столетия имела значительное распространение °7. По дан­
ным Ш. Д. Инал-Ипа, абхазам была известна четыриадцатпетрулиая (аюмаа) и даже двадцатнетрунпая (ахымаа) арфа08, адыгские народы пользовались семиструн­
ной. Среди пародов Закавказья этот музыкальный инстру­
мент бытовал только у сванов (чанги). Сванская арфа
имела от 8 до 12 струп и отличалась, по словам
В. И. Абаева, большим сходством с осетинской69. Осооешю широкое распространение арфа получила у осетин.
Определить появление арфы на Кавказе помогают дан­
ные археологии и языкознания. Вероятно, оно было свя­
зано со скифами, принесшими ее из Средней Азии, где,
сУДя по находкам Хорезмской археологической экспеднЦптг Института этнографии АН СССР, она имела значи­
тельное распространение (в первую очередь у ираноязычиых пародов, в частности у древних хорезмийцев),
раскопках этой экспедиции в районе нижнего течения
Коста Хетагуров. Собр. соч. в пяти томах, т. III, стр. -За.
С. И. Танеев. Заметка о музыке, танцах и песнях урус«Вестник Европы», 1886, № 1.
про Ш* Д- Инал-Ипа. Абхазы. Исторпко-этнографшюские
РЛС№и. 1965.
И. А б а е в. Осетинский язык и фольклор, стр. 322.
гг
185
Аму-Дарьп обнаружено дпа изооражспия типа арфы:
одно-большая угловая довятиструниая арфа - дати­
руется IV п. до а. э., другое — трехструниая — относится
к III в. до и. э.70 О значительном распространении арфы
в центральной части Средней Азии в период так называе­
мого Кушанского государства (I —IV вв. и. э.). основан­
ного сако-тохарскишг завоевателями, свидетельствует
также изображение женщины с девятиструнной: арфой на
фрагменте Айртамского фриза, найденного олиз Гермеза
и хранящегося ныне в Государственном Эрмитаже71. Налпчпе арфы у скифов еще в VI в. до и. э. подтверждается
археологическими раскопками в горном Алтае. Так, во
втором Пазырыкском и особенно Башадарском скифских
курганах были обнаружены археологом С. Р. Руденко
следующие части арфы: «Стенки и основание корпуса,
ушко для прикрепления струнодержателя». По замечанию
автора, длинный корпус арфы «был выделан из цельного
дерева: кожная дека-мембрана приклеена к корпусу»72.
Таким образом, археологическими раскопками устанавли­
вается распространение арфы на огромной территории от
Средней Азии и горпого Алтая до Кавказа, что свидетель­
ствует о популярности этого музыкального инструмента,
прежде, всего у скифо-сарматских племен. В отличие от
Средней Азии и горного Алтая, время появления арфы
на Кавказе, к сожалению, пока невозможно установить
нз-за отсутствия археологических данных. Тем пе мепее
есть все основания полагать, что проникновение се на
авказ было связано со скифской колонизацией этого
Г1М11еншо
И. Абаева, современное название нар дяого музыкального инструмента, включая и арфыЙЖ1™2,0НСХ0Л11ТЛТ СЛ0ва панДУРа» проникшего в гдурасппогтппи°СТ1[ 113 ^ало? ^згш и получившего широкое
шп!7! нС На юг^ УкРа™ы и Кавказа. Появление
екюЪо-сятттго аВ-Ка3е
Абаев относит ко времени
----^
0И эпохп ■ Данные археологии и языко70 «Труды Хорезмской экспедиции», т. I. М., 1952; С. П. 1 °«“
сто в. По следам древнехорезмской цивилизации. М.—Л.,
1
СТР’ 76*
,
.про
71 «Народы Средией Азии и Казахстана», т. I. М., 1У0 ’
стр. 63, 64.
72 С. И. Руденко. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.—Л., 1960, стр. 62, 63.
73 В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка, стр. 448.
186
знания о наличии арфы па Кавказе с древнейших времен
подтверждаются и грузинской исторической хроникой.
Так, исследователь грузинского музыкального фольклора
Г. 3. Чхиквадзе, основываясь на древних письменных
источниках, считает, что сванская арфа (чаигп) появи­
лась еще во II в. до и. э., причем прародиной арфы ои
считает Иран 74, откуда и проникла в Грузию современная
сванская чаиги.
Приведенные этнографические параллели к эпосу сви­
детельствуют о большом сходстве материала, находимого
в сказаниях о партах и в осетинском быту. Все это гово­
рит о том, что исследование всех национальных вариан­
тов нартского эпоса в свете этнографии является одной
из важных задач, стоящих перед этнографической наукой
на Кавказе.
74 Г. 3. Ч х и к и а д з е. Историография грузинского музы­
кального фольклора. — «Материалы по этпографшг Грузин»,
т. XII—XIII. Тбилиси, 1963 (на груз. яз.).
!
А. Т. Ш о рт ано в
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС АДЫГОВ
«НАРТЫ»
)
Под общим названием «адыги» (адыгэ) объединяются
совремеиные кабардинцы — основное население Кабардино-Балкарии, адыгейцы, которые живут в Адыгейской
автономной области, п черкесы, проживающие в Кара­
чаево-Черкессии.
Адыги — аборигены Северного Кавказа. История адыг­
ских племен насчитывает несколько тысячелетий: их
предки под названием меотов п енндов, а позже — зихов
и керкетов были хорошо известны древнему миру.
Адыги непосредственно соприкасались с древнейшими
поселенцами Причерноморья, Керченского и Таманского
полуостровов, Северо-Западного Кавказа, Кавказа в це­
лом п жителями Малой Азии. Позже на формирование
материальной недуховной культуры адыгов оказали влияпне киммерийцы (VIII в. до н. э.) и скифо-сарматские
племена (VII в. до н. э.) ].
Предки адыгов в V в. до и. э. образовали одно из пер­
вых раннераоовладельчеекпх древних государств на тер­
ритории нашей страны — Синдику, которое впоследствии
вошло в состав Боспорского царства'2. Еще до становления
индского государства началась греческая колонизация
неверного Причерноморья. Здесь греки закладыЬали торгпппт! Факторнп, которые затем превратились в античные
пполт ~Г°«У??*)СТВ?’ такие, как Пантикапей (на месте современной Керчи), Гермонасса (нынешняя Тамань), Фа-
I
I
;
ХЮН‘Д;М"Г д1но1>РДтШТБмКарСКой АССР 0 древнейших аре2 В. И. МопттпЛт.’
нзд-во «Наука», 1967, стр. 27--^
№ 3, стр. 203—208.
4 а Я' 0 государстве еппдов. — ВДИ, 19/хб
188
иагория (па Таманском полуострове, около поселка Сен­
ного) п др.
Раскопки майкопского кургана, датируемого концом
III тьтс. до и. э.3, погребальные памятники кобаискон и
прикубанской культур (рубеж II—I тыс. до и. э.) \ мно­
жество открытых городищ, имеющих отношение к адыг­
ским племенам, — все это свидетельствует о развитой
культуре предков современных адыгейцев, кабардинцев,
черкесов.
К концу III тыс. до и. э. па Северном Кавказе уже
существовало местное производство железа. Довольно высокого уровня достпгло керамическое производство. Уже
в ту пору здесь, на Северном Кавказе, складывается
«яйлажный», или «кошевой», тип скотоводства. Особое вни­
мание обращалось на овцеводство и коневодство. Ученые
полагают, что с середины I тыс. до и. э. земледелие было
плужным. Основными возделываемыми культурами были
мягкая пшеница, ячмень, просо.
Прогрессу духовной и материальной культуры адыгов
помешало пашествие гуннов, напавших в последней трети
IV в. п. э. на Боспорское царство и разоривших его до
основания. Села и города сипдо-меотских племен, обитавших в то время между Азовскпм морем, устьем Дона и
нижним течением Кубани, были разрушены п сожжены,
а значительная часть населения истреблена или угпана
в рабство.
Предки адыгов вынуждены были уходить^с^на^сижениых мест. Они стали селиться по левому
и на Черноморском побережье Кавказа. Здесь они близко
граничили на юго-западе с предками современных абхазов, па юго-востоке с аланами — предками осетин, на се­
вере, за Кубанью, с кочевниками утургурами и оолгарами. В этих краях ошг выдерживают натиск готов-тстракситов. С середины VI в. и. э. предки современных
адыгов выступают на историческую арену как мощное
племенное обт>едипеппе под общим этническим названием
нов»
п" ^0 сси- Хронология «больших кубанских кургаЕ И *<Соввтская археология», 1960, т. X, стр. 157—162;
В к '. ^ Р У п и о в. Древнейший период истории Кабарды. —
1951 стр /з^П1Ш стате1°г по ПСТ°РПП Кабардьт», вып. 1. Нальчик,
°похп^- К" Маркович. Культура племен Северного Кавказа
Сори, бронзы. — «Материалы и исследования по археологии
^СР». м., 1960, № 93, стр. 131.
I
189.
зпхов. Они устанавливают тесные экономические п культурньте связп с Римской империей.
Однако зихекпй племенной союз не сумел завершить
объедпнеппе родственных племен Северо-Западного Кавказа. Этому помешало, как устанавливается последними
исследованиями, возникновение по соседству с зихамп
двух новых самостоятельных союзов : абхазского на юге
и косожского па севере, разъединивших зпхов па части.
В состав косожского племенного объединения вошли
все малые и большие адыгекпе этнические группы, и на­
чиная с X в. адыги выступают уже как один народ под
общим именем косогов. Теперь они занимают все про­
странство от реки Лабы до берегов Черного моря. Единым
народом считают адыгов и русские летописи, которые,
начиная с XI и до середипы XIII в., называют их «косогами».
В период консолидации общеадыгского ядра эпическая
культура адыгов переживала период широкого развития
и становления своего единства. Именно тогда получила на­
циональное оформление адыгская версия нартского эпоса.
*
I
Елле, Елло7, нс 6011 по жилищам нашим,
Елле, Елле, охраняй нашу жпзнь,
Елле, Елле, не воспламеняй лес Тхашага8,
Елле, Елле, дай паппться грушевой воды,
Елле, Елло, и ты испей нашего папптка,
Елле, Елле, ты даришь нам шесть камней
(для молотьбы на току),
Елле, Елле, мы все разом тебе пляшем,
Елле, Елле, под деревьями Тхашага землю трамбуем
(т. е. танцуем в честь тебя) 9.
*
Героический эпос адыгов «Нарты» уходит своими кор­
нями~ в глубокую древность.
Разумеется, что до возникновения нартского эпоса
^г»п«1Г0В УЖе ™™али определенные формы художе„спстема поэтического восприятия
лове лповггрйт явлешп* пРгФ°ды. Сохранившиеся в фолькпесни знакт И6 Х0ХИ Л Речптативы, а также трудовые
песни знакомят нас с поэтическим миром адыгских племен еще до создания нартского эпоса.
ство обвяловтту |)0ЛЪКЛ0Ре сохранилось большое количевиц, посвященных вУазли°^ЫХ X0X0В, Песен’ напевов’ здРа"
например 'шпб^Р I?1/1 ЯЗЬ1ческ™ божествам, как,
Шибле). 5
УД^н» (танец в честь бога грома
«Когда гремит
гром, - писал Жак-Баптист Тавернье, — все тотчас же
вьтходят из селения и вся моло-
И музыка и текст здесь служили прежде всего задаче
умилостивления этого сверхъестественного существа, ко­
торое, по представлениям древних адыгов, было творцом
кеоа и земли. Нередко в этих хохах и песнях слышится
трепетный страх человека перед таинственными силами
природы.
ттт божеств п покровптелей^в Нгт?” П песшг в честь язычевнцы и благопожеланпя.
’ ^олее широком зиачепптг — здра190
деясь обоего пола начинает петь и танцевать в присут­
ствии пожилых люден, сидящих вокруг. Если молния уби­
вает кого-нибудь из них, они хоронят его с почестями и
считают счастьем, признавая такую смерть милостью бога.
Если молния ударит в одни из их домов, то даже если не
убиты тги мужчина, ни женщина, ни ребенок, пи жнвотнос, вся семья, обитающая в этом доме, содержится в те„ ченпс целого года, ничего не делая, за исключением тан­
цев и пения» с.
А вот текст этой песни-танца:
Еллэ, Еллэ, ди жылэ укъемыуэ
Еллэ, Еллэ, ди гъащ1эри къэхъумэ
Еллэ, Еллэ, ТхъэпДагь мэз къумыгъэс
Еллэ, Еллэ, кхъужьыпсым дегъафэ
Еллэ, Еллэ, фадафэм е1эбых,
Еллэ, Еллэ, хьэмывнхыр къыдэзыт,
Еллэ, Еллэ, эьтдедгащтэу доуджь,
Еллэ, Еллэ Тхьэщ1агь жьтгхэр доуджыхь.
;
с Ж. Б. Т а в е р п ь е. Шесть путешествий, т. I. Гаага, 1781,
°тр. 387.
7 Возможно, что это христианский Илья, по ясно, что в песней Де Речь шла о языческом боге-громовике Шибле, п°о а
«ПТттгЛГесте с напевом известен адыгам иод общим 4ТТТ‘ ^ *
пбле УД'К», что в переводе значит «Танец в честь
э БУкв. «под богом находящийся лес».
«Адыгэ 1уэры1уатэхэр». Налшык, 1903, стр. 1У.
191
-■
В этих песнях видную роль играет ритм, хотя мело­
дия и текст тоже имели существенное значению. Ме­
лодия как правило, состоит из нескольких параллельно
идущих тактов. В этом плане весьма любопытна древнеадыгская песня «Стрижка овец». В ритмике ее явственно
слышится клацанье ножниц н четкое движение ьн стри­
гущего овцу чабана. В соразмеренном ритмическом дви­
жении песни «Косари» подчеркивается характер процесса
труда, определяющий и архитектонику стиха, п его рптмпку.
Курдюк сгорает,
Шапэр ес,
Навар стекает,
Лэпсыр къок1,
Заворачивай, джарума 10
Бэлагъык1ыр мэсыс,
ссыхается,
Заворачивай! 11
Жэрумэ къуэпсыр мэгъж.
Синкретическая первобытная идеология порождала
синкретическое единство песни, хоха, танца и музыки.
Идеология эта выражалась пе только и не столько в рели­
гиозных представлениях, сколько в первобытно-материа­
листическом понимании древним человеком явлений при­
роды. Искусство п поэзия нераздельно служили общим
целям оощества — коллективному началу труда.
И этот дух коллективизма ощутим в различных древпеадыгских хохах п песнях. Напрпмер, в «Охотничьей
песне» говорится:
Щак1уэ, щак1уэурэ жыжьаплъэ,
Зытеплъэр зы1эщ1эмык1,
Зи хъэ гъуабжэжьыр кЬльэф,
Къызэдалъэфыр зэдэдп1усу,
Гъуэм дехэрц дызднхуэдэу,
Пхафэм хэехэр зэдыдпбзууэ...
и °Х0ТНПК’ ты охотник дальнозоркий,
1то приметит твой глаз-не уйдет,
Что добьтг00^01^ ВОЛ°гшт 110 земле свой хвост,
— всем нам
Что в норах остается поровну еда,
“—всем нам поровну добыча,
Что в жнивье скрывается
— всем нам поровну
дичь 12.
1
Наряду с трудовыми хохами и песнями, такими, как
«Стрижка овец», «Валяние кошмы», «Молотьба», «Тхаголедж», «Амыш» п др., широкое распространение у адыгов
имела ритуальная и культовая поэзия, посвященная
космическим божествам и покровителям животного
и растительного мира, а также всякого рода обрядам,
связанным с рождением и смертью, свадьбой, излечением
больных, освящением урочищ, гор и ущелий н т. д.
В языческом пантеоне адыгов большое количество
божеств и покровителей. Главные среди них — Мезитха
(бог лесов и охоты), Амыш (покровитель скотоводства),
Тхаголедж (покровитель растительного мира),Тлепш (бог
железа и кузнечного ремесла) и др. Почти все они имеют
«производственное» происхождение, и каждое из них за­
креплено за определенной формой труда. Каждому боже­
ству посвящался хох-гпми.
Сохранились довольно устойчивые тексты поэтических
гимнов в честь ряда божеств языческого пантеона адыгов,
связанных с производственной деятельностью людей (Тха­
голедж, Амыш, Тлепш и др.). Хохи в честь таких языче­
ских богов, как Уатха, Шпбле и др., пока записать но
удалось.
В хохе, посвященном богу охоты — Мезитхе, видпм
элементы художественной типизации образа:
Тебя именуем Тха лесов. Усы твои — червоппос пламя.
Тебе в моленьях возливаем щедро кровь-гштьс красное.
Зарезан в дар-жертву тучный белый козел, угодный тебе.
Перед тобою молодая жена неплодная на коленях долю
стоит.
Болорукий — ты знаешь все.
Могучий — низко клонишь вершины дубов,
Одежда твоя — шкура тучного тура.
Ложе твое — место для тела слона.
Чистым серебром оковано тело твое,
Стрела — сердцевина краспого кизила ядреного,
Лук у Мезитхп из ореха — белого дерева.
Головою тряхнешь — по лесу шум идет.
Тогда зверь — о горе! — в поре содрогается.
Нынче расскажем все о Мезитхе 13.
«Кабардинский фольклор». М-—Л., 1936, стр. 79.
192
___
13 Заказ № 1480
193
Подобные хохи-гимны имеют и другие языческие бо­
жества. С именем бога плодородия Тхаголеджа связано
несколько хохов, в которых он рисуется великим
тружеником: даже в неурожайный год, говорится в одном
нз них, Тхаголедж убирает па своем поле богатый
урожай:
1эк1уэцшцэр зы пхыру
И пхыршцзр зы мэшЬтэу
Мэщ Ътшцэр зы гъэсогуу,
Гъэсэгуунщуэр зы щэджу,
Щэдж щпй къырнхащ.
13 сто ладоней — в одни обхват —
один спои.
Сто снопов — в одни стог,
Сто стогов проса — в одну скирду,
Восемьсот екпрд свез с поля ,4.
Некоторые языческие божества, пройдя сложный путь
развития, со временем стали персонажами адыгских ска­
заний о партах. Особенно наглядно это прослеживается
на примере образа Тлепша. В языческих гимнах он вы­
ступает как «огневой бог» 15, иногда выполняя функция
и другого бога — громовика Шпбле. Позже этот «огневой
бог», имевший весьма нечеткое выражение в культовой
поэзии адыгов, приобретает конкретные черты «покро­
вителя рабочих по металлическим изделиям и крестьян»,
которых он снабжает «плугом н мотыгой» 16. Это — второй
этап развития образа Тлепша. На третьем этапе, уже
в нартском эпосе, Тлепш сохраняет атрибуты покровителя
кузнечного ремесла и одновременно является первым
кузнецом партского рода. Теперь он выступает в конкрет­
ных жизненных обстоятельствах. Тлепш — герои нартского
эпоса наделен всеми человеческими страстями и сла­
бостями, он имеет определенный характер и даже свою
манеру речи. Иначе говоря, в эпосе Тлепш — художест­
вен^
Ч6Г0 Не 11аблюДается » хохах, ему лосвяТлепщ— огневой бог
ремесла с появлением
стал покровителем кузнечного
железных орудий труда. В этом
14 «Адыгэ 1уэры1уатэхэр», стр. 13.
15 Э. Тейлор. Первобьггпая к\
16 Там же, стр. 428.
культура. М., 1939, стр. 428.
194
и заключается диалектика одного из интереснейших об­
разов адыгского фольклора.
Древние адыги поклонялись огню и воде, животным
и растениям, заповедным рощам и скалам, грому и мол­
нии и т. д. Архаический культ адыгов «Тхальэо» (просьба
к* божествам) сопровождался обязательным ритуалом
«Мафэщхъэтьтхь» (жертвоприношение) с пением хохов
в честь определенных божеств (Псатха — бог души,
Уэтха — бог неба, Шпбле — бог грома). Пением, музы­
кальным речитативом или хохамп сопровождались и вся­
кого рода заклинания и причитания. Язык этих заклина­
ний нередко представлял собою пабор непонятных слов.
К заклинаниям и причитаниям адыги прибегали при тя­
желых заболеваниях — оспьг, чумы, лихорадки, а также
для «спасения» новорожденного от дурного глаза; в годы
засухи заклинаниями стремились вызвать дождь. Чтобы
волк не зарезал пропавшую скотину, считалось необходи­
мым «заклинить» волчыо пасть особым заклинанием
«хапэщыпха».
Вот песня, которую пели при исполнении обряда «вы­
зывание дождя». Во время засухи группа людей, преиму­
щественно молодежь, носила по берегу реки чучело богини
рек Псыхогуаша, окропляя его водой и напевая:
Мьг лопату 17 наряжаем
И водою поливаем,
Дан дождя лам, боже.
Вез дождя нам трудно жить,
Нечем дань тебе платить,
Дан дождя нам, боже18.
Среди древних культов и символических обрядов осо­
бое место занимает драматизированное представление
«Ажагафа» («танец козла»). Ни одно народное праздне­
ство, связанное с аграрным календарем и животноводст­
вом, не обходилось без участия «Ажагафьт», в котором
отразились тотемистические представления адыгов .
17 Чучелом служила лопата, паряжепиая в женский костюм.
18 «Из кабардинской народной лирики». Нальчик, 1Эоо,
стр. 75.
19 Подробнее об этом см.: А. Т. Шортапов. Театральное
искусство Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1961, стр. 8—9,
195
13*
В обрядовой поэзии адыгов имеется большой п разнообразный слой песен и хохов , связанных со свадебным
обрядом. Интересно отметить, что почти все они обращены
к невесте. Не случайно, видимо, и то, что в этих песнях
и хохах паходпм всякого рода сравнения невесты с жи­
вотными и птицами.
В одпой из таких песен содержится пожелание, чтобы
невеста была
Всем известна,
Как копь знаменитый,
Как ягненок,
Ластилась к матери,
Как квочка,
Плодила цыплят-ребят.
I
К древней поэзии адыгов следует отнести и такие
произведения, как «Дахаж», «Жалоба буйволицы», «Пашарива», «Лягушка», «Волк», «Жалоба вола», «Индюк»,
«Комар», «Хвала кошке», «Сетование дерева», и множе­
ство других, в которых одушевляются предметы домаш­
него обихода, животные, насекомые, растения и т. д.
Прсднартовский фольклор еще плохо знает человека.
В пем много элементов первобытной религии, зооморфпых персонажей, чудовищ. Хохи и песни, включая и об­
рядовую поэзию, не всегда имеют внутреннее развитие,
четкую композицию. Система поэтических средств почти
не разраоотана: за исключением сравнений (чаще всего
человека с животным), эта поэзия почти ие знает иных
поэтических приемов. Преднартовский фольклор прони­
зал тотемпчеекпми воззреппями и понятиями.
В этой поэзии человек, если он и присутствует, еще
пассивен, подавлен внешним миром, не осознает своих
сил. Он не показан в действии. И пройдет еще целая
историческая эпоха, прежде чем народная «эпическая
поэзия достпгпет вершины своего развития, полного осу­
ществления самой себя»20 — «дойдет до живого псточский эпосГТИЙ' человека>>’ т- е- бУДет создан герончеВместе с тем невозможно
не учитывать того, что многие художественные
приемы древней народной поэзпи
20
Ш7,стр.271ВеЛПНСКПЙ-; Собр. соч. в трех томах, т. II. М.,
196
_
адыгов были использованы при формировании адыгских
сказаний о нартах. Более того, отдельные мифологпчеекпе и еказочпые сюжет 1,1 и мотивы, как увидим дальше,
послужили питательной почвой в процессе становления
иартского эпоса . Но эти сюжеты и мотивы приобрели
в эпосе новое — героическое качество, выразителем и но­
сителем которого является человек.
Что вызвало к жизни такой грандиозный эпический
памятник, каким являются сказания о партах?
В начало первого тысячелетня до и. э. в социально-эко­
номической жизни спндо-меотскнх племен уже намечалнсь разителытые перемены. Наступила новая эпоха —
эпоха «железного меча, а вместе с тем железного плуга
и топора» . Развивалось плужное земледелие. Хлеб стал
производиться не только для личного потребления, по и
ДЛЯ продажи. Скотоводство вступило в новую полосу —
пастбищного нагула, коневодство — табунного разведения.
Огромного размаха достигло овцеводство. Кузнечное и
гончарное производство выделилось в самостоятельные
отрасли... Появились первые ремесленники. Широкое развитно получпла торговля. Происходила консолидация пле­
мен. Сиидо-моотскис племена складывались в единый
адыгский этнический массив. Все это вместе взятое и
создавало те условия, которые были необходимы для воз­
никновения эпических произведений: «Личный поэтиче­
ский акт без сознания личного творчества, поднятие навыражеродпо-полнтического самосозиапня, требовавшего
нпя в поэзии; непрерывность предыдущего пессипого прсДания, с типами, способными изменяться содержательно,
согласно с трдфбваппямн общественного роста»21.
Наступившая новая эпоха требовала повых средств
п искусстве и поэзии. Это было первой и главной силон,
Давшей толчок к созданию монументального иартского
эпоса.
Известно, что с древнейших времсп Кавказ был сре­
доточием множества племен и народностей. Он служил
важным звеном, связывавшим южные районы нашей
страны с народами Закавказья, Передпеп и Малой Азии,
Средиземноморья, с пародами всего древнего Востока.
Через его земли проходили ордьт гуннов, авар и других
кочевых пародиостей.
Л., 1940,
21 Л. И. В осел омский. Историческая поэтика.
стр. 58.
197
Это была величайшая эпоха интенсивных встреч, тор­
говли взаимообмена, взаимообогащения пародов, а также
битв ’и сражений разноплеменных полчищ и народов.
Здесь приходит на ум меткое определение А. Н. Веселов­
ского: «Эпос зарождается от столкновения народностей».
Во всяком случае, с отражением нашествий связаны пат­
риотические мотивы и ооразьг эпоса.
В такие исторически важные периоды, когда одна
общественная формация сменяется другой, более высокой,
чрезвычайно остро ощущается та жгучая жажда творче­
ства, которая охватывает народные массы. Иартскпй эпос
создавался именно в такой исторический период. Он —творение всего народа. Как отметил А. М. Горький:
«...в древпостн устное художественное творчество тру­
дящихся служило единственным организатором их опыта,
воплощением идей в образах и возбудителем трудовой
энергии коллектива»22.
Иартскпй эпос был пе только «возбудителем трудовой
энергии», по прежде всего воинской доблести народа.
Иартскпй эпос — новое явление в эпической культуре ады­
гов. Выйдя из педр первобытно-родового строя, сказания
о партах отразили целый мир взглядов и понятий на
жизнь. В иартском эпосе народ не только выразил своп
идеалы, но и изобразил самого себя.
Почти все исследователи нартского эпоса считают его
продуктом родового строя. Различные этапы родового
строя нашли в нартском эпосе свое художественное отражение.
«Нарты» —
ад5тРт-г
И. Крупнова, «осиовнов ядро главных сказаний иартского эпоса, отчетливо
отражающих сущпость своей эпохи... было создано в раттнпи период железного века»23.
жизни*адагов" начнпР-1?:г 0тразшгпсг’ Ф°Р“ы общественной
отпошенпй на лптпг,” С явных пережитков родственных
енпн на матрплокалыюй дуальной основе, затем
"* ЕГ'и0Крупнов0блПепв’ Т’ 27> М- 1953' СТР196°- стр. 373. СР. в И аРй“ЯЯ ПгУ°Р,ш Северного Кавказа. Мт-X, вып. I. Дзаудлшка',,
нартовскпй эпос. - ИСОНИИ,
скнп §пос п памятнтш ма^’ стр- -117! Л. П. Семенов. Нартэпос». Орджоникидзе, 1957, стр 82Ь891Г КуЛЬТ>'р1'1' ~ сб- «Нартскшг
т
____
патрнархалыю-родовой организации общества с последую­
щим напластованием мотивов рабовладельческого и даже
феодального уклада жизни. От родового строя до появле­
ния феодализма — таков исторический период, отразив­
шийся в адыгском эпосе.
Нередко в эпосе очень сильно выступают пережитки
матриархата, когда дуальная система образования семьи
подчеркивается матрилокалышми фазами, которые ивляются, в конечном счете, определяющими и во всем ком­
плексе родственных понятий'и отношений. Однако в нанбольшей степени адыгский эпос связан именно с эпохой
патриархата, особенно с высшим его этапом — эпохой так
называемой «военной демократии».
В истории изучения нартского эпоса различных наро­
дов Кавказа неоднократно делались попытки отыскания
исторических параллелей к иартским сказаниям. В об­
ширной статье Вс. Миллера «Черты старины в сказаниях
н быте осетин» 24 приводится несколько исторических па­
раллелей к партскому эпосу: скифский обычай скальпи­
рования, засвидетельствованный Геродотом, сравнивается
со сказанием о шубе Сослана. Кроме того, Миллер обна­
руживает сходство некоторых осетинских и скифских
обычаев- и обрядов (например, передача чаши по кругу,
похоронные обряды).
Ученый выдвигает интересную гипотезу о том, что
осетинское название великанов — гумрнта (ед. ч. гумпр),
возможно, восходит к древиекавказским киммерийцам,
вытесненным с Северного Кавказа скифами.
На наш взгляд, этот факт заслуживает самого при­
стального внимания. Вряд ли можно не считаться с тем,
что великаны в осетинском эпосе отождествляются с ким­
мерийцами, а в адыгском — врагами мартов выступают
таинственные «чниты». В названии и характеристике
«чиптов», вероятно, отразились воспоминания о доспидских племенах и государстве Синдика, о межплеменной
борьбе сиидо-меотов в период образования адыгского этинвеского ядра.
Невозможно не учитывать и многочисленные упоми­
нания в эпосе «Алпджева дома», в котором сооираготся
парты для решения важнейших дел и проведения пиров,
24 В. ф. М и л л е р. Черты старины
тип. — ЖМШТ, ССХХИ, август 1882 г.
199
сказаниях и быте осе-
празднеств, состязаний. «Алиджев дом» (ср. осетинский
(гбольшой нартский дом») — прямой отзвук связи адыгов
с эллинским миром (адыги называли Элладу «Аллыдж»).
Называя эти исторические параллели к нартскому
эпосу, мы вместе с тем учитываем специфику отражении
истории в эпосе, который в обобщенной художественной
форме повествует о различных исторических периодах
в жизни создавших его народов. В связи с этим кажутся
малоубедительными попытки некоторых нартоведои связать отдельные эпнзодьг эпоса с фактами истории пли
установить исторические параллели между героями эпоса
и историческими личностями (Ж. Дюмезиль, например,
отождествляет эпическую Сатаней с женой армянского
царя Арташеса (V в. и. э.) — аланской царевной Сатиник,
а Сосруко — Сослана — с мужем грузинской царицы Та­
мары—Давидом Сосланом)25. На наш взгляд, эти имена
могли, наоборот, из эпоса перейти к историческим лич­
ностям.
В эпическом наследии народов мира существует, как
известно, несколько типов эпоса, по в конечном итоге они
сводятся к двум: героико-мифологическому (наиболее
древнему) и историко-героическому. «Иартов» исследова­
тели относят к героико-мифологическому типу эпоса26:
мифология, вымысел, фантазия в нем занимают домини­
рующее положение, точнее составляют его «художест­
венный арсенал». Однако ото вовсе не означает, что
«Нарты» неисторичны.
Историчность «Нартов» заключается прежде всего
в том, что их эпические образы с достаточной полнотой
и уоедителытостыо выражают эпический дух и характер
определенной исторической эпохи в жизни адыгских и
других северокавказских
в том, что эти эпическле герои создавались нанародов,
реальном субстрате определен­
ного времени и они, проходя сквозь призму народных
представлений, понятии и обобщений, отражают типиче­
ское в жизни абхазо-адыгских, осетинского, балкаро-кара­
чаевского и других пародов. В
этом и заключается историчность эпоса.
Народный идеал в
нартском эпосе разных народов
Абаев. Указ, соч., стр. 118.
200
-
**
°р-
представлен с такой шпротой и так всеобъемлюще, что
почти все кавказские народы связывают с именами глав­
ных героев эпоса различные местности, пастбища и т. д.
Абхазьг, например, указывают конкретные места (уро­
чище Анцсра) 27; связываемые с культами иартов и исто­
рией абхазского парода. Аналогичная тенденция наблю­
дается в фольклоре осетин и чеченцев. Последние
местожительством иартов признают район Саинба и пойму
реки Ассы. Осетины же под аулом Нар показали
В. Ф. Миллеру усыпальницу парта Сосруко и оваль­
ную площадку, обложенную камнями, — место иартского
иихаса, а в аулах Стур-Дпгора и Дзпвгнса — древние
святилища и кладбища.
Подобное приурочение имен иартских героев находим
и в эпосе адыгов. В частности, вблизи бывшего Хумаринского укрепления, находившегося в замке «Чуана» (под­
земный дом), по преданиям адыгов, некогда жил Гнляхстан злоязычиый. Там же лежит большой камень, на котором «остались следы копыт» коня Сосруко 23. В Адыгее
иартской топонимикой отмечено несколько мест: здесь
указывают «Звездный Путь» Сосруко, место расположе­
ния кузни Тлепша и Дабеча, прибрежные места, где
купалась Сатаней в море, иартские урочища, курганы
Н Т. Д.
Как видим, почти у всех кавказских пародов известны
сказания о иартских богатырях, приуроченные к местной
топонимике. И это закономерно: ко всему необычайному,
выдающемуся прикреплялось слово «нарт». Название
лечебной воды, именуемой адыгами «парт-сано», дало
повое слово «парзаи», кукурузу кабардинцы назвали
«партух», что в переводе значит «партское просо». В Кабарде в роде Кардаповых до настоящего времепп^хранится
«полотенце Сосруко», оберегаемое самой старшей женщи­
ной рода. Интересно, что при упомштапшг имени Сосруко
псе мужчины и женщины встают в знак почитаппя героя,
которого род Кардаповых признает своим предком29.
I
I
27 «Приключения нарта Сасрыквы и его девяпоста девяти
братьей. Абхазский народный эпос». М., 1962.
28 С. У р у с б и е в. Сказания о иартских богатырях.у татар горцев Пятигорского округа Терской области. СМОМПК, вып. I.
°ТД. 1Т. Тифлис, 1871, стр. 3.
29 См.: «Кабардинский фольклор», стр. 581; Ср.: «Адыга
1уэры1уатэхэр», стр. 258.
201
В сказаппях о нартах основные мотивы носят ярко
выраженный материальный характер. Конфликты разво­
рачиваются вокруг жизненно важных проблем. Добыча
материальных благ (хлебных припасов, скота), изготов­
ление сельскохозяйственных орудий, ратного снаряжения,
добыча невесты, угон табунов коней, борьба с мифиче­
скими чудовищами за огонь — таковы основные конф­
ликты адыгского эпоса. В отличие от «Калевалы», например, где подобпые мотивы решаются в более
м ирных
тонах, в «Нартах» они подаются главным образом в героическом плане. Подвиг — не только движущая сила дейст­
вий героев и всего сюжета; в подвиге раскрывается герои,
его образ, его характер.
Цепь подвигов создает портрет нарта. Его внутреннее
развитие раскрывается нс описанием, не повествователь­
ным приемом, а в динамическом движении самих подви­
гов, их остроте и сложности. Это одна из отличительных
сторон адыгского эпоса. Циклы сказаний об основных
героях эпоса складываются, как правило, из следующих
сказаний: рожденно богатыря, его подвиги и смерть; по
такой схеме строятся циклы сказаний почти обо всех
героях адыгского эпоса. Заметим, что, несмотря на при­
сутствие в эпосе целой плеяды женщин — Сатаней, Адшох,
Акуапда, Уорсар, — в образах которых ярко отражены не­
которые матриархальные черты, эпос «Нарты» по преиму­
ществу «мужской», в нем бушуют сила и страсти вонновбогатырей, искателей доблести и славы.
В адыгском эпосе можно выделить три группы
конфликтов. Первая группа — это борьба нартов с тшыжами-великалами за огонь, скот, за возвращение похи­
щенного у нартов добра. Вторая группа — борьба
против иноплеменных захватчиков, в частности против
партов
«чинтов». Сказания третьей группы повествуют преиму­
щественно о внутрнродовой борьбе нартов и о многочис­
ленных состязаниях п поединках между самими партами.
*?вые ДВе Г|)УоПЬТ пмеют ярко выраженный обществентгпппттрм^1^6^’ ^десь Решаются проблемы общенародные,
проолемы морали и чести всего нартского
то же касается третьей группы конфликтов,
то здесь
племени.
хотя п
сГГаДаГОТЛ"НЬ1е
мотпвы
действий
героев,
по
и они
строятся на общественном фоне. Фон этот вырисо•'ьтвастся
столкновении старых, отживающих форм
I
I
I
I
I
семенно-брачных устоев родового строя с зарождающи­
мися или зародившимися новыми формами брачных отно­
шений. В иартском эпосе адыгов главенствует полиаидрическая и нолигнннческая формы брака.
Главная героиня эпоса — Сатаией-Гуаша выступает
в разных (а иногда в одних и тех же) циклах женой
разных мужчин. В одних сказаниях ее мужем назы­
вается Сое, в других — нартский кузнец Тлепш,
в третьих —Уазырмес, в четвертых — тхамада нартов
Насрси Длиннобородый.
Мировая эпическая культура, пожалуй, не знает столь
величественной натуры матриархального склада, какой
является «мать рода нартского» Сатаней. Она олицетво­
ряет собой такое состояние общества, где господствуют
обычаи, авторитет, уважение, власть, которой пользова­
лись старейшины рода, и власть признавалась за жен­
щинами.
Культ — почитание материнства — не случайное яв­
ление в эпической поэзии адыгов, он имеет глубочайшие
исторические корни. Достаточно указать, что в языческом
пантеоне адыгских божеств половина — женщины; ХадэГуашэ (богиня садов и огородничества), Псыхо-Гуаша
(богиня рек), Хы-Гуаша (богиня морей), Уиа-Гуаша
(покровительница домашнего очага). Это то, что сохра­
нилось в фольклоре. Вероятно, у предков адыгов были и
другие женские божества.
Впрочем, в эпосе налицо и более позднее, сугубо пат­
риархальное отношение к женщине. В сказании о бое Сосруко с Тотрешем рассказывается о том, как, потерпев поражеиие, Сосруко возвращается домой. На вопрос Сата­
ней: «Что нового видел ты в пути и на Хасе?», он отве­
чает:
Женщина о Хасе не спрашивает,
К женщине за советом не обращаются,
Кто обращается, тот не мужчина!
Если в области хозяйственной жизни матриархат ха­
рактеризуется собирательством, частично — охотой, при­
митивным рыболовством, разведением животных, преобла­
данием мотыжного земледелия и т. д., а в сфере семейных
отношений господством женщин в большой материнской
202
203
семье, то при патриархате хозяйственная жизнь семьи
определяется доминирующим положением мужского труда,
введением плужного земледелия, широким развитием ско­
товодства, обработки металла и т. д., а в сфере семсшшх
отношений — установлением патрилокальных форм род­
ства с прочным утверждением отцовского счета родства
и строгой моногамией.
В адыгском иартском эпосе широко отразилось преоб­
ладание прав мужчин над правами женщин. Переход от
матриархальных устоев в жизни и семье к патриархальным
совершался в жестокой борьбе двух противоборствующих
сил — ослабевающего материнского права и крепнущей
отцовской власти. Своеобразное отраженно этой борь­
бы в иартпаде находим в сказаниях об Аднгах светло­
рукой.
В адыгском иартском эпосе нашло свое отражение
историческое поражение женского пола. Однако, расста­
ваясь навсегда с матриархальным укладом жизни, созда­
тели «Мартов» нс смогли проститься с величественной
фигурой Сатаней. Ее красота, мудрость и женское обаяпне по-прежнему приковывали к себе сердце повество­
вателя и его слушателей. Знаменательно, что создате­
ли эпоса, дав всем своим героям (физическую смерть,
не пожелали расстаться с Сатаней, наделив ее бессмер­
тием.
Нельзя не согласиться с В. И. Абаевым, когда он го­
ворит, что можно представить себе эпос без какого-либо
героя, даже без главного, а без, Сатаней — нет30-31. Она —
олицетворение добродетели, чистоты и неугасимой любви
к очагу, к ближним, к миру людскому. Вот почему
до спх пор кабардинцы и осетины, абхазы и адыгейцы,
балкарцы и черкесы как высшую похвалу женщине го­
ворят: она —Сатаней!
Центральным героем адыгского эпоса является нарт
Сосруко . Его цикл представлен в эпосе наиболее полно.
• десь мы имеем все характерные особенности и традиции
эпической поэмы: в цикле показывается рождение героя,
30-31 з. ц Абаев. Указ, соч., стр. 36.
к0
32 Подробнее о цикле Сосруко см.: А. Алиева. Соеру
в адыгском героическом эпосе о партах.— УЗ КЕНИИ, т. л*
Нальчик, 1964, стр. 178—200; О и а же. Сказания о СосрУ
в1964.
иартском эпосе адыгских пародов. Автореферат канд. дисс. I •»
204
5-иг
!
его богатырское детство, бон с Тотрешем, похищение огни
у нпыжа, сватовство героя и его гибель.
В сказаниях о Сосруко, в отличие от других героев
адыгского эпоса, находим портретную характеристику
богатыря. Из эпоса мы узнаем, что Сосруко небольшого
роста, иногда даже прихрамывает, что он смуглый,
с усами цвета соломьг, что герой с «железным глазом»
и т. д. Такая детализация внешности героя объясняется,
на наш взгляд, особым вниманием народа к Сосруко.
Рождается Сосруко чудесным образом: во всех версиях
его появление на свет связано с камнем.
Было высказано предположение о том, что сюжет
сказанпя о рождении Сосруко — «древний неолитнческин» 33. По-видимому, это не совсем так.
Исследователь абхазского эпоса Ш. X. Салакам пред­
полагает, что рождение Сосруко из камня олицетворяло
собой «важнейшее значение камня как орудия труда
в эпоху не только неолита, но даже и энеолита» 34.
Конечно, ость основания усматривать в эпосе отраже­
ние «культа большого камня». Вместе с тем, надо полагать,
здесь налицо более сложный процесс: трудно представить
себе, чтобы в эпоху неолита художественное мышление
людей могло быть столь высокоразвитым. Сложная
структура образа Сосруко обращает наше внимание на
следующий факт. Сосруко достают из камня. Ом еще
«руда». Его закаляет Тлепш, и он становится «железным».
На протяжении всего эпоса его сопровождают эпитеты:
«железный муж», «железноглазый» и т. д. Кроме того,
сУДьба Сосруко постоянно связана с Тлепшем — покро­
вителем железа и кузнечного ремесла. Тлепш закаляет
младенца, выковывает ему богатырскую саблю и т. д.
Все это, вместе взяСосруко похищает у великана огонь.
образ Сосруко
тое, дает нам осиовапие заключить, что
считает
Ж. Дюмо­
не связан с солярной мифологией, как
зпль35.
огня и металла.
Вероятнее всего, Сосруко — символ
закалка (после которой он,
И рождение его из камня, н
рп
1о
М. Мелетинекпй. Место нартских сказаний в нстоэпоса.—Со. «Нартскнй эпос. Материалы совещания
34 т°ктября 1956 г.». Орджоникидзе, 1967, стр. 53.
ИГ. X. С а л а к а я. Абхазский народный героический эпос.
»
Жсоч., стр. .М-105.
205
)
как известно, становится «железным»), л похищение огни
наконец, его гибель от жан-шерха («жап-шерх» бук*
вально «железное колесо»)—все это с большой очевидностыо говорит в пользу такой трактовки этого образа.
Мы не можем согласиться с попытками соотнести
Сосруко с архаическим «культурным героем» первобыт­
ных мпфов36. Сосруко — герой целого племени, его орга­
низующее начало, его сила, опыт, пример его отваги и
геройства. Ни в одном сюжете адыгского эпоса с такой
ясностью и прямотой пе проявляется деятельность героя
для рода-племени, как в сказании о похищении Сосруко
огня. В этом сказании —весь узел действий героя, и
центральным моментом всего цикла является именно это
сказание, имеющее исключительное общественное и пдейное значение.
Сюжет сказания о похищеппи огня таков.
Нарты отправляются в поход. В пути их застает пурга.
Нарты мерзнут. Мороз крепчает. Они гибнут. Спраши­
вают друг у друга: есть ли у кого огонь? Все поочередно
отвечают, что огня нет. Наступают самые тяжелые ми­
нуты. Воинственные иарты теряют надежду па спасение.
И вот появляется Сосруко. Стрелой он сбивает
звезду
с иеоа. Но она согревает нартов
недолго. Нужен земной,
вечный огонь.
Сосруко обещает
принести
его н отправляется в путь.
Заметив вдалп дымок,
он
Тхожея. За стенами
направляет туда своего коня
великан. Он спит, огромной крепости у костра лежит
выхватывает из огня а в середине горит огонь. Сосруко
Но вдруг великан горящую головшо и скачет к нартам,
вал головню из просыпается: когда Сосруко
выхватыогня, отскочивший от
уголек попал
горящего
полена
рлвает всю в ухо великана. Не сходя с места, он обшавеликан ю округу и ловит Сосруко. Подтащив его к себе,
его нзлюбленГГн^ы?1"0 Ш1 Р°Д0М’ 31ШеТ лн С°С])УК°
усложняянх?г <кя»Т’ ЧТ° Знает’ 11 задает великану игры,
нни Соспуко нт„<ДЫМ раз0М- После нескольких испытап.море. Сосруко насылаТт'?””1010 ИГРУ' Великаи входит
Великан должен выйти ш мГя°и », ^ сковьшает море<
__
м°ря и вынести па плечах весь
зс
Е. М.
эпоса. М., 1963, стрЛ1°70 п др К "
Происхождение героического
206
лед. Когда Сосруко видит, что великану под силу это нспытай не, ои посылает еще более сильный мороз. Теперь
великан ие в силах что-либо сделать.
Сосруко пытается своим мечом отсечь голову великана,
но оезрезультатно: только меч зазубрился. Только теперь
великан узнает (по его «кривым стальным ногам»), что
перед ним Сосруко.
Великан идет па хитрость — ои советует Сосруко при­
везти его великанский меч. Только он может сиостп его
голову. У великана меч-самобой, и ои надеется, что, когда
Сосруко прикоснется к нему, меч-самобой убьет его.
Но предупрежденный своим конем о хитрости великана,
Сосруко достает меч-самобой и сносит голову чудовищу.
После этого герой возвращается к нартам с горящей го­
лов И 011.
До сих пор никто из исследователей нс обратил вни­
мания на своеобразный «аитеевский» мотив в этом
сказании. А ои здесь наличествует. Сосруко велит вели­
кану стоять в море так, чтобы он нс касался ногой мор­
ского дна, тем самым он хочет обессилить его. Если бьг
великан коснулся дна — земли, Сосруко не смог бы одо­
леть его.
Все эти мотивы приводят нас к мысли, что в образе
Сосруко мы имеем древнейший образец типизации, когда
мифологические элементы самым чудесным образом пере­
плетаются с реалистическими элементами обрисовки
героя; синтез этих двух начал создает образ героя.
Смелость, доходящая до отчаяния, умение быстро ориен­
тироваться в самых сложных обстоятельствах, небывалая
сноровка, исключительное богатырское чутье, хитрость
вот основные качества богатыря. И все это, естественно,
не могло не вызвать особой любви к Сосруко, так как эти
качества по существу являлись народными.
Значительное место в цикле отведено борьбе Сосруко
против самих нартов. До настоящего времени исследова­
телям не удалось выяснить побудительные причины этого
конфликта. Но одно можно считать несомненным: парты
пе считают Сосруко «своим». Это особенно наглядно оонаружпвается в абхазской и адыгской версиях. В адыгском
эпосе парты презрительно называют Сосруко «пастушьим
сыном». Здесь явственно звучат социальные мотивы.
Характерно, что борьба Сосруко с нартами начинается
еще в пору его младенчества.
207
)
1
У мартов был обычай убивать стариков. Но достиже­
нии 00 лет нарту-старику устраивали «последний пир».
Он мог вдоволь поесть и выпить. После пира его сажали
в корзину из хвороста и скатывали с обрыва. Подобный
обычай засвидетельствован у скифов.
«У скифов был обычай, — пишет Гай Хирпи Фортунатион, — спускать шестидесятилетпнх с моста. Одни
скиф в Афинах сбросил шестндесятилстисго отца с моста
и обвинен в отцеубийстве. Он говорит, что сделал ото по
обычаю своего племени» 37.
Естественно, что убийство стариков происходило не
от отсутствия любви и уважения к старшему по кол онню, а вследствие тяжелых условий жизни, когда истреб­
ление нетрудоспособных членов общества было необходи­
мостью.
Одно из адыгских сказаний так и начинается:^«У кар­
тов был обычай убивать стариков». Речь идет об Уазырмесе. Нарты вызывают его на «последний пир». Уазырмес
отправляется на свой предсмертпый пир с поникшей го­
ловой. Нет у него заступника — он бездетен. Но мудрая
Сатаней успокаивает его. Она велит ему идти на «послед­
ний ппр», но советует не торопиться выпить предсмертную
чашу. К концу пира Уазырмес, потеряв всякую надежду,
допивает последний глоток. И тут появляется Сосруко.
Он раскидывает нартов, швыряет через окно Уазырмеса
со словами: «А ты, старик, ступай домой!», выпивает все
нартское вино и возвращается к своей матери Сатаней.
После этого случая, заключает сказание, нарты не стали
убивать стариков.
В тематическом узле борьбы Сосруко с партами не­
маловажное место занимает его бой с Тотрешем. Если
конфликт Сосруко с нартами в прнведепном выше
сказаппи по-своему обоснован и объяснен, то этого нельзя
усмотреть в сказании о бое с Тотрешем. Высказывались
ЧТ0 ЗДесь мы 1шеем Дело с традиционной
Нп пЗ1 п <<ПерВ0Г0 Шлезда>>
«поисков славы».
ИР Д 11 суть дела заключается только в этом.
кие гоптпгеДСлТаВЛЯеТСЯ’ ЧТ0 у этого оказания более глуболинии. Р , °тя оно и варьирует известные сюжетные
37 В. В. Лат ы ш е в. Известия древних
п Кавказе. — ВДИ, 1949, № 3, стр. 991.
Соеруко выезжает па поиски добычи. Осматривая
островки, лиманы, поля и долины Таманыке, он замечает
вдали какого-то могучего парта и, желая померяться
с ним силон, пытается догнать его, по не может. Окли­
кает, но тот не слышит. Пройдя полдневный путь, пезиакомын нарт, оглянувшись, замечает Сосруко. Он оклик­
нул — Сосруко услыхал. Бросился вдогонку — нагнал.
Копьем сбросил с копя Сосруко наземь, так что тот пле­
чом вспахал столько, сколько восемь волов, запряженных
в соху, не могут вспахать...
Посрамленный Сосруко возвращается домой и расска­
зывает своей матери Сатаней о том, что с ним случилось.
Сатаней узнает итого могучего парта — это сын се сестры
Тотрепг, сын Альбека. Сатаней снаряжает сына на поеди­
нок: она обвешивает его копя множеством колокольчи­
ков. Сосруко выезжает па место поединка и, наслав туман,
незаметно подъезжает к кургану — месту состязания.
Испуганный звоном колокольчиков, копь Тотреша бро­
сается в сторону. В ярости Тотрсш разрывает ему че­
люсть. .. Как только ои оказывается без боевого коня,
Сосруко налетает на своего соперника и ударом меча
отсекает ему голову.
Итак, двоюродные братья устраивают поединок. Во имя
чего? Вероятно, их столкновение вызвано важными при­
чинами.
Несколько вариантов сказания о бое Сосруко с Тотрешем подчеркивают причину ссоры богатырен: сестра
Брамбух постоянно оскорбляла Сатаней. При каждой
встрече сестра бросала в лицо Сатаней: «Не имея мужа,
сыпа родила». Этот конфликт сестер имеет, на паш взгляд,
немаловажное значение.
Только в этом сказании мы узнаем о существовании
У Сатапей сестры. Во всех других сказаниях о сестре
никогда не упоминается. А само сказание о Тотреше вкли­
нивается в нартскнй эпос как бы самостоятельным звеном.
Это положение наводит на мысль, что оно продукт
°олее позднего времени — эпохи зрелого патриархата, как
справедливо заметил Е. М. Мелетинскин:
«Этот сюжет относительно поздний, и оценка в нем
дослана большей частью отрицательная, потому что герои
Действует не силой, а магией и хитростью. Сослан фак­
тически терпит поражение и все-такп убивает^благородно
11 сильного Тотрадза, испугав' его коня бубенцами
гг
писателей о Скифии
20д
)
14 Заказ № 1480
209
волчьей шкурой плп особым талисманом, данным ему
Сатаней. Нартская героиня здесь же выступает в роли
/гл
(Соколдуньи — матери злого, трусливого Сослана
сруко)»38.
Тотреш — типичный представитель «битвы и славы
идущего богатыря» патриархального строя. Не зря же он
говорит Сосруко: «Если ты мужчина, давай биться на
остром колесе!»
Обращаясь к своему испуганному коню, он произносит:
Во леем адыгском он осе главные средства борьбы Сосруко — находчивость, смекалка, хитрость. Известно, что
и Сатаней нередко обращается к средствам магии. В древ­
ние времена для борьбы и победы все средства призна­
вались допустимыми п вполне «нравственными».
При анализе сказания о бое Сосруко с Тотрешем заслужнвает внимания следующий момент. Здесь дважды
встречается изречение:
Из нашего рода сегодня но убивают,
А если кто убьет, тому нс прощается.
Пусть съедят тебя собаки,
Хочешь к женщинам отнести меня?
или:
Чего испугался, кляча? Бабьих хитростей?
Совершеино контрастно всему этому «тотрешевскому
духу» отношение Сосруко к Сатаней. Он говорит ей:
Моя мать, Сатаней,
Ты — лучше всех гуаш,
Твои лик — сиянье солнца,
Подол твой — золотой.
(Надо заметить, что такое уважительное отношение к Са­
таней не вьтдержапо в сказании от начала до конца.)
При первой встрече с Тотрешем Сосруко терпит пора­
жение, и лишь после совета с матерью он, исполняя ее
указания, побеждает своего противника. Как и в сказании
о похищении огпя, Сосруко одерживает победу нс силой,
а хитростью и магией. Дает ли это основание упрекать
его в богатырской нечестности?
Разумеется, если подходить к поступкам Сосруко
с точки зрения более поздних времен, то он вполне за­
служивает такого осуждения. Но при оценке нравствен­
ных качеств героя далекого прошлого важна сумма сла­
гаемых, важно понять, при каких условиях мог возникнуть
данный конкретный сюжет или образ. Нс выяснив причин,
о у словивших появление в фрльклоре тех или иных идей,
столкновение этих идей, невозможно сделать и правиль­
ные научные выводы.
38
эпоса. с'т|)Л82-Ч83Л ° Т " " с К1‘ “•
Первый раз его произносит Сосруко, когда к нему
с мечом в руке подступает Тотреш. Второй раз при подобных же обстоятельствах его произносит Тотреш. Что
означают эти слова?
Вероятно, в иартском обществе существовал обычай
«побранных дней», известный среди гуннов: в «побранный
день» даже царь не мог повелевать своим войском.
В сказании о бое Сосруко с Тотрешем наличествуют и
другие весьма интересные детали, мимо которых не может
пройти исследователь. Вероятно, для усиления драмати­
ческой коллизии всего сказания в пего вводятся генеало­
гические элементы (например, объясняется, что Брамбух — младшая (именно младшая) сестра Сатаней).
Эта параллель подчеркивается, переносится и на конец
Сосруко и Тотреша (оказывается, конь Сосруко Тхожей и
беломордый конь Тотреша происходят от одной кобылы).
Посредством этого приема усиливается эмоциональная
выразительность сказания.
Значительное место в цикле Сосруко занимает сказа­
ние о его женитьбе. Мы согласны с В. Я. Проппом, ко­
торый подчеркивает, что тема «поисков жены» одна из
Древнейших в героическом эпосе39.
Н нашем распоряжении имеется целый ряд самостоятельиых сказаний, повествующих о женитьбе Сосруко
(«Женитьба Сосруко на дочери Тлепша», «Женитьба
СосРУко па Бадах» и т. д.). На наш взгляд, наноолее
Устойчивым является сказание «Женитьба С°сруко иа
аДах, дочери Джнлахстапа». В нем, кроме центре.
Происхождение героического
39
210
В. я. п р о п п. Русский героический эпос. М., 1959, стр. 42.
211
14*
героя Сосруко, участвуют и другие богатыри — Вадыноко,
Джилахстаи, Батраз и др.
В крепости своего отца Джплахстана живет красавица
Бадах. Когда-то Джилахстаи обещал герою выдать свою
дочь за него, но потом раздумал. Сосруко решает силон
отобрать или похитить красавицу. Он штурмует крепость,
но безуспешно. Тогда Сосруко притворяется .мертвым.
Джилахстаи посылает своих людей (видимо, ото слуги)
к трупу Сосруко — велит просверлить ему пятки и до­
стать костный мозг. Джилахстаи нюхает мозг Сосруко и
определяет, что Сосруко жив. Проходит еще несколько
дней. Сосруко продолжает лежать. По настоянию людей
(особенно дочери), Джилахстаи, который не верит
в смерть Сосруко, выезжает из крепости, чтобы самому
убедиться, что тот мертв. При его приближении герой
вскакивает и ударом меча ранит Джплахстана п голову.
Сосруко влетает в крепость, забирает красавицу Бадах
и скачет к себе домой, а Джилахстаи едет к кузне­
цу Тлепшу, который накладывает медные латы на его
рану.
Вряд ли прав Ж. Дюмезнль, когда, анализируя ска­
зание о бое Сосруко с Тотрешем, выделяет в образе
герои черты «умирающего и воскресающего бога». Скорее
всего, это в сказании налицо своеобразная военная хит­
рость героя.
Мы уже говорили о том, что в сказан пи о чудесном
рождении Сосруко всегда подчеркивается, что во время
«закалки» его колени (по некоторым вариантам — бедра),
за которые Тлепш держал младенца щипцами, остались
незакаленными.
Таким образом,
уязвимое место: этот в неуязвимом теле Сосруко есть
«ахилло-зигфрндовекпй» мотив присутствует во всех
вариантах
сказания о гибели героя,
Как видим, цикл Сосруко начинается
мотивом «уязвимого
места» и завершается гибелью героя от жаи-шерха, кото­
рое перерезает «уязвимое место» — колени Этот мотив
становится своеобразной рамкой всего цикла.
Босруко отправляется в путь. Сатаней предупреждает
ияттто П^ТИ ПИчего 110 поднимать с земли. Но Сосруко
СТ паказ матеРн и поднимает золотой шлем (в иесказаниях - сумочку или плеть). После этого
и° Г,Г“ВаеТ Тхожею 0 «оем «уязвимом месте»
и трео^ет такого же признания
от коня. Признается и
2/2
копь. Золотой шлем (и пего обратилась колдунья, чтобы
выведать тайну Сосруко) слетает с головы героя. Она
сообщает нартам об «уязвимом месте» Сосруко. Сосруко
подъезжает к Харама-Горе, где вступает в спор с пар­
тами: парты скатывают с горы жан-шерх, Сосруко, ударяя его то рукой, то лбом, возвращает жан-шерх на
вершину. Нарты требуют, чтобы Сосруко ударил жаншерх коленом. Сосруко бьет, и колесо перерезает его колепи . К умирающему герою слетаются птицы, сходятся
звери. Одним он оставляет добрые пожелания, другим
(тем, кто желает пенить его кровь) посылает проклятья.
Сосруко умирает. В некоторых вариантах его закапываюг живым.
Во всех адыгских вариантах сказания о гибели Сосруко
стабилен кульминационный пункт — разговор героя со
тайна
своим конем Тхожеем, в котором раскрывается
его
коня,
«уязвимого места» как самого героя, так и
с
такой
Ни в одном цикле «культ коня» не выступает
силой и определенностью, как в этом. Сосруко и его конь
Тхожей воспитываются я растут вместе. Тхожей, еще со­
сунком, на заре приходит к Сосруко и ложится около две­
рей его землянки. Конь в этом цикле (как и во всем
адыгском эпосе) играет немаловажную роль. Он наделен
Даром речи. В трудную минуту нарты всегда советуются
со своими конями. Например, когда Сосруко подступает
к великану, чтобы похитить огонь, Тхожей подсказывает
ему, как лучше неслышно пробраться к огню. А когда
Сосруко отказывается рассказать своей матери Сатаней
° причине своей печали, то последняя отправляется
к Тхожего и узнает, что произошло. Культ коня на­
столько силен в этом цикле, что прямо утверждается
мысль о своеобразном параллелизме оорпсовки героя^ и
его копя: Тотреш побежден потому, что он остался оез
копя. Сосруко гибнет потому, что не послушал своего
Жизнь Сосруко обрывается вместе с жизнью Тхокопя.
Жея. Как видим, у иартов исключительная любовь к лоЩади.
Во всех национальных вариантах партского эпоса
и гибели
совпадает описание борьбы Сосруко с нартами
героя от острого железного колеса жан-шерх.
Как мы уже говорили, чрезвычайно трудно установить
причину неприязни иартов к Сосруко п того конфликта,
который приводит к гибели героя. Странным кажется то
2/3
положение, что Сосруко погибает не н борьбе с велика- '
нами или другими носителями ала, а от руки партой.
Здесь следует обратить внимание на те социальные мо­
тивы, которые явственно обнаруживаются в цикле Сосруко. Нарты часто называют его «пастушьим сыном»;
нередко они бросают ему в лицо: «Мы не знаем, от кого
ты рожден». Если в первом случае ясна социальная по­
доплека, то во втором подтверждается мысль о столкновеII ПН в цикле Сосруко двух противостоящих
начал —
матриархального н патриархального. Вполне очепидно,
что социальное наслоение является более поздним.
Второй наиболее значительный герой адыгского
эпоса — нарт Бадыиоко (Бэдынокъуэ, Щэбытыныкъу).
Он рожден и воспитан безвестно]"! жеищиной-богатыршей,
которая громит чинтов — врагов нартов, но в то же время
. именуется «грозой нартов». Об отце Бадыиоко говорится
очень кратко.
Нарт Бадыиокотипичный представитель патриар­
хального уклада в партском обществе. Он прежде всего —
рыцарь «без страха и упрека», аскет, воин. Его рыцар­
ский кодекс выражен отчетливо и бескомпромиссно п сле­
дующих словах:
Никогда я не стремился
К угощениям богатым,
К песнопениям веселым.
К наслаждениям любовным
Не шатаюсь по лагунам40,
К юным женам н девицам
В гости я не приезжаю,
Презираю их утехи,
А доспехи боевые
Я надел для Дел высоких.
В цикле Бадыноко
сказанием являетсяцентральным, эпически завершенным
пшннатль о нем — большая поэма,
которая почти
всегда имеет стихотворно-песепыую формуВ этой
поэме с наибольшей художественной полнотой
раскрывается образ Бадыноко. Мы узнаем, что Бады­
ноко — «одинокий наездник», что этот исполни в кольчуге
«был душой для нартов и грозой для чинтов».
40 «Лагуна» — Женская
половина дома.
214
Бадыиоко — олицетворение мужества и отваги. Но
он — герой-одиночка, отг никогда не принимает участия
в нартских походах. Он появляется неожиданно в разгар
сражении и приводит врага в трепет. Все сказания и
поэтические формулы, связанные с именем Бадыиоко,
говорят о том периоде, когда па смену теме «богатырского
племени» пришла, по-видимому, тема обособленно ИЗО*
сражаемого героя.
Бадыиоко как бы противопоставлен всему «коллективному духу» наргского эпоса. Это подчеркивается прежде
всего в описании его приезда иа хасу картов.
При встрече с Сатаней Бадыиоко стойко противостоит
женскому соблазну Сатаней, которая, пытаясь прельстить
богатыря, обнажает поочередно то белоснежную шею, то
белоснежные груди. Нарт Бадыиоко решительпо отвечает
Сатаной: «Никогда не почую я в гостях у красавиц».
Здесь завязывается первый узел столкновения героя
с нартской средой и с нартской моралью.
Но здесь есть и штос, подспудное начало: так же как
в «Гильгамешс» блудница Шамхат срывает с себя одежду,
показывая красоту своего тела Эикнду, чтобы у послед­
него «ослабели мышцы, остановились ноги», так и внартском эпосе поступает Сатаней, чтобы лишить Бадыиоко
силы, боясь, что он в единоборстве одолеет се сына
Сосруко.
Вместе с тем здесь можно уловить также отзвуки
столкновения противоположных жизненных устоев
матриархальных и патриархальных. Можно сказать, что
окончательному формированию циклов адыгского эпоса
способствовали те общественные идеи патриархата, кото­
рые, войдя в конфликт с матриархальным укладом жизни
нартов, в конечном итоге и породили некоторые сюжеты
11 Драматизм всего эпоса в целом.
„ ..
Забегая вперед, отметим, что этот конфликт с осооои
силой отмечается в сказаниях об Адшох.
Адшох — светлорукая красавица. Когда ее муж Пса­
быда темной почыо пригонял табуны коней, Адшох про­
тягивала в окно свои руки, льющие свет, и темная ночь
превращалась в светлый день. Но Псабыда пе оценил
этого. Однажды огг расхвастался я сказал Адпюх, что не
нуждается в ее помощи. Обиделась Адшох, и, когда воз
вращался ее муж из набега в глухую ночь, она не протя­
нула своих рук из окон башни. Псабыда, не находя брода,
215
вместе с табуном погиб п бурной Кубани. Ото поэтическое
сказание —олицетворение чудодейственных женских рук,
женского труда. Но и здесь, в этом высокоиоэтичсском
сказании, ощутимы мотивы борьбы разных исторических
общественных сил — матриархата с патриархатом.
Свою богатырскую удаль Бадыпоко с особой сплои де­
монстрирует па хасе мартов. Прибыв на нартское санопнтне, он взмахнул плетыо так, что качнулся старинный
дом, пошатнулся потолок, на пол чаши упали, тот, кто
шит, — захлебнулся, кто сидел, — встал и испуге, а кто
стоял, — пустился прочь. А потом,
состязаясь в пляске
с нартами, он вскочил
и пустился в веселый на треногий круглый столик (аиа)
пляс, нс пролив даже капли прпправы. После
пляски
Батраза
и Соеру ко Бадыпоко
зывает невозможное: он вонзает
покасвой
в землю и на лезвии его пляшет на носках. меч рукоятыо
Во всех состязаниях явное
Бадыпоко. И это не случайно: препмущество па стороне
здесь разворачивается второй узел конфликтов
между отдельно взятой лнчпостыо н
партами.
Становление личности, поступки
героя находят свое яркое выражениеи деяния отдельного
в образе Бадыноко,
который идеализируется во всю
подавления Бадыпоко и Сосруко мощь. Прием нротивотельное мужество, героизм
подчеркивает исключнцикла Бадыпоко выступает первого. На протяжении всего
Сосруко, которого
он превосходит в нартских соперником
л
которых сказапиях Бадыпокоиграх и в состязаниях. В не­
сподвижником Сосруко.
выступает верным другом и
Выезд героя в
поход описывается
весьма стабильно:
Справа — борзые,
Сверху — большие слева — борзые,
С шеей змеиной —реют орлы.
конь сухопарый, „
Пики удары — грозам
сродпиг.
Всадник' несется
Пинты в Испуге,в светлой кольчуге, —
чппты п тоске!41
Этот зацев
чавостью. захватывает слушателя
эпоса эпической вели41 «Нарты. КабарД1ШсК)1Й
ЭП0С»- М„ 1951> стр. 136—140.
216
Одни из первых исследователей адыгского эпоса,
М. Б. Талпа, высказал предположение о том, что «... Бадылоко — образ какого-то ассимилированного нартами
завоевателя, пришедшего с юга, из-за гор». Й, наконец,
в Бадыпоко ощутимы слабые и глухие остатки мифов
о богс-громовике, о забытых культах молнии, некогда
сильно и до последнего времени уцелевших в Черкесии
(божество Шпблс).
На наш взгляд, М. Е. Талпа не прав. Он нс учитывает
основную черту этого богатыря, подчеркиваемую постоян­
ным эпитетом Бадыпоко «гроза чинтов». Мы полагаем,
в этом постоянном определении Бадыпоко отражено глав­
ное в его образе — борьба против чинтов, т. е. коренных
жителей Синдики.
Возможно, что в цикле Бадыноко в художественной
форме отразились отзвуки консолидации древпеадыгских племен в единый этнический массив, которая проис­
ходила далеко не мирным путем. Образ Бадыпоко —
художественный образ покорителя и объединителя
чннтекпх (синдских) родов. Что же касается мифо­
логических наслоений, то в образе Бадыноко они отсут­
ствуют.
Бадыноко — суровый вопи, аскет. На протяжении сто­
летий этот герой был для адыгов образцохм мужества,
честности и прямоты. Не случайно, видимо, все сказания
° Бадыноко повествуют о его героических деяниях; в них
почти пет семейно-бытовых мотивов. Это отличает Бады­
ноко от других богатырей адыгского эпоса.
Следующий значительный герой адыгского эпоса —
,1аРт Батраз.
Б цикле Батраза обращает па себя внимание то обс Жительство, что мать его происходит из племени карли
новых людей. Больше ничего мы о ней не знаем. Но зато
хорошо известен его отец. Весь цикл в адыгском эпосе
(пак и у осетин) называется: «Сказания о Батразе
сыие Хымыша». Таким образом, уже здесь ооиаруживается полная победа отцовской линии родсгва над матеРиаской. Это лишний раз свидетельствует о том, что
образ Батраза вошел в адыгский эпос при развитом
патриархате.
Такой вывод подкрепляется еще и тем, что основной
ноифлмкт в сказаниях о Батразе - кровная месть за уон217
того нартами отца Хымыша. Батраз
еще и утробе матери
рвется к мести. В адыгском шшшатле
поется;
Ери, ей Батраз, сын Хымыша,
Батраз, одинокий юиоша,
У него одна боль сердца,
Батраз, п чьем сердце —
Боль ста сердец.
Еще находясь в утробе матери,
Он мстит за кровь отца.
Здесь,^как видим, нашел свое отражение одни из пагуб­
ных ооычаев патриархальной формации — кровная месть.
Адыгский Батраз — вне круга мифологических моти­
вов, которые широко известны осетинскому эпосу. Зато
все его «земные» дела хорошо известны адыгскому эпосу,
где сказания оо этом герое нередко имеют явно сказочныц характер. Сказочным является п тот тростниковый
сундук, куда кладут младенца Батраза и бросают в море
! ,ГРего нах°Аят нартскис табунщики). Сказочен и
г™, Тра30М легепДаРНОго коня Дуль-Дуля. Все эти
с имопплт тД)аА11ЦИ011ЯЫС Для сказок Востока, связаны
жественш
а«а' Сказоч,шм 11 1,0 сюжету и по худоЗдесь солотк! обеи,юстям является и сказание об Оно.
зошюго1Рсп ГЯ 11 тР»даЦИ01#аи мотив
литрового скаиспытать его
Условия жениху,
чтобы
сказания.
^1,'е ковер-самолет присутствует
в этом
Ряд тДЛ1ожето°вСек<;"МеНеМ Батраза Устойчиво связан
с нартами иад каш’пй я М6СТЬ 33 отца п СП0Р Батраза
является сказанпр
оелог° °ано. Весьма самобытным
лелей в других , в|1*„иерть БатРаза», не имеющее паралв «ДиС,
1 пеРс,|пх ...ртсиого эпоса,
ского, отсутствует ЧТ1ЯХ1 Батразе, в отличие от осетинчайное, если учесть г,теШрая Сатаней. Явление необыучастие в судьбе почт,,0 ^ат2ней принимает активное
Возможно, что отсутствий 00гатыРей нартского эпоса,
ясняется и относительно плСатаней в Цикле Батраза объекпй эпос.
еЛьно Ц03Дипм его вхождением
вп|?®се ото вместе
в адыгнаблюдения Ш
взятое подтверждает справедливость
X. Салакая о том, что «многие сюжеты
относительно
более позднего происхождения, особенно из
218
цикла Батраза, п адыгском и абхазском эпосе заимство­
ваны уже из осетинского (вернее, из сармато-алан­
ского)»'12. Здесь налицо явление взаимообмена эпичесними героями. Восприняв — если можио так выра­
зиться— Батраза из осетинского эпоса, адыгский эпос вос­
принял его не полностью. Одни сюжеты и мотивы, сохра­
нив осетинскую основу, стали органической частью адыг­
ского эпоса. Другие осетинские сюжеты о Батразс не
вошли в адыгский эпос. Возможно, адыгская эпическая
культура не восприняла те «батразовскио сюжеты», где
герой ведет борьбу против христианских божеств и аиголов.
Вероятно, образ Батраза вошел в адыгский эпос в ту
пору, когда адыпг подверглись некоторой христианизации
со стороны Византии. Это в свою очередь помешало
стабильности батразовских мотивов па адыгской почве.
Кроме того, следует отметить, что некоторые важнейшие
мотивы цикла Батраза (рождение героя, закалка и т. д.)
были уже разработаны в адыгском эпосе применительно
к Сосруко — центральному герою адыгского эпоса.
Таким образом, адыгский языческий эпос не сладил
с христианскими элементами. В результате этого в цикле
о Батразс образовался вакуум, он был заполнен «заготоввами» из восточных сказочпых сюжетов со внесением
я них элементов героического характера.
В свою очередь осетинский цикл Батраза использовал
мотивы и сюжеты, устойчиво связанные в абхазо-адыг­
ском эпосе с именем Сосруко (чудесная закалка и «уязви­
мое место в неуязвимом теле» героя). Произошел своеооразный обмен между осетинской и адыгской версиями
нартского эпоса.
Суммируя сказанное, мы можем заключить, что адыг­
ский цикл сказаний о Батразс лишен мифологического
акцепта, местами сказочен, тогда как его осетинский про­
тотип имеет зримую мифологическую подоснову .
В силу всех этих обстоятельств Батраз, хотя ему и
посвящен самостоятельный цикл в адыгском эпосе, не мог
стать в нем ведущим героем. Этого не случилось еще и
потому, что в адыгском эпосе уже был могучий, неповто­
римо своеобразный нарт Сосруко.
42 Ш. X. С а л а к а я. Указ, соч., стр. 70.
43 Ср. О. Б и т с г 11, Указ. сочм стр. 179-189; В. Абаев,
Указ. С0Ч-, стр. (>2—(53.
219
Стороннпкп адыгского происхождения ЭТОГО
таются вывести этимологию имени Батраза из ГеРОЯ ПЫязыка44. Более вероятен факт его алайского адыгского
ждения (Батыр асский), что убедительно происхоДоказал
В. И. Абаев45.
Цикл об Ашамезе представлен в адыгском
сколькими сказаниями,, где говорится о том, эпосе ис­
кан юный
герой отомстил за смерть своего
отца, проявив себя иастоящим богатырсм-нартом.
Однажды во время игры в «альчпки»
он узнает от
«маленького плешпвца», Куйцука
что
его
отец коварно
убит. Ашамез приходит домой и,
притворившись
(по совету Куйцука) больным,
просит
у
матери
жареного
ячменя. Когда она,
нпчего не подозревая, подносит жареные
•зерна, он сжимает ладони матери и не отпускает до тех
нор, пока она не назовет убийцу его отца. Не выдержав
золи, мать говорит сыну, что его отца убил злодей Тлсоыца. Узнав имя кровника, Ашамез
нравляется мстить за кровь
снаряжается и отстца. Поело жестокого
поед.шка Ашамез убивает Тлебыцу.
Следует °™стпть, что в адыгском Ашамезе не обиару(ТттгпгтСЯ атРп^уты «Умирающего и воскресающего» мпфологического оожества, черты которого
°0ра3е осетш,ского Ацаыаза. исследователи паГс сго Р°ЖДення и спартанского Образ Ашамеза,
1 ывается в реалистическом плане.
воспитания, рассыне Шип Г!тт,Т6 М° ГТ0СВЯЩсны и сказания о Шаусс,
исследователи Д11нстве1Шом сыне Иарибгей. Некоторые
героической борьбы, в непрерывности и иарастапип этой
борьбы, посредством которой Шауей добивается призна­
ния его принадлежности к роду мартов. Чтобы достигнуть
своей цели, ему приходится постоянно состязаться с име­
нитыми партами (на скачках, на охоте, во время дальних
походов и т. д.).
Эпически убедительно повествуется о его рождении и
воспитании. В сказании говорится о том, что Канж соста­
рился бездетным. Он не знал, что его жена Иарибгей ро­
дила девятерых сыновей, но все они сгорели в огне.
Всякий раз, когда наступали роды, она ложилась перед
пылающим очагом, и ребенок падал прямо в огонь. Когда
младенец метался и кричал, погибая в пламени, Иарибгей
говорила: «Этот не достоин быть моим сыном, он горит
в огне».
Не сгорел лишь десятый сын — Шауей. Сатаней отно­
сит младенца па вершины Эльбруса. Став юношей,
Шауей, как и другие иартские герои, ищет себе подходя­
щего коня. А потом — походы, состязания, поиски не­
весты.
Весь сюжетный ход в сказаниях о Шауее героический.
Только в сказании о поисках жены присутствует сказоч­
ный налет. Но и здесь сквозное действие пронизано ге­
роическим пафосом.
Сюжет этого сказания таков. Шауей встречает в пути
всадника, который ищет хитрого нарта по имени Шауей.
Скрыв свое имя, Шауей приглашает его в свой дом.
Здесь, в кунацкой Канжа, гость п неузнанный им Шауей
(он переоделся) состязаются в еде. Одновременно состя­
заются и их кони — кто больше съест стогов сепа. Потом
они отправляются в поход, чтобы испытать друг друга.
После ряда героических дел и испытаний ошг оказываются достойными друг друга. Гость оказывается девуш­
кой, и Шауей женится иа ней.
В сказаниях о Шауее сильны социальные мотивы: не­
редко подчеркивается, что отг всегда одет бедно, конь его
выглядит клячей. Спесивые парты не упускают случая
поиздеваться над ним. Но всегда побеждает Шауей.
Говоря об одном из старейших нартов, Уазырмесе
(в некоторых вариантах его зовую Уазырмедж), пеоохоДимо обратить особое внимание на сказание «Как Уазырмес спас нартов от голода». Мы считаем, что это сказание
вошло в адыгский эпос сравнительно поздно, а оораз
Не отрицая п
° Лем мсключитолыю сказочными,
о Шауее, ми ип ^ТСТВ1ГЯ точных элементов в цикле
можем не обратить внимания на тот
«иартский стержень»,
определяющим. Во который является в конечном итоге
или его отец Канж многих нартских- сказаниях Шауей
не только
весьма важную
присутствуют, тго и играют
в том эпическом роль. Но главное даже не это. Главное
„ о Шауее. Этот
заряде, который несут в себе
сказания
эпический заряд выражаете
я в постоянстве
Л. М. Г а д а г а т л ь. Героический
негше. Краснодар, 1967, стр. 204—206.
45 В. АТ» а е в. О собственных именах01X00 «Нарты» и ого геСо. «Язык и мышление», V. М.—Л., 1935.
мартовского эпоса. —
220
I
221
адыгского Уазырмеса возник па почве
языческой Поэтцческой культуры адыгов.
В пользу нашего предположении говорит такой факт:
в осетинских сказаниях об Урызмаго говорится, что он —
сын Хсартага и Дзерассьт, дочери Доибеттра. Сатана —
тоже дочь тон же Дзерассьт. Но отцом ее был небожитель
Уастырджи. Следовательно, по матери Урызмаг
и Са­
тана — брат и сестра. И все же Сатана
вы ходит замуж за
Урызмага46.
В отличие от осетинского эпоса, в адыгском пет даже
намека на кровпо-родствеппые брачные отношения Сата­
ней п Уазырмеса. Цикл сказаний об Уазырмесс интересен
тем, что в нем дополняется и расширяется характеристика
Сатаней, данная в других циклах. Так, в одном из сказа­
ний говорится о том, что йены похитили Сатаней, и все
парты во главе с Уазырмесом и иартекпм свинопасом Горгоныжем выступают в поход и вызволяют ее из плена.
В этом сказании подчеркивается исключительная роль
Сатаней среди иартов.
Прозорливость и Лпгтгпллт, п
раскрываются в
особенно ярко
<«««;= ■
..... *иш;ледигш
поход Уазырмеса»
шютнпском — «Последний
балц Урызмага»).
Старый Уазырмес решает перед смертью
последний подвиг. Он заказывает партам лодку
и через
совершить
море отправляется к давнему врагу иартов Ябгашха
Строптивому. Тот берет его в плен и хочет убить.
о Уазырмес уоеждаст Строптивого, что пет смысла уби­
вать старика, дни которого и так сочтены, а лучше
послать двух вестников в Страну партов. Нарты, узнав
о пленении своего старейшины, дадут за
в пятьсот волов. Вестники приезжают
него выкуп
говорят, что Уазырмес находится у нихв вСтрану иартов н
выкупить его за пятьсот волов. Нужно
плену и просит
волов было безрогих, сто рогатых н
только,
чтобы сто
цвета с оельши рогами.
триста — красного
Нарты -не
таией, и она понимают смысла
разъясняет н Л1, л тозтнх слов. Ошг идут к Састо пеших воинов,
сто Рогатых —сто оезропгх волов — это
красных — это триста
сто всадников, триста
меди.
воадннков в
кольчугах из красной
Нарты
Уступают в Поход И
побеждают своего врага,
48 См,:
И. Л б
а°Й’ Яартоссклй
ЭП°с, стр. 36-38.
Как видим, в сказании подчеркивается мудрость Сатаней.
Но и Уазырмес тут не менее важная фигура. Он как бы
говорит, что даже в преклонном возрасте человек должен
бороться до последнего вздоха.
В адыгских сказаниях Уазырмес иногда именуется
тхамадоп нартой. Л о чаще всего так называют Насрена
Длиннобородого (Иасроп-Жакс), роль которого в нартском обществе достаточно высока. Нартского тхамаду
мы встречаем и во время походов, и на поло брани, п при
разборе споров между партами. На саногштлн он подни­
мает первую заздравную чашу, произносит первый и
последний тосты.
В отлично от других героев адыгского эпоса, которые
показаны в становлении (чудесное рождение, богатырское
детство, «первый выезд»), Ыасреи-Жаке выступает виартском эпосе уже седобородым старцем. Так же как Сатаней-Гуаша вечно молода, Пасрси Длиннобородый
вечно стар. Он вошел в эпос стариком и остался вечно
живущим старцем. Его авторитет недосягаем.
С именем Насрена Длиннобородого связаны и некото­
рые версии о прикованном к Ошхамахо (Эльбрусу) ста­
рике. Здесь наглядно выступают богоборческие мотивы.
Мотив ссоры Старика с Тха (богом) в одном сказании
объясняется попыткой Старика проникнуть в «расселииу
между обеими вершинами Ошхамахо — местопребывание
Тха». В другом же сказании говорится о том, что «дерз­
нул Старик свергнуть владычество Тха, и вот отмщение
Тха — вековечные цени, которыми прикован Старик
к камню на белой вершине Ошхамахо».
В адыгском эпосе о партах много эпизодических лиц.
Имыс, Сосым, Арыкшау, Моргуш, Худим, Паиуко и др.
Особое место занимает нартскнй пастух Куйцук. Он вы­
ступает ярым противником иныжей — великанов, кото­
рых всегда одурачивает.
Из женских персонажей наиболее значительные эпосе
Адшох, Бодах, Уорсар. Последняя всегда выступает в роли
всезнающей старухи-прорицательницы, покровительницы
Домашнего очага, благополучия нартского рода. Ее имя
Уор-Сар буквально означает Ты-л-Я (т. с. Уорсар знает
все, что знаем ты и я). С ее образом, вероятно, некогда
был связан культ очага, и она была вторым лицом после
Уна Гуаши — покровительницы домашнего благополучия.
Вполне возможно, что Уорсар, будучи созданием языче-
ггг
I
223
* *
скои культуры древних адыгов, впоследствии стала бочоп
«земной», но псе же продолжала играть и спою первона­
чальную роль покровительницы очага (наряду с Уна
Гуашей). Такое совмещение ролен в нартском эпосе на­
блюдается п в других случаях (наряду с главным богом
кузнечного ремесла Тлепшем в адыгских сказаниях фигу­
рируют и другие кузнецы — Дабеч и Худым).
В сказаниях о женитьбе партекпх богатырей женщины
играют активную роль. Нередко от них зависит успех и
счастье богатыря. В этом плане характерен цикл сказании
о Малечнпх — единственной женщине, которой
эпосе
адыгов посвящен самостоятельный цикл сказаний.в Включение сказаний о Малечнпх в адыгский эпос, несомненно,
произошло очень поздно.
По своей натуре Малечнпх порою строптива, но умна,
кокетлива, но воздержанна, злоречива, но лезла, хитра, но
верна. Малечнпх во всем контрастна по отношению к пар­
там. Нарты — богатыри, великого сложения, а она —
миниатюрна, малышка. Ее вызывают на грубость,
а она
ответит так ласково и находчиво, что грубияну прихо­
дится краснеть. Слишком навязчивых мартов она отва­
живает от себя с тактом и юмором.
Мы полагаем, что образ Малечнпх отразил тот период
разложения первобытно-общинного строя, когда монога­
мия окончательно восторжествовала в семейной жизни.
Видимо, нс случайно все сказания об этой красавице
лосвящены семейно-бытовой тематике. Прежде всего Малечипх — олицетворение идеальной женщины, жены, хо­
зяйки. Она — верная жена; очень бережливая,
находчивая. Малечнпх говорит иносказательно, умная II
нартов ломать голову над смыслом,
заставляя
словах. Так, когда нарты спрашивают, где
ее отец и мать,
заключенным
в ее
па отвечает: «куль с прорехой отец мой пошел наполпт!п’ ДВум 1елам °ыть помехой ушла мать». Это значит:
а мат1Шо°^-1?-УАИТЬСЯ5 чт°бы дом стал полной чашей,
а мать; забросив дела, пошла поболтат
.духё'выдержан
_«иМзржан
весь
вегт.стиль
рт'”— ее- речи в эпосе.
ь к соседке. В этом
А^
Образ Малечнпх уникален; о
в других национальных версиях °н
I не имеет параллелей
нартского эпоса.
Ж
г~>
Г-1------ -
I
|
•*
Подведем итоги. Ко времени создания нартского
эпоса адыги обладали определенной эпической культу­
рой. Ведущим жанром были хохн-гимны, посвященные
различным языческим божествам, в которых по-своему
уже раскрылся поэтический дар предков адыгов.
Судя по всему, уже существовала у адыгов и обряд­
но-ритуальная поэзия. Художественные традиции, вырабо­
танные в «прсднартовском» слое адыгского фольклора,
были использованы при создании адыгской версии нарт­
ского эпоса.
Нартский эпос — один из древнейших в кругу миро­
вых эносов. В нем легко прослеживаются мотивы борьбы
и столкновения сильных матриархальных пережитков
с патриархальными основами жизни. Его центральные
мотивы сформировались в патриархальном обществе, но
в эпосе отразились и более поздние общественные форма­
ции — рабовладельческий строп и элементы феодализма.
В сказаниях о нартах очень часто говорится о матери­
альной стороне жизни — плавке железа, хлебопашестве,
скотоводстве, особенно — коневодстве. Сюжеты сказаний
разворачиваются вокруг жизненно важных, конкретных
тем и конфликтов, которые и составляют основу нарт­
ского эпоса.
Адыгский эпос «Нарты» миогоцнклнчен. Основные
узлы эпоса строятся на мотивах глубокого чувства любви
к родной земле, защиты се от врагов. Нарты ведут борьбу
против ииыжей-великанов, носителей зла, и против чинтов и нспов, часто нападающих на Страну нартов.
Нередки столкновения и между отдельными нартами.
Поиски невесты, воинские походы, испытание мужества
и в связи с этим перенесение всяких трудностей —
весьма характерны для иартских богатырей. Героический
пафос —- лейтмотив всего эпоса.
V/ V
I
224
:
15
Заказ М5 1480
М. Я. Чиковани
НАРТСКИЕ СЮЖЕТЫ В ГРУЗИИ
(параллели и отражения)
I
Данная работа имеет целью ввести в научный обиход
картоведения некоторые материалы грузинского фольк­
лора, представляющие несомненный интерес для сравни­
тельно-исторического осмысления иартского эпоса.
Кавказ — край разнообразных и богатых фольклорных
культур, тесно связанных между собою.
Многие «вековые образы», созданные кавказскими на­
родами, давно уже вышли за национальные рамки и стали
общим достоянием, несмотря на языковые преграды. Глу­
боко содержательные сюжеты и образы, с которыми свя­
заны возвышенные эстетические идеалы, нередко развива­
лись и совершенствовались коллективными творческими
усилиями. Процесс взаимообогащенпя фольклорных тращпи кавказских народов имеет многовековую историю.
* Р*ботег опубликованной в 1958 г., мы аргументиро­
вали научную правомерность общего понятия «кавказскип фольклор» н разъяснили его смысл. Там же были
• прослежены пути распространения одного из популярней­
ших сюжетов, известного в устной словесности кавказских
народов еще с античного периода !. Но число сюжетов,
вошедших в общий фонд, не исчерпывается темп, что
связаны с Амиранп и Дареджаинанами. Аналогичные
примеры дает сюжетика эпоса о партах.
Нартский
будет более эпос имеет сложный состав. Наша мысль
состоит из понятной, если сказать, что эпос о нартах не
произведений одного сюжетного плана. Наиболее характерно
для него, на наш взгляд, приключенческое
1 М. Я. Чиковани. Сюжет Ампрани в фольклоре народов
Кавказа. — «Литературули дзпопбанп», 1958, т. XI, стр. 339—377
(на груз. яз.).
’
’ 1
226
I
1
I
!
:
содержание. В этом случае необходимо определить и само
приключение: оно всегда имеет героический характер.
Изложение героико-приключенческих событии весьма
характерно для стиля нартских сказаний. Своеобразным
подтверждением этой мысли служат характеристики
описываемых действий, встречаемые в самих текстах.
Так, например, в сказании о Хаткоко известный адыгский
сказитель вкладывает в уста своего героя следующие
традиционные слова: «Нужно рассказать приятелям
о своих подвигах, обо всех своих приключениях.. . Иначе
как же мои приятели узнают о том, чего никто из них
не видел?»2
Когда парт узнает о подвигах неизвестного ему бога­
тыря, он, наподобие ' Амиран-Дареджанпдзе у Мосс Хонели, тотчас же решает разыскать неизвестного витязя
и отправляется в путешествие, чтобы побрататься с ним
пли помериться с ним силой.
В этом состоит одна из характерных черт сюжетного
построения иартского эпоса. У разных народов, носителей
эпоса, эта черта не сохранилась в одинаковой мере, но
присутствие ее можно считать непременным. Адыгские
сказания, в которых эта сторона проявляется достаточно
рельефно, находят аналогии и в фольклоре других кав­
казских народов.
Рассказ о героических приключениях и поиски вели­
ких воинов для соревнования с ними — традиционный
эпический мотив. Мы имеем возможность но литератур­
ным памятникам определить его «возраст».
На Кавказе, в частности в Грузии, он известен по
источнику, восходящему к XII в., — мьг имеем в виду
повесть «Амиран—Дареджаниани».
Единство литературных и фольклорных традиций дает
основание утверждать, что эта общая традиция может
иметь один источник. Это станет более ясным, если изучить сочинение Мосе Хонелп в сравнении с образцами
иартского эпоса (вспомним, что в осетинские сказаипя
о Даредзанах фольклорным путем проникли и мотивы
литературного происхождения). нартах, его разнородность
Сюжетное богатство эпоса о исследования входящих
выдвигают задачу конкретного
в него сюжетов различных категорий.
2 «Адыгейские сказки». Майкоп, 1957, стр. 64.
227
15*
6. С помощью зятя-11арта младший брат узнает, что его
будущая невеста Гуаша Тлетаиай похищена нелобедисказки», стр. 54—55). В грузинмым дэвом («Адыгейские
младшпй
брат
узнает от мужа сестры, что та,
ской сказке
которую он ищет, похищена непобедимым чудовищем
(«Грузинские сказки», т. ГГ1, стр. 36—37).
7. Младший брат пе задерживается у сестры и на­
правляется туда, где находится его невеста. Эта картина
повторяется трижды при посещении всех трех сестер.
И дальнейшие звенья повествования столь же близки
между собой.
совпаСопоставление обнаруживает полное сюжетное
яввопрос,
денне обоих произведений. Возникает
лястся ли указанная нами сказка единственной в своем
роде, пли же и у других народов встречаются аналогичные сюжеты? Обращение к материалу разных народов
этот вопрос. Данный сюжет
дает полноценный ответ на
Чечне,
зафиксирован в междуизвестен в Дагестане и
(А-А-300А, 313). Это
народном сказочном каталогс
является
специфически локаль­
уже означает, что он не
С самого начала мы возьмем в качестве иллюстрации
одно адыгское сказание — «Красавица Тлетаиай» — и
рассмотрим его на фойе фольклорного материала грузин,
которые в генетическом отношении далеки адыгам.
В «Красавпце Тлетаиай» в духе традиции но пеаны
приключения трех братьев и трех сестер. Престарелый
отец, умирая, велит сыновьям отдать сестер первому же,
кто явится за ними. Кто бы ни пришел иочыо и ни
крикнул: «жиу» — они должны послать к нему сперва
старшую сестру, потом среднюю и, наконец,— младшую.
Старшие братья отказались выполнить это завещание; его
соблюдает только младший брат, который в темноте
отдает сестер чужеземным всадникам.
Этот сюжет хорошо известен и грузинскому фольклору, в частности грузпнекому сказочному эпосу. Соот­
ветствующие тексты записаны за последние сто лет во
всех частях Грузии. Сравним адыгское сказапис и грузинскую сказку.
1. Старый Эрестен имеет трех сыновей и трех доче­
рей («Адыгейские сказки», стр. 53). В грузинской
сказке у старика имеется столько же дочерей3.
2. Перед смертью старик завещает сыновьям
отдать
сестер первому же просителю, который придет иочыо
(«Адыгейские сказки», стр. 53). В грузинской народной
сказке отец обязывает сыновей отдать каждую из сестер
тому, кто первый придет ее
просить («Грузинские
сказки», т. III, стр. 18, 33).
3. В обоих народных произведениях завещание выпол­
няют только младшие братья, а старшие категорически
отказываются последовать наказу отца.
4. В адыгском тексте младший брат покидает родной
дом и идет в Страну нартов на поиски сестер (стр. 54);
соответственно и в грузинской сказке младший брат
отправляется в путешествие (там же, т. III, стр. 19, 36).
обоих случаях младший брат находит сперва
старшую сестру. Ее мужем является нарт или какое-либо
существо, обладающее огромной физической силой (орел,
««!УЧа’ ДЭВ’ жаР"1ЕГВДа и др.). Муж сестры нрнветстр. 21—Т23Ч36—37)ЖеСТРаННОГО Г0СТЯ (там же> т‘ ***’
стрЛЯГ" народные сказки», т. Щ. Тбилиси, 1956,
228
пым.
сказках
Близкие параллели в героико-фаитастическихсказания
разных народов имеют и некоторые другие 1
о нартах, например, осетинское сказапие об Уархаге.
В саду мартов стояла волшебная яблоня. Ежегодно ее
плоды похищала какая-то птица (пли олень). Старей­
шина мартов Уархаг (Бора) поручил своим сыновьям
Хсару и Хсартагу стеречь ее. Иочыо младший брат ранил
птицу, а утром пошел по кровавому следу и спустился
па дно моря. Там ои нашел во дворце трех дочерей Донбеттра; одна из них, Дзерасса, была смертельно ранена;
он излечил ее и объявил своей невестой.
Так начинается приключение, которое в дальнейшем
частично переросло во вражду братьев4. Аналогичное
начало встречается в сказках различных народов; в част­
ности, оно имеется в грузинском сказочном эпосе. В цар­
ском саду стоит яблоня. Ежегодно она приносит два-три
волшебных плода, но когда плоды созревают, их крадет
таинственное существо — жар-птица, дэв. Царь поручает
яблоню. Вора удается увидеть младсыновьям охранять
X, выц. ' Г
4.В. И! Абаов.- Нартовскш! эпос-ГИС0НИ11, Т* 1•
I
Дзауджикау, 1945, стр. 30. •’
:
229
шему брату; он ранит птицу, спускается но ее следам
в подземелье и находит там ужасного дэва и трех
красавиц5.
Развитие повествования и структура сюжета иден­
тичны. Различие проявляется в несовпадении некоторых
функций и в разном изображении их носителей.
Возьмем другой пример из того же осетинского эпоса.
Урызмаг во время охоты убил зайца и принялся жа­
рить из него шашлык. Внезапно заяц ожил и убежал.
Урызмаг остолбенел от удивления. Заяц обернулся и
сказал: «Удивительно не то, что я ожил, а то, что случи­
лось с Цибнр-Саулагом». Урызмаг находит Саула га и
узнает, что Саулаг дал съесть семь коней и семерых
сыновей ужасному великану, который, подобно Поли­
фему, заключил отца и сыновей в пещеру с.
Это приключение Урызмага в сюжетном отношении
близко напоминает эпизод грузинской сказки об охотнике,
у которого ожил шашлык из лани, и лань.сказала ему:
«Удивительно не это, а то, что случилось с Георгием из
Лило»7. Охотник навещает Георгия (существует много
вариантов) и просит его рассказать, что с ним приклю­
чилось.
Приведенные примеры позволяют заключить, что одну
из категорий сюжетов нартского эпоса составляют такие
сюжеты, которые имеют близкие соответствия у народов,
не знающих сказаний о нартах, и разработаны у них не
в героико-эпических сказаниях, а в героико-фантастиче­
ских сказках.
Отсюда следует вывод принципиального характера:
северокавказский
“ " нартский" эпос не представляет собой
изолированного явления. Один из его возможных источников — сказка. Частичное совладение сюжетного фонда
нартского эпоса и сказок, при различии в целом жанровой
природы этих явлений, представляет большой историкофольклорный и теоретический интерес.
5 «Грузинские сказки». М.,
1937, стр. 69; Т. Разик аш в и л и. Сказки, собранные
в Пшавии. Тифлис, 1909, стр. 7 (на
груз. яз.).
6 «Памятники
каз, 1925, стр. 23. народного творчества осетин», т. I. Владикав„ ' «Грузинские
к а ш в и л и. 1ские народные сказки», т. II, стр. 197; Т. Разит“ф"‘119091
120
230
Мы можем расширить сопоставительный анализ, обра­
тившись к устной словесности южной части Кавказа.
Возьмем за основу сборник абхазского эпоса: «При*
ключенни нарта Сасрыквы и его девяноста девяти
братьев» 8~9. Сказание этого сборника «Удивительные превращения» трактует сюжет, который у других народов
встречается в сказках и известен под условным назвапнем «Метаморфоза пола» (Аарне-Андреев, № 514).
Сказка об изменении иола (в грузинских сказках —
о « дэве-юноше») известна в фольклоре более десяти народов Европы и Азии. В сказке звучит идея равноправия
девушки и юноши, их одинаковой ценности в обществен­
ной п государственной деятельности.
„ Грузинская литература знакома с этой идеей уже
с XII в. благодаря бессмертному «Витязю в тигровой
шкуре». Мы уже имели возможность специально кос­
нуться этого сюжета и предложить датировку его разра­
ботки в грузинской среде; по нашим данным, хронологически эта разработка предшествует эпохе Руставелп. Соответствуюгцие фольклорные записи на грузинском языке
имеются с XVIII в.; и поныне распространение сюжета
имеет массовый характер.
Рассмотрим абхазское сказание, отмечая параллели,
содержащиеся в грузинской сказке.
1. У нартов жил старик, у которого не было сыновей
(«Приключения нарта Сасрыквы», стр. 100). Ср. в сказке:
визирь Алмасхан состарился при царском дворе, не имея
сына («Грузинские сказки», стр. 39).
2. Поседевший старик печалится, что не может послать сына к нартам, потому что имеет только дочерей
(«Приключения нарта Сасрыквы», стр. 100). В сказке:
визирь Алмасхан (или заменяющие его персонажи) тя­
жело переживает отсутствие у него наследника-сына
(«Грузинские сказки», стр. 39).
3. Дочери просят отца, состарившегося на службе
У нартов, разрешить им переодеться в мужскую одежду
11 отправиться вместо него (там же, стр. 100—101).
® грузинской сказке: три дочери просят Алмасхана
послать их на службу к царю переодетыми в мужскую
одежду («Грузинские сказки», стр. 39).
(
„ 8-9 «Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти
ератьев. Абхазский народный эпос». М., 1«ю—
231
был несколько раз напечатан в популярном учебнике
Я. Гогебашвилн до революции и называется «Сын ры­
бака» п.
По своему составу иартскпн эпос неоднороден. Наряду с исконно эпическими в нем есть сюжеты, характерные и для других жанров. Отдельные из таких сюжетов
появились, по-виднмому, в результате воздействия сказки
на эпос. Причем в одних случаях они уже творчески
освоены и стали чисто иартским явлением, а в других
еще не переработаны соответствующим образом, и поэтому
их происхождение легко установить.
Помимо сюжетных соответствий, сравнение нартских
сказаний с героико-эпическими и сказочными пропзведепнями грузпнекого и других народов позволяет установить несомнспиую близость ряда конкретных эпизодов и
ситуаций. Устанавливая эту близость, исследователь пол у чает возможность судить о типологическом сходстве
структуры произведений древнего фольклора и ее свособразни у разных народов.
Следует подчеркнуть, что такое сравнение плодотворио в тех случаях, когда предметом суждения являготся значительные, устойчивые художественные элементьг. Что же касается частных мотивов, то их сличение
дает исследователю очень немного. С художественной
точки зрения мотивы весьма подвижны, легко мигрируют
из одного произведения в другое, из одного жанра в дру­
гой; их конкретное звучание легко меняется.
В сборнике «Абхазских сказок» X. С. Бгажба (1959)
среда «Героических сказаний о партах» наше внимание
привлекли три текста: 1) «Сасрыква и пахарь»; 2) «Гунда
«Прекрасная»; 3) «Уахспт — сын Нартспта». Это весьма
совершенные художественные произведения. Каждое из
них имеет самобытный характер и обладает законченной
формой. Их герои носят имена известных персонажей
иартского эпоса. В то же время по своему содержанию
названные произведения перекликаются со сказаниями
соседних народов.
Повесть о Сасрыкве и хромом пахаре состоит из двух
эпизодов: 1) Сасрыква прячется под вспаханными паха­
рем пластами земли, а потом жена пахаря уносит его как
4. Престарелый отец вначале отказывается, но после
настоятельно]! просьбы старшей дочери наряжает ее
в свою одежду и отправляет к нартам («Приключения
нарта Сасрыквы», етр. 101). Соответственно и визирь
Алмасхан посылает переодетую старшую дочь во дворец
(«Грузинские сказки», стр. 39).
5. Сразу же с отъездом дочери престарелый отец на­
ряжается разбойником и преграждает дочери путь
с целью испытать ее мужество. Старшая дочь в страхе
убегает домой («Приключения парта Сасрыквы»,
стр. 101). Точно так же и визирь Алмасхан встречает
свою старшую дочь («Грузинские сказки», стр. 39).
После старшей отправляется средняя сестра, но п
с нею происходит то же, что со старшей. Испытание вы­
держивает только младшая сестра, и ее благословляет
в путь престарелый отец. Полное соответствие этому
имеется в упомянутой грузинской сказке. В рассматри­
ваемом нартском сказании нет ни одного имеющего художественное значение мотива, для которого не наш­
лось бы соответствия в сказке. Сюжетное расхождение
проявляется только один раз: это — замена окаменевшего
города яблоневым садом. Во всех других отношениях
положение совершенно одинаковое, если не принимать во
внимание того, что переодетая юношей девушка нахо­
дится при царском дворе и выполняет ряд трудных пору­
чений царевны.
Вовсе не исключено, что нартское сказание «Удиви­
тельные превращения» имеет своп истоки в сказочном
эпосе .
Сказочное происхождение имеет, по-впдимому, и аб­
хазское сказание о том, как Сасрыква убил дракона, хотя
в принципе змееборческнн сюжет специфичен не только
для сказки, но и для древнего эпоса.
Небезынтересно отметить и отражение в другом абхазском сказании — «Новое удивительное
приключение
Сасрыквы» — известного
народного рассказа, который
10 В абхазских народных сказках аналогичный сюжет встре­
чается под названием «Царь и его визирь» («Абхазские сказки»Сухуми, 1959, стр. 174). Но в текстуальном отношении эта сказка
более близка к грузинскому циклу о визире Алхмасхане, чем
к рассмотренному партскому сказанию. Это значит, что источник
последнего нет оснований рассматривать именно в тон редакция
сказки, какая дошла до нас.
11 Я. Г о г е б а ш в и л и. Сочинения, т. V. Тбилиси, 1957,
стр. 452 (на груз. яз.).
233
232
{
игрушку для своих детей; 2) Сасрыква проводит ночь
вместе с товарищем того же пахаря в высохшем черепе,
а на второй день пастух швыряет этот череп, и находящпеся в нем погпбают.
Как первый, так и второй эпизоды распространены
в устной словесности разных народов, причем по большей
части имеют впд независимых произведении, которые являются своеобразным связующим звеном между сказа­
ниями об Амнрани и о нартах (ср. осетинский эпос о Даредзанах, где пребывание героев в черепе гигантского
существа представлено в виде характерного эпизода).
Ночевка в черепе встречается в эпосе об Амнрани, при­
чем в редакции весьма древнего оформления, представ­
ленной хевсурской записью 12. Наконец, существует само­
стоятельная грузинская сказка аналогичного содержания
(но с другими героями). Ее записал в 80-х годах
прошлого века Т. Разнкашвили в Восточной Грузии 13 и
напечатал в сборнике, изданном в 1909 г.
То же следует сказать относительно эпизода с пахарем, который содержится в сказаниях об Амнрани и
в грузинских сказках.
Сказочно-фантастические рассказы гиперболического
характера широко распространены
в международном
фольклоре,
и
в
них
порою
не
наблюдается
ничего спецпфнчески нартского, за исключением
имен
соответствуюЩих героев. В то же
время,
при
всем
сходстве,
они представляют
ческого наТледГкСаждогоаСТЬ °рппшального Устно-поэтпнарода.
Эпос
тесно связан с другими видами народного
творчества. В его оформлении немалую роль играют
предшествующие ему традиции, а также произведения
параллельно развивающихся жанров. Изучение художест­
венных связей эпоса, выявление его различных источни­
ков имеет большое значение для понимания истории древ­
него фольклора. В свете вышесказанного перспективной
теоретической и практической проблемой
в частности, изучение взаимоотношенияпредставляется,
героического
12 М. Ч и к о в а н и.
стр. 344 (на груз. яз.). Прикованным Амнрани. Тбилиси. 1947,
13 «Народные сказки, собранные Т. Разнкашвили в Картли
Тифлис. 1909, стр. 66 (па груз. яз.).
234
эпоса со скалками на различных исторических этапах 14.
(Сюда относится и такое явление, как трансформация ге­
роических сказании в сказку, отмеченная III. Д. ИналИ поп в 19Г)6 г.15 Важным подспорьем при этом послужит
привлечение широкого сравнительного материала разных
кавказских народов.)
Сочетание анализа конкретного материала народов,
носителей нартского эпоса, с учетом сходных данных
фольклора соседних пародов следует считать весьма
уместным и при историко-фольклорной оценке ряда узло­
вых мотивов сказаний о нартах. Для подтверждения этой
мысли обратимся к некоторым моментам нартского эпоса,
соиоставляя их с данными грузинского эпического
фольклора.
Родившийся из камня Сасрыква
всегда необычно.
Рождение древнего эпического героя
Существо, наделенное выдающейся силой и качествами,
должно иметь и соответствующее происхождение. Таков
художественный закон эпоса. Здесь проявляется древний
способ типизации (хотя в основе всего «необычного», «чу­
десного» лежит обычная, повседневная действительность).
Чудесное рождение — одно из проявлений героической
идеализации, осложненной мифологическими ш магиче­
скими представлениями. Сасрыква — центральный герой
нартского эпоса у всех народов, знающих подобные ска­
зания. Именно этот герой появляется на свет особым спо­
собом; как известно, он зарождается в камне, оплодотво­
ренном нартским пастухом при виде Сатаней.
Эпизод рождения Сасрыквы — Сосруко — Сослана мо­
жет быть расчленен на следующие мотивы: а) пребывание
красавицы на берегу реки; б) купание девы в реке в пол­
день; в) появление па другом берегу пастуха нартов;
г) стремление девы и юноши друг к другу; д) невозмож­
ность преодолеть разлившуюся реку; е) невозможность
этом направлении,
14 Исследователями уже ведется работа
«Сказание об Алпамыше и
Ср. .монографию В. М. Жирмунского
работы. Конкретные
богатырская сказка» (М., 1960) и другие его
статье У. Б. Далнаблюдения,„касающиеся нартского эпоса, см. в
(сб.
гат «К вопросу о нартском эпосе у народов Дагестана»
. «Иартский эпос. Материалы совещания 19—20 октября 19о6 г.>.
абхазцев. — В кн.
Орджоникидзе, 1957).
15 III. Д. Инал-Ипа. Иартский эпос
«Иартский эпос», 1957, стр. 93.
235
соединения девушки и юноши; ж) на основе
ской связи зачатие зародыша будущего героя епмволичев камне;
з) выход раскаленного ребенка из камня с ПОМОЩЬЮ
кузнеца.
Возникновение мотива рождения эпического
героя из
камня мы ранее увязывали с колхидскими амазонками.
Рассмотрим доводы в пользу такого истолкования.
Об амазонках Кавказа имеется сведение древнегрече­
ского писателя Псевдо-Каллисфена. Амазонки писали
Александру Македонскому, что они живут в особых
внях, имеют 270 000 вооруженных девушек и средиу сло­
них
нет ни одного мужчины. Ежегодно они справляют празд­
ник коней в течение 30 дней. Они живут на одной стороне
рекп, а на другой стороне — мужчины. Во время празд­
ника та, которая желает соединиться с мужчиной,
остается с ним несколько дней; всех детей вскармливают
мужчины, а девочек в возрасте семи лет передают им,
амазонкам 16.
Мы считаем
!м возможным, что в нартском эпосе отрази­
лась именно та традиция, о которой сообщает ПссвдоКаллисфеи. Об этом свидетельствуют и совпадения между
греческими литературными и иартскимп эпическими дан­
ными. (Сатаией-Гуаша находится по одну сторону реки,
а нартекпй пастух —по другую; женщина стремится воз­
будить любовное чувство у находящегося в отдалении
мужчины н приманить его к себе; возбужденный пастух
бросается в реку, чтобы переплыть на другую сторону;
зачатие в камне говорит о символическом соединении.)
В рождении Соеруко-Сослана, кроме пастуха, иногда
участвует н божество Уастырджи. В тексте, записанном
В. Миллером в 1880 г., говорится: «Однажды Сатанай
выстирала свое белье ц расстелила для сушки па камне.
В это время пришел Уастырджи и сказал: «Где теперь от
меня спрячется твоя одежда. Присел Уастырджи .. • на
разостланную на камне одежду... В результате этого
внутри камня возникла жизнь. Узпав это, Сатанай стала
ухаживать за этим камнем. Когда настал положенный
день, женщина расколола камень, и оттуда вышел
ныи, как лед, Сосрыко...» ч
холодРождение Соеруко—Сослана
из камня встречается и
10 В. Л а т ы ш е в. Известия
Кавказе. — ВДИ, 1947, № 3, стр. 248.
Древних писателей о Скифии и
17 В. М и л л е р. Осетинские
этюды, т. I. М., 1881, стр. 30—31.
236
в сванском сказании (с той только разницей, что зарожде­
нию в камне здесь предшествует превращение зуба Бадри
в женщину, а женщина эта окаменевает) 18.
По нашему мнению, обитание групп женщин и муж­
чин на противоположных берегах реки могло в виде от­
даленного воспоминания проникнуть в эпос и получить
такое художественное оформление, которое имеется в ска­
зан пн о Соеру ко. Здесь же нужно отметить, что мотив
зарождения по ту сторону роки в камне прошел несколько
ступеней своего оформления. Правда, мы не знаем, какой
вид он имел первоначально, в эпоху возникновения иартского эпоса, но на основе последних записей можно с уве­
ренностью сказать, что две ступени здесь все же
очевидны. Первая из них иезавуалироваиное, натурали­
зованное оформление мотива (ср. адыгскую версию),
а вторая — изложение его в художественно условных
красках (ср. абхазскую и осетинскую версии).
Предположительно здесь же можно высказать еще
одно соображение. Мотив зарождения будущего героя по
ту сторону воды в древнейшей форме мог иметь такое
оформление, какое он получил в одной из грузинских ска­
зок, известной по записи XVII в. (оплодотворение при
вхождении в воду). С течением времени соединение пары
на берегу реки постепенно приобрело символический вид.
Кузнец, рассекающий камень
В рождении Сосруко участвует и кузнец. От его ис­
кусства зависит многое. По абхазской версии, кузнец
Айнар придает камню очертания человека, по адыгской —
кузнец Тлепш раскалывает камень, вынимает оттуда
мальчика щипцами, опускает его в воду и закаляет.
Пастух Зартыж заранее знает, что освободить ребенка из
камня может только кузнец Айнар. Аналогичная ситуа­
ция встречается и в устной словесности других северокавказских народов.
Особое место занимает в сказании закалка Сосруко
(она описана в осетинском, адыгском и абхазском сказа­
ниях). Сам кузнец тоже обладает необычайными ка­
чествами. Правда, он работает в кузнице, где у него есть
л 18 «Сванские прозаические тексты, собранные А. Давитяни,
0. Тонуриа, М. Калдаии», т. II. Тбилиси, 1957, стр. 169 (на
сваи. яз.).
237
1
наковальня и горн. Вместе с тем образ кузнеца связан
сочень древними фантастическими представлениями. Так,
согласно абхазскому тексту, Айнар-ижн «вместо молота
пользовался правой рукой, а вместо наковальни — коле­
ном» 19. (Адыгский кузнец Тлспш и осетинский Курдалагон —тоже кузнецы не простые, а мифические.) В об­
разе кузнеца Аймара содержится, на наш
прослойка мифологических представлений колхов,взгляд,
по которым
создателем кузнечного искусства является Соломон, прнчем этот последний
не имеет ни молота, ни наковальни,
а вместо них
пользуется рукой и коленом. 13 обрисовке
кузнеца сказывается колхекое представление о сказочном
искусстве первых металлургов. Кузнец предстает в роли
демиурга. Он наделяет будущего героя выносливостью и
твердостью, высекает его из камня и закаляет (ср. зако­
вывание Амиранн в железные игрушки).
г) Сыновья просят мать выпечь хачапури (ссылаясь на
необходимость отправиться в путешествие или па бо­
лезнь);
д) Амиранн и его братья прикладывают горячее тесто
матери на грудь; Ашамез заставляет мать держать руки
в горячем тесте;
е) Не выдержав боли, матери открывают детям правду;
ж) Узнав тайну, Амиранн и Ашамез получают отцов­
ское оружие и показывают, что опи умеют и готовы
к богатырскому бою;
з) И в партских сказаниях, п в сказании об Амиранн
судьба противника предрешена: какой бы силой он ни
обладал, он терпит поражение от нового поколения бо­
гатырей.
Как видно из сравнения сказаний, сформировавшихся
на северных и южных склонах Кавказского хребта, общим
для них является эпизод мести за отца, но в-то же время
они не лишены самостоятельного художественного оформ­
ления, своего национального облика.
Однов ременное рождение
героя
и богатырского коня
Появление
на свет Сасрыквы в абхазской
провождается
версии соодновременным
появлением
богатырского
коня.^Одновременное
рождение героя
и его коня,
наподобие олизнецов, является обычным мотивом героического
н сказочного эпоса. (Ср., например, грузинскую сказку
«Солнце-дева и солнце-роза», где одновременно рождаются
царица и ее конь)20.
*
*
Одна из важнейших задач нартоведения — точное
определение границ распространения нартских циклов,
создание полной карты, па которой было бы указано, где
и на каком языке рассказывают подобные сказания, на­
сколько часто они встречаются, в какой степени сохра­
няются в живом бытовании и т. д.
Основная масса народов, являющихся носителями
нартского эпоса, населяет Северный Кавказ. А какое по­
ложение мы имеем па юге? Для выяснения этого вопроса
прежде всего необходимо обратить внимание на предста­
вителей разных национальностей, проживающих в этой
части Кавказа. Здесь нартские сказания зафиксированы
на осетинском, абхазском и картвельских языках. Кроме
того, имеются записи, сделанные у грузин.
Если говорить об осетинском и абхазском фольклоре,
то можпо констатировать, что нартский эпос составляет
органическую, исключительно важную их часть. С исто­
рической точки зрения фольклор, традиции осетин, про­
живающих в Грузии, связывают их прежде всего с осе­
тинами Северного Кавказа. Поэтому нартские сказания,
зафиксированные в Южной Осетии на осетинском и гру­
зинском языках, входят в единый осетинский нартский
Сын, МСТЯЩИЙ
за отца
Этот мотив также
ских сказаний и
известен широкому кругу героическазок. За страдания матери или отца
врагу мстит
сын, который в детстве ничего не знает об
участи своих родителей. Чаще всего сын мстит за отца.
Покажем несколько совпадающих мотивов:
а) Амиранн и Ашамез узнают об отце во
от побежденных ими мальчиков («Если
время игры
то отомсти за кровь отца»);
ты такой сильный,
Амиранн н его братья (соотв.
домой, чтобы расспросить у матери об Ашамез) спешат
в) Из страха перед врагом мать
отце;
детям о том, как был убит (пли
не хочет ;рассказать
потерял глаз)1 их отец;
Ц «Абхазские сказки», стр. 48.
«Грузинские народные
сказки», т. П, стр. 50.
238
239
!
эпос, имеющий собственные народно-поэтические основы
и пути развития.
Абхазские сказания о партах являются органической
частью абхазского фольклора. Отдельные нартскне сю­
жеты зафиксированы также на грузинском и сванском
языках. В отношении мегрельского и чанекого фольклора
пока неясно. Но мы можем заранее сказать, что ни пер- вый, ни второй в этом отношении не должны составлять
исключения: если в настоящее время мы не можем за­
фиксировать соответствующие тексты, это вовсе не значит,
что в прошлом мегрело-чанекпй фольклор по был знаком
с нартскимн сказаниями. Существующие в мегрельском
фольклоре нартскне имена (Сатанай), а также непосред­
ственное соседство мсгрело-чанского населения с одним
из народов — творцов партского эпоса, а именно с абха­
зами21 , делают допустимым предположение, что нартскне
сказания имели отзвуки и в мегрело-чанском фольклоре.
На грузинском языке зафиксированы несколько сюже­
тов нартского эпоса. Соответствующие тексты впервые
были записаны Ш. В. Дзидзигурп в Верхней Раче. В дру­
гих районах Грузин записать подобные сказания пока не
удалось. Можно надеяться, что в процессе систематиче­
ского обследования они будут обнаружены в Картли,
в непосредственном соседстве с осетинским населением,
носителем партского эпоса22.
Что представляют собой варианты, записанные на гру­
зинском языке? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно
изложить краткое содержание каждой записи.
Женитьба Батрибега
Так можно назвать сюжет, записанный Ш. В. Дзидзпгури в 1937 г. в Верхней Раче и опубликованный в его
диалектологической хрестоматии (1956). Батрибег — два­
дцатый младший брат. Мать его родила всех детей одно­
временно, и их отец, испугавшись такого количества детей,
в ту же ночь бежал из дома. Братья разыскали отца,
открылись ему и привели в построенный ими дворец.
Далее описано, как братья разыскивают двадцать сестер,
которые должны стать их певестами. Благодаря ловкости
со< стр. 218.
сказки». Цхинвали, 1957, стр. 13 (на груз. из.).
240 .
Батрибега братья выполняют все трудные задачи, которые
ставит перед ними царь, отец двадцати дочерей; назна­
чается свадьба. За двадцатью сестрами отправляются
девятнадцать старших братьев. Батрибег говорит, что не
может покинуть дом: «Мою девушку вы приведите с со­
бой, младшая пусть будет моей». Свадебный поезд захвачей дракоиом. Младший брат бесстрашно идет к дракону,
выручает братьев, а сам остается у дракона, чтобы добыть
для него невиданную красавицу. Юному нарту удается
похитить небесную деву н привести ее к дракону, но по
просьбе девы он не оставляет ее чудовищу, женится на
пей сам.
На наш взгляд, упоминаемый в данном тексте Батри­
бег — тот же Батрадз, часто встречаемый в осетинских
или адыгских сказаниях. Мать, родившая сразу двадцать
сыновей, напоминает Сатаией-Гуашу; приключения этих
персонажей с сюжетной точки зрения совпадают с известпыми балкаро-карачаевскими сказаниями о Дебете и
Алаугаис.
Сын Гендже Шавай
Содержание этой записи состоит в следующем. Одни
человек женится на дочери дэва по имени Гейдже. Она
имеет ужасный обычай — пожирать своих новорожден­
ных детей. Ловкая свекровь подает ей вместо сына щенка,
а ребенка тайно вскармливает. Мальчика она нарекает
Шавай; его кормилица — самка оленя. Шавай вырастает
богатырем. Когда он становится взрослым, Гендже уже не
в силах его погубить. Отец женит Шавая па деве-вонтельвице. (Браку предшествует состязание Шавая и девы.)
Главный герой повествования, Шавай, напоминает
адыгского нарта Кяижоко Шаоя, который женился на
сестре Сосруко, и героя балкаро-карачаевского эпоса
Шауея. Аналогичный образ встречается и в Сванетии.
Весьма своеобразеп мотив, связанный с Гейдже, которая
глотает живых людей, в том числе и своих новорожден­
ных детей (ср. с греческим Кропосом). В сказании упо­
минается Алугаи (ср. образ Алаугаиа в сказаниях бал­
карцев и карачаевцев и в осетинских сказках); Шавай
может быть сопоставлен с осетинским Севаем23.
23 «Осетинские сказки и легопды», стр. 13. 23; ср. «Сванские
прозаические тексты», т. I, стр. 414; т. II, стр. к
16 Заказ № 1480
241
Джуджеби, Темирбей и Шибнжк
История о трех братьях. Старшие отправляются на
охоту в край повелителя черкесов Хадаоджухн. Охота
оказывается неудачной, и они решают уоить князя. Ворон
предупреждает Хадаоджуху о приближении врагов. Князь
собирает воинов и побеждает старших братьев, а затем
отправляется погубить третьего. Шибпжи узнает о при­
ближении князя и вооружается. Однако бои не состоится;
они мирятся. Повелитель черкесов и Шибпжи клянутся
друг другу в верности. (В дальнейшем Хадаоджуха на­
рушает клятву н убивает Шибпжи, а сам погибает от
руки его сына Шибпжи.)
Как мы видим, это сказание напоминает историческое
предание.
Как объяснить проникновение в рачнискип фольклор
нартовских сюжетов и имен? Причиной этого, безусловно,
является контакт с осетинами и кабардинцами.
В заключение отметим отражение нартского эпоса
в сванском фольклоре. В 1947 г. мы указывали, что в одном
здешнем варианте «Амирани» заметны следы осетинского
нартского эпоса («Прикованный Амирани», стр. 410).
По этому тексту, записанному в 1936 г., Амбри Араб яв­
ляется нартом и его везут хоронить в «иартской телеге».
Нарт не в силах поднять его ногу, которая свисает с те­
леги; только Амирани удается сделать это. Далее упоми­
нается о столкновении Амирани с двумя «иартскнмп
детьми», о путешествующем великом нарте пт. д. (там же,
стр. 374). Видимо, сказитель хорошо знал нартекпе ска­
зания и ввел в эпос об Амирапп образы партов. Анало­
гичный процесс иллюстрирует сказка «Сослан», записан­
ная в Верхпей Сванетии. Здесь выступает Сослан, сып
Сатанай; рядом с ним видим Внрспилда и Бадри Сепетара.
являющихся исконными персонажами «Амирани»24.
4а сванском языке зафиксированы следующие иартекпе сюжеты.
Приключения Сослана
У Багатвпра стояла яблоня, золотые плоды которой
кто-то похищал. Сыновья Сатанай взялись обнаружить
вора. Младший брат узнал, что яблоки похищают три
24 «Сванские прозаические тексты», т. II, стр. 166—169.
242
красавицы. Он ранит их стрелой, а потом, достигнув
дворца Чирхаштя, сам же их исцеляет и среднюю берет
в жены. (Средней сестре поправился святой Георгий
Джграг.) По дороге домой старший брат убил младшего
и взял себе его жену. Средний поступил так же: убил стар­
шего брата, но потом покончил с собой. Женщина оста­
лась одинокой. Появился Джграг, она испугалась, превратплась в водяную пену и забилась в мельничный желоб.
Мельник вывел ее оттуда и укрыл у себя. Женщина за­
беременела, родила троих сыновей — Сепетара, Внрспилда
и Бадри. Бабушку детей •— жену мельника — зовут Сатаиай. Мальчики возмужали, начали охотиться. Когда
Бадри ударял зубом о камень, камень рожал сына.
В той же деревне проживал повелитель пчел Хунтуз.
Братья повадились к нему и поедали его мед. Хунтуз убил
Сепетара и Внрспилда, но Бадри от пего убежал. Убегая,
Бадри стукнул зубом о камень, зуб выпал и превратился
в деву. Хунтуз подоспел и отсек Бадри голову, тогда дева
окаменела. Камень начал расти. Однажды по камню уда­
рили мечом Хунтуза, и оттуда вышел Сослан. В конце
концов Сослан отсек Хуитузу голову. Князь Эречхав за­
хотел сделать Сослана и его бабку своими крепостными.
Сослан вступил с ним в бой и одолел его. Сослан совер­
шил много героических поступков и вместе со своей баб­
кой зажил счастливо («Сванские прозаические тексты»,
т. II, стр. 166-172).
Смерть Сосруквы
Отец привел маленького Сосрукву на обучение к Со­
лому. У Сосруквы высохло все тело, кроме плеч. В сра­
жении парты забросали Сосрукву камнями; он сперва
подставил под камни голову, затем — плечо, потом оок.
Наконец, нарты потребовали, чтобы оп подставил колени.
Тогда он сказал: они догадались, что колени у меня не
закалены. Камень разбил непобедимому герою колени, и
^ттУДа хлынула кровь. Волк не пожелал пить кровь
Сосруквы, и поэтому герой благословил его и сила ^его
передалась шее волка. Ворон же выпил кровь и оыл
проклят. В третий раз герой предложил свою кровь пере­
пелке, но она отказалась. Вскоре Сосруква умер. (1ам же,
т. I > стр. 394-395.)
243
16*
Женщина, пожирающая своих детей
Главный герой — Алавган. По сюжету текст близко
напоминает изложенную выше запись. (Там же, т. 1,
стр. 414.)
*
*
Приведенные данные говорят о том, что грузинский
эпос содержит параллели к сказаниям о нартах, имею­
щие, как правило, типологический характер. Одновре­
менно в нем прослеживаются и непосредственные отраже­
ния нартского эпоса. Трудно точно определить, когда на­
чался процесс взаимопроникновения, но надо полагать,
что это не новое явление и что оно имеет далекое прош­
лое.
Е. Б. В ирсаладзе
ЫАРТСКИЙ ЭПОС И ОХОТНИЧЬИ СКАЗАНИЯ
В ГРУЗИИ
Изучение иартских сказаний прошло ряд этапов. На
первых порах нартский эпос был воспринят как памятник,
известный только осетинскому фольклору. На этом этапе
внимание исследователей было по преимуществу направ­
лено на выявление связей нартского эпоса с конкретными
фактами истории и культуры Осетии.
В ходе дальнейшей собирательской и исследователь­
ской работы было установлено наличие иартских сказа­
ний у целого ряда других народов Кавказа. Это позво­
лило В. И. Абаеву заключить, что «многоиациопальиость» — одна из основных черт эпоса о нартах.
Первостепенное значение приобрело изучение националь­
ных версий, их своеобразия и самобытности. Одновре­
менно велась разработка методики исследования партского эпоса; значительное внимание стало уделяться
выявлению места сказаний о нартах в кругу героико-эпи­
ческих памятников народов мира *.
В настоящее время наряду с глубоким и всесторонним
исследованием национальных особенностей отдельных
версий большую актуальность приобретает изучение мону­
ментального нартского эпоса в целом, выяснение того об­
щего, что объединяет эпос о нартах у различных народов
Кавказа.
Большое значение имеет, с одной стороны, выявление
связей нартского эпоса с фольклорными традициями каж«Нартскли эпос. Материалы совещания 19 -20 октября
1950 г.» Орджоникидзе, 1957.
245
V-
дого из народов, его носителей; с другой — установление
той роли, какую играют в нартском эпосе некоторые пред­
ставления и мифологические образы, общие для большин­
ства иберо-кавказских народов.
Аналогичная работа, проведенная исследователями
«Амирани», позволила тесно связать центральные образы
этого эпоса с древнейшими грузинскими, а подчас и обще­
кавказскими верованиями и мифологическими представле­
ниями и проследить его истоки в древнейших охотничьих
преданиях и ритуальных песнях мифологического ха­
рактера 2.
Говоря об общекавказских элементах нартского эпоса,
мы не имеем в виду наличие отдельных эпизодов нарт­
ского эпоса в фольклоре соседних пародов, являющееся
результатом позднейших исторических заимствований
(ср., например, существование подобных эпизодов в на­
родной прозе сванов и рачпицсв пли горцев Восточной
Грузии в пограничных с Осетией и Кабардой районах).
В данном случае речь идет о древнейшей общности племен,
следы которой, безусловно, сохранились в духовной куль­
туре многих народов Кавказа. Ото именно тог субстрат,
скрещение которого с духовной культурой древних алан
способствовало появлению неповторимых по своей силе
и свежести образов нартского эпоса.
Как известно, к числу самых древних компонентов
нартского эпоса принадлежат сюжеты, образы и отдель­
ные мотивы, связанные с охотой. Нам представляется,
что именно они связаны своим происхождением с кавказ­
ским миром, отражая древнейшие мифологические пред­
ставления аборигенов Кавказа.
Сравнительное изучение сюжетов, образов и отдельных
мотивов, которые имеются не только у носителей нарт­
ского эпоса, но и у других народов Кавказа, позволит го­
ворить о древнейших кавказских корнях, кавказской при­
роде этих сюжетов и образов, получивших различное
оформление и воплощение в разных жанрах и памятниках
фольклора.
М. Ч пк о ванн. Грузинский эпос, т. Т, Тбилиси, 1959,
стр. 150—158 (на груз, яз.); Е. Внрсаладзе. Грузинский
охотничий эпос. Тбилиси, 1964, стр. 74—91 (на груз, яз.); Е. V 1 г5а1аа2е. Б1е Аппгапзаде ипД с1аз пгизт^сЬе 1а§с1ероз. — «Ас1а
^?°§ГаоРЧса Асас1ет1ае ЗсшпИагит Иип^апсае», I. X. ВийарезК
Ь, О" ■ ' т:#
246
Археологические памятники времен энеолита, бронзы
и железа содержат обильные материалы, свидетельствую­
щие о глубокой традиции охоты на Кавказе. Для древ­
нейших образцов искусства Кавказа характерен так и азываемый звериный стиль; изображение сцен охоты и
диких животных занимает в их декоре весьма значитель­
ное место3.
Глубокие традиции института охоты в истории и куль­
туре народов Кавказа подтверждаются многочисленными
источниками (историческими, этнографическими и др.).
Согласно традиции, охота здесь считалась «святым»,
«чистым» делом. Идущий на охоту должен был соблюдать
сложную систему табунровкн, чтобы не «осквернить»
охоту и не прогневать «хозяйку леса». Существовала де­
тально разработанная символика снов, с которой охотник
должен был считаться при выборе дня и маршрута охоты.
Эти представления в некоторых районах Грузии (Сваиетпя, Рача, Восточная Грузия) до последнего вре­
мени определяли поведение охотников и сохранились
в виде отдельных пережитков в быту охотников цент­
ральных районов. Ряд ограничений соблюдался и на охоте.
Охотник не должен был иметь при себе ничего жирного
или жидкого. Особые, покрытые ритуальными знаками
хлебцы, которые он брал с собой, пекла ему мать.
Многочисленные табу, распространенные среди охотников в отношении некоторых животных (медведь, волк,
тур, тигр и др.), указывают па определенные идеологиче­
ские основы этих обычаев, на пережитки тотемистических
верований и имеют свои аналогии в фольклоре и обычаях
многих народов.
Об этом же свидетельствует регламентация количества
убиваемых на охоте зверей и связанный с ней обычай
«давать отдых» охотничьему оружию или периодически
совершать над ним очистительные церемонии.
По существовавшим представлениям, у лесных и гор­
ных зверей есть свой сторож, покровитель, хозяин, от ко­
торого, в основном, зависит удача охотника. Представле­
ния о хозяине животных в Грузни весьма разиоооразны11 подчас кажутся противоречивыми. Однако знакомство
3 Ш. я. Амира на III внлн. История грузинского искус­
ства. Тбилиси, 1944, стр. 30 (на груз. яз.).
247
с конкретным материалом приводит пас к выводу, что
мы имеем дело не с противоречивостью в представлениях,
а с их эволюцией, видоизменением; система представле­
нии включает в себя элементы, связанные с различными
ступенями экономического и социального развития. Гем
не менее не только в пределах Грузии, но даже у всех
иберо-кавказских племен в целом наблюдается некоторая
общность этих представлении.
Древнейший образ хозяина, или сторожа зверей, зооморфеп. Его называли «сторожем зверей», либо «ангелом
зверей», или «ангелом скал», «ангелом леса». Его представлялп в виде тура, оленя, птицы или змеи. В резуль­
тате антропоморфпзацип он стал осмысляться в виде жен­
щины. Согласно наиболее распространенным в Грузин
представлениям, это прекрасная золотоволосая (иногда
черноволосая) женщина с ослепительно-белым телом.
Ее называют то «королевой Дал» (Сванетия), то «цари­
цей леса» (Миигрелия), то «хозяйкой зверей», то их
«сторожем». В центральных районах Грузии она звалась
Али; это имя в результате переосмысления, под влиянием
христианской церкви, стало обозначать злого лесного духа,
жешцину-русалку, пугавшую одиноких путников, больных
и рожениц.
Согласно многочисленным грузинским преданиям, осооенпо распространенным в среде охотников, владычица
ИЛП <<г*аРпЧа леса>> (ткашп мапа), как ее называют
в лТ’
Мингрелип, «ангел леса», или «хозяйка зверей» (Кахетпя, Рача), встречая охотника в лесу, часто предлагала
ему свою любовь. Избранника ждет награда: удача на
охоте. Охотник, отвергающий любовь хозяйки зверей,
рисковал навлечь на себя ее гнев и жестокое мщение.
днако женатый охотник пользовался в этом отношении
оольшпми правами и относительной свободой
Ьзаимоотношення хозяйки зверей--------с охотником послужили сюжетной основой большого цикла эпических
песен и преданий. В наиболее древних из них охотник
гибпет; хозяйка
леса губит его за отказ от ее любви
или же за
измену. Эта редакция сюжета характерна, на­
пример, ^для ритуального плача об охотнике, погубленном
хозяйкой зверей; плач исполнялся
стве плодородия в Сванетпн и Раче.на весеннем празднеБолее поздняя редакция мифа
Амираии, где гибнет пе охотник, сохрапена
а сама в эпосе об
владычица
248
Животных, оставляя сына, которого она не смогла доно­
сить.
Для всех национальных версий нартского эпоса тоже
характерен мотив встречи охотника с лесной жеищпиой.
Мы находим его в целом ряде песен и сказаний, при­
чем предстает он в различных вариациях. Герой осетин­
ской версии нартского эпоса Урызмаг, находясь па охоте,
почует в пещере. Укладываясь спать, он слышит голос
женщины, предлагающей ему разделить с ней ложе. Это
богиня, тело которой ослепительно светится в темноте.
Урызмаг отказывается исполнить ее желание, мотивируя
отказ клятвой верности, данной жене. Разгневанная бо­
гиня проклинает его. В эту ночь в камне зарождается
Сослан.
В известном эпизоде с черной лисицей Урызмаг
во время охоты вновь ночует в какой-то пещере, где кра­
савица со светящимся телом за попытку Урызмаго разде­
лить с ней ложе превращает его в мула.
Другой герой, Саху г, видит в пещере огромного оленясамку, которую сосут 12 сосунков. Олень превращается
в красавицу, которая разделяет с Сахугом ложе, но на
другой день умирает.
Особое внимание привлекает другой сходный мотив:
зарождение героя впе материнского лона (зарождение
Сослана в камне в упомянутом выше сказании об Урызмаге, либо в сказании о Сатаней и пастухе Зартыжве)
или же удаление плода из чрева матери до срока и особо
подчеркнутая роль отца в его дальнейшей судьбе. Этот
мотив интересен как своеобразный отзвук установления
патриархальной идеологии.
Если в эпосе об Амираии золотоволосая Дали, умирая,
просит своего возлюбленного, смертного охотника, выре­
зать дитя из ее чрева, завернуть его в желудок оыка и
таким образом сохранить ему жизнь, то в нартском эпосе
говорится о том, что жена Купа, рассердившись^на мужа,
«спарывает себе ножом живот, выбрасывает ребенка вон
п велит кормить его расплавленным железом. Жена Хамыца, встреченная им в лесу во время охоты на оленя,
также рожает до срока и либо вставляет плод в спину
своему мужу Хамыцу (по осетинскому варианту), либо,
рассердившись, рассекает себе живот и выбрасывает маль­
чика (абхазский вариант).
249
Согласно представлениям горцев Восточной Грузин,
хозяйка зверей — женщина крошечных размеров, живу­
щая па лесных полянах или среди скал Г Своим мужем
она делает охотника, обычного смертного.
Нам кажется, что образ героини нартского эпоса —
крошечной жены Хамыца, которую он встречает на зеле­
ной поляне в лесу, роднится с образом грузинской хозяйки
леса. Интересно, что и герой абхазского эпоса Кун нахо­
дит свою крохотную супругу во время охоты на тура.
Образ грузинской хозяйки зверей, скал и леса имеет
тесную связь с абхазским образом «матери воды и леса».
Согласно абхазским преданиям, «мать воды» сидит в глу­
хом лесу под дубом, расчесывая волосы. При виде юноши
она показывает десять пальцев в знак того, что предла­
гает ему свою любовь на десять лет5.
Известно, что у ряда народов Кавказа божсст во охоты
Мезитха, сидящее на золотощетппном кабане и украшен­
ное рогами оленя, представляется женским существом.
Согласно абхазским представлениям, у божества охоты
есть дочери или сестры, встречающиеся охотникам в лесу0.
В некоторых эпизодах абхазского нартского эпоса
сохранилось прямое указание на то, что светящаяся пли
сверкающая, как молния, героиня — сестра бога охоты
Ажвейпшаа и его шести братьев.
Подобные образы мы видим и в адыгских сказках, где
герой встречает стадо оленей п старика и старуху, доящпх это стадо в лесу. Там же находится и их маленькая
дочь, которая достается герою вместе с удачей на охоте7.
Интересно, что имя Дал, сохраненное в Свапетип как
имя владычицы зверей, имеет ряд параллелей в языках
народов Кавказа. У чеченцев
ч
Оа1е означает божество,
у кистйн божество называется Оа1а. На цовском языке,
по сведениям Гюльденштедта, божество называлось Дале,
в настоящее время Дал, по-арчписки божество иазывается
Ьа1; у удурцев На1ии означает властителя, владельца,
хо4 До недавнего времени среди горцев Восточной Грузни был
распространен обычай оставлять в лесу или среди скал крохот­
ную кожаную обувь, предназначавшуюся хозяйке животных.
5 К. М а ч а в а р п а п и. Абхазия. Этнографические письма. - Газ. «Дроеба», 1885, № 19, 20 (на груз. яз.).
6 И. Д ж а и а ш и а. Религиозные верования абхазцев. —
«Христианский Восток», т. I, вып. 1, 1915, стр. 107—108.
7 «Адыгейские сказки». Майкоп, 1957, стр. 224—225.
250
зшгна, а На11иг — хозяйку и властительницу. У вайнахов
верховное божество называется Эе1а, 1ЭеПа или БтП8.
Думается, что образ хозяйки животных, скал, воды,
деревьев, имя которой Дали, Дела, Али, Каллу, у иберокавказских народов обозначало хозяйку, владычицу и со­
хранилось у некоторых пародов Кавказа как общее обо­
значение божества, святыни, следует признать одним из
древнейших общекавказских созданий, порожденных пат­
риархальным у кл а до м.
Нам кажется, что этот образ, хотя и сильно перерабо­
танный, сохранился и в иартском эпосе. Причем он не
является элементом, пришедшим из эпоса соседних наро­
дов, а представляет самостоятельную переработку древ­
нейших общекавказских представлений.
Если сказания о жене Куна, рассекающей себе чрево
и оставляющей сына, пли о лесной женщине, встреченной
Урызмагом п пожелавшей разделить с ним ложе (после
чего в скале зарождается Сослан), перекликаются со ска­
занием о рождении Ампранн, то это не результат пере­
хода мотивов из эпоса в эпос, а результат различной
творческой переработки единого общекавказского ком­
плекса древнейших мифологических представлений.
Одновременно с разложением матриархата рядом с хозяйкой зверей, воды, леса и скал, ведающей плодородием
и погодой, появляется ее мужская ипостась в виде сына,
брата, отца, мужа или возлюбленного. В различных угол­
ках Грузни бытует предание о брате и сестре, поочередно
являющихся хозяевами животных — одни год сестра, дру­
гой год — брат.
Постепенно возрастает мотивация мужской ипостаси,
11 Функции хозяйки зверей, скал и т. п. ограничиваются.
Н целом ряде случаев примат уже принадлежит муж­
скому божеству — хозяину. Так, в Абхазии богом охоты
является мужчина, имеющий дочерей или сестер хо­
зяек зверей, подчиняющихся отцу или брату.
В различных районах Грузии мы встречаемся с пред­
ставлением о лесном человеке Очокочи, т. е. о «человекекозле» (Западная Грузия) или Очопинтре (Восточная
Грузия), являющемся покровителем лесных зверей.
■ И. Джавахпшвпл"фЕЕГгруашГка™
185-
251
Уазырмеса. Тот встретил его, не произнеся ни
слова; «молча указал он лесному великану на пенек,
приглашая присесть, молча отрезал ему кусок мяса и
разделил с ним свой ужин». Уазырмес не отвечал вели­
кану на его вопросы. Когда великан вышел, Уазырмес
«положил на свое ложе пень, укрыл его буркой, .а сам
притаился с луком наготове». Ровпо в полночь лесной
великан вошел в шалаш и, приняв накрытый буркой пень
за нарта, повалился па него и мечом, торчащим из его
груди, пронзил пень насквозь. Уазырмес выстрелил в чу­
довище из лука, а затем ослепил его11.
Как было отмечено выше, вера в существование лес­
ного человека, великана, встречающегося охотнику в лесу
и являющегося позднейшей переработкой образа хозяина
леса, зверей и т. и., — была распространена в Грузни по­
всеместно. И в наши дни почти в каждом районе Грузии
можно встретить рассказы о ловком охотнике, сумевшем
избавиться от лесного чудовища путем хитрости или бла­
годаря упоминанию имели св. Георгия. Однако в приве­
денном выше эпизоде иартского эпоса есть одна деталь,
привлекающая особое внимание: меч, торчащий из
груди чудовища. Как мы указывали выше, по грузинским
представлениям, у хозяина леса из груди торчит топор,
являющийся для него орудием нападения и защиты.
В середине XIX в. французским путешественником
было записано в Колхиде предание о лесном человеке,
близко напоминающее адыгское сказание об Уазырмесе.
Опубликовано оно лишь па французском языке 12.
Однажды охотник Гуталия преследовал оленя по кру­
тым горным вершинам. Охота оказалась счастливом, охот­
ник убпл оленя. Под вечер он зажег огонь и начал жарить
шашлык. Откуда ни возьмись, появилось перед ним гро­
мадное человекоподобное чудовище, покрытое шерстью.
Шерсть на нем стояла дыбом, а грудь была заострена
подобно лезвию топора. Это был Очокочп.
Очокочи сел напротив охотника и знаками показал, что
хочет есть. Охотник поделился с ним ужином. ^Очокочп
исчез. Охотник был опытным человеком. Он сруоил пень
Дерева, воткнул кинжал рукояткой в землю, оставив тор­
чать его острие, прикрыл все это буркой, а сам взял
Вера в существование хозяина зверей подтверждается
многочисленными этнографическими данными. В Хсвсуретип записаны тексты молитв в адрес Очопиитре: «О пастух зверей Очопнитрс, тебя умоляю, даруй мне тура, дай
его убить! Ведь души зверей принадлежат тебе» 9.
Название его Очокочп, или Очопиитре, но мнению
академика И. Джавахншвилн, связано с культом мужского
божества плодородия, покровителя животных Сочи ,0,
имя которого упоминается в грузинских исторических
памятниках.
Согласно многочисленным преданиям, повериям и
обычаям, связанным с представлением об Очокочп, охотник, встречая последнего в лесу, по возможности по дол­
жен говорить с ним и не должен стрелять в него более
одного раза. Для Очокочп характерен громадный рост,
покрытое шерстью тело, а главное — грудь, заостренная
в виде топора (по некоторым рассказам, из его груди
торчит лезвие топора, которое служит орудием защиты
и нападения).
Повсеместное распространение имеет рассказ о встрече
охотника с Очокочп и спасеппи от него охотника благо­
даря хитрости пли обращению к христианским святым.
В связи с этим привлекает внимание один из эпизодов
адыгского иартского эпоса. Речь идет о встрече Уазырмеса
с лесным великаном. Краткое содержание этого эпизода
таково. Жшш два брата, Имыс и Уазырмес. В отсутствие
Имыса его жена воспылала страстью к Уазырмесу. Уазыр­
мес вынужден был покинуть свой дом и поселиться
в дремучем лесу. Он жил в шалаше, сделанном из зверппых шкур, питаясь дпчыо. Однажды вечером, когда
Уазырмес варил себе на костре похлебку п в ожидании
ужина играл на пшиие, он услышал страшный шум и
увидел, что по лесу движется чудовище. Оно выры­
вало-с корпем огромные деревья, вгоняя их вершинами
в землю, рушило скалы. Лесные звери разбегались
в страхе во все стороны. Чудовище оказалось великаном
с головой человека и туловищем зверя. Из груди у пего
торчал обнаженный меч. Лесной великан вошел в шалаш
Записал А. Шанпдзе в 1914 г. от Бессарпона Габуурп.-~
См.: «Целпцдеули». Сб. общества языкознания. Тбилиси, 1924,
стр. 153—154 (на груз, яз.).
• '.10 И. Дщавахпшвплп. Исторпя грузинского парода,, т. IТбилиси, 1928, стр. 76-77 (на груз. яз.).
252:
" «Нарты. Кабардинский эпос». М., 1957.
12 ^ М о и г 1 е I Ьа МшегеНе. Рапе, 1884.
!
253
ружье и спрятался за деревом. Через некоторое время
из лесу выскочил Очокочн и, приняв покрытый буркою
пень за охотника, грудью набросился па него. Однако
кинжал охотника и выстрел из ружья сделали свое дело.
Чудовище с ревом скрылось в лесу, и охотник тщетно
преследовал его.
Как видим, сходство здесь разительное. Разница только
в том, что адыгский Уазырмес вооружен луком со стре­
лами, а колхидский охотник стреляет из ружья.
Аналогичный рассказ, записанный в Имеретин, напе­
чатай в «Сборнике материалов для описания .местностей
п племен Кавказа» 13.
Действие совпадает в мельчайших деталях опять-таки
не потому, что оно перешло к адыгам из Грузин или на­
оборот, а потому, что оно отражает традиционные веро­
вания и представления, которые долгое время определяли,
«регламентировали» поведение охотника на Кавказе.
Аиалпз двух привлеченных нами сюжетов показывает,
что настало время для углубленной сравнительной работы
над эпосом. Сравнение не может, однако, ограничиваться
установлением сходства отдельных мотивов. Оно должно
оазироваться на глубоком знании народа, его прошлого,
должно вестись на фоне всей фольклорной и этнографи­
ческой традиции кавказских пародов, на основе комгшексного изучения истории материальной культуры, религиоз­
ных представлении и богатого фольклорного материала.
Подобная работа требует коллективных усилий псслсдователей Кавказа.
13 СМОМПК. ши. V, отд. Л. Тифлис, стр. 97—102.
/1. О. М а ль саго в
О МЛРТ-ОРСТХОЙСКОМ ЭПОСЕ
ИНГУШЕЙ И ЧЕЧЕНЦЕВ
[
С незапамятных времен среди народов многонацио­
нального Кавказа, на северных склопах Кавказского
хребта, по правому берегу Терека и на восток до реки
Аксая, проживают родственные по происхождению,
общности исторического развития и культуре чеченцы и
ингуши. Языки их, близкие по лексическому составу,
грамматическому строю и фонетической системе, отно­
сятся к вайнахской группе кавказских языков. Ингуши
и чеченцы почти свободно понимают друг друга и сами
себя называют «вайнах», а свой язык «вайпаьха мотт»,
т. е. чечено-ингушский язык. В силу того, что в языковом,
социально-экономическом, бытовом и других отношениях
ингуши и чеченцы имеют много общего, справедливо го­
ворить о чечено-ингушском фольклоре, где общность про­
является не только в тематике, в народных идеалах и
мировоззрении, но также и в системе художественноизобразительных средств, приема^ и стиле. Глубоко
правы Д. Д. Мальсагов и X. Д. Ошаев, которые утверж­
дают единство чечено-ингушского фольклора. Они отме­
чают, что каждое значительное произведение, в какой бы
части Чечено-Ингушетии оно ни было создано, становилось
Достоянием всего народа, хотя одни произведения могли
бытовать в большей степени в одних районах, другие —
13 Других Г
Интерес к фольклору вайнахов впервые был проявлен
в ТУ лору, когда началось интенсивное изучение истории,
этнографии и устной словесности кавказских горцев.
1 Д. Д. Мальсагов, X. Д. Ошаев. Устно-поэтпческое
творчество чечено-ингушского народа. — «Очерк истории чечепоингущской литературы». Грозный, 1963, стр. 9.
255
Собиранием и изучением фольклора занимались но только
представители демократической части русской шгтел лигенции, но и образованные ингуши и чеченцы. Образцы
народной поэзии вайнахов публиковались в таких Дореволюцтюнных изданиях, как «Сборник сведении о кавказ­
ских горцах», «Сборник материалов для описания мест­
ностей и племен Кавказа», «Этнографическое обозрение»,
на страницах газет «Кавказ» и ((Терские ведомости».
Первая публикация образцов вайнахского эпоса содер­
жится в статье тушпнца2 И. Цискарова «Картина Тушетин»3, носящей общий этнографический характер. Здесь
помещен отрывок об узнике Ампранн, прикованном к горе
за какую-то дерзость против творца вселенной. Через
несколько лет И. Цискаров публикует три тушинские
песни4. Одна из них записана русскими буквами, а две
другие — грузинским алфавитом.
Большое внимание к истории, языку и фольклору вай­
нахов проявили прогрессивные русские ученые и писа­
тели.
Ранние записи лирических песен на чечепском языке
принадлежат Л. Н. Толстому, который зафиксировал их
в 1852 г. со слов своих кунаков — Садо Мпспрбнева и
Балты Исаева5. Тексты этих несен прокомментированы
Н. Ф. Яковлевым6 и получили весьма высокую оценку.
Значительное место в истории изучения и публикации устно-поэтических произведений вайнахов прииадлежит
ликовал „ГУпГУШСК°Му эт.н_огРаФУ Ч. Ахриеву. Онопуби свыше поп СК0М ЯЗЬ1ке 12 нарт-орстхойскпх сказаний
ствие пт * Г сказок геРоического характера. Отсут­
ствие письменности у вайнахов фактически делало неПечатТяЬтексты^рИКа^111^ Текстов ыа ингушском языке.
Ч Ахппев тот сказашш в адекватном русском переводе,
I
ГЗЙ*=П
■—~
^
аписал в горной Ингушетии в тече-
«Цгг I» • 54Я
(на пнгуш. яз.).
^ердало». Орджоникидзе, 1927, № 63
256
,
I
пие 1808—1870 гг. Б ряде случаев он указывает место
и время записи произведений, но ничего пе сообщает
о сказителях. Записанные им сказания, несомненно, слу»
жат ценным источником для нартоведов. Ч. Ахриеву
принадлежит и заметка о парт-орстхойском эпосе ингу­
шей7 (о пей будет сказано дальше).
Более поздние публикации нарт-орстхойскпх сказаний
ца ингушском языке” позволяют утверждать, что пере­
воды Ч. Ахрнева точно передают содержание и стиль
подлинников.
Это с наглядностью подтверждают и записи Б. Далгата,
произведенные 20 лет спустя, но следам Ч. Ахриева
в тех же аулах и от тех же, видимо, сказителей — 100-летнего Казбыка Казней Хабнсва Буржаева и 60-летнего
Гаиыжа Абысв Кслпгова Фалхаиова9. Б. Далгат сообщает
паспортные данные о сказителях, приводят их полную
биографию. Некоторые его записи являются вариантами
ахриевекпх; другие — такие, как «Рождение Соска Солсы»,
«Сеска Солса и Охкар Кант», — записаны впервые.
Особый интерес представляет малоизвестное сказание
«Рождение Села Саты», записанное Б. Далгатом от скази­
теля Гаиыжа Абыев Келигова Фалхаиова в конце про­
шлого века. Адыго-абхазской версии сказание о рождении
Села Саты (Сатаны, Шатаны, Сатаней)
неизвестно,
в осетинском эпосе она — дочь водной и небесной стихий.
В этом мифологизированном сказании иарт-орстхойцы
выполняют весьма пассивную роль, а действующими ли­
цами являются боги. Напомним, что в ряде случаев и
Сеска Солса наделен божественными качествами, иоо он
произошел «прямо от бога». Данный вариант единст­
венный среди кавказских мартовских сказаний, в котором
Села Сата фигурирует не как мать Сеска Солсы или его
возлюбленная, а является дочерью бога грома и молнии
Села.
~ Ярко проявились в сказании «Рождение Села Саты» и
богоборческие мотивы. Безымянная мать Села Саты перед
7 Ч. А х р и с в. Несколько слов о героях в ннгушсвских скасерно.;.
’Щ |?5,д(ГлГ,Г'п.^о«ыт».я Щк чеченцев. «Терский сборник», выл. III. Владикавказ, 1893.
10 Села-Стола — бог грома и молнии. Сата его доч .
17
Заказ № 1480
257
смертью просит нарт-орстхойцев оградить оо от притяза­
ний насильника Села. И это говорится в народном произ­
ведении ингушей, которые сто лет тому назад (а сказание
записано в 1891 г.) еще поклонялись этому божеству,
с исполнением определенных языческих ритуалов. Обряд
этот в пережиточной форме среди вайнахов исполнялся
до 30-х годов нынешнего века в сопровождении песни
«Мустагударг» 11.
В этой песне люди вымаливают у главного бога
(даьла) и у бога грома и молнии (Села) дождь и просят
хороший урожай, чтобы колосья были величиной с хвост
кошки, а семена — размером с хвост лани.
Если в таких шпроко известных сказаниях, как «Амиранн» и «Прометей», их герои похищают огонь для лю­
дей, обрекая себя на вечные муки, то в «Рождении Села
Сатьт» Сеска Солса намеревается убить самого бога Селу,
стреляет в него из лука и ранит его, а бог трусливо убе­
гает. В другом сказании рассказывается о том, как Сеска
Солса схватил бога Селу и поломал ему бока, после чего
буря и гроза утихли12.
Б. К. Далгат посвятил эпосу вайнахов исследование 13,
в котором анализирует нарт-орстхойские сказания и пре­
дания ингушей героического содержапня и определяет
оощекавказскую принадлежность основных нарт-орстхойских героев в сопоставлении с героями нартских сказаний
других народов Кавказа.
В те же годы чеченец-этнограф У. Лаудаев в работе
«Чеченское племя» 14 опубликовал в русском переводе два
нарт-орстхойскпх сказания. Эти заппси народных произ­
ведении представляют известную ценность как первая
фиксация сказаний о нартах на территории Чечни (время
и место записи ^сказаний У. Лаудаев не указывает). Пер­
вое из сказаний напоминает вариант «Об изобилии зем­
ном», второе же повествует о «нарте» Науре (мифическом
чествоЛваГ1ня^плР Ф6 т‘ пМУстагУДаРг- — «Устпое народное творяз.)
ва1,нахов>>’ т- Е Орджонпкпдзе, 1932, стр. 19 (на ингуш.
РияГ- ССКГРвьшВ УпГтпфлпс!Х1875еЯаШМ’ Пероваш,я 11 П0В<3'
ского эпом ^^5*!- 9траппчка “3 северо-кавказского богатырского эпоса.-«Этнографическое обозрение», вып. IV, 1901.
лпс, 1872. 1 удасв- Чеченское племя. —ССКГ, вып. VI. Тиф258
основателе селения Нижний Наур), убивающем «нарта»
Гожака с целью овладеть его женой.
Не повторяя сюжетов, записанных Ч. Ахриевым и
Б. Далгатом, известный просветитель Т. Эльдерхапов опуб­
ликовал на чеченском языке несколько сказаний и сказок,
сопроводив их подстрочным и литературным переводом15.
Публикация выполнена на высоком иаучпом уровне;
к сожалению, отсутствуют паспортные данные о сказите­
лях, от коих они записаны. Ко всем текстам Т. Эльдер- .
ханова Л. Г. Лопатинский приводит подробные коммен­
тарии лингвистического характера, дает анализ чеченских
сказок в сравнении с русскими, характеристику их основ­
ных образов и т. д. Следует, кстати, заметить, что в че­
ченских сказаниях пли, вернее сказать, в героических
сказках, нарты отождествляются с великанами. Достаточно
сравнить аварскую сказку «Морской конь»16 с чечен­
ской — «О Хаио Гаммалте» 17 (а эти примеры можно уве­
личить), и станет ясно, что словом «нарты» в них име­
нуются великаны, ничего общего не имеющие с героями
общекавказского иартского эпоса, по напоминающие
великанов дагестанского сказочно-богатырского эпоса.
Прекрасным подтверждением этому служат слова
П. Услара, большого зиатока фольклора северокавказскпх
народов, отмечавшего, что по мере удаления от Централь­
ного Кавказа па восток нартский эпос предается забвению,
а сами герои превращаются в великапов. Вывод этот
никем до сего времени не опровергнут, более того, все
последующие фольклорные записи и некоторые исследова­
ния подтверждают верность наблюдений П. Услара 18.
Данные чечено-ингушского нарт-орстхойского эпоса
использовал в своих работах и Вс. Миллер. В «Осетин­
ских этюдах» он упоминает о «нартах» вайнахов: «Из из­
данных материалов по пародиой поэзии горских народов
видно, что нарты и сказания о них так же хорошо изве­
стны и другим, соседпим с осетинами, народам Северного
15 СМОМПК, вып. XXVIII. Тпфлпс, 1900; вып. XXIX, 1901.
16 «Песни и сказки, собранные Андемиром Щркеевским».
Перев. с авар. Темир-Хан-Шура. М., 1887.
17 «Фольклор Азербайджана п прилегающих стран», т.
Баку, 1930, стр. 154-159.
_ 18 У. Б. Д а л г а т. К вопросу о нартском эпосе у пародов
Дагестана. — «Нартский эпос. Материалы совещания 1Э -0 ок­
тября 1950 г.» Орджоникидзе, 1957.
17*
259
Кавказа, чеченцам, балкарцам и особенно кабардинцам»19.
Если в данпой работе Вс. Миллер справедливо констати­
ровал, что «нарты» хорошо известны чеченцам (до рево­
люции ингушей называли чеченцами. — А. Л/.), то не­
сколько позже в «Кавказско-русских параллелях», ссы­
лаясь на Ч. Ахриева, он отметил: «Что касается чеченцев,
то их нартскпе сказаппя находятся под влиянием осетпнсиях», исходя лишь из того, что «постоянное жительство
нарт-орстхойцев есть соседняя с Чечней Осетия, именно
Сапабп»20. Указание о том, что иарт-орстхойцы прожи­
вали в Саиаби, дало повод Вс. Миллеру и некоторым дру­
гим исследователям говорить об «осетинском влиянии» па
эпос вайнахов.
Между тем никак нельзя недооценивать самобыт­
ность и оригинальность чечено-ингушских нарт-орстхонекпх сказаний. Их самостоятельное бытование ни в коеймере, иа наш взгляд, не объясняется местожительством
нарт-орстхойцев и совершаемых ими походов (во всех
сказаниях они являются пришельцами, и в эпосе это явно
подчеркивается), а, наоборот, лишний раз подтверждает
самобытность парт-орстхойских сказаний ингушей тг че­
ченцев. В них встречаем сюжеты, которые неизвестны
нартским сказаниям других пародов Кавказа, хотя мы
ие должны забывать и о многих общих мотивах нар­
тиады.
После победы Велпкой Октябрьской социалистической
революции, в 1923 г., впервые в истории ингушского на­
рода на родном языке вышла газета «Сердало» (Свет),
а с 1925 г. стала выходить и чеченская газета «Серло»
(Свет); этп газеты сыграли большую роль в свершении
культурной революции в Ингушетии и Чечпе.
В 30-е годы Ингушским литературным обществом
в Орджоникидзе издаются фольклорные сборники, в ко­
торых встречаются и иарт-орстхойскпе сказания. Ингуш­
ский поэт Т. Беков опубликовал в одном из таких сбор­
ников замечательное сказание «Ачамза-боарз» (холм или
курган Ачамаза)21. В этом интересном ингушском ска19 Вс. Миллер,
тексты. М., 1881, стр. 8. Осетинские этюды, ч. I. Осетинские
20 Вс. Мнллор. Кавказско-русские
фическое обозрение», 1891, № 3, стр. 177. параллели. — «Этпогра21 Т. Беков. Ачамза-боарз. — «Литсборнпк». Ингушское ли­
тературное
ингуш, яз.). общество. Орджоникидзе, 1931, стр. 45—50
260
яаппи встречаются первые упоминания о героях Ачамазб,
Пярт Пясаре тг Нярт Орстхо22. Любопытно, что сюжет ска­
зания не совпадает пн с одним из сказаний кавказских
народов. Главным героем его является Ха, сын Лоама.
Ха отбивает свою невесту у князей Салой и погибает
в борьбе против Ссека Солсы, ногайских и салойскпх кня­
зей. С большой любовью в сказании «Ачамза-боарз» обри­
сованы образы безымянной матери Ха и его невесты,
которую постигает участь любимого. Сказание сопровож­
дает небольшой комментарий.
И этом же сборнике помещена и иарт-орстхойская
песня, записанная Ф. Мальсаговон от сказительницы Вер­
саповой из села Нясар-корт. Она напевала ее под акком­
панемент чондырга23. Публикация дана в потной записи,
сделанной композитором Е. Колесниковым24.
В песне прославляется любовь к земной жизни тг со­
зидательному труду, в иен много солнца и радости. Села
Сата — дочь языческого бога грома и молнии —- прослав­
ляется как искусная швея; мусульманские пророки
(пайхмар) —уподобляются землепашцам. С грустью 'упо­
минается и голубь Соска Солсы25. Ингуши до сего вре­
мени лесного голубя называют «Солса кхокха», т. е.
«Солсы голубь». В другом сборнике опублпковапы два
одно! I мои 1 г ы х ск аз айн я «Колой Кант». Ценность их
прежде всего в том, что они приведены в оригинале на
ингушском языке, а одно из них имеет и паспортные
данные о сказителе. Первое сказание «Колой Капт»26
записал Лорса Ахрнев со слов Гудиева Абдурахмана из
селения Мужпчп в .1930 г. По своему сюжету опо почти
22 «Пярт Нясар» — значит Иясар, сып Пярта; «Нярт Ор****** — Орстхо, сып Пярта.
..
,
«Чоидътрг» — ингушский музыкальный инструмент.
24 «Ипгушская песня». Ингушское Литературное общество,
Орджоппкпдзе, 1931, стр. 92 (па ингуш, яз.).
0 Ср. со сказанием «Гибель парт-орстхолцев», где <<перод
с просьбой
смертью Сеска Солса обращается ^ леспомуюголубю
за глоток воды
принести ему глоток воды. С ола™Д Р пусть люди называют
ет; сзг
будут золотые перышки» (см.. Д: Астр. 236. Здесь и далее перевод мои2С. Лорса Ахрнев. Колон Капт.
ство вайпахов», т. I, стр. 11—13,
261
—г» «
,, ч
у^'пос народное творчс-
полностью совпадает со сказанием «Колон Кант» 27, запнсанным Чахом Ахрпевым. В поздней публикации вместо
нарт-орстхойцев и Сеска Солсы действуют уже черкесские
князья (свидетельство постепенной деформации эпического сказанпя). Второе сказание — «Колой Кант»28,
включенное в сборник, записал Абдулвагап Аушев. Пас­
портные данные о сказителе и место записи не указаны.
Вариант очень близок к тексту, записанному Ч. Ахрпе­
вым; представляет интерес прежде всего стиль и весьма
архаический язык его. В публикации Чаха Ахрнсва гово­
рится, что Терек стал многоводным по молитве Сеска
Солсы, а в данном варианте —■ по просьбе одного путника,
желавшего предотвратить столкновение между иарт-орстхойцамп и Колой Кантом; иначе говоря, в сказании пре­
валируют миролюбивые мотивы.
В 30-е годы в Чеченском музее в г. Грозном велась
большая работа по сбору и изданию29 народных произве­
дений; к сожалению, изданные сборники не содержат ни
одного иарт-орстхойского сказания.
Неутомимо изучает народную словесность ингушей и
чечепцев известный археолог-кавказовед Л. П. Се­
менов. Он свидетельствует широкую распространенность
нарт-орстхойскнх сказаний вайнахов. «В каждом горном
селении, — писал Семенов, — можно услышать сказания
о нартах» 30. Л. П. Семенов привлекал данные иарт-орст­
хойского эпоса ингушей и чечепцев прежде всего для под­
тверждения археологических разысканий в горной Ингу­
шетии31.
В 1934 г. Чеченская и Ингушская Автономные области
были объединены в Чечено-Ингушскую Автономную
27 Ч. Ахриев. Колой Кант.-ССКГ, вып. IV. Тифлпс, 1870,
28 Абдулвагап Аушев. Колой Кант. — «Устное народное
творчество найнахов», т. I, стр. 14—15.
29 А. Н а ж а е в, С. И б р п е в. Чеченские песни. Грозный,
1927 (на чечен, яз.); X. Ош а с в. Чечепские сказания. Грозный,
1927 (на чечен, яз.).
30 Л. Семенов. Ингушская и чеченская пародная словес. кость. - ИЧИНИИИЯЛ, т. I, вып. III,
литература. Грозный. 1950,
стр. 187.
31 Л. Семенов. Археологические п этнографические разыскания в Ингушетии в 1925—1932 гг. Грозный, 1963; о н ж е.
Нартскно памятпики в фольклоре. __
ищущей и осетин. Владикап^аз, 1930.
?62
Стотридцатилетнии исполнитель нарт-орстхоиского эпоса
вайнахов Соси Эльмурзаевич Лаптев.
область; в столице ее —г. Грозном —на базе двух инсти­
тутов — ингушского и чеченского — был создай Нау чпоисследовательский институт истории, языка, литературы
и искусства. В 1937 г. писатели С. Бадуев, О. Мальсагов,
А. Нажаев и др. собрали богатый фольклорный материал,
который и составил значительную часть сборника «Че­
чено-ингушский фольклор», где помещено семь «иартскйх» сказаний. В издании сборника не смогли принять
участия сами собиратели фольклора; этим и следует
объяснить некоторые его существенные недостатки. Так,
напрпмер, сказания, вошедшие в раздел «Нартскип
эпос»32, приведены без паспортных данных, не указано,
приводятся ли эти материалы впервые, или они перепеча­
таны из других источников, не все сказания, включенные
в этот раздел, можно считать нартекпми (нарт-орстхойекпмн).
В 1940 г. ингушские писатели Х.-Б. Муталпсв и X. Осмцев издали сборник «Ингушский фольклор»33. В пего
вошли ценные по качеству и разнообразные по жанрам
фольклорные произведения. На первых страницах сбор­
ника помещены ранее неизвестные нарт-орстхойскис ока­
зания «Барахой Кант», «Нежно любимая Альбина»,
«Снека Солса» и вариант сказания о «Колой Канте». Все
тексты имеют документацию.
! Наиболее полно нарт-орстхойскпе сказания представ­
лены в сборнике «Радость сердца» 34. Собрал их известный
кавказовед проф. Д. Д. Мальсагов. Здесь встречаются
варианты уже известных сказаний, в частности заппсаниь|х Ч. Ахрпевым, — такие, напрпмер, как «Соска Солса
11
ста1)Уха», «Как логпбли иарт-орстхойцы» и «КоЛ0Р Кант». Многие сказания содержат малоизвестные
сюжеты о новых героях — таких, как Селий Пнрьа, Книда
оа, Пхагал Бярп и др. Все они приведены на ингушском
языке, но отсутствует паспортизация. Среди материалов
из; личного архива Д. Д. Мальсагова мы обнаружили точ­
ный паучныи аппарат к этим текстам.
аиее опубликованные нарт-орстхойскпе сказания
инахов включены в сборник «Чудесные родники»35»
32 «Чечено-нпгушскнн фольклор». М., 1940,
33 «Ингушский фольклор». Грозный, 1940 стр. 249—271.
(на пигуцг. яз.).
34 Д. Д. М а л ь с а г о в. Указ соч.
35 «Чудесные родинки. Сказания, сказки и песни пародов
Чечено-Ингушской АССР». Грозный, 1963, стр. 23—40.
264
!
составленный чеченским писателем С. Арсановым. В дан­
ный сборник вошли четыре сказания, ранее опубликован­
ные в книге «Чсчсио-ннгушскпй фольклор» 36 («Невидан­
ное дело», «Как погибли парты Эрстхуо», «Ссека Солса
и сторожевой вопи», «Колон Кант», «Ялхой-мохкскоо
сказание»37, «Орхустойцы и Ботоко-Ширтга» 38 и другие
жанры устного народного творчества чеченцев и ингушей).
Сказания о нарт-орстхонцах представлены в сборнике
далеко не полно: например, отсутствуют такие сказания,
как «Соска Солса и старуха-вдова», «Холм Ачамаза»,
«Соска Солса и Селии Пнрьа» и многие другие, а без них
нельзя определить место, которое занимает чечоио-ингушскип нарт-орстхойскпй эпос среди, иартекпх сказанин
других народов Кавказа.
Значение сборника снижают некоторые фактические
неточности: имя героя Соска Солса, например, передано
как Соска-Солса. Форма «Соска» наиболее употребительна
сказнтелямп и отвечает нормам вайнахского языка; де­
фис же между именем отца и сына совсем не нужен, как,
например, в русском «Евгений Захарович».
Собранный материал но парт-орстхойскому эпосу
(опубликованный и архивный) позволяет говорить о богатстве и своеобразии эпоса вайпахов и некоторой сюжет­
ной близости его с иартекпмп сказаниями народов Кавказа.
Как видим, записи и публикации героического парторстхойского эпоса вайпахов имеют свою продолжитель­
ную историю. Но все те сказания, которые были до сих
пор изданы, еще не стали предметом пристального вни­
мания исследователей, хотя чечено-ингушская народная
словесность и, в частности, иарт-орстхойскнс сказания
являются высокохудожественными произведениями, осно­
ванным и па лучших эпических традициях вайпахов.
Данные чечено-ингушского нарт-орстхойского эпоса
использовались главным образом в работах сравнптель. И. Абаев40, Е. М. Меле­
пого плана (Г. Дюмезнль39, В
37 ^ечон°-ийщгшекии фольклор», стр. 249—271.
с пп <<^казкп 11 легенды чеченцев, собранные Л. Семеновым,
з8ДиСЛОШ1елг п примечаниями собирателя». Владикавказ, 1882.
ТтгА
. Ахрнев. Из чеченских сказаний. — ССКГ, вып. V.
Гифлнс,
40 р 1871,
?11111стр.
е 2 38-46.
* 1- Ьо&спЛез зиг 1сз паг1ез. Рап'з, 1930.
г.п
"• И. Абаев. Проблемы партского эпоса. — Сб. «Нартскип
лДггериалы совещания 19—20 октября 1956 г.» Орджопн,чЯДзо, 1957, стр. 35.
265
тинский41). Как правило, в этих работах в разных вари­
антах повторяется тезис Вс. Миллера о том, что многие
народы Кавказа, как позднейшие пришельцы, заимство­
вали некоторые типы героев-иартов у кабардинцев или
нашли их на новой родине, раньше их населенной осетинами42.
Такие утверждения Вс. Миллера нуждаются в тщательной проверке. Нет никаких оснований предполагать,
что чеченцы и ингуши как более поздние пришельцы занмствовали некоторые типы героев у осетин и кабардин­
цев. Свидетельства о том, что ингуши и чеченцы — Дрепнейшие обитатели Северного Кавказа, содержатся в трудах средневековых авторов и в «Армянской географии
VII века», а также в работах советских археологов, историков и лингвистов43.
Предварительное исследование нарт-орстхойских ска­
заний позволяет утверждать, что эпос вайиахов является
глубоко самобытным и оригинальным. Справедливость
этого может быть показана, конечно, лишь на основе
сплошного сравнительного анализа всей совокупности
вариантов нарт-орстхойского эпоса вайиахов.
В данной статье мы постараемся ответить па ряд вопросов, непроясиенность которых ведет к неправильному
истолковапшо чечепо-ингушского нарт-орстхойского эпоса.
Вот эти вопросы:
1. Каково представление народа о парт-орстхойцах?
Составляют ли «нарты» и «орстхойцы»
одну эпическую
группу героев пли относятся к двум разным?
2. Кто такие, собственно, вайнахскне местные героп-богатыри и какое место они занимают в нарт-орстхойских
сказаниях?
3. Какова локализация парт-орстхойского
эпоса и этимология имен его героев?
Ученые-кавказсшсды, анализируя устное поэтическое
творчество вайиахов, в частности нартский эпос (для ска­
заний ингушей и чеченцев более верным был бы термин
«нарт-орстхойскнй» эпос), как на самый достоверный
источник, ссылались на заметку Ч. Ахрпева «Несколько
слов о героях в иигушевских сказаниях». Ч. Ахрнев отметнл как отличительную особеииость эпоса вайиахов то,
что, в отлпчие от, например, осетинских сказаний, здесь
речь идет как бы о двух типах героев — нартах и орстхойцах. Он писал: «Во всех ингушских сказаниях и пес­
нях героями являются парты и орхустойцы44, с противо­
положными характерами. Первых изображают как людей
в высшей степени добрых и нравственных, а потому не
удивительио, что слово «нярт» сделалось между ингушами нарицательным именем» 45.
В известных нам сказаниях редко встречается само­
стоятельно употребляемый термин «нярт» (нарт) или
«орхустоец» (орстхосц), по если такая терминология имеет
иногда место, то она, как правило, адекватна понятию
«иарт-орстхоец». Дело в том, что «иярты» и «орхустойцы»
всегда выступают как единое и нерасторжимое целое,
а именно — «нарт-орстхойцы». Сеска Солса всегда предстает предводителем 60 нарт-орстхойцев. У ингушей есть
даже выражение: «Пусть придет тебе на помощь Сеска
Солса со своими 60 парт-орстхо (йцами)». У чеченцев же
говорят: «Вошел иарт-эрстхо (ец) с глазами (величи­
ною) чаша-чаша, с зубами (величиною) серп-серп» .
С появлением нарт-орстхойцев, говорится в одном из ска­
зании, исчезла благодать с земли, а в другом — о том, что
Сеска Солса гибнет за свои преступления вместе с 60
I
I
41 Е.чМ. Мелетинский. Место нартских сказаний в исто­
рии эпоса. — Там же, стр. 40, 59.
42 Вс. М п л л е р. Кавказско-русские параллели. — «Этногра­
фическое обозрение», № 3, 1891, стр. 167.
43 Е. И. Крупнов. Древняя история Северного Кавказа. М.,
Изд-во АН СССР. 1960; он же. О чем говорят памятники мате­
риальной культуры чечепо-ингушской АССР. Грозный, 1961;
Г. И. М е лпкишвил и. К истории древней Грузии. Тбилиси,
1959; 10. Д. Д е ш е р и е в. Сравнительно-историческая грамма­
тика нахских языков и проблема происхождения и исторического
развития горских кавказских народов. Грозный, 1963 и др.
266
нарт-орстхойцами 47.
Ошибочность деления нарт-орстхойцев на «доорых
нартов» и «злых орхустойцев», предложенную Ч. Ахрие»ым, отмстил еще Б. Далгат. Он, напротив, считал нарторстхойцев одним типом героев и совершенно верно сравтребл ^еРм,1н отот сказителями и исследователями эпоса упохпйггЛяется Разлпчно: орхустойцы, орстхойцы, орштхойцы, эрстипЯЬ1 Пт. Д.
аоптг
Ахривв. Несколько слов о героях в иигушевских скаЙГХо“~ССКГ» выл. IV. Тифлис, 1870, стр. 1.
47 ^писано нами в г. Грозном в 1963 г. от Э. Хаджалисва.
А- Д- М а л ь с а г о в. Указ, соч., стр. 237.
267
нпвал их с героями-иартамп осетинских и адыгских сказа­
ний, убедительно показав при этом, что орстхопцев пн
в коем случае нельзя отождествлять шг с адыгскими нныжами, ни с осетинскими уаигами: в сказаниях ингушей
последним соответствуют вамполы (великаны) 13. Однако
н Б. К. Далгат ошибочно называл положительных героев
Колой Кант, Охкар Кант и др. «ларт-великаиамп».
В статье «У истоков искусства слова», предпосланной
сборнику «Чудесные родники», В. Б. Корзуи повторил
тезис Д. Д. Мальсагова о том, что в чечено-ингушском
нарт-орстхойском эпосе одно из первых мест занимают
местные герои, добрые и могучие пастухи Колон Кант,
Охкыр Кант и др., занявшие в нарт-орстхопских сказаннях то место, которое Сослан, Сосруко, Батраз и др. за­
нимают в адыгском и осетинском эпосе. Однако
В. Б. Корзуи, как н некоторые предыдущие исследова­
тели, без всяких на то оснований «добрым и злым велпкапам протнвопоставляет мартов и неких эрстхопцев, вы­
ступающих в союзе и под водительством Соска-Солсы и
Ботоко-Шпртгн» 49.
И. В. Тресков, анализируя чечепо-нпгушекпй эпиче­
ский узел, вслед за Б. Далгатом справедливо подчерни­
вает: «Деление ла нартов п орхустопцев кажется не­
сколько условным. Правильнее, видимо, было бы считать
их всех нартами (нарт-орстхойцами. — Л. Л/.), но разли­
чать по поступкам, по той конкретной функции, которую
они выполняют в чеченском (чечено-ингушском. — А. Л/.)
фольклоре» 50.
Вопрос о том, что парты — это одни герои, а орстхойцы другие, даже не возппкает у исследователей,
знакомых с эпосом вайнахов на ингушском и чеченском
языках. Из самих сказаний с совершенной очевидностью
вытекает, что нарт-орстхойцы — одна эпическая группа,
единый тип героев. К ним относятся: Сеска Солса, Ачамаз, Боткий Ширтка, Герминча, Патараз п другие герои,
хорошо известные в нартском эпосе многпх народов
Кавказа.
Цснтральиоо же место в иарт-орстхойском эпосе вайиахоп занимают местные герои, известные только чеченоингушскому эпосу. Это Колой Кант, Книда Шоа, Пхагал
Бяри, Бпйдолг Бяри, Барахой Кант и др. Они наделены
только положительными качествами. Им присущи щед­
рость, широкое гостеприимство, поддержка слабых, вер­
ность слову п т. д. В столкновениях с иарт-орстхонцами
они — всегда обороняющаяся сторона.
В Галгаевском ущелье до сегодняшнего дня сохрани­
лась гора Колон (Колой лоам) и башня Колой (Колой
Нала). Ингушская фамилия (род) Колоевых считает
---- родоначалышком-предком Колой Канта, а фампсвоим
лия (род) Барахаиовых — Пхагал Бяри51. Из сказаний
ясно, что это любимые герои эпоса.
Следует отметить, что если к местным героям народ
относится с любовью и уважением, то к нарт-орстхойцам
у пего отношение двойственное. Иногда нарт-орстхойцы
выступают совместно с местными героями. Например,
в сказании «Жена Пхагал Бяри и иарт-орстхоец» гово­
рится следующее: «В далекое старое время Пхагал Бяри,
Колой Кант п Сеска Солса охраняли Галгай Коашке от
врагов, наступавших с низу (равиппы)» 52. А в сказании
«Сеска Солса и Книда Шоа» Сеска Солса выдает свою
дочь за Книда Шоа, предварительно договорившись о вы­
купе. Книда Шоа, по уговору, «должен был выгонять нс
загона (хлева) упитанных синих белоголовых коров дс
тех пор, пока Сеска Солса не улыбнется» 53.
Нарт-орстхойцам покровительствуют боги (их молитвг
а сказании «Колой Кант» доходит до богов); они сильны,
их предводитель Сеска Солса рассекает шашкой скалы
его конь перепрыгивает через горы. С другой стороны..
• нарт-орстхойцы — корыстолюбивые и бесчестные люди,
действия их не лишены коварства. Так, в сказании «Ко­
лой Кант» Сеска Солса обманом угоняет барапту Колон
Канта, а в сказании «Вампол в Асснновском ущелье» го­
ворится о том, как он подлым образом уонвает вампола.
чтобы увести его жену. В сказании «Жербаоа и Сеска
;
I
48 Б. К. Далгат. Страничка из
ского эпоса, стр. 81'.
северо-кавказского богатыр49 «Чудесные родники», стр. 8.
50 И. В. Тресков. Фольклорные
Нальчик, 1963, стр. 55.
связи Северного Кавказа.
постановке пзучешш чочепо-ннгуш& ^ 00.
51 Д. М а л ь с а г о в. К
ского фольклора. — «Революция и город», ау< стр. 238.
52 Д. Д. М а л ь с а г о в. Нарт-орстхойцы,
53 Там же, стр. 242.
269
268
I
Солса» Жербаба54 кормит своих гостей и, не зная, что они
нарт-орстхойцы, говорит: «Когда на свете еще не появи­
лись Сеска и Солса и его 60 нарт-орстхойцев (род обо­
рвался бы их!), мясо и зерно, которое до нпх^было, я при­
готавливаю. Они, эти проклятые, пока нс забрали бсркат
(благодать), па земле все было в изобилии» 55.
«По какому-то странному обстоятельству, местом дей­
ствий как орхустойцев, так и няртов, служит Галгаевское ущелье, между тем постоянное жительство этих
героев, как уверяет народное сказание, есть Осетия,
именно Санабн» 56, — пишет Ч. Ахрнев, удивленный локализацией «непримиримых няртов и орхустойцев».
Действительно, еслп ареной действий: служило Галгаевское ущелье, то стоило ли «нартам и орхустойцам» при­
бывать сюда для борьбы, чтобы затем вновь возвращаться
в Санабн? Все дело в том, что никакой борьбы «нарты»
с «орхустойцами» не ведут и вести не могут, так как они
составляют одну дружную группу, объединенную предво­
дительством Сеска Солсы и именуемую общим названием
нарт-орстхойцев. Но с кем же и против кого они ведут
борьбу? Они ведут борьбу против местных героев-богатырей по всей нагорной Чечено-Ингушетии. Нарт-орстхойцы
в большинстве случаев являются агрессивной стороной:
они жаждут борьбы, подвигов и добычи, но местпые
герои (Колой Кант, Пхагал Бярп, Барахой Кант) всегда
одерживают над ними победу. Но между нарт-орстхойцами и местными героями в других случаях имеют
место мир и дружба, гостеприимство и установление
кровного родства. Все это говорит не о раздвоении нарторстхойцев, а о двойственном к ним отношении на­
рода, ибо они выступают и как положительные герои, и
как отрицательные.
Нарт-орстхойский эпос вайиахов
привлек внимание
участников
нартской конференции в 1956 г. Некоторые
исследователи вслед за Ч. Ахриевым утверждали, что
в фольклоре вайиахов наблюдается раздвоение нартов на
собственно нартов — добрых героев и демонических орху­
стойцев. Дело в том, что в некоторых нарт-орстхойских
сказаниях порою трудно бывает определить, какие герои
относятся к иарт-орстхойцам, а какие — к местным
героям-богатьгрям. Например, Нясар, Шоа у других
кавказских народов выступают как нарты, а в эпосе вайиахов они — местпые герои-богатыри. Не следует поэтому
смешивать двойственное (положительное и отрицатель­
ное) отношение народа к нартам с искусственным раз­
двоением их на не существующих в эпосе отдельно взя­
тых «тгартов» и «орстхойцсв».
И, наконец, в иарт-орстхойском эпосе вайиахов встре­
чается третий тип героев — вампольт, иногда одноглазые,
ешапьг (армянские вишапы), алмасы (лесные женщины).
Сказания, где они фигурируют («Сеска Солса и вампол
в Ассшгопском ущелье», «Сеска Солса и тазовая кость»
и др.) являются архаичными и носят явно фантастиче­
ский характер. Видимо, эти сказания — наиболее древние
среди нарт-орстхойского эпоса; они имеют некоторую общ­
ность с древнегреческими мифами и эпосом народов
Передней Азии. По сравнению с вамполамтг, местные герои
и нарт-орстхойцы являются малышами, однако Сеска
Солса одолевает хитростью глупых и паивпых вамполов.
Бывает, что вам полы дерутся и между собой, вырывая
с корнями столетние чинары; они иногда имеют и женвампол.
Близко к вамполам примыкают и «великаны» в чечен­
ских сказаниях, выступающие под именем нарт-орстхойцсв, но ничего общего с кавказскими нартами не имею­
щие; они лишь «служат, как это верно отмечал
П. К. Услар, синонимами великанов в самом общех
|
значении» 57.
Так, в сказании «Кхежиг» говорится: «В то время
проживавший в Иласхашорте нарт-эрстхоец кричал другому нарту, живущему на Брагуиском хребте: «Э-эй
Брось-ка топор!».
Живущий иа Брагунском хребте парт-эрстхоец отвечал
иласхашортовскому иарт-эрстхойцу: «Лови! Бросаю тео<
топор!» (расстояние между Иласхашортом и Брагунскиа
хребтом составляет километров 11—12) 58. Как повеет
54 «Жербаба» — старуха-вдова, положительная
сонифицпрованный народный образ.
героиня, пер­
55 Д. Д. М а л ь с а г о в. Нарт-орстхойцы, стр. 235.
50 Ч. А х р п е в. Несколько слов о героях в ппгушевекпх ска­
заниях. — ССКГ, вып. IV. Тпфлпс, 1870, стр. 2.
П. К. Уела р. Кое-что о словесных произведениях гор
58
ССКГ, вып. I. фольклор.
Тифлис, 1868,Нарт-эрстхойскпе
стр. 29.
цев. — «Чеченский
сказания I
сказки», т. III. Грозный, 1964, стр. 81 (на чечен, яз.).
270
271
вуется далее в сказании, нарт-эрстхопцы увели у Кхожига брата, жену и сестру. Когда Кхежигу удалось от­
бить у них одну девушку, нарт-эрстхопцы попросили его
вернуть им ее, обещая взамен любого пленника. Кхежнг
ответил, что если ошг возвратит ему брата, то он выдаст
им девушку59.
Нарты (в данном сказании великаны) обладают неза­
урядной силой. Самое же интересное, пожалуй, состоит по
взаимоотношениях между обыкновенными людьми и партамп-великанами. Вначале эти отношения основываются
на спле, а затем устанавливается перемирие, причем
первый шаг в этом направлении делают нарты-великаны.
В другом, например, сказании — «Иччархо и нарт»
герой Иччархо отправляется в путь в надежде встретить
достойных по отваге п силе противников. В одной из башен
оп встречает семь нарт-орстхойцев п их мать. Оберегая
гостя от своих сыновей, мать семерых нарт-орстхойцев
прячет Иччархо в подоле своего платья. Иччархо убегает
от семи братьев и по дороге встречает парта-великана по
имени Гопча, который на семи кабанах мирно пашет
землю. Иччархо молит о помощи Гончу, парт-велпкаи
прячет его от семи братьев в дупле своего зуба и такпм
образом спасает. Затем он рассказывает Иччархо: «Нас
было семь братьев, н самым хилым был я. Была у пас и
одна сестра. Эту сестру увел у пас одноглазы Гг нартэрстхоец Сарган»60. Уже из одного этого эпизода можно
выделить велпканов, обладающих неимоверпой силой:
а) семь братьев-велпкаиов (партов), которые, пграя, пере­
брасывают Иччархо из рук в руки, будто мячик; б) па­
харь-великан (нарт) Гонча, такой огромный, что спрятал
Иччархо в дупле зуба; в) одноглазый циклоп Сарган
(тоже нарт) настолько велик, что без усилий зажарил на
вертеле шесть старших братьев Гончи.
^Мать семи нартов и Гонча встречают Иччархо дружелюоно, а семь братьев желают его погубить, как в свое
время Сарган погубил шесть братьев Гончи. По духу сво­
ему к типу Гонча относится н Колой Кант, но последний
не является великаном и в большинстве случаев выступаст антиподом Сеска Солсы и его сподвижников
нарторстхойцев.
59
фольклор. Нарт-эрстхойски о сказания п сказки»,
т. ТП. «Чеченский
стр. 82.
00 Там же, стр. 81.
пг
■)
I
)
Важной особенностью парт-орстхойского эпоса ваннахов являстся то, что места действия большинства его
героев строго локализованы.
В Арамхннском ущелье расположена так называемая
«гробница Солсы». Острые вершины Передового хребта,
к западу от реки Лесы, называются: места, иссеченные
шашкой Соска Солсы (Соска Солса тур дпйтта моттиг).
Неподалеку от святилища Ссека Солсы встречается
историческое название: «Вампала ч1ож», что означает:
«Ущелье великана».
В сказании «Две дочери и мать» упоминается Доккой-корта, Шатоевское ущелье, где, гарцуя, Сеска Солса
перескакивает на коне с одного берега па другой; наличие
болотистых мест объясняют тем, что здесь пасся копь
Сеска Солсы.
Источник в горном ауле Накыст, по сказанию, образо­
вался от удара копыт коня Сеска Солсы.
Перевал Лесистого хребта называется: «Перевал, где
убит Сай (Сап впила дукъ); сказание локализует здесь
гибель этого героя.
Проникновением' ислама можно, объяснить и явную
мусульмаиизацию некоторых сказаний. Вот одно из них:
«Когда Сеска Солса почувствовал приближение смерти,
поехал он проститься с родной: страной. Ночь застала его
в земле Галгай, в ущелье Лесы, у подножья Гяль-корта.
Он слез с коня, стреножил его и уснул под камнем.
Мочыо к нему явился аллах и сказал: «Сеска Солса,
ты завтра умрешь. Когда взойдет солнце, влезь на камень,
под которым ты спишь, и помолись за свой народ...
Проснулся Сеска Солса. Солнце всходило, и сотворил он
первый намаз. Долго и крепко молился он, весь день не
пил, не ел ничего и, когда кончил последний вечерний
намаз — испустил дух. Теперь на камне остались выемкп
от Ударов его лба, и место, где упирались руки» 61. Этот
камень носит имя Сеска Солсы; упоминание о нем встре­
чается во многих сказках и преданиях вайиахов.
В Ассннском ущелье имеются сторожевые башни Гагиевых, которые, как говорит сказание, охрапяли от вторг­
шихся с равнины врагов Сеска Солса, Колой Кант и
Пхагал Бярн.
Г>1 Бывалый. Молитва Сеско Солсы. — «Терские ведомости»,
1911, № 127.
18 Заказ № 1480
273
В центре плоскостной Ингушетии имеется речка Иясаре, где жил, по сказанию, Нярт Нясар, прогнавший
с равнины нарт-орстхойцев Ачамаза, Козаша и Германча.
В долине реки Арамхи вила гнездо благодатная
птичка (фаьра). У ингушей говорят: «Будь благодатна
для семерых сыновей» 62.
«Фаьра», — по мнению В. И. Абаева, — несомиеиио
иранизм неосетииского происхождения 63.
На берегу реки Сунжтг у селения Экажево имеется
холм (курган) Ачамаза (Ачамаза-боарз), где, как говорится в сказании, была его крепость. Крепость нарт-орстхойцев была и па берегу Камбнлесвкн-Козашка
(Къозашка).
В Ингушетии встречаются названия местностей и святилищ, связанные с именем бога грома и молнии Села:
Бейпп Села, Ауш Села, Дика Села, Морч Села и др.
Относя нартские сказания к той или иной эпохе, необ­
ходимо наряду с анализом их идейно-художественного
содержания проследить этимологию имен иартских героев.
Мы придерживаемся мнения, что независимо от того,
возникли ли эти сказания среди народов абхазо-адыгской
группы или в Осетии, у каждой народности Кавказа вы­
рабатывалось свое собственное, неповторимое отношение
к нартам. Яркий пример тому — вайнахскпе сказания
о иарт-орстхойцах.
62 Выражение «Ворх во1а фаьрал йойла хьо» привожу из сва­
дебной песий, в которой девушки восхваляют невесту, жениха и
его родственников:
Даькъала йойла хьо
Будь ты на радость
КГайча кера.
Белому ястребу.
Хьо даькъала ма йойла, —
Будь ты несчастна, —
Хьан оал хетард? —
Кажется,
кто так скажет! —
Из оала долча б1арга
Сказавшего
глаз
Сигале ма йойла.
Пусть
неба
не увидит.
Фаьрал йойла хьо
Будь ты благодатной
Ворх Г во1а, —
Семерым сыновьям, —
Хьо фаьрал ма йойла,—
Будь ты но благодатной —
Хьан оал хетард? —
Кажется, кто так скажет? —
Из оала долча кога
Сказавшего нога
Лаътта ма хьешалда.
Пусть па землю не ступит.
Термин нарт-орстхойцы (наьарт-ортсхой, наьрт-эрстхой,
наьрт-орстхоп, наьрт-орштхой, иаьрт-аьртхой, иаьртаьрашхой, аьрст-маьстхой) не встречается ни в одной
другой версии иартского эпоса, кроме чечено-ингушской.
Само слово «иярт» (нарт) в вайиахском языке расши­
фровке не поддается, но вторая его часть «орстхой», по
мнению Д. Д. Мальсагова и X. Д. Ошаева, происходит от
имени родоначальника Сослана-Созруко (в осетинском
эпосе) — Ахсартага 64.
По всей вероятности, «орстхой — арштхой — аьрашхой» происходит от «аре» (равнина, плоскость),-ш — показатель множественности, «т!а» — послеслог, «хо» —
словообразовательный суффикс. Таким образом, «орстхо —
арштхо — аьрашхо» (житель равнины) в противополож­
ность «лоамаро» (горец).
Небезынтересно отметить, что все имена героям иарторстхойского эпоса даны по линии отцов: Хам чип Патараз, т. е. Патараз сын Хамча, Боткин Ширтка, т. е.
Ширтка сын Ботка и т. д. Это, вероятно, свидетельствует
о том, что панвысшего расцвета нарт-орстхойские сказа­
ния вайнахов, как и эпос других народов Северного Кав­
каза, достигли в эпоху патриархата; мотивы матриархаль­
ного характера не получили в нем распространения, скорее
всего это отголоски матрилокальиых отношений. Образы
женщин встречаются довольно часто, но главенствующей
роли в семье, роде или племени женщина не играет.
Главная героиня иартского эпоса народов Кавказа
Сатана (Шатана, Сатаней), в ингушских сказаниях Села
Сата — дочь мифического бога грома и молнии Села
(Сэла, Стэла). В вайиахском языке бытуют производные
слова от Села: Селасат (Сэласат) — иволга, а также жен­
ское собственное имя Селаад (Сэла1ад-СтэлаТад) раДУра (букв, «лук Селы»), Селахяштиг (СелахаыдтпгСтэлахаьштиг) —молния (букв, «головешка» Селы).
одном из чеченских диалектов молния называется «дялахшцтиг» (букв, «божья головешка»).
В единственном мифологизированном сказании о «Робдении Села Саты» 65 нарт-орстхойцы выполняют пас-
сз
стр. 12.В. И. Абаев. Дохристианская религия алан. М., 1960,
тпптч4 Д- Д- М а л ь с а г о в, X. Д. О ш а е в. Устно-поэтическое
, • Рч°ство чечено-ингушского народа. — «Очерк истории чечеиог^ск°й литературы». Грозный, 1963, стр. 22.
'
К. Далгат. Первобытная религия чеченцев.- «Тер4 и сборник», вып. III. Владикавказ, 1893.
274
275
(«Ингушский фольклор». Грозный, 1040, стр. 138)
18*
сивиую роль, а действующими персонажами являются
боги. Села Сата выступает в данном сказании дочерью
бога грома и молнии Села. Млечный путь, называемый
«Ча токхадаь моттиг», — т. е. место, по которому пронесена солома — образовался, по сказанию, там где, Села
Сата пронесла солому для брачной постели.
В записях Ф. II. Горепекина говорится, что ингушская
богиня Села Сата является дочерью бога Дола (За! —~
с!а1), женой его помощника Гела (За! гезр. Ьа1) и возлюб­
ленной Ссека Солсы. Для него она якооьг таскала по
небу солому, следом от которой и является Млечный
путь 66 .
Место осетинского Сырдона в ингушских сказаниях
отводптся герою по имени Боткпй Ширтка (Боткъий
Шпрткъа), т. е. Ширтка сын Ботко. Ширтка (Шпр­
ткъа) — ласка, маленький зверек. В народе о ласке суще­
ствует поверье: «Ласка хороша, мышка плоха, если ска­
зать, ласка начинает танцевать». Повадки этого зверька,
ловкого, быстрого в движениях, напоминают характери­
стику этого героя в ингушских и осетинских сказаниях.
В отличие от осетинского Сырдона, Боткин Ширтка
положительный и справедливый герой; он обладает спо­
собностью отправляться в «1эл» (аид) и возвращаться
в «маьлха дуие» (солнечный мир). Его способность отправляться на тот свет и возвращаться в этот солнечный
мир — постоянная характеристика данного персонажа,
напоминающего хтоинческое божество.
В опу о линованных до сего времени парт-орстхойскпх
сказаниях как на русском, так и на ингушском языках
Боткин Ширтка оформлен в мужском классе разумных
существ — классе людей, и не было намека о его тотемол^Г—ПГГ- Правда’ в сказашш «Колой Кант»,
1рудыо согласиться, будто речь идет не о ласке как тако-
™^Гд*”4"Г"и“ *"Т“
Тифлис,' 1870? стр. 4
?9зТ”рФ™Ч,“0"
чеченск“х сказаний. - ССКГ, вып. ^■
276
вой. В подтверждение этого приведу недавно записанное
сказание.
«— Во нто ты оцениваешь моего коня? — спросил
Сеска Солса у боткпй ширткн 68.
— Твой конь в голодный год стоит коровы, — ответил(а) ширтка.
Недовольный Ссека Солса взмахнул плетыо, намере­
ваясь его (ее) ударить, по боткпй ширтка юркнул (а)
в норку.
— Во что ты оцениваешь меня?— успокоившись, спро­
сил Сеска Солса.
— В опасную ночь ты стоишь собаки, — ответил (а)
ширтка.
— Как это ты говоришь, что это значит?! — спросил
удивленный Сеска Солса.
— Жеребенок, родившийся от кобылы Няртбиэ, рож­
ден моим конем, говорящему Сеска Солса подобен (по­
добна) п я, — ответил (а) ширтка.
Рассерженный Сеска Солса ударом шашки отсек от
скалы большую глыбу. Люди становились молиться в том
месте, где был сделан удар шашкой, так как это место
точно указывало направление на юг» б9. Далее сказитель­
ница сказала, что «боткъий шпрткъа деза лоархТ, де
мсгаргдац из», т. е. «ласка почитается, ее нельзя убииать». Боткпй Ширтка (боткъий ширтка — ласка) заынмает как бы промежуточное положение между парт-орстхойцамн и местными героями-богатырямп: он (а) участ­
вует во всех походах и делах иарт-орстхойцев, но в то же
время принимает сторону местных героев-богатырен, от­
стаивая их интересы, как свои собственные.
Близок к образу Боткпй Ширтка и Селий Пиръа из
сказания «Соска Солса и Селии Пиръа» 70, который для
облегчения человеческого труда принес с того света водя­
ную мельницу, подобно знаменитому кузнецу Ильмарииену — создателю чудесной мелышцы Сампо из карелоФниского эпоса «Калевала».
68
«Ширтка» я пишу со строчной буквы, так как оно означает
ласку, а но собственное имя. На ингушском языке родовую при­
надлежность ласки невозможно определить. «Ширтка» оформлено
15а5се «Д» — в классе неразумных существ.
о
/пг Записал сказание автор со слов Мальсаговон Кейны
° то12 маРта 1967 г. в г. Грозном.
,и,гуц1 * радость сердца». Фрунзе, 1957, стр. 237-238 (па
277
I
Села Сата, Воткни Ширтка, Селий Ппръа и пекоторые другие герои в своих древнейших чертах представляются нам мифологическими персонажами, по, рас­
сматривая их, нужно исходить из положения о том,
что мифология есть фантастическое осмысленно челове­
ком на ранних ступенях его развития непонятных для
пего природных явлений, когда человек стоял в подчиценном по отношению к богам положении. Постепенно
с развитием человеческого общества, когда человек стал
осознавать себя как личность, в результате развития
производительных сил. возникает эпос, по идейной направ­
ленности противоположный мифу71, но многое (образы,
сюжеты, поэтические средства) заимствующий из него.
К. Маркс отмечал, что «греческая мифология составляла
не только арсенал греческого искусства, но и его почву» 72.
В некоторых вайнахских именах мы встречаем ока­
менелое наращение — кьа (Боткь'а, Ширткьа, Суосаркьа
и др.). Оно подобно кабардинскому суффиксу — ко (куа),
что в обоих языках обозначает одно и то же — ко (куа),
кьа — сын. На это указывали некоторые лингвисты73.
В настоящее время «кьа» в вайнахских языках как
«сын» не употребляется, но что ранее «кьа» обозна­
чало сын, проследить нетрудно. В современных вайнахекпх языках в значении «сын» употребляется слово
«во1». По грамматическим законам из «воЬ> должно было
получиться множественное число «во!аш» или «во1арип» -— сыновья. Но эта форма не .принята, а говорят
«къонгаш». Переход къа—къо допустим, иг — словообра­
зовательный суффикс, аш — показатель множественности,
■помимо всего этого в одной чеченской песне74 встре­
чаем форму «къало», что означает ласкательное обращегМ™ПУ: Г^е <<Л0>> ~~ опя?ь-таки словообразовательный
(работник)1'^ НаП®^’ «болх» (работа) — «болхло»
В. И. Абаев
=.Г~г5~:==
” К. МавксПп1,'фРч:?^Й геР°ичосКнй эпос. Ы.-Л., 1955.
—....т. 12, стр. 736.
эпос. — ИСОНИИ, т. X, вып. I.
Дзауджпкау, 1945.
74 «Чеченские пеепп и частушки». Грозный, 1963, стр. 73 (на
чечен, яз.).
„ " в: Ж л фн,эр"
в»™™»
278
имя популярнейшего в них героя Соска-Солса, где первая
часть (Соска) примыкает к адыгейскому Сосруко, а вторая
(Солса) к осетинскому Сослан» 75.
Впервые имя главного героя нарт-орстхойского эпоса
в русской передаче было дано Ч. Ахриевым как Соска
Солса. Заметим, кстати, что разная огласовка имен при­
суща многим языкам пародов Кавказа. Однако сказители
обычно употребляют форму «Соска», иногда «Сиска».
Двоякое произношение этого имени отмечал еще Чах
Ахриев. Он писал: «В тексте некоторых ингушских сказа­
ний у меня различно написаны имена героев: так, напри­
мер, в одном месте значится Варким, а в другом Баркум...
Это произошло оттого, что сказания мною были записаны в различных местах, т. е. в горах и па плоскости:
в горах говорят Баркум, а па плоскости Барким; также
в первой местности — Соска, а в последней Сеска» 76.
В вайнахском языке произносится обычно прежде имя
отца, а затем имя сына. Исключение составляет имя Сеска
Солса (Сиэсага Солса), т. е. Солса сын Сеска (Сиэсага),
где «Сиэсаг»—женщина («Сиэсага»—чей? родительный
падеж от «Сиэсаг»). Таким образом, получается, что
Солса — сын женщины, а из сказания известно, что этот
герой, рожденный из камня, ие имел отца и воспитан был
женщиной Села Сатой, ставшей ему матерью.
Кинда ПГоа (Шинда Шоа), т. е. Шоа сын Книда.
По звуковому строю двусмычный к1 и нд, во втором слоге
соответствует нормам вайнахских языков. Шоа — сычу­
жина (фермент желудочного сока жвачных животных).
«Сай» в вайнахских языках, как и в осетинском, —
олень. Здесь же Сай — имя человека, мужчины, оформлен­
ное в первом грамматическом классе: внииа уоптый,
Сай вийна дукъ — перевал, где убит Сай — соответствует
осетинскому Сайиаг-алдару.
Имя героя нартского эпоса Ачамаза, известного в ска­
заниях многих народов, в частности у осетин и адыгов,
п0 всей вероятности, иранского происхождения.
В Ингушетии .известно топонимическое название
Ачамаза-боарз (холм Ачамаза) близ села Экажево. Имя
75 В. И. Абаев. Проблемы нартского эпоса. —Сб. «Нартскпи
1957 ^атоРпалы совещания 19—20 октября 1956 г.» Орджоникидзе,
' стр. 35.
Ч. Ахриев. Ингуши (их предания, верования и повсрия). — ССКГ, вып. VII. Тифлис, 1875.
279
5
)
ото встречается п в одноименном сказании, записанном
Т. Боковым77. Другое сказание под названием «Кто впер­
вые поселился в Иясар-кортс» '8 повествует о оорьбо
между Ияаром и Лчамазом и победе местного героя
Нясара над иарт-орстхойцем Лчамазом.
По мнению К. П. Услара, известный персонаж чеченоингушских сказок Пхагал Бярп (Пхьагал Ьаьрн) —
заячпй всадник, пли русский мужичок с ноготок /-). Выражение Пхагал Бярп нередко осознается нмешто как
«заячпй всадник» (пхьагал — заяц), что нельзя признать
верным, ибо к герою этому нп по росту, ни по доблести
эпитет «заячий» не подходит. Лингвистический анализ
убеждает, что это имя состоит из двух слов: «Пхьа» —
село, поселение (Пхьа-мат. ГГхьале, ПхьатЛс, Пхьеда) и
«гал» — вндеть («б1агал валар» —попасть на глаза, обна­
ружиться). Отсюда «Пхьагал Баьри» значит «селение
видящий», плп, вернее, «селение сторожащий» всадник80.
Другой герой, Бийдолг Бярп (крошечный всадник,
умещающийся со своим конем в сжатом кулаке), — ин­
гушский прототип известного у многих народов удачли­
вого мальчика с пальчик. Бийдолг Бярп: бпй — кулак,
дол локоть, г — уменьшительный суффикс.
Определенную роль, причем в большинстве случаев
отрицательную, в нарт-орстхойском эпосе вайнахов выпол­
няют и такие существа, как гарбаш (г1арбаш), алмас н
ешап81.
В вайыахском языке слово «гарбаш» в этом своем
значении сохранилось в чеченском82 и, реже, в ингуш­
ском языках. В сказках ингушей оно означает чаще
всего «ведьма», «оборотень», хотя не забывается и его
77 Т. Б е к о в.
цев — г’гкг
8
Кое-что о словесных пропзвсдепнях горЦ »Л н м
1 Т"ФЛИС- 1868- стр. 29.
паоола Гп^',-пп^пЬС|с Г0В’ Уст110е творчество чечено-ингушского
«‘ КонсулиаптгКпраоледчеС1ШЦ “узой ЧИАССР, он. 3, стр. 30.
ном впло от Т-т'г л°° данньш словам мы получили в письмен­
ность^
П* Г* Ахрпева’ за что выражаем глубокую благодар82
83
з' К М1ч^°п'г!!СЧег0'РусСКП" словаРь- м„ 1961, стр. 112.
мый, 1903,- стр. 100 (|Г1а&7Д,,шго явика- Г1’0*'
280
исконное значение Нам (баба-яга). Про невесту ппгуши не так давно говорили: «Она вышла замуж и при­
вела свою рабыню».
Объяснение слову ошап84 необходимо искать в староармянском языке. Как известно, в Армении, стране,
далеко находящейся от моря и не имеющей больших
рек, и потому почти незнакомой с рыболовством (оно
было распространено лишь по берегам озер Севан в Во­
сточной Армении и Ван и Западной), существуют до сих
пор сохранившиеся с древнейших, во всяком случае
с дохристианских, времен гигантские изображения камен­
ных рыб, высеченные из цельных кусков скалы и стоящие
вертикально, называемые «вишап». Эти каменные рыбы
имели, вероятно, какое-то культовое значение, связанное
с водой, — они сооружались близ родников и озер.
В древнеармянском пантеоне была богиня воды, имено­
вавшаяся Нарпшг, плп, по-другому, Цовнни, выполняв­
шая примерно тс же функции, что и чечено-ингушская
Хпнапа (богиня воды). С иишапами связано и множество
легенд у местного армянского населения. Установить их
связь с чечено-ингушским фольклором пока трудно,
так же как и решить вопрос о том, когда этот образ (или
понятно, слово) возник, что он первоначально обозначал,
как попал он к иайиахам и как приобрел здесь новое
значение. Этому вопросу посвятил специальную работу
И. Я. Марр85. Интересные наблюдения содержатся н
в монографии М. Я. Чнковани86.
Из сказанного можно сделать следующие выводы:
1. В нарт-орстхойском эпосе вайнахов необходимо выде­
лить три группы героев: а) нарт-орстхойцы; б) местные
герои-богатыри; в) фантастические вамполы (великаны),
ешапы и алмасы. 2. В парт-орстхойских сказаниях место
действия, строго локализовано. 3. Имена героев нарт-орстхойского эпоса, в особенностл местных богатырей, —
вайнахского происхождения.
84 Л. Г. М а ц и е в. Указ, изд., стр. 181.
85 И. Я. М а р р. Вшпапы (Каменные рыбы-стелы Армении).
Л., 1931; Н Я. Марр, Я. И. Смирнов. Вишаны. — ТГАИМК,
т. I, 1931
80 М. Чнковани. Амираиианп. Грузинский эпос. Тбилиси,
1900, стр. 88.
А. 3. X о лае в
К ВОПРОСУ О БАЛКАРО-КАРАЧАЕВСКОМ
НАРТСКОМ ЭПОСЕ
)
родственные по происхождению и языку балкарцы и
карачаевцы в прошлом составляли единый народ С В па42 тыс. не­
стоящее время балкарцы (по данным 1959 г. —70
ловек) проживают в Кабардино-Балкарии (в Баксанском,
Чегемском, Черекском (пли Балкарском), Хуламо-Безенгийском ущельях и в ряде предгорных и равнинных населенных пунктов республики), а карачаевцы входят в состав Карачаево-Черкесской автономной области (они на---- ют Карачаевский, Мало-Карачаевский, Зелеичукскин,
селя
Усть-Джегутинскип, Прикубаискпй и Продградненский
районы)2.
Карачаево-балкарский язык относится к кыпчакской
(северо-западной) группе тюркских языков. Фольклор­
ное наследие балкарцев и карачаевцев является общим.
Это сказания о нартах, сказки (волшебные, бытовые,
сказки о животных), песни (словом «джыр» объеди­
няются самые разные песни — трудовые, обрядовые,
историко-героические, лирические), своеобразные здра­
вицы алгыши, загадки (эл берген джомак пли элберле),
пословицы и поговорки (народ назвал их «нарт сёзле»,
т. е. «слова мартов»).
Оощность фольклора пе исключает, однако, того, что
в настоящее время одни жанры более широко представ­
лены ка территории Балкарни, а другие (например,
1 «Материалы научной сессии по проблеме происхожден
балкарского и карачаевского народов (22—26 июня 1959 г. в па >
чнке)». Нальчик, 1960; «Очерки истории балкарского народ
(с древнейших времен до 1917 года)». Нальчик, 1961.
2 «Народы Кавказа», т. I. М., 1960, стр. 243, 270.
282
песни — исторические и псторпко-геропческие) наиболее
распространены в Карачае.
Это относится и к балкаро-карачаевским сказаниям
о партах: основные нартские герои и сказания о них оди­
наково хорошо известны и балкарцам, и карачаевцам.
Но есть и такие, которые встречаются только в балкар­
ских или только в карачаевских вариантах (Хубун,
Девлер, Чюэрды). Тем не менее правомерно говорить
о едином балкаро-карачаевском нартском эпосе.
Балкаро-карачаевские сказания о нартах впервые были
зафиксированы в конце прошлого столетня.
В 1881 г. в первом выпуске «Сборника материалов
для описания местностей и племен Кавказа» С. Урусбиев
опубликовал сказания о партских богатырях татар-горцев3 Пятигорского округа Терской области: «Урызмек»,
«Шауай», «Рачпкау», «Сосруко». Записанные Урусбиевым
сказания повествуют о героях, не встречающихся в друнартского эпоса —- Алаугане
гих национальных верспяхСосруко
аг Урызмека, то они
и Рачпкау; что касается
имеют общекавказекпй облик.
Тексты С. Урусбиева даны без оригинала, в русском
литературном переводе. Сравнение их с более поздними
записями свидетельствует о том, что перед нами перевод,
а не пересказ текстов. Публикацию сопровождают цепные
комментарии, объяснение малопонятных мест и — что
особенно важно — сообщение о том, что данные сказапня
были записаны в 1879 г. со слов жителей Урусбиевского
аула Исмаила Мисостова, Бпаслаиа Джапуева, Кумы
Джапуевой, Магомета Тилова, Чабакчи (Ахья.—А. X.),
Соттаева, Джуртубаева, Биляка Аюсова, Хусейна Аодулова (Абуллаева.—А. X.), жителя аула Курхужаи (Гнрхожап. — А. X.) Маила Этезова и жителя аула Чегем
Али-Мурзы
Балкарокова.
С появлением
первой публикации балкаро-карачаев­
ского эпоса стало ясно, что балкаро-карачаевские сказа­
ния, тесно связанные с общекавказскои эпической
традицией, отличаются значительным своеооразнем, выра­
жающимся и в том, какие герои выступают в них на пер­
вом плане, и в специфичности сюжетов, пе известных
Другим национальным версиям, и в особенностях их. поз­
3 До Великой Октябрьской революции
зывали «горскими татарами».
283
балкарцев передко па-
тики, во многом, связанной с традициями тюркского
фольклора, и в особенностях быта и правой, отразившихся
в сказаниях.
Последующие публикации балкаро-карачаевского эпоса
подтвердили этот вывод.
В 1883 г. в третьем выпуске «Сборника материалов
для оннсапия местностей и племен Кавказа» * оыли напе­
чатаны карачаевские сказания о нартах. Среди них —
сказания об уже известных но публикации С. N русоиева
героях — Ерюзмекс, Сосруке и Гиляхсыртаие — и о новых
богатырях — Ачемезе, Хубуис, Девлере («Ачемез и Хубун», «Девлср», «Эмсгепы»). Публикация принадлежала
учителю Карачаевского горского училища М. Алейникову.
Тексты даны в русском переводе, очень точно передаю­
щем содержание и стиль подлинника, но без каких-либо
сведений о сказителях.
В 1898 г. А. Н. Дьячков-Тарасов опубликовал на рус­
ском языке новые варианты партскнх сказаний карачаев­
цев: «Сосурка и Эмеген пятпголовый», «Алаугъаи», «Геиджакешауан», «Смерть Ерюзмека», «Чюэрды», «Княжна
Сатанай»; они были записаны от жителей аула КартДжурт Будуяиа Джанкезова и Хасана Алиева5.
В 1903 г. в шестом номере «Терского Шорника» была
помещена большая подборка текстов балкаро-карачаев­
ского фольклора под названием «Поэмы, легенды, песня,
сказки и пословицы горских татар Нальчикского округа
Терской области». Записаны Н. II. Тульчипским °.
Впрочем, последнее не совсем верно: многие тексты
сопровождает примечание Н. II. Тульчнпского о том, что
они «заимствованы нз тетради Науруза Исмаиловича
Урусбиева».
Науруз Урусопев (брат Сафара Урусбиева) был одним
из ооразованпеишпх людей своего времени. Отт был хо­
рошо знаком с П. И. Чайковским и С. И. Танеевым; по
совету последнего Урусбиев занялся собиранием родного
фольклора7. Вероятно, Н. Урусбиев передал свои мате-
риалы Н. П. Тульчннскому, который выполнил перевод
текстов на русский язык, сопроводив их интересными
комментариями, содержащими ценные сведения по исто­
рии, этнографии, религии и фольклору балкарцев и кара­
чаевцев.
13 публикациях И. Тульчнпского четыре партскнх
сказания; одно из них посвящено Сосруку (у Тульчпнского —• «Сосук». — А. X.) и четыре (легенда, песня
и две сказки)—Орюзмеку8. Как явствует из коммента­
риев, легенда об Орюзмеке и сказка «Созар Гезохов»
были записаны И. Урусбпевым, а сказание о Сосуке,
песня и сказка об Орюзмеке зафиксированы II. Тульчипекпм. Паспортных данных о сказаниях но приводится,
сообщается только, что сказание о Сосуке записано
в Балкарин, а сказка — в Хуламе (т. с. в Хуламском
ущелье, тоже в Балкарин). Судя по заглавию публи­
кации, все тексты записаны в Балкарин.
К этому перечню дореволюционных источников, уже
привлекавших внимание исследователей 9, необходимо до­
бавить публикацию П. Острякова и рукопись, найденную
в архиве акад. Вс. Ф. Миллера.
В журнале «Вестник Европы», № 4 за 1879 г. была
напечатана статья П. Острякова «Народная литература
кабардинцев и ее образцы» 10. Она содержит характери­
стику Нальчика, его природных условий и краткие сведеппя о кабардинцах, их фольклоре и роли народных пев­
цов в обществе. Кроме того, здесь помещены четыре
текста, которые до сих пор рассматривались исследова­
телями как адыгские. Мы предполагаем, что П. Остря­
ков дал довольно близкий пересказ балкаро-карачаевских
сказаний о партах: о старце Д суете, его девятнадцати сы­
новьях, женитьбе его старшего сына — Алаугана на до­
чери людоедки — эмегенши, рождепнн Шевая и его оогатырских подвигах. Другое сказание повествует о том, как
юный Сосрук спас Орюзмека от расправы нартов, а третье
Тифлис! А1883ЙНиКОВ- Ка,)ачаевскпе сказания. — СМОМПК, IIIчаевпал- Н'гмпмггк’°В’ТУДС0в' Заметки о Карачае п карачаевцах - аюМПЬ, вып. XXV. Тифлис, 1898.
7 «Терский сборник», 1903, VI, стр 249
мои д<о^Вел^шГ^Октст^1Ш0 ^”ЛКа^СК0^ ЛССР с древнейших врсМ„ издво «Ыаука\ 1967,0истрЦП434СТ,1ЧеСКОЙ роволюцпп*’ Т‘
8 «Терс1шй сборник», VI, стр. 296—301.
9 См., папр.: А. 10. Б о з п е в. О сборо и публикации произве­
дений устного народного творчества балкарского народа. — Б кн..
«Материалы научной сессии КЕНИИ», стр. 49—57; ср.: А. И. К аР а о в а. О фольклорном наследии карачаево-балкарского народа.
Черкесск, 1961, стр. 9—11.
^
10 Г1. О с т р я к о в. Народная литература кабардинцев п со
образцы. — «Вестппк Европы», IV, 1879.
284
285
представляет широко известное у всех кавказских наро­
дов сказание-загадку «Кто больше»?
Привлекают внимание в первую очередь сказания
о Деуете, Алаугане и Шевае и сказание о том, как Соеру к
спас Орюзмека. Сравнение публикации И. Острякова
с записью С. Урусбпева показывает поразительное их
сходство. В текстах «Народной литературы кабардин­
цев» выступают те же герои, что и в балкаро-карачаевских
сказаниях, записанных С. Урусбиевым: кузнец Деует,
Алаугап, Шсвай, Тейюр, Пук, эмегены п.
Сюжеты этих сказаний идентичны (правда, в записи
С. Урусбпева они порой разработаны детальнее); запись
П. Острякова скорее передает сюжетную канву сказания.
Вместе с тем некоторые эпизоды обнаруживают и сход­
ство уникальных деталей (даже если имена различны) 12.
11 Заметим, что ни и одной дореволюционной публикации
адыгского эпоса такие имена эпических героем» по встречаются;
Кянжоко Шаой впервые упоминается в текстах, зафиксирован­
ных в 30-е годы (см.: «Кабардинский фольклор», М.—Л., 1930.
стр. 62—06), а сказание об этом герое на сюжет, аналогичный
балкаро-карачаевскому, опубликовано лишь в своде кабардинского
партского эпоса (см.: «Нарты. Кабардинский эпос». М., 1951,
стр. 455—467).
12 К сожалению, в пашем распоряжении пока нет оригиналов
текстов, записанных С. Урусбиевым и П. Остряковым; поэтому
мы сравним тексты в русском переводе.
Запись С. Урусбиева:
«Когда уже было все приготовлено и когда повесили па огонь
котел с сорока ручками, положив в него сорок бугаев, то сталп
советоваться, кого послать за Урызмеком, чтобы позвать его на
пир. Никто из нартов не решался сходить за ним. Вдруг вышел
какой-то мальчик, с стоячим гребневидпым хохлом на голове и
тоненькими всретоноподобными ногами... Он сказал: «Я схожу,
позову Урызмека».
Текст П. Острякова:
т0.-,™„ЛЯ этого устроили громадный ппр (чтобы отравить
хепюра. —л. л.). Котел повесили такой, что он едва-едва дер­
жался на сорока ушках, а в него положили вариться сорок бы'
п° вопрос в том- кто пойдет звать Тсйюра? Никто нс реляетсч 5™™ оУДП-та, спорили, но охотника по пашлн. Вдруг явЛ-Т десят"’ на тоненьких, как спички, ножках,
спичка II Г°В0И’ па затылке которой косичка торчит, словно
Или другой“РПТ’
ЧТ0 011 согласен пойти и позвать Тешора»илн
пример:
Запись С. Урусбиева:
кповнТтйХппягВттлг1ЛоУры3мек’“"что касается брата, то это я<°
был твоимР сыпем? ЧТ° Же* М0Жет быть’ ты желал бьг> чтобы °П
— Где мне Дожить до такого
счастья? — произнес Урызмек*
286
I
Наконец, немаловажным свидетельством в пользу при­
надлежности текстов, записанных Г1. Остряковым, к бал­
каро-карачаевскому эпосу, является и то, что они были
зафиксированы одновременно с текстами С. Урусбпева—■
в 1879 г. и что Г1. Острякову всячески содействовали
«князья У-Б-вы» — Урусбиевы, о помощи которых в соби­
рании фольклора и народной музыки балкарцев очень
тепло отзываются в своих воспоминаниях о поездке
в «горские общества Кабарды» — т. е. к балкарцам —
М. М. Ковалевский и С. И. Танеев ,3.
Вполне возможно, что тексты, опубликованные
С, Урусбиевым и П. Остряковым, были записаны от одпих
и тех же сказителей. Только публикация С. Урусбпева
содержит перевод сказаний, а П. Острякова — их близкий
пересказ.
Несколько лет назад в Государственном Литератур­
ном музее (г. Москва) в архиве Вс. Ф. Миллера была
обнаружена рукопись над названием «Нарты (черкес­
ские былины) »н.
Она написана черными чернилами на двадцати тетрад­
ных листах, с двух сторон. Последние листы сильно
повреждены, а окончание рукописи утрачено. Почерк ру­
кописи свидетельствует о том, что переписывалась она
не самим Миллером, но кем-то, вероятно, из его кор­
респондентов: примечания подписаны инициалами «В. Г.».
Текст сказаний приведен без оригинала, в русском
стихотворном переводе. Автор рукописи утверждает в при­
мечании, что это вызвано необходимостью передать наи­
более точно размер их. «Первые былины, — пишет он,—
переложены размером по возможности близким к тому,
каким былины поются кабардинскими народными иевтвой с ТаК повеГь мно> — сказала Сатаней, — что этот мальчик
Т'псг Л. Острякова:
<( *-ет’ бРата я 110 хочу! Кровный враг всегда злее, чем постоI ншщ, а пусть будет он мопм сыном.
^ ^ак узнай же, что он н ость твой сын, но я укрыла его
отдала на воспитание подземным духам».
<п
Ковалевский. В горских обществах Кабарды.—
еетшш Европы», 1884, 4; С. И. Т а п о о в. О музыке горских таР*14 К кн.: «Памяти С. И. Танеева». М., 1947.
Гос. литературный музой, ф. 11, оп. 144, пив. № 11. Сооб­
щенном об этой рукописи мы обязаны: В. М. Гацаку, охарактсривавшому со на II Всесоюзном совещании по нартскому эпосу.
287
цами (гегуако). Это в большинстве случаев тот же раз­
мер, который слышится в малороссийских: думах» (при­
мем. к стр. 1).
Вероятно, сближение автором перевода и рукописи
кавказских сказаний с русским былевым эпосом обусло­
вило то, что стиль приводимых сказаний, при бесспорно
кавказском содержании, сильно напоминает стиль русскихбылин. Но, па наш взгляд, такая «стилизация» является
чисто внешней и нс затрагивает сущности содержания
текстов.
Рукопись «Черкесских былин» хранится в пайке, по­
меченной 1901 г. Вероятно, сказания были записаны
в конце прошлого столетня.
В рукописи из архива Вс. Ф. Миллера излагаются
сюжеты, известные но публикациям С. Урусбпева и
П. Острякова — о парте Деуете, его девятнадцати сы­
новьях, о женитьбе Алаугапа и о рождении его сына Шсвая. Правда, в отличие от текстов Урусбпева и Острякова,
здесь говорится о том, что старый Девет борет с Алаугапа
слово, что он не привезет никого из «рода эмсгеиов»,
и нарушение им клятвы объясняется тем, что эмегепа
была девушкой необычайной красоты. (Заметим, что это
единственный случай, когда говорится о красоте эмсгепшн. Обычно подчеркивается необычайное уродство
жепщин-эмеген.) В остальном изложение сюжета тради­
ционно.^ Текст из архива Вс. Ф. Миллера содержит ти­
пично^ балкаро-карачаевский сюжет сказания, имена ге­
роев балкаро-карачаевского эпоса — Девет, Алаугаи, конь
Гемуда, эмегены, балкарские названия вещей — шашка
сырный, балкарское название горы Казбек — Гурджишь;
ооязательноп принадлежностью героев балкаро-карачаев­
ских сказании является «котел с сорока ручками, в.кото*
ром варится мясо сорока быков». Характерен и типичный
о раз тюркского фольклора — сравнение героя с «быстро­
ногим волком».
Вместе с тем здесь упоминаются и атрибуты осетин­
скою эпоса дом Алпгате — Алагатэ, Церекова кольчуга
и Ьидасов шлем — и детали адыгского эпоса — Онгхамахо
(Эльбрус) и много раз —«тха могучий» (язычески^
бог адыгов).
Но типичные оалкаро-карачаевские элемепты преооладают, л это позволяет отнести текст Миллера к балкарокарачаевскому эпосу.
288
Планомерная раоота по сбору, публикации и изучит,,изучению устного народного творчества балкарского и «а
рачаевского пародов началась после Великой ОктябоьсюЛ
социалистической революции. Этому способствовало созда­
ние письменности, появление литературы на родном
языке, открытие высших учебных заведений и научноисследовательских институтов национальной культуры.
В 1939—1940 гг. в Балкарии и Карачае были прове­
дены экспедиции по сбору лингвистического и фольклор­
ного материала. Материалы, собранные в Карачае —
сказки, легенды, песни и мелодии их, — составили книгу
«Старинные карачаевские песни» 15. К сожалению, здесь
нет ни одного иартского сказания.
В 1940 г. был опубликован интересный вариант бал­
каро-карачаевского сказания об Ачемезе 16.
Одно из популярных сказаний о Сосурке — «Сосурка
и эмегеп пятиголовый» напечатано в книге «Карачаевский
фольклор» 17.
В 1939 г. КЕНИИ была организована первая лингвистическая экспедиция в Черекское, Хуламо-Безеигиевское, Чегемскоо и Баксапское ущелья Кабардино-Балка­
рии. Ее участники собрали значительный лингвистиче­
ский материал и записали большое количество текстов
фольклора: партекпе сказания, сказки, легенды, песни,
пословицы и др.
„ На основании материалов экспедиции был составлен
соорвик, в который вошли не только материалы о диалектах 11 лексике балкарского языка, но и сказки, партскне
сказания
был
балкарского народа
исчезли оригиналы, находившиеся
После восстановлен ня автономш ‘ дось разыскать
в 1957 г. сотрудникам КБШ
числе фольк
лишь небольшую часть материалов,
цйц 1939 г.,
лорных, у одного из участников
«Материалы и
в- И. Филопеико. Они составили
У
лексике и
исследования по балкарской диалектологи
Рачаева. Ворошиловой, 1940.
в ««-тахар, 1940. Б трухла1».
«Къарачай
фольклор».
Мпкоя*
‘арачай халкъ
токст был вновь опубликован в кн..
^ркссск, 1963, стр. 5-9.
19 Заказ К» 1480
289
фольклору»18. Наряду с образцами других жанров фольк­
лора балкарцев здесь напечатаны три варианта сказаний
о Сосруке, записанных в разных ущельях Балкарпи.
Тексты опубликованы на балкарском языке, с сохранением диалектных особенностей, и в переводе на русский
язык. Все варианты имеют научную документацию и необходимые комментарии.
С 1958 г. КЕНИИ развернул работу по сбору балкарского фольклора. Материалы фольклорной экспедиции
КЕНИИ 1959 г. вошли в книгу «Антология балкарской
поэзии»19. Это —четыре песни о нартах: «Ерюзмек и ры­
жебородый Фук», «Ерюзмек и Ногайчик», «Сосрук и Эмегеи, «Богатырь Карашауап» 20. Все они были записаны от
одного из талантливейших балкарских сказителей —
73-летнего Дауута Малкондуева. Примечательно, что все
тексты имеют последовательно стихотворную форму.
Однако сказитель не спел их, а продекламировал (без му­
зыкального сопровождения).
В соответствии с жанром книги, эпические тексты не
имеют научной документации.
Большой материал по балкарскому и карачаевскому
нартскому эпосу собрала экспедиция, организованная
КЕНИИ в 1965 г. В ее состав входили научные сотруд­
ники КЕНИИ и КЧНИИ - А. 3. Холаев, X. И. Сюйюнчсв,
писатель С. О. Шахмурзаев, С. Б. Настуев. Экспедиция
раоотала во всех районах Балкарпи и Карачая. Был за­
писан ряд вариантов сказаний, до сих пор неизвестных*
Материалы экспедиции КЕНИИ 1965 года легли в оспову книги «Нартла»21. Это — первое научное издание
нартского эпоса балкарцев и карачаевцев на языке ориги­
нала (оалкарском и карачаевском, его диалектах), сло­
женное неооходимой документацией и комментариями*
зданию предпослана вступительная статья А. 3. Ио­
лаева.
Эплческие
текст!
т т
основных
героев
балт^г»^ПП11^овань1
по Циклам вокруг
-----'^каро-карачаевского нартского эпоса:
Обложка книги „Нартла", первого издания
нартского .эпоса балкарцев и карачаевцев.
Нальчик, 1966.
Сатанай и Ерюзмеке, Сосруке, Деуетс и Алаугаие, Бедепс
и Рачикау, Карашауае. Во всех циклах отчетливо просле­
живается принцип генеалогической циклизации сказаний
(Сатаней рисуется женой старейшего нарта Ерюзмека,
матерью Сосрука и воспитательницей других иартских
богатырей, иартский кузнец Деует предстает отцом де­
вятнадцати сыновей, а Рачикау является сыном рыоолова
Бедене).
Каждый цикл составляет значительное число сказаиий, повествующих о рождении, богатырском детстве и
подвигах героев в борьбе с чудовищами-эмегенами22 пли
с притеснителями нартов (красиобородым Фуком и ДР*)*
Цикл первый: «Ерюзмек и Сатаней». Он складывается
из следующих сказаний: «Ерюзмек становится во главе
мартов», «Ерюзмек убивает краснобородого Красного
18 «Материалы
и тт)СЛщ°п^™я"побалкарской диалектология.
ЛОКС19К4
0^” Ф°льклору,
? 5ВГ аагъ«
21 «Нартла. Малкъар-къарачай
22 Эмегоиы — постоянные враги нартов в балкаро-карачаев­
ском эпосе.
нарт таурухла». Нальчик, 1906.
291
290
I
19*
Фука», «Ерюзмек и Сатан ай», «Сатанам спасает Ерюзмека от смерти», «О том, как нарт Ерюзмек истребил эмегеиов», «Ерюзмек истребляет чертей», «Как Сатанам обма­
нула Ерюзмека», «Ерюзмек и белым марал», «Ерюзмек н
одноглазый эмегеи», «Ерюзмек п Ногайчмк».
Цикл второй: «Рожденный из камня», «Сосурук и эмсген», «Сосурук под землей», «Сосурук и игры с Коле­
сом», «Сосурук и Сибильчи», «Нартский пастух Созукку»,
«Соджук» и др.
Цикл третий: «Нартский кузпсц Дсует», «Алауган и
Эмегена», «Как женился Алауган», «Карашауай испытывает Гемуду», «Приемная мать Карашауая», «Карашуан
на скачках», «Дочь Ерюзмека Агуида и Карашауай» и др.
Цикл четвертый: «Бедене», «Рачикъау» («Злоязыч­
ный Гиляхсыртан»).
Каждый цикл образуется, таким образом , из нссколькнх сюжетов, связанных между собою мотивами, дейст­
виями героев, а иногда только отдельными эпизодами.
Кроме перечисленных, целый ряд сказаний посвящен
второстепенным героям — Шнрдаи, Негср и др. Как пра­
вило, в этих текстах никогда не упоминаются основные
герои балкаро-карачаевского эпоса.
Карачаевцы п балкарцы, как и другие народы Кав­
каза, связывают с именами эпических героев названия
местностей,
гиоотт \
пастбищ: Нартю (букв, «партское
/'лтт™°>> ’ - аРТ00Ра (название местности), Нарт ташы
оат™ рамепь>>)’ Къарашауайны ташы («камень КалашСосР^ъаны ташы («камень Сосурука), Нартлшш шауданы («Шртскпй родник») пдр.
свпдететг1ртв™еКСТЫ’ опубл11Кованные в книге «Нартла»,
нпя о нартах ппрп Т°М’ ЧТ° балкаро-карачаевскпе сказамобытное х\гпп- дставляют значительный интерес как саобщтеавказские*™!!!™^! ™реш'е наР°да’ в -тором
сочетаются с тттг,,,™4™ наРтск°го эпоса органически
чаевдам п батк^ппвЧ11ЯМЛ ™Ркского фольклора. Карапартекпе гепоп 7р 'М 113веатпы пе только традиционные
раз) по иРтак, Р ТпрМеК’ С°Срук’ Са™пай, Шауай, Батв балкаро-карачаевскихТЫСкя’ КОТОрые выступают только
Ногайчпк и др Г Ка \ азаи1шх (Алауган, Рачпкау,
связан целый ряд сказаттТч0’ ® именем каждого геРоЯ
заической и стиуптплг, ИИ* ^ти сказашщ бытуют в пр°'
чаются л тексты, где^тнхГч^05 Ф°рме' НеРедко встРе"
’ д стпхи чередуются с прозой. Заяисп
292
последних лет свидетельствуют о том, что значительную
часть составляют стихотворпо-песениые тексты. Нартские
песни обычпо исполняются под аккомпанемент смычкового национального инструмента «къыл къобуз».
*
I
Характеризуя публикации балкаро-карачаевского эпоса
о нартах, мьг отмечали, что почти все они спабжались
комментариями, вступительными заметками. Но специаль­
ных исследований, посвященных этой национальной вер­
сии нартского эпоса, нет. Правда, упоминания о партекпх
сказаниях балкарцев и карачаевцев содержатся уже в ра­
ботах Бс. Ф. Миллера, А. Н. Веселовского, Л. Г. Лопатинского и других исследователей. Вс. Ф. Миллер скло­
нен был считать эти сказания заимствованными.
Он писал: «Наибольшее число иартских сказаний сохра­
нилось у кабардинцев и осетин. Горские татары (бал­
карцы. — Л. X.), жившие в горной, южной Кабарде (урусбиевцьт, чеченцы, хуламцы, безенгневцы), как позднейшие
пришельцы, по-видимому, заимствовали некоторые типы
нартов у кабардинцев или нашли их па новой родине,
раньше их паселсшгой осетинами» 23.
Многие сюжеты и характеристика героев балкаро­
карачаевского эпоса действительно сходны с осетинскими,
Другие — с адыгскими. Однако сходство это объясняется,
как правило, не заимствованием, а исторически обуслов­
ленной общностью формирования нартского эпоса.
Краткая характеристика нартского эпоса балкарцев и
карачаевцев и его героев содержится в исследовании
А. И. Караевой «О фольклорном паследии карачаевобалкарского народа».24.
Работа А. И. Караевой является первой попыткой по­
казать место сказаний о нартах в фольклоре оалкаро-карачаевского народа. К сожалению, цепность ее значи­
тельно снижается тем, что она основывается только на
Дореволюционных публикациях. Видпмо, ограниченность
материала обусловила неточность некоторых выводов
^
:
23^Вс. Миллер. Кавказско-русские параллели. М., 1892,
24 А. И. К а р а е в а. О фольклорном паслодпп карачаево-бал­
карского парода. Черкосск, 1960, стр. 9—15.
293
например, о том, что главным героем эпоса является
Сосрук, а не Ерюзмск. Некоторая модернизация партского эпоса сказывается в утверждении о преобладании
в нем социальных мотивов.
И. В. Тресков выделяет нартскнй эпос балкарцев и ка­
рачаевцев в самостоятельный эпический узел и подчерки­
вает, что «балкаро-карачаевский нартскнй эпос так же
древен, как и эпос соседних народов Кавказа». Вслед за
В. Ф. Миллером он отмечает сходство балкаро-карачаев­
ских иартских сказаний с кабардинскими и осетинскими,
но подчеркивает их национальное своеобразие, которое
проявляется прежде всего в том, что на первом плане
здесь выступает парт Ерюзмек.
Дальнейшее изучение позволит более подробно и ши­
роко раскрыть особенности балкаро-карачаевского нартского эпоса.
К. С. Ш а к р ы л
О СОВРЕМЕННОМ БЫТОВАНИИ
НАРТСКОГО ЭПОСА У АБХАЗОВ
;
:
!
Абхазский институт языка, литературы и истории
им. Д. И. Гулиа АН Грузинской ССР на протяжении
последних трех десятилетий систематически проводит
фольклорные экспедиции, в работе которых особое вни­
мание уделяется собиранию героического нартского эпоса.
И хотя лартскпе сказания привлекли внимание фольк­
лористов значительно позже, чем другие жанры устного
народного творчества абхазов, в настоящее время в ин­
ституте собран значительный эпический материал.
Отмечая достижения в этой области, исследователи
единодушно подчеркивают, что со сбором абхазского нарт­
ского эпоса мы опоздали ]. Об этом свидетельствуют и
современные абхазские сказители.
Известный 86-й летний абхазский сказитель Дамей
1ания с тревогой говорил участникам фольклорпой экспсДпцгщ АБНИИ в 1963 г.: «Вы, наши грамотные сыновья
и дочери, с собиранием иартских сказаний опоздали миипмум настолько, сколько мне лет. Мой покойный отец
Закяри, который скончался на 120 году, мог рассказывать
° партах круглые сутки, так много сказаний он знал. Коекакие сказания, что сейчас припоминаю, я выучил от
®тца, но они не составляют и сотой доли того, что знал
Закяри».
Такие справедливые упреки не раз приходилось вы­
слушивать нам от многих сказителей. Эти замечания
кохазских сказителей свидетельствуют о традиции оыто.р 1 Ш. Д. и и а л-И па. Об абхазских нартскпх сказаниях,—
«Труды АБНИИ», вып. XXIII, 1949, стр. 33; X. С. Ь га ж о а.
абхазском героическом эпосе. — «Вопросы изучоппя эпоса па­
родов СССР», м., 1958, стр. 192.
295
ванпя нартского эпоса у абхазов до наших дней. Наглядным подтверждением этого является издание сводного
текста абхазского нартского эпоса на абхазском и русском
языках2.
Широкое бытование нартского эпоса у абхазов было
отмечено известным иартоведом В. И. Абаевым. В 1945 г.
он писал: «Особо следует остановиться на распространеиии в Абхазии партскнх сказаний... Мы не прсдполагали, что северокавказский эпос пользуется у аб­
хазов такой популярностью. Когда в селе Ачапдара мы
спросили у старого кузнеца Авидзба Лумаиа, знает ли он
что-либо о нартах, он ответил: «Нартов знают все».
И это было недалеко от истины...
Абхазский вариант партскнх сказаний представляет
несомненный интерес и заслуживает серьезного внима­
ния» 3.
Неоспоримая популярность нартских сказаний и
песен в самых широких слоях абхазского народа особо
была подчеркнута и на Всесоюзной конференции нартоведов 1963 г.
Широкое бытование нартских сказаний и других жан­
ров устной поэзии у абхазов исторически обусловлено.
Известно, что до Великой Октябрьской социалистической
революции абхазы, как и некоторые другие пароды Кав­
каза, не имели своей письменной художественной литера­
туры; ее функцию выполняло устное народное творчество.
Чрезвычайно богато, красочно и разнообразно устное
народное творчество абхазов. Оно сохранилось во всей
своей полноте до наших дней, хотя в истории абхазского
народа было немало мрачных страниц, когда под угрозу
было поставлено само существование этого народа. Одним
из мрачных периодов истории абхазов было пасильственное выселение их в 1864 г. в султанскую Турцию — ма­
хаджнретво. Но через рсе невзгоды пронесли они свой
язык, культуру, устное художественное творчество. Ныне
абхазский народ процветает в братской семье народов
советского Союза. Успешно развивается национальная
художественная литература, созданная только после
2 «Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти
братьев. Абхазский народный эпос». М., 1962.
0 В. И. Абаев. Осетипскпи язык и фольклор. М.—Л-> 1.3* »
стр. 320, 321.
296
I
Великого Октября. Но устное народное творчество абхазов
сохраняет силу своего художественного обаяния, а его но­
сители — прославленные сказители — вместе с маститыми
учеными выступают на всесоюзных конференциях, где
обсуждаются проблемы устного народного творчества.
У абхазского народа были и есть прославленные народные певцы и сказители, имела которых известны всем
абхазам. Творчество их пользуется большой любовью па­
рода. В трудные времена меткое и острое слово талантли­
вых певцов и сказителей имело п имеет огромное значе­
ние, вдохновляет на героические подвиги, умножает
патриотические чувства, разжигает ненависть к врагу.
Наиболее популярными и талантливыми абхазскимй ска­
зителями являются Жана Ачба, Чацв Чагу, Куарчей Сейдык, Амтон Пплиа, Арстаа Кастсй, Маадан Саканпа, Адамиз Константин, Тапиа Дамей и др.
Абхазские сказители понимают большое воспитатель­
ное значение образов эпических богатырей — «художест­
венно совершенных типов героев, созданных фольклором»
(А. М. Горький). Подрастающее поколение они воспиты­
вают па примере этих благородных народных героев —■
таких, как нарт Сасрьтква, Абрскпл, Аджьтр-ппа Данакеп,
Пшькяч-ипа Мапча, Сатапей-Гуаша, Апхазоу-пха Хаиифа, Кудх Капыт, Ииапха Кягуа, Кяхь Хаджарат и др.,
в которых сказители, как и весь народ, видят носителей
высоких человеческих идеалов.
Складывавшаяся веками традиция устного художественпого творчества живет и в иаши дни, приобретая некоторые новые черты.
Нартскис сказания являются самым популярным жан­
ром фольклора абхазов. Там, где рассказывают о нартах,
всегда бывает многолюдно.
Исполняются абхазские иартские сказания по-разному.
Манера исполнения их обусловлена формой различных
сказаний. Прозаический текст (наиболее распространен­
ная форма бытования абхазского нартского эпоса) изла­
гает один сказитель. Текст целиком стихотворный поется
одним или группой сказителей, либо исполняется па на­
циональных музыкальных инструментах апхярце, авпмаа,
или ахымаа (арфы) или же на ачарпыпе (свирель).
Весьма редко встречаются сказания смешанной стихо­
творно-прозаической формы. Специальные хороводные
иартские танцы исполняются обычно стариками.
297
Традиционным местом исполнения нартскнх сказаний
у абхазов являются сельские сходы, свадебные пиршества,
спортивные соревнования, торжественные приемы, устраи­
ваемые в честь дорогого гостя.
Нартские сказания, как и произведения других жан­
ров фольклора, исполняются во время «ачапшьара» 4 и на
пастушеских стоянках в любое время суток 5.
Исполнению нартскнх сказаний обычно предшествуют
предварительные приготовления. Устраивают большой
круг, по кругу садятся старики и пожилые люди, а за их
сппноц становятся те, кто помоложе. Вначале выступают
шуты, которые развлекают присутствующих забавными
выходками и остротами, потом приглашаются лучшие
сказители героических сказали», главным образом зна­
токи нартского эпоса. Им предоставляется самое почетное
место.
Как правило, сказитель сам не вызывается исполнить
рассказ о нартах, а делает это но просьбе присутствую­
щих. Когда собравшиеся получают согласие сказителя,
устанавливается абсолютная тишина. Стремясь привлечь
внимание слушателей, сказитель, прежде чем приступить
к рассказу, делает значительную паузу, как бы уходя
в атмосферу нартской среды, а затем, не торопясь, начи­
нает повествование. В процессе рассказа особый акцент
делается на те картины, где раскрываются образы главных героев, подчеркивается их мужество и отвага.
Во время исполнения эпоса внимание аудитории целиком
. принадлежит сказителю.
Как правило, перед большой аудиторией выступают
самые признанные сказители. Но здесь же присутствуют
и другие сказители; они строго следят за повествованием,
июли кто-лиоо оонаружпт какие-то отклонения от тради­
ционных форм сказа, то он тут же вежливо задает воПо представлениям древних абхазов, раненый воин или
больной с переломом костей во все время болезни не должен был
засыпать, так как сонпого человека болезни одолеть легче.
С этой целью у постели больного собирались друзья и родствен­
ники, которые пели, тапцевали, производили страшпый шум с по­
мощью различных железных предметов. Сказители рассказывали
больному героические нартские сказания. Подобный обычай суп^0С5В??ал
ДРУгнх пародов Кавказа (в частности, у адыгов).
Мы особо подчеркиваем «в любое время суток», так как не­
которые жапры абхазского фольклора, например, сказки, можно
- рассказывать только после захода солпца.
298
Группа абхазских сказителей поет песни о нартал под акко.
панемент апхяриы (апхъариа).
I
I
просы, которые порой переходят в своеобразное состязакие на лучшее исполнение нартскнх сказаний.
Такие. реплики, поправки и дополнения имеют целью
не допустить никакого отступления от традиционно сло­
жившихся устойчивых форм эпоса, свидетельствуя о оережиом отношении народа к своему художественному
творению. Выступления сказителей происходят не только
11 а больших народных собраниях, но и в узком кругу
слушателей. Нередко отдельные жители села по случаю
какого-нибудь семейного торжества или в честь дорогою
гостя приглашают к себе сказителя.
Иногда группа сказителей, договорившись, соопрается
в одном из домов, где обсуждение различных житейских
Дел сменяется исполнением интересных сказов из аохазского героического эпоса, пением народных песен о пар­
тах. под аккомпанемент абхазского музыкального ннстру299
мента апхярцы. Такие
встречи проходят очень
ресно, увлекательно.
ип тоСам сказитель, после трудового дня, в своей
пока хозяйка готовит ужин, нередко исполняет
семье,
о нартах пли других народных героях. Если сказания
играть па каком-нибудь музыкальном
011 умеет
время от времени он исполняет
инструменте,
то
на этом
роические песни, подпевая речитатив
инструменте гевся семья, затаив дыхание, слушаетом. В: таких случаях
семьи. Часто бывает так,
сказителя — главу
что и соседи вечером собираются
с наслаждением
послушать своего мудреца.
Любят
слушать
и рассказывать
о партах
пастухи,
бенно в горах, когда
они находятся
на высоких
летних
осоальпийских пастбищах, днем где-нибудь на возвышенной
лужайке, откуда можно наблюдать за стадом, а вечером
у костра. Между прочим, очень часто из пастухов выхо­
дят талантливые сказители и знатоки нартского эпоса.
В наше время наряду с вышеприведенными формами
бытования и исполнения героических сказаний и песен
возникли новые формы, порожденные новым бытом на­
шего оощества — общества строителей коммунизма.
Героические сказания о нартах в наши дни
слышать
на таких торжествах, которые посвящены,
пример, вручению правительственной награды или-МОЖНО
при­
ласвоению звания Героя Социалистического Труда, оконча­
нию высшего учебного заведения и т. д. Такие события
в современном абхазском селе — не редкость. Здесь обычно
присутствует большинство жителей данного села, а иногда
и гости из соседних сел.
т *ТГе сказания звучат также на встречах сказнвопит™1С0М0ЛЬЦаШ1 Ц пионеР^ш, устраиваемых рукоучебпьтх заведишй.^3110'ПРОСВеТ11ТеЛЬНЫХ
* *
.•
Абхазский
/
Абхазии "ГГ™ ТВ0Рчества Министерства культуры
■ Рпзашш ГГ °ЛЬШУЮ работу "о записи и популяВ частыост/ПпиГ°П ТВ°РЧеСТВа ПОобще 11 нартского эпоса
хор и таниёвяпт.наР°ДН0Г0 творчества организован
риков в оепритияп11 коллектив столетних абхазских статанцы’. Дом тпппппКоторых вхсдят и иартс1ше песни и
районные и прртЖ°Г° ТВ0Рчества ежегодно устраивает
грамме котооьтх пп ликацские слеты сказителей, в протов на
соРевповапие
стари­
на лучшРРиРиРеДУСМатрПвается
лучшее исполнение героических
сказаний и песен.
сказитель Баруыи, Смел у пионеров.
На слетах сказителей всегда бывает очень много людей,
которые с наслаждением слушают лучшие сказания ге­
роического абхазского эпоса.
Любители
Весть о приезде экспедиции или отдельпьт.
в селение быстро облетает весь р‘
' все своп дела,
слушать героические сказания 0
лей много. В том
устремляются в сельсовет. 1аких л
13В0ДЯТ запись
случае, когда собиратели ,Ф°ЛЬВЛ ч‘ппе весьма преклонв Доме сказителя, который по ПР
у любптелп
кого возраста не в состоянии выходить из долу,
партского эпоса тотчас собираются у пего.
300
301
I
Иногда сами сказители приглашают к себе фолькло­
риста, предлагая записать нее, что они знают из геронче. ского эпоса. В 1963 г. я получил такое приглашение от
жителя селения Дурипш Гудаутского района Абхазии
Таркпла Махты.
Как видно, формы бытования героического эпоса
«Нарты» весьма разнообразны в наше время.
Широкое бытование нартского эпоса среди абхазского
населения в наши дни подтверждается материалами
фольклорных экспедиции, проводимых Абхазским плети*
тутом на протяжении последних лет.
Участниками этих экспедиций было выявлено значи­
тельное количество сказаний на неизвестные до сих пор
сюжеты («Как нарт Сасрыква уничтожал болезни», «Де­
вяносто девять иартов», «Как Сасрыква уничтожил нартов», «Поминки по нартам» и т. д.).
Наблюдения над современным состоянием бытования
нартского эпоса у абхазов свидетельствуют о том, что
следы живой традиции его бытования видны во всем.
Многие абхазы знают имена основных героев эпоса и со­
держание большинства сказаний, могут назвать имена
лучших знатоков нартских сказаний, нередко не только
своего, но и из соседних сел. Сказители хорошо знают
Друг друга.
Список популярных абхазских сказителей в последнее
время пополнился новыми именами, которые до сих пор
не были известны. Это Тайна Дамей, Барцыц Смел,
Папоа Чич, Хуарцкпа Темыр и другие талантливые ис­
полнители эпоса.
А. И. А лиева
ПОЭТИКА НАРТСКОГО ЭПОСА АДЫГОВ
1
сказаний о нартах чревныХудожествеииая структура
историческим своеоорачайио специфична, что связано с
этого уникального
зием возникновения и существования
многих
памятника культуры, сохранившего отражение сознания
особенностей мироощущения и общественного
людей
глубокой
древности.
Изучение
поэтики
эпоса о нартах позволяет ооъяснпть
его бессмертие и неувядаемую силу его обаяния.
— «ппллп племя эта проблема оставалась
К сожалению, большинства
долгое время исследователей
эта
----- нартского
над отдельными особенвне поля зрения
эпоса.
Были
беглыеэпоса,
наблюдения
над
-----ностями
поэтики
без попыток
рассматривать
ее
целостно *. Между тем лишь комплексное исследование
всех компонентов поэтики может позволить нам прполпзнться к нашей цели. Свои заметки о поэтике нартского
эпоса мы решили начать с характеристики сюжетосложепо­
нпя. И это должно быть понятно, ибо, как известно,
об истории (героя, племени, народа) не­
котором подымается все «совествование
ляется тем фундаментом, на Поэтому и «цепь» действии,
оружение» народного эпоса. выраженные в сюжете, явих сцепление и единство,
компоиептом поэтики
ляются главным, цементирующим мы находим все то
эпоса. Именно в сюжете сказания
О некоторых особенностях
узкими,
1 См., напр.: М. И. Мальцев, эпоса «Нарты». —
поэтики кабардинского богатырского
Едва ли
единственная
т- VIII,
1953,не стр.
85-102. попытка разобрать поэтику нарт­
ского эпоса во всем ев комплексе на материале абхазского эпоса
предпринята А. Аншбой (см.: А. А. Апшба. Вопросы поэтики
еохазского нартского эпоса. Автореферат капд. дисс. М., 1эо>Д
^
ЗОУ
~ »*АПЛ
сокровенное, что хотел поведать миру безымянный, коллективный творец эпоса.
Как писал А. И. Веселовский, «сюжеты — это слож­
ные схемы, в образности которых обобщились известные
акты человеческой жизни и психики в чередующихся
формах бытовой действительности. С обобщением соеди­
нена уже и оценка действительности, положительная или
отрицательная» 2.
В нартском эпосе адыгов отразилась борьба парода
против враждебных сил на всем протяжении его истории.
Как установлено исследователями, исторический период,
отраженный в нартском эпосе, огромен — от эпохи позд­
ней бронзы и раннего железа до феодализма3. Этим обу­
словлено и разнообразие его сюжетного состава. От догосударствеииой поры унаследованы сюжеты о борьбе
с мифическими чудовищами — иныжамн, олицетворяю­
щими стихийные силы природы. Глухие отзвуки эпохи
межплеменных битв, борьбы за консолидацию племен
слышны в сказаниях о борьбе с чиитами (или шихтами) —•
эпическим племенем, в котором, вероятно, надо видеть
воспоминание о спндах, входивших в сиидо-меотскпй
племенной союз. В адыгском эпосе отразились и обычаи
древних эпох: в сказаниях о Батарезе и Ашамезе сюжет
строится на одном из широко распространенных обычаев
эпохи первобытно-общинного строя — обычае кровной
мести.
Адыгским материалом подтверждается наблюдение,
сделанное на материале восточнороманского эпоса:
«... развитие исторической действительности сопровожда­
лось обогащением и обновлением сюжетного состава
песен. Художественные открытия, которыми знаменуется
развитие
эпоса в каждую эпоху, получают выражение
к ртгтто
Древнейшие’ РаНеС эпосу ие известных» 4.
инттжрхт до
сюжеть1 0 борьбе Сосруко с чудовищем
• вращение огня нартам, о добывании героем
2 А. Н. Веселовский. Собр. соч., т. 2, ч. 1. СПб., 1913,
стр. 4.
3 В. И. Абаев. Мартовский эпос. — ИСОНИИ, т. X, вып.
Дзауджикау, 1945, стр. 117; Л. П. Семенов. Иартскнн эпос и
памятники материальной культуры. — Сб. «Нартскшй эпос». ОрД"
жоппкндзе, 1957, стр. 82, 89; Е. И. Крупнов. Древняя история
Северного Кавказа. М., 1960, стр. 373.
4 В. М. Г ада к. Восточиоромапский героический эпос. Исследовапие и тексты. М., 1967, стр. 174.
304
■)
жены сменяют сюжеты о битвах Бадыиоко против чинтов,
постоянных врагов нартского общества.
Отличительная черта адыгского эпоса (как и других на­
циональных версий иартскпх сказаний) состоит в том,
что в нем, даже но мере отражения позднейших истори­
ческих эпох, нет нарастания исторической конкретности.
Невозможно установить связь даже самых поздних сюже­
тов с конкретными историческими событиями. Сказания
о Бадыиоко, например, содержат упоминания о межпле­
менной борьбе в весьма обобщенной форме, без той кон­
кретности, которая характерна для изображения патрио­
тической борьбы в более поздних произведениях эпоса.
В силу этого историзм адыгского эпоса состоит прежде
всего в правдивом воспроизведении нравов, обычаев, дета­
лей быта, психологии данного парода.
Один из важнейших элементов сюжетосложения — со­
циальные мотивы. Логично было бы ожидать, что социаль­
ные мотивы получат наибольшее отражение в сказаниях
о героях, воплотивших представления поздних историче­
ских эпох. На самом деле это не так. В цикле сказаний
о Сосруко — самом древнем герое адыгского эпоса —
социальные мотивы звучат наиболее отчетливо. Больше
того, сложность взаимоотношений Сосруко с партами, их
конфликты и в конечном итоге гибель Сосруко в сказа­
ниях объясняются как итог неприятия нартским ооществом «шгзкорожденного» героя, «лапотника», «сына
пастуха иартскпх коров», как нередко презрительно име­
нуется Сосруко.
Главное содержание адыгского эпоса борьба \\
победа. Чаще всего сюжетом служит описание боя. 1тооы
спасти мартов от гибели, Сосруко должен дооыть огонь
к борьбе с чудовищем иныжем; чтобы предотвратить
гибель старика-отца от расправы нартов, Бадыиоко при­
ходится проявить незаурядную силу и храбрость. 1акнм
образом, сюжеты, в которых герой рисуется в столкнове­
нии с врагами, занимают основное место в эпосе. Наряду
о ними известны сюжеты, в которых объясняется непо­
бедимость героя, его необыкновенные качества и вместе
с тем — его гибель (рождение и закалка Сосруко, его
богатырское детство, смерть). Сюжеты этой группь
Как бы разъясняют те сюжеты, в которых речь идет
0 борьбе и победе. Они помогают понять силу, могуще­
го героя и вместе с тем причину его гпоели. Вероят ,
20
Заказ М 1480
305
сюжеты о борьбе и победе древнее «пояснительных» сю­
жетов. Подтверждением этому служит и тот факт, что
в цикле сказаний о самом древнем и главном герое адыгского эпоса — Сосруко — сюжеты второй группы разработаны в самостоятельные устойчивые сказания, извест­
ные в большом числе вариантов (в нашем распоряжении имеется, например, около 60 вариантов сказания
о рождении Сосруко).
Аналогичные сюжеты о героях более поздних только
намечены, но почти никогда не разработаны в самостоятельные сказания. Рассказ о рождении, богатырском
детстве, подготовке к подвигам в сказаниях о Батарезе и
Ашамезе, например, всегда излагается очень кратко, как
своеобразное введение к повествованию о главном подвиге
этих героев. Зато детально разработанными оказываются
сюжеты о борьбе и победе (соперничество Сосруко и Бадыноко, борьба Батареза с пшп Маруко, битва Ашамеза
с Тлебыцей).
Отличительной чертой адыгского эпоса является стрем­
ление к детальной разработке одного эпизода из жизни
эпического богатыря в самостоятельное сказание. Каждое
адыгское сказание о нартах оппсывает обычно один
момент из жизни героя, один эпизод его эпической «био­
графии». Такая «одноэпизодичпость» представляется
весьма существенной и устойчивой чертой рассматривае­
мых сказаний.
Правда, встречаются случаи, когда в пределах одного
текста герой выступает поочередно и в нескольких эпи­
зодах. В частности, некоторые современные сказители
знают сказание о Сосруко, где излагаются один за другим
все основные сюжеты, составляющие обычно цикл ска­
заний оо этом герое5. Ряд подобных текстов был записан также Ж. Дюмезнлем у адыгов, проживающих
в Турции6.
Нередко современные сказители исполняют как едн-
АНИН
знатока нартского эпоса. Текст хранится в архиве
1ец ЫнК/г1, ОосигаеШз апаЮИепз зиг 1ез 1ап&иаде5 с1
1ез тгастюпз Ои Саисазе. I. 1.. IX. Рапз, 1900, р. 91-90
306
ное сказанис всю эпическую историю Батареза, т. е. объ­
единяют ^вс-е основные сюжеты, составляющие цикл ска­
зании оо этом герое (рождение, богатырское детство
месть за отца, состязание у чудесной кадки саио).
„ Тенденция к объединению нескольких сказаний на­
блюдается, в основном, у современных и особенно у зарубежпых ска:игтелои-адыгоп (т. е. п условиях оторванмости от почвы, на которой сказания возникли). С другой
стороны, при ознакомлении с этими записями, легко за­
метить, что изложение каждого эпизода дано очень бегло,
скороговоркой; сказитель воспроизводит сюжет без де­
тальной художественной его разработки. Все это показы­
вает, что встречаемая иногда «многосоставность» — ре­
зультат поздней контаминации. Как правило, она свндетельствует о разрушении жанра.
Аналогичные явления наблюдаются и в эпосе других
пародов Северного Кавказа, в частности у оретнн7.
Однако такие факты вряд ли являются доказательством
того, что многосоставность — исконная черта иартского
эпоса, как можно было бы предположить, если учесть,
‘(то она весьма характерна для эпоса дофеодальных
времен 8.
Объединенное одним сюжетом, единой идеей, каждое
сказание в адыгском эпосе предстает замечательно цель­
ным и стройным. Этому способствует и то, что ни одна
из сцен эпизода пе выводит повествования в сторону;
мы никогда не теряем из виду основного героя.
Вторичных сюжетных линий в сказаниях, как правило,
нет. Чередование различных планов действия, обычное
и эпосе многих народов, не свойственно адыгскому эпосу.
В сказапии о возвращенип Сосруко огня, например, есть
эпизод, когда герой хочет вызвать сильный мороз, чтобы
обезвредить своего противника. Обычно оп сам обращается
к тхъэ — язычеству верховному божеству, и тот посылает
сильный мороз.
Но в одном из адыгских текстов в повествование вкли­
нивается описание того, как мать Сосруко, Сатаней,
Узиав, что ее сын пе может убить пныжа, обращается
с 7 Бм., напр., «Памятники народного творчества осетин. Нартов*;1е ,народные сказания», вып. I. Владикавказ, стр. 27—38;
СТР- 41—50.
В. Я. Пропп. Русский героический эпос. М., 1955, стр. 88.
307
20*
С просьбой к богу, И тот посылает -мороз9. Аналогичную
ситуацию видим н в одном из аохазскпх сказании
Однако подобные случаи принадлежат к числу краппе
редких. Будучи строго подчиненным задние показать
конкретный эпизод из жизни героя, сюжет ооычно отли­
чается сжатостью и динамичностью. Правда, темп повест­
вования бывает различным в разных частях сказания.
Рассказывая о борьбе Сосруко с чудовищем (в сказании
о возвращении огня), сказитель как бы замедляет дейст­
вие, показывая, как шаг за шагом герои выполняет одну
за другой труднейшие задачи и выходит победителем.
Аналогичную картину наблюдаем п в сказании об Ашамезе, где герою приходится одолеть целый ряд препятст­
вий — узнать имя убийцы отца, получить его доспехи,
укротить богатырского коня — это еще до встречи с иротпвнпжш; дважды встречается Ашамез в поединке
с врагом и побеждает его пе только физической силой, по
и хитростью.
Сюжетное построение сказаний характеризуется тем,
что герой, как правило, всегда побеждает врага. Сосруко
уничтожает иныжа, убивает Тотреша: Бадыноко всегда воз­
вращается после победы над своими врагами — киитамп;
Ашамез и Батарез наказывают убийцу своего отца и т. д.
Другое дело — когда сюжет воспроизводит борьбу бо­
гатырей между собою. Сказание о богатырском соперни­
честве Сосруко и Бадыноко в единичных вариантах закан­
чивается гпбелыо одного пз героев. В большинстве слу­
чаев говорится о дружбе этих достойных богатырей, их
помощи друг другу.
В адыгском эпосе известны и сюжеты сказаний
о гноели героя чаще всего о ней говорится в примене­
нии к Сосруко. Это и понятно. Отразив определенный
этап народных представлений, эпический герой в новых
исторических условиях уступает место иным богатырям.
менно этпм оостоятельством объясняется тот факт,
что сказание о гибели Сосруко разработано так подробно,
в то время как Бадыноко, Батарез и Ашамез в адыгском
оессмеРтны> что» вероятно, отразпло укрепление
патриархата в жизни адыгов.
•Л?11 т ® ъ} 1- Указ, соч., стр. 91—96.
Со ста вил и Х ЭБСКн И
СК?** эт?01^> (РУсскпй подстрочный перевод)-
лшиТсуУ,'.
" ш д-
308
Отличительная
особенность сюжетосложения адыгского
^
эпоса — своеооразиый сюжетный параллелизм. Этот прием
особенно настойчиво употребляется в цикле сказаний
о Сосруко. Сюжетный параллелизм видим в сказании
о бое Сосруко с 1отрешем, где совершенно идентично
описание встречи Сосруко с Сатаней и его рассказ
о встрече с противником и описание встречи Тотрсша
с его матерью и их разговор.
В сказании о гибели Сосруко сюжетный параллелизм
состоит в том, что смерть Сосруко и смерть его верного
коня
^
1 хожея происходят одновременно и нередко взаимно
обусловлены. Кроме того, известны самостоятельные сказашгя о гиосли I хожея или об его исчезновении11.
Заметим, что в сказаниях о других иартских богаты­
рях адыгского эцоса этот прием не употребляется.
Характеристика героя в действии, т. е. средствами сюжетосложеиия — основной прием в сказаниях о Сосруко.
Здесь нет подробных описательных характеристик внешпости героя, его поступков и пр. Динамичный рассказ
о делах богатыря — встреча с партами, просьба добыть
огонь, встреча с иныжем, богатырские «игры» и победа —
вот что создает облик Сосруко.
В сказаниях о других богатырях приемы сюжетосложения сочетаются с описательными характеристиками.
Так, в цикле Бадыноко главное место занимают описа­
тельные характеристики, которые обрисовывают образ
эпического богатыря с разных сторон — его портрет, воин­
ские доблести и пр. и только во второй части сказания,
когда описывается встреча Бадыноко с нартами п бога­
тырское состязание в танце, верность этих характеристик
как бы подтверждается развитием эпического сюжета.
Нартские сказания вообще и адыгские в частности отличаются от эпических пропзведений, имеющих устойчивую композиционную структуру. Число повторяющихся
композиционных элементов в них весьма ограничено.
^ адыгских сказаниях о партах нет, например, постоянПЬ1Х, устойчивых зачинов и концовок, характерных для
п СМОМПК, вын. XIГ, отд. 1. Тифлис, 1891, стр. 56.
309
русских былин, эпических сказании пародии Средней
А31Чаще Двсего сказание преподносится как очередной
эпизод из жизни хорошо известных слушателям персона­
жей. Таким образом, «представление» героев аудитории,
которым начинаются иногда эпические произведения,
здесь отсутствует.
Ряд сказаний открываются словами: «Иартхэ сэнэхуафэ щы1эти» («У иартов было санопптне») 12. Иногда эта
фраза расшифровывается — санопптне описывается под­
робно ,3. Эта начальная сцена принадлежит к числу пов­
торяющихся, отчасти — дословно. Вместе с тем она
все-таки встречается в ограниченном круге сказаний,
а в современных записях, как правило, вообще отсутствует.
Некоторые исследователи предполагают, что в про­
шлом подобное постоянное начало составляло характер­
ную черту всех нартских сказаний. М. И. Мальцев пишет,
например: «Нужно полагать, что традиционное начало,
свойственное вообще эпическим героическим сказаниям,
было когда-то обязательным элементом в нартском
эпосе м.
Последующее исчезновение стабильного зачина и дру­
гих традиционных формул М. И. Мальцев объясняет так:
«Когда героические сказания переставали быть предметом
торжественных публичных песнопений, во времена пре­
следования их пеламом, становились, надо полагать, лиш­
ними и традиционные формулы, замедлявшие рассказ» 15Такое объяснение нам кажется излишне прямолиней­
ным и поэтому неубедительным; переход из репертуара
«публичного» в репертуар аудитории более узкой (кстати
сказать, положение о том, что такой переход имел место 16
и тем б°лее — что он объяснялся преследованием ислама,
та мп
чева.“МИ м™™’ ф0НЙ нарт- эпоса> пасп- № 68.
15 т'
Мальцев. Указ, соч., стр. 89
Ц Там же, стр. 90.
’ 1 У
М. И. МалптД*
1шеот в Ш1ДУ» говоря об этом переходе,
в жизни эпога Ипф!Т’ ЧТ° здесь подразумевается то изменение
семьей» Степуот Кпп°Р°.е огРанпчпло его аудиторию «аулом или
в условиях Сепрпнпгл^?’ сказать» что более широкую аудиторию
в условиях Северного Кавказа трудно себе представить.
310
не принадлежит к числу бесспорно доказанных) вряд ли
мог сам по сеое так радикально и непосредственно ска­
заться на композиции эпоса.
Причину исчезновения некоторых традиционных элементов следует искать прежде всего в эволюции и видо­
изменении художественной традиции (разумеется, сама
эта эволюция обусловлена объективными причинами),
в постепенном забвении эпоса в позднейшие времена.
С другой стороны, рассматривая вопрос об устойчи­
вых компонентах п формулах иартского эпоса, нельзя не
считаться с его жанровыми особенностями. Вряд ли
верно думать, что когда-то партскпй эпос обладал совсем
иной композиционной структурой, имел совершенно дру­
гие жанровые признаки, иными словами, что существую­
щие записи не могут быть основой для суждеппй о его
подлинных жанровых признаках и качествах. Несомненно,
что к XIX в. (когда начались записи) эпос не мог пе
измениться. Сомнительно, однако, чтобы изменения эти
сделали эпос совершенно неузнаваемым. Во всяком слу­
чае такое представление не сообразуется с тем внима­
нием и бережностью, с которыми народ всегда относится
к своим сказаниям.
Скорее всего, свободная, естественная композиция, не­
большое число постоянных формул представляют покой­
ный жанровый признак адыгского иартского эпоса.
Характерным признаком композиционного строения
нарте к их сказаний является членение их иа отдельные
сцены17, что можно проследить на примере эпической
истории о поединке Сосруко с Тотрешем, сыном Альбека.
В большинстве случаев это сказание состоит из ряда
сцеп:
1. Выезд Сосруко на охоту;
2. Встреча его с Тотрешем, первый поединок и уговор
встретиться вновь на следующий день;
3. Разговор Сосруко с Сатаней;
4. Разговор Сатаней с верным конем Сосруко
1 хожеем;
5. Подготовка богатыря к поедпнку;
6. Встреча Сосруко с Тотрешем и победа над ним.
Каждая из сцен отличается известной законченностью.
Ьолее того, имеются случаи, когда отдельные сцены рас17 Ср.: В. М. Га ца к. Указ. соч.. стр. 182.
311
сказывались без остальных частей. В частности, некото­
рые тексты, зафиксированные в наши дни в Кабарде,
Адыгее, Черкесии, а также у адыгов, проживающих
в Турции, из всего сказания воспроизводят только сцепу
второго, решающего поединка с Тотрешем.
Таким образом, видоизменение партских сказаний идет
как бы по двум руслам. Одни сказители, не излагая ска­
зание в целом, рассказывают только отдельные его эпи­
зоды, делая это со всей подробностью 18, другие, сохраняя
всю сюжетную канву, передают ее схематично, не вда­
ваясь в какие-либо детали 19.
Аналогичный характер сюжетного II КОМПОЗИЦИОННОГО
строения сказаний видим и в эпической истории о юном
богатыре Ашамезе или в сказапип о богатырском сопер­
ничестве Сосруко и Бадыноко.
Следует особо подчеркнуть, что членение сказания на
сцены не приводит к сюжетной рыхлости, поскольку все
сцены подчинены выявлению одной, главной темы. Так,
в сказании об Ашамезе все повествование подчинено
показу силы и храбрости юного героя.
Постоянные формулы в адыгском эпосе немногочис­
ленны. Могут быть выделепы так называемые общие или
типические места (1ос1 соттипез), имеющие относи­
тельно устойчивый вид и не связанные с определенным
сюжетом, и постоянные, или устойчивые, части одного
сказания, повторяющиеся в большинстве вариантов этого
сказания.
В эпических историях о Батарезе и Ашамезе «общими
местами» являются описание богатырского детства героя,
получение ими боевого снаряжения и чудесного коня.
ходно описывается богатырская сила героев, прояв­
ляемая уже во младепчестве. У обоих героев необыкно­
венно прочные колыоели. Особенно подробно описана
колыбель Батараза:
1эпойм и быдэхэр и гущэ нат1эщ,
Чэщейм п къабзэр и
Блапэ тхыцГафэр а зпгущэ дзажэщ,
Шамбырым и дахэр зи гущэпсу
гущэ баш20.
18 В некоторых случаях выделенным и детально описаний*
оказывается не поединок, а разговор Сосруко с его матеры Сатаней, или разговор Тотреша с матерью.
19 С. Б и т ё г П. Указ, соч., стр. 91—96.
20 Архив КЕНИИ, фонд нарт, эпоса, пасп. № 13.
312
Перед его люльки —из самого крепкого ясеня,
Пиз его люльки — из чешоя,
Лямки люльки — из шкуры со спины олени,
Палочки для люльки —из красивого тамбура.
Иногда упоминается только какая-то одна деталь, ко­
торая должна свидетельствовать о необычности богатыр­
ской колыбели: «Домбеяфэр зи гущэпс»21 — «лямки его
люльки — из шкуры зубра».
Но стоит только юному богатырю потянуться, и эта
колыбель не выдерживает. Выйдя из нее, младенец сразу
отправляется на игры. Особенно подробно этот эпизод
разработан п цикле Батареза: «Потянулся Патараз и
выбил перед люльки, разломал бока люльки, присев, ра­
зорвал лямки и, кружась, вышел на середину комнаты» 22.
В сказаниях об Ашамезе этот эпизод излагается
обычно очень кратко:
Хывыфэ гущэпсыр нызэгшудрн Порвав лямки колыбелп из
ЩТалэ к!эн джэгум ар
кожи буйвола,
яхыхьащ. Он пошел к мальчишкам,
игравшим в альчпкп23.
Весьма близко в обоих сказаниях описание того, как
сын узнает у матери имя убийцы своего отца. В сказании
о Батарезе говорится:
«Притворился оп больным и лег в постель. Мать спро­
сила его:
— Чего бы ты поел?
— Не хочу ничего, — ответил Батарез, — но я бы по­
правился, если бы поел немного горячей ячменной мама­
лыги с твоей ладони.
Мать приготовила ячменную мамалыгу и принесла ему
на своей ладони. Батарез схватил руку матери, где лежала ячменная мамалыга, и сжал ее» 24.
Этот же эпизод в сказаниях об Ашамезе описан более
кратко: «Когда принесла ему мать горячую мамалыгу
^ Там же.
2з
же, пасп. № 61; сходпо: пасп. № 11 (па кабард. яз.).
Сгкг <<НаРт хъыбархэр». Иалшык, 1945, стр. 35—46; Сходпо:
бяпп ’ вьт- У’ СТР- 64-71; СМОМПК, вып. XIГ, стр. 38-59; «Ка­
ндинский фольклор», М.—Л., 1936, стр. 43-48.
бард ^Рхив КЕНИИ, фонд нарт, эпоса, пасп. № 61 (па ка313
на своей ладони, Ашамез схватил руку матери и сжал
ее»25.
Совпадает в обоих сказаниях и описание того, как
герой играет в альчики с иартскими мальчишками или
молодцами. Показательно, что текстуальными совпадения
бывают лишь в стихотворных текстах; в прозаических
наблюдается значительная вариативность деталей.
Встречаются в эпосе адыгов и такие «общие места»,
которые повторяются в сказаниях о разных героях. Но их
совсем немного; это клятва всадника и коня в верности
друг другу: «Уашхо, мой кап, если ты будешь настоящим
мужчиной, я буду достойным тебя конем, — сказал
(конь)»26.
Или вот описание одной из нартовекпх «игр» — испы­
тания, которому обычно подвергаются враги мартов.
(Нарты скатывают с высокой горы огромные камни —
абрэ — мывэхэр, а стоящий внизу богатырь должен посы­
лать их обратно в гору). Описание этой игры содержится,
например, в ранних записях сказания о возвращении
Сосруко огня27. Встречается оно и в различных вариантах
другого сказания — о гибели Сосруко, где испытание прохо­
дит сам герой28. Сходное описание «игр» находим также
в сказаниях о других героях — например, о Бадыиоко29.
Основное место занимают постоянные, или устойчи­
вые, части одного сказания; нередко они воспроизводятся
почти буквально в большом числе вариантов (в стихо­
творном тексте).
Цикл сказаний о каждом из нартских героев имеет
своя специфический круг устойчивых описаний или ха­
рактеристик. В цикле Сосруко это — обращение к бога­
тырю.
Сосрыкъуэу си къан,
Сосруко, наш воспитанник,
Сосрыкъуэу си нэху,
Сосруко,
наш свет,
Зи мэ1ухур дыщафэ,
Чей щит — золотистый,
Афэр зп джанэ куэщ1.
Чья рубашка — кольчуга 30
25 «Нарт хъыбархэр», стр. 31—35.
26 Там же, стр. 31—35.
. „«гкий
27 СМОМПК, вып. XII, стр. 44; ССКГ, вып.^У; «Кабардиис*
фольклор», стр. 17. В поздних записях оно обычно отсутс у
28 СМОМПК, вып. XII, отд. I, стр. 46; О. Битпеп 1. ** соч., стр. 91—96; «Нарт хъыбархэр», стр. 71—74.
29 «Нартхэр, Къэбэрдей эпос». Налшык, 1951, стр. 192.
30
СМОМПК, вып. XII, отд. I, стр. 14.
314
Обычно ото обращение бывает развернутым, но
иногда оно ограничивается только первыми двумя стро­
ками:
Саусырэкъоу тикъан,
Сосруко, наш воспитанник,
Сосруко, наш спот.
Саусырэкъоу тпиэф.
Почти без изменений воспроизводятся в многочислен­
ных вариантах описание силы Тотреша («Сказание о бое
Сосруко с Тотрсшем»), богатырских «игр» («Сказание
о возвращении огня»), эпизод о борьбе Сосруко с отцом
невесты («Сказание о героическом сватовстве»), испыта­
ние Сосруко и так называемые этнологические мотивы
(«Сказание о гибели Сосруко»).
Особый интерес в этом плане представляет эпическая
история о богатырском соперничестве Сосруко и Бадыиоко. Каждый со эпизод детально разработан и стабилен
даже в мельчайших деталях. Особенно наглядно это про­
слеживается на стихотворных текстах. Но даже в тех
случаях, когда сказитель излагает сказание прозой (а запней последних лет в большпистве своем прозаические),
стихотворные отрывки совпадают нередко буквально.
Одно из главных мест в этом сказании занимает опи­
сание Бадыиоко в богатырском снаряжении:
Лбы и шыфэ — л1ыфэр арщ:
Япэк1э тплагъуэ гуэрэнщ,
ИужьымкЪ къуашцЪр бэуэ
щолъатэ,
Шы .ГУ щ1ы1ум щэтырыр
щеухуэ.
Маск1эгуэрэ къы1урихым
Гъуэгу напщ1пт1ыр елыгъуэ,
И бгъуптТымкТэ хьэ самырыр
щоджэгу.
Коггя и всадника вид таковы:
Впереди (него) клубится туман,
Позади птицы — грачи летают,
На спине коня раскинут шатер,
Искра за искрой,, исходящие
от него,
Опаляют обочппы дороги,
По бокам играют собаки —
самыры31.
• Нередко это сказание варьируется в пределах одного
варианта:
То, что вылетает из-под копыт коня,
Шы лъэгум къыщ1эк1ыр
В тучу взметает,
Пшэм хрегъэхьэ,
_ 31 СМОМПК, вып. XII; ССКГ, вып. V; Сходно; «Нарт^пщы
Ьидэнокьуэ и шцыналъэ». — Архив КЕНИИ, $ Д
Р
пасп. № 7.
315
И хьэм къыхпгъэщтыр
И бгъэм еубыд
То, что вспугнет его собака,
Ловпт его орел32.
И шы льабжьэм
То, что вылетает из-под копыт копя,
къыщТндзэр
Кружит грачипой стаей;
Къуанц1апц1эу махуарзэ,
пар пз ноздрей коня
Гъуэгу напщ1ит1ыр нелыгъуэ.
Опаляет обочины дороги.
Нартурэ пщы Бэдппокъуэ,
ГТартскпй пшп Бадьтноко,
Чынтыр зп ныкъуэкъуэгъу,
Чыг противники — чппты,
ХьэрхуэрыбэщТ,
У кого много соперников,
Ебгэн щ1ыхьэху,
Кто пдет против зла,
Хьэхуншэ шу,
Неодолжающпйся всадник,
Шу зынамыщТыххэ.
Всадник, пи с кем
по сравнимый33.
А шу къак1уэр
Нарт Шабатынокъуэщ,
Чынтхэр зп ныкъуэкъуэгъущ,
Хьэгъуэ хьэкъукъуэгъу бащзщ,
Емызыр зыхьэхущ,
Хьэхуншэ шущ.
Зп щхьэр дымылъагъуу,
Зп гугьум дпмык1.
Этот приближающийся всадник
— Нарт ПГабатпуко,
Противник чинтов,
У него мпого соперппков,
Оп выигрывает неприступность
Всадппк, па ком пет ппчего
чужого.
Чью голову мы пе впдпм,
Но о ком постоянно говорим
Во всех вариантах сказанпя о Бадыпоко сходно опи­
сывается дом Алпджевых — «большой нартский дом», где
происходят ппры нартов и обсуждаются важнейшие дела:
Ар унэ къебэ — небэщ,
Шасэн бэ щ1эту,
Пэ1улъу щылъыр
Шыбгъэлыбэм къэсу.
Нартым я санэхуафэщ.
Ар зьпцефэ унэр,
Унэ хужь бгъунжщ,
Унэ бгъунж пхащащ.
Этот дом — шатающийся.
Много подпор стоит у него,
То, что лежит перед ним,
Достает до груди коня.
У нартов санопптпе,
Дом, где они пьют,
Дом белый кривой,
Дом кривой, покосившийся35*
СМОМП1’к"т'!х"ИссЙ-“7„„П’уРТВД.
—•
“ * 4; С“,№
СЖ,о:.Н.рт
Устойчиво повторяется п описание того, как угощают
в этом доме:
Сэтэпсй и ешхэ — ефэщ,
Гъуогу щхьэ1ум щысщ ар,
Къэсым абы щызэфГадзэ.
Сапэхур п к1адощ,
ВЫ СХЪур II ПЫ1ИЩ,
Гъолъэхъу нпюри ук1ащ,
Къап хъыджэбз дахэмп
удагъэджэгуищ,
Хъыджэбз да хп я бащэщ.
Как видно, сказители и исполнители адыгского эпоса
выработали для каждого эпического героя свой круг пов­
тори ющихся устойчивых частей одного сказания. При
изложении определенного сюжета сказитель комбинирует
их обычно в весьма строгой последовательности, более
или менее детально, в том или ином порядке, по во всех
случаях строго сохраняя основную сюжетную линию ска­
зания.
Один из важнейших составных элементов повествова­
ния представляет в нартском эпосе адыгов диалог. В ска­
заниях о различных героях диалог выполняет разные
Функции. В цикле Сосруко, папример, он вводится, как
правило, в самый напряженный момент рассказа.
Всякий раз, когда герою грозит опасность, он обра­
щается за советом к другу. Так, во всех вариантах сказаиия о бое Сосруко с Тотрешем говорится о том, как
Сосруко, потерпев поражение, приходит к своей матери
Сатаней, та выясняет, что произошло, и помогает сыну
одержать победу.
Отличительной чертой диалога предстает при этом то,
что его части обычно являются неравными. Речь спра­
шивающего почти всегда выглядит очепь краткой;
ответ же, наоборот, разверпут и детализирован.
В ряде случаев первая часть целиком опущена; вопРос, адресованный говорящему, лишь подразумевается.
Так, в одном из вариантов сказания о бое Сосруко с Тот­
решем Сатаней, ие узнав от своего сына о причине его
36
316
У Сатаней пир,
Она (ее дом) находится у дороги,
Приезжающие привязывают там
копей,
У нее кадка белого сапо,
Ее угощение — откормленпый вол,
Зарезан жирный валух,
Тебе дадут поиграть с красивыми
кап — девушками,
Красивых девушек у них много 36
Там же; Сходно: «Нарт пщы Бпдэнокъуэ п пщыпалъэ».
317
Затем Ашамез
доспехи его отца.
грусти, отправляется к его коню. Конь, не дожидаясь
вопроса, рассказывает ей:
УкъызэмыушцГ, гуащэ!
Къалгулъымрэ
Гулъ удзымрэ щыщу
(И) Но спрашивай, госпожа
(хозяйка)!
Вот уже три дня я но пыо
воды,
Я не ем травы, всо думаю,
Что нам делать:
Мужчина злой на нашем пути
встретился 37
Къэракъурэ хэзгъэзакъым,
Дыжыныгъуэу хъэкхьуафэм
Псы 1уб езгъэжэхакъым
Иобэ мэхуищ мэхъури.
Уэ уднГуэхукъым,
Дэ гупсысап1э дпхуащ,
Л1ы мыгъуэр дэджэгуэгъу
къэтщТащ.
Аналогичную роль играет диалог и в сказаниях об
Ашамезе, где он занимает значительное место (известны
даже сказания, которые целиком состоят из диалогов).
Здесь, как и в цикле Сосруко, диалог вводится в тот
момент, когда действие достигает кульминации; он песет
большую эмоциональную пагрузку и отличается чрезвы­
чайной выразительностью. Об этом убедительно свидетель­
ствуют прежде всего диалоги Ашамеза со своей матерью,
когда он выпытывает у нее имя убийцы своего отца:
—■Си Тор йогъэсыр, сп щ1алэ мыгъуэ!
— Сп гур къосык1ыр, си анэу гуащэ!
— Сытыр къыпщыщ1, си щ1алэ закъуэ?
— Хэт зук1ар си адэр — къызже1эт!
— Ар зыук1ам сыт епщ1эфын?
Нэсрэн Жьак1э уп адэ и лъыщТэжщи
Индылыжь Туфэм ар Туозэшыхь.
I
!
I
I
ушгаот,
где
находятся богатырские
— Си адэжьым и шыр дэнэ здэщыГэр?
Си анэу гуащэ, щ1эхыу къызжы1эт!
— Уи адэжьым и шыр шц1эгъуалэ к1эщ1щ
Шы 1эл шынагъуэщи уиук1ыжыпщ
Гъуаплъэ гуэп боми ар щ1озэшыхь
Лбырэ мывэр и пхъэрыгъажэщ,
Сытк1э апхуэдэм уиэлъэщыи?
— Си анэу гуащэ, си адэм и уапэр
Дтлпэ здэшТыЪр — къызжыТэт!
— Си щ1алэ закъуэ, уи адэм и уанэр
Пхъэщакъуэ мафГэщ — укъиукГышц,
Пхъуантэ ф1ыц1эжьым ныдогьуэтыхь!
— Где копь моего любимого отца.
Скажи скорее, моя мать-гуаша?
— Белый конь твоего любимого отца —
Дикий, страшный конь-—он убьет тебя!
Он скучает в модном амбарс-кошошне,
Абра-камонь служит ей запором,
Чем сможешь ты осилить такое?
— Моя мать-гуаша, скажи-ка мне,
Где находится седло моего отца?
— Мой мальчик единственный, седло твоего отца —
Костер из дров в три слоя — убьет он тебя —
Преет в черном сундуке371
— Ты сжигаешь мне руки, мой мальчик несчастный.
— Мое сердце горит, моя мать-гуаша!
— Что случилось с тобою, мой мальчик единственный.
— Скажи мне, кто убил моего отца!
— Что сможешь ты сделать с его убийцей?
Насрен-Жаке — мститель за
твоего отца.
Он скучает у берегов Индыля
(Волги).
Если в цикле Сосруко и Ашамеза диалог песет прежде
всего специфическую эмоциональную нагрузку и содер­
жит некоторые элементы характеристики героев, то
в цикле Бадыпоко у него несколько иная (функция. Как
мы уже говорили, отличительной чертой сказаний о Бадыноко является то, что в обрисовке эпического героя
главная роль принадлежит не характеристике его в дей­
ствии, т. е. средствами сюжетосложенпя, а описатель­
ным характеристикам. Они содержатся в многочисленных
дпалогах — разговоре Бадыпоко с нартскпм пастухом,
с Сатаней, с нартами, собравшимися на пир в доме Алнджевых и т. д.
стрЛДГ'7 и- Нир01)а; Сходно: О. ОишёгП. Указ, соч..
з7а «1-1арТ хъыбархэр», стр. 31—35, Сходно: СМОМПК, вып. XII;
ССКГ, вып. V; «Кабардинский фольклор», стр. 45.
318
319
Как мы уже видели, эти диалоги принадлежат к числу
постоянных пли устойчивых частей одного сказания.
О достоинствах Бадыноко рассказывают другие персо­
нажи (старый пастух нартов, унауткп (дворовые) Сата­
ней, сама Сатаней), а иногда и сам Бадыноко. В моноло­
гах и диалогах этих персонажей Бадыноко характери­
зуется через пх восприятие. Каждая из этих характе­
ристик добавляет какую-то деталь к образу богатыря.
Вместе с тем в диалогах содержится характеристика не
только Бадыноко, но п того, кто о нем говорит: старый
пастух, служанкп Сатаней — любопытные, бестолковые и
болтливые — или сама Сатаней — прекрасная и коварная.
Как правило, диалоги имеют стихотворную форму, в от­
личие от всего остального рассказа, который излагается
прозой.
Видимо, эта особенность бытования сказаний обусловила и тот факт, что диалоги, имеющие стихотворную
форму, претерпели минимум изменений.
Значительная роль диалога в адыгском эпосе обусловлена особенностями поэтнки всего адыгского фольклора,
В системе художественных средств различных жанров
фольклора адыгов (особенно в историко-героических пес­
нях, народной драме) диалог является одним из основных
компонентов.
Известно, что нартский эпос адыгов, как и других
народов Кавказа, не составляет одну текстуально цель­
ную эпопею (например, типа грандиозного «Маиаса»).
Он складывается из большого числа отдельных сказаний,
которые группируются вокруг наиболее популярных иартских героев.
Таким образом, нартский эпос —
это история эпического нартского общества
представленная
в отдельных
сказаниях. В этом состоит
жанровая
особенность
адыгского эпоса.
Специфика различных национальных версий выра­
жается уже в том, что на первый план в каждой из них
выдвигаются разные герои. В частности, основное место
в эпосе осетин занимают циклы, совершенно отсутствую­
щие в адыгском эпосе —такие, как: 1. цпкл Уархага п
его сыновей; 2. цикл Урызмага п Сатаны; 3. цикл Сырдона; 5. цикл Хамыца л Батрадза; 5. цикл Сослана3838 Г. 3. Калоев Нартский
эпос», стр. 112_113
эпос Осетии. — Сб. «Нартский
320
В эпосе адыгов и абхазов на первое место выдви­
гаются сказания о Сосруко—Сасрыкве: они занимают
главное место среди сказаний о других героях — Бады­
ноко, Батарсзе, Ашамезе (у адыгов), Нарчхоу и Цвицве
(у абхазов).
Нартский эпос адыгов складывается, из ряда сказаний.
Каждое из них представляет собою закопченное художе­
ственное произведение и имеет самостоятельный сюжет.
Не имея при чп ш ю-сл едет венных связей между собою,
сказания эти объединяются прежде всего героями, кото­
рые переходят из сказания в сказание, проходя через
многие эпизоды. Данная черта характерна для нартского
эпоса всех народов.
В различных сказаниях на первый план выступают
разные герои — Сосруко, Бадыноко, Батарез или Ашамез.
Характерной чертой нартских сказаний адыгов яв­
ляется то, что каждый из героев, сохраняя свои специфи­
ческие черты, в сказаниях о других богатырях несколько
видоизменяется — в соответствии с контекстом. Так, Сос­
руко, сохраняя свои главные особенности («стальное
тело») в сказаниях о Бадыноко, например, утрачивает
черты той исключительности, какую видим в сказаниях,
специально ему посвященных. Здесь он выступает не как
главный богатырь, а как один из нартских богатырей,
столь же славных, как и оп сам.
В народном представлении герои эпоса поставлены
в определенные отношения между собою. Эти отношения
находят свое выражение в циклизации.
В пределах нартского эпоса сказания группируются
вокруг имен основных героев. В одних случаях вокруг
имени богатыря группируется целый ряд сказаний, в которых рисуются различные этапы эгшческой истории
героя (от его рождения до смерти). В целом эти сказания
воссоздают эпическую биографию богатыря. Цикл-биогра­
фия возникает как разультат и свидетельство осооого
внимания народа к данному герою. В адыгском эпосе законченный цикл-биография посвящен Сосруко.
Заметим, что в живом бытовании сказания о Сосруко
не всегда рассказываются последовательно друг за дру­
гом. Сказители могут излагать их в разлнчпом порядке.
Тем не менее из всего цикла вырисовывается вполне
определенная и последовательно развивающаяся оиограФпя героя.
21
Заказ М 1480
321
I
Записи последних лет свидетельствуют о том, что не­
которые сказители стремится ооъедшшть отдельные эпи­
зоды, мотивы II сюжеты сказании об одном герое в едпное целое, как бы создавая «свод» сказании об этом бога­
тыре. Чаще всего эта тенденция прослеживается на
материале сказаний о главном герое адыгского эпоса —
Сосруко39.
В других случаях с именем партского богатыря свя­
зано одно, два пли три сказания, в которых содержится
рассказ о главном подвиге этого героя: богатырское со­
перничество Сосруко и Бадыиоко, месть Батареза или
Ашамеза за смерть отца. В этом случае другие этапы эпи­
ческой жизни богатыря (чудесное рождение, богатырское
детство, получение боевого снаряжения) изложены очень
кратко, как предыстория подвига. И здесь тоже наме­
чены основные этапы «эпической биографии» героя, но
не все они разработаны в самостоятельные сказания.
Все это позволяет сделать вывод о том, что в адыгском
нартском эпосе наличествует единый принцип группи­
ровки сказаний в цикл-биографию. Различие состоит
прежде всего в количестве сказаний, посвященных тому
или иному богатырю; принцип группировки сказаний —
единый во всех случаях. В том случае, когда речь идет
о древнейшем и самом любимом герое эпоса, детально
разработаны все эпизоды его эпической биографии; ска­
зания, посвященные «младшим» богатырям, содержат
рассказ о главном их подвиге.
Кроме биографической, в эпосе адыгов наличествуют
элементы генеалогической циклизации (наиболее ярко
они выражены в осетинском эпосе40).
В аохазском эпосе генеалогичность выражается в том,
что нарты составляют огромную матриархальную семью:
оезмужняя Сатаней-Гуаша является матерью ста сыно­
вей которые живут одним домом41.
екоторое проявление генеалогической циклизации
в эпосе адыгов можно усматривать в сказаниях о пропсждении нартов: сначала на земле жили огромные, спль’ но глупые великаны (иныжи), их сменило племя
40 пР’а
Л. А н ш б а. У
соч., стр. 7.
В. А баев. Указ. соч.,каз.
стр. 21.
д
«Приключения нарта Сасрыквы н его девяноста девя
братьев». М., 1962.
322
карликов (испои), а после них на земле появились
парты; после нартов, согласно сказаниям, на земле будет
жить племя «маленьких людей».
Эл е м 011 т ьт ген еал они юс кой циклизации содержатся
так/ке в сказаниях о рождении различных героев: об­
стоятельства, предшествующие рождению богатыря, затем
хлопоты о его «закалке», воспитаншг и т. д. восприни­
маются как относящиеся прежде всего к эпической био­
графии «родителей» — Сатаней (в сказаниях о Сосруко и
Бадыиоко), Аши в сказаниях об Ашамсзс, н т. д. Роль и
значение будущих эпических героев лишь предвосхи­
щается; активно действующими они, естественно, прсдстают уже в других сказаниях.
*
!
Рассматривая особенности художественной структуры
эпоса о партах, мы обращаем внимание на характер че­
редования в нем повествования в форме стиха и прозы.
Соотношение стиха и прозы было специально исследо­
вано на материале абхазского эпоса42. На адыгском мате­
риале этот вопрос подробно не был освещен. Есть предпо­
ложение, что древнейшая, исконная часть эпоса — стихи
и что впоследствии, в силу различных исторических при­
чин, стихотворные части трансформировались в прозу.
М. Талпа, например, писал по этому поводу: «Сказания
о нартах некогда были поэмами, но в теперешнем своем
виде они в большинстве представляют прозаическую
былпцу» 43.
Вопрос о соотношении стиха п прозы в эпосе тесно пе­
реплетается с проблемой о древнейшем ядре сказаний
о нартах.
Однако до сих пор пока не решен вопрос, что древнее
в эпосе — стих или проза? В какой форме первоначально
был создан эпос — в стихах, прозе или в смешанной
форме? Этот вопрос, как известно, ставился также на ма­
териало различных эпических ла мятников — русского
42 См. в наст, сборнике статью. а Айш б а. Стих и проза
и абхазском нартском эпосе.
«ябапиинцев. — «Лптератур43 М. Талпа. Устное творчество ьаоард
ный критик», № 12, 1935, стр. 174.
21*
323
I
эпоса 4\ грузинских сказаиий об Амирами45, эпоса
тюркоязычных народов и др.
Мы же пока лишь попытаемся ответить на следующие
вопросы: 1) какие эпизоды в адыгском эпосе передаются
стихами, а какие — прозой; 2) каково соотношение стиха
II ПрОЗЫ В «смешанных» текстах; 3) в чем состоит закономерность одновременной передачи эпизода и в прозе, н
в стихах; 4) каков характер стихосложения в эпосе.
Среди сказаний адыгского народного эпоса .могут быть
выделены: 1) полностью несенные (в пароде их назы­
вают «уэрэд» — песня пли «пшыналь» — поэма); 2) сме­
шанные — прозаические с песенными вставками; 3) пол­
ностью прозаические. Тексты, целиком излагаемые
прозой, и те, где проза чередуется со стихом, назы­
ваются «хъыбар» или «таурыхъ» — сказание, рассказ, преда нпе.
Характерно, что исполнители адыгского эпоса всегда
четко различают эпические тексты по форме и никогда не
назовут сказание, излагаемые прозой, «уэрэд» пли
«пшыналь».
Основное место в адыгском эпосе принадлежит тек­
стам прозаическим. Прозой излагаются многие эпические,
«исконио-нартские» сюжеты — такие, например, как рож­
дение, женитьба и гибель Сосруко. В прозаической форме
бытуюг и некоторые сказочные сюжеты, прикрепляемые
к имени нартских богатырей, — «Золотое дерево иартов»
(о рождении Химыша), «Как Батарез слас Она и жснплся на его дочери», состязание на лучший рассказ
(«дележ шкуры черной лисицы»), об ослеплении одно-глазого великана, о чудесных превращениях героя, об
оживлении иныжа. Заметим, что сказочные сюжеты, свя­
занные с имепами эпических героев, в эпосе адыгов зани­
мают значительно меньшее место, чем, например, в аб­
хазском 46.
’
'
Однако сам факт наличия сказочных сюжетов в героическом эпосе
должен
Жанровой
ПШШПЛ1Г
п,.„„УЧИТЬ1ваться ПРИ характеристике
видимо, сказочные
еДуемого памятника. Не случайно,
сюжеты встречаются в прозаически*
!
I
цыка48.
Тексты сказаний, изложенные стихами от начала и до
конца, как правило, весьма стабильны. Записи разлпчпых
вариантов одного сказания, сделанные в разное время п
от разных сказителей, во многих, случаях совпадают
в мельчайших деталях, иногда слово в слово (особепно
показательна в этом плане пшынатль о Бадыноко). По­
пятно, что во многих случаях тексты народных сказаний
варьируются (таков закон жизни устной пародпой поэзшт). Наряду с вариативностью словесного текста, паблгодается вариативность мелодий. Так, папример, мело­
дия песни об Ашамезе, зафиксированная от кабардинских
сказптелеп, значительно отличается от записанной у шапсугекпх исполнителей нартского эпоса. В первом случае
она — бодрая, мажорная, во втором — минорная.
Самую значительную группу в адыгском эпосе состав­
ляют смешанные стихотворно-прозаические тексты, где
« м яй Я Р °1 п- Уваз. СОЧ., стр. 358.
1960, стр.
^ 166—176.3
_ Н П Ам«„„. Грузинский эпос. Тбилиси,
вяти братьев».*3
Юченпя нарта Сасрыквы и его девяноста Д6'
324
текстах; ото обусловлено большей «проницаемостью» про­
заического текста (по сравнению с весьма устойчивыми
стихотворными сказаниями). К тому же, это, вероятно,
связано с особенностями жизни эпического памятника па
современном этане, когда он испытывает сильное влия­
ние различных жанров фольклора — петорико-геропчеекпх
песен, т. е. жанра более позднего, исторических преданий;
он содержит пословицы и поговорки.
Наряду с целиком прозаическими, в адыгском эпосе,
как мы уже говорили, имеются тексты полностью стихо­
творные: это пганнатль о Бадьтиоко и о Батарезе, песня
об Ашамезе. Все стихотворные тексты имеют спецпальнуго мелодию и исполняются в сопровождении националь­
ных адыгских инструментов — шычепшины47 или пха-
I
с . «Шычелшина» (шыкГэпщГына) — один из старинных адыгнач* наРодиых музыкальных инструментов типа скрипки; стру«ппТ СЛУ>КПТ натянутый конский волос («шык1э» — конский волос,
По?
~~ собирательное название музыкального инструмента).
Рол аккомпанемонт шычепшины исполняются соло или хором ла­
дные оппческне и нсторпко-геропческие песни.
н .. 48 «Пхацыч» (лхъэцыч) — древнейший адыгский националь­
ной ШгстРУмепт («пхъэ» — дерово, «ц1ыч» — подражапне звуку
сост ^даР$ сУ*их деревянных пластипок друг о друга). Пхацык
топкт°ПТ °ТЬ1ЧН0 мз нечетного числа (3, 5, 7) таких пластинок, кокой° своб°Дио привязываются топким кожаным ремешком к тапепп>КС пласт1гпке с рукояткой. Зажав ручку пхацыка в ладони,
ггат^н^тель встряхивает инструмент; раздается звук, наломицающии цоканье копыт.
325
стихи чередуются с прозой. Смешанную форму имеют
обычно сказания о том, как Сосруко вернул нартам огонь,
о поединке Сосруко с Тотрешем, сыном Альбека, о мести
юного богатыря Ашамеза за смерть своего отца и др.
Соотношение стиха и прозы в адыгском эпосе раз­
лично. Нередко стихотворный текст продолжает действие,
излагаемое прозой; такой переход всегда логически обо­
снован: сказитель обращается к стихотворной форме в са­
мый напряженный момент рассказа. Во всех случаях сти­
хами излагается эпизод встречи Сосруко с Тотрешем, их
поединок, богатырские «игры» Сосруко с пныжем, встреча
Бадыиоко с Сатаней и др.
Обязательно стихотворными бывают диалоги, которые,
как мы стремились показать выше, несут большую
смысловую и эмоциональную пагрузку. Заметим, что сти­
хотворный текст, даже диалоги, никогда не вводятся
словами типа «он сказал» и др.
Стихотворными бывают и вошедшие в лартский эпос
отрывки из различных жанров фольклора: историкогероических песен, колыбельных песен, плачей, а также
хохи (здравицы), кебжеки, прибаутки, пословицы и поговоркп.
В сказаниях о Сосруко встречаем отрывок из историки
героических песен:
Уэзырокъуатхъузу шыуен
Озрокатхо — отважный
паезднпк,
Неприступную крепость берет
(Тот), чьпм сердцем был
Уардэхымыш,
Ты родил Сатаней-Гуашу49.
Уэрдэсэрейм паф1ок1уэ
Уардэхъымышыр зи уанэу
Сэтэней гуащэр
къебгъэлъхущ.
С именем нарта Бадыноко связывается народная к°~
лыоельная песня, в которой воспеваются достоинства оу*
дупдего богатыря. Сказитель так и назвал ее: «Песня, которой убаюкивали Бадыноко». В колыбельных адыгских
песнях отразились идеальные представления горцев о па­
стоящем богатыре воине — прекрасном наезднике, метком
стрелке, беззаветно храбром в бою. Этими же качествами
наделяет сказитель и Бадыноко. На наш взгляд, не слу49 «Сосрыкъуэ къызэралъхуам и хъыбар». Архив КБН14И,
пасп. № 19.
326.
чаино эта песня зафиксирована сравнительно недавно и
в единственном варианте. Это — несомненное свидетель­
ство проникновения в эпос элементов других художест­
венных жанров, в данном случае — историко-героических
песен50.
Эта колыбельная песня отличается высокими художественными достопиствам11:
Уэу-уэ, уэредэ-редэ,
Нартурэ л!ыхъу нэху,
«Дыгъэ махуэ» щ1ыжыт1э,
;
О-о, о-о, ореда, реда,
Мартов мужественных свет,
О ком говорим «солнечный
депь»,
Пусть исполнится (все)
хорошее, что ему желаем,
Имеете с ним кто
отправляется — знусхак
и собаки-самыры,
Выезжает оы па хуаре51
Тхакарапце
Его поводья — из желтого
шелка,
Его подол — золотые гвоздики
и т. д.
Ф1ыуэ хужытГэ исори
къылъос,
Знусхьэн дзшэсыр хьэ
самырщ,
Зерыдэшэсы кI ыр хуарэ
Тхъуэкъэрапц1эщ.
Дэнагъуэр зи шхуэмылак1э,
Я к!эхэр зн дыщэ 1упэ.
В сказания об Аднюх светлорукой нередко вводится
«гъыбзэ» (песня-плач) по мужу отрывок из широко из
всстиой народной адыгской песни:
Щ1ыф1ыц1эм ущ1ызолъхьэри —
Хьэп1ац1эм усф!ашхыиущ,
Положу в землю —
Черви съедят, —
50 Исследовательница адыгского фольклора С. III. Аутлсва
Доказывает, что некоторые колыбельные песни являются однон
113 разновидностей историко-героических песен, и высказывает
предположение, что создание их связано с обычаем аталычества.
Обычай аталычества был широко распространен у народов Кав­
каза с древнейших времен. Он состоял в том, что тотчас после
рождения младенца отдавали в другую семью: девочку — корми­
лице, а мальчика — аталыку (воспитателю). Воспитанник по-адыгСКц назывался «къаи». Аталык н кормилица получали все права
кровного родства. (См.: С. Ш. Аут лева. Адыгские псторпкогероические народные песни ХУ1-ХУШ воков. Автореферат дпсс.
Юнлцсц, 1965 стр. 20.)
51 «Хуаре» —- лошадь, особо ценная но своим боевым каче­
ствам. «Чистой «хуаре» считался конь оуланон масти с черн
гРнвой, черной полосой вдоль хребта и черным хвостом.» См..
«Кабардинский фольклор», стр. 640.
327
Оставлю на верхушке дерена
Птицы поклюют,
Куда я тебя дену, горе мое?52
Жыгыщхьэм утызолъхьэри —
Къуалэбзум усф1ашхтлпущ,
Дэпэ мыгъуэм усхьып?
Одни и те же эпизоды (или даже целые сказания) су­
ществуют нередко одновременно и в прозе, и в стихах.
В цикле Сосруко — это сказание о возвращении огня и
о бое его с Тотрешем; в цикле Еадыноко — сказание о бо­
гатырском соперничестве Сосруко и Бадыноко; сказание
об Ашамезе известно и целиком стихотворное, л прозаиче­
ское. Закономерно, что стихотворные сказания являются
более устойчивыми, тогда как в прозаических наблю­
дается большая вариативность.
Анализ стихотворных и прозаических частей свиде­
тельствует о том, что словарный состав стиха древнее,
чем прозаический, даже в пределах одного варианта.
В этом отношении чрезвычайно интересен вариант сказа­
ния о бое Сосруко с Тотрешем, принадлежащий одному
из талантливейших адыгских сказителей — А. Хавпачеву.
Это позволяет сделать вывод о древности стихотвор­
ных частей эпоса, о том, что стихи стабильнее прозы.
Кроме того, древность стихотворных частей эпоса подтвер­
ждается еще и тем, что стихи, как правило, пополняются
архаичным по своей фактуре методическим речитативом,
реже — напевом.
Говоря о соотношения стихотворных и прозаических
частей эпоса, необходимо отметить особенности строения
стиха в адыгских языках. Известно, что особенности по­
этической речи того пли иного народа обусловлены самой
природой его языка. Способ построения стиха, особен­
ности рифмы и ритма определяют прежде всего строй на­
циональпого языка, произношение, место ударения,
Своеобразие адыгского народного стиха было отмечено
исследователями уже
в прошлом веке. А. Г. Кешев
.
в статье «Характер адыгских песен» писал следующее:
« раткая выразительность ее стиха — обусловленная ДУ'
хом самого языка, состоящего большею частью из дву*'
трех слов п отлитого наподобие изречения, пословиц*»1» |
как бы нарочно рассчитана на то, чтобы резко, нензгла- |
димо врезаться в памяти. Исказить подобный стих иесраВ' ]
52
Ср. с песней «Адынф», опублпковапиой в кп.: «Адыгэ ородь1"
жъхэр». Лдыглацпздат, 1940, стр. 64—65.
328
пенно труднее, чем растянутый, затемненный излишним
обилием эпитетов стих других языков. Особенный же род
рифмы, усвоенный черкесскою поэзией; — аллитерация —
устраняет затруднение, необходимо связанное с обыкно­
венным способом рифмования конечных слогов... Такого
затруднения не существует в черкесской песне. В ней
рифмуется конечный слог предыдущего стиха с началь­
ным слогом последующего или ближайшего к нему, так
что едва только оканчивается одна рифма, как уже сама
собою без особенных усилий воображения, возникает в на­
мяти следующая за нею. Оттого очень нетрудно запомнить черкесскую ггесшо, прослушав ее раза два со вни­
манием 53.
Особенность ритмической организации адыгского стиха
в фольклорных произведениях связана и со спецификой
их исполнения. Сказания о нартах, пмеющие стихотвориую форму, поются так же, как тг песни любовные, трудовью, обрядовые. Вне пения «... они теряют гармонию,
даже силу впечатления, какое должны производить на
слушателей» 54.
Эту особенность подчеркивают и совремеппые исследоватсли нартских сказаний: «Только в пении становится
отчетливо ясным ритмический рисунок стиха иартского
эпоса. В пении иные гласные растягиваются, иные исчезают, вставляются вспомогательные возгласы вроде
соответствую«уоред», «ойрари», «уей», приблизительно
д.
Строка приЩпе русскому «ой», «ой ты, гой есп» и т.
обретает правильный, тонический размер, сравнительно
легко воспроизводимый на русском языке» 55.
Своеобразие ритмического строя стиха в адыгском
иартском эпосе составляет прежде всего одинаковое колпчество ударных слогов в каждой строке.
Так, в стихах, приводимых ниже, по два осиовпых
ударения в каждой строке:
Сосрыкъуэу сн къатт,
Зи мэТуху дыщафэр,
Афэр зп джанэ куэщТыр,
“
‘Ь»»,„•. <°Ж“ V*
рукописи.) — «Русский ПССТППК», т. ТГ КП. 4—о. ГД10.,
стр. 326.
55 «ТТарты. Кабардинский эпос» . М., 1951. стр. 17.
329
Дмгъэр зп пы!э щыгъу,
Йощыгуауэри ныдокIрп.
Нарт хасбми пыхуокТуэ.
Важнейшее значение в ритмической организации
стпха имеет своеобразная рифма, которая выполняет
как бы две функции: являясь изобразительным средством,
она в то же время способствует лучшему запоминанию
текста. В отличие, например, от русского стиха, в кабар­
динском народном стихе концевые рифмы не играют
большой роли. Первое место здесь принадлежит
ним созвучиям, когда последний слог предыдущейвпутренстроки
повторяется в различных местах последующей; главпьтм
здесь является созвучие конечных слогов одной строки
с начальными слогами другой.
Сэтэненуэ ди нарт гуащэ,
Гуащэу щыТэм я пэхъ къабзэ,
Хабзэу щыТэр тхуэзьтгъафТэ,
ФТыуТэ щыТэм и къуэкГьтпТэ.
Характерно, что
гласные звуки (как созвучными бывают,, как правило, тге
русском, например, стихе), а согласные56.
13 адыгском
эпосе отмечается многообразие ритмов
стиха — в зависимости от того, кому принадлежит речь.
Интонационно легко отличается в диалоге разговор Сатапен с сыном и ее же разговор с нартами; речь тхамады
нартов Насрена Длиннобородого звучит совсем иначе, чем
речь «младших» героев — Батареза или Ашамеза.
Художествепно-п зоб
эпических скачятт°
Разительные средства адыгских
сказании весьма
круг этих средств
своеобразны. Но в целом сам
характеризуется
известной ограниченностыо. Главное
место принадлежит эпитету 57.
Интересные наблюдения над строением стпха в адыгском
партском эпосе находим в статье А. Хакуашева «Некоторые во;
просы стихосложения Алп Шогенцукова» в кн.: «Сборник статей
о кабардинской литературе». Нальчик, 1957, стр. 290—295.
330
5
При анализе эпитета в эпосе адыгов прежде других
обращают внимание такие эпитеты, которые в течение
длительного времени употребляются в устойчивом сочетанин с определенными словами, причем сочетание этих
слов имеет несколько иной смысл, чем каждое из них,
употребленное в отдельности. Это постоянные эпитеты.
Они определяют признак, который парод считает глав11 им, необходимым и без него не представляет образ героя
или характеристику предмета.
В адыгском эпосе наличествуют как эпитеты, аыалогпчные постоянным эпитстам и других эиосов (например,
русских былин) и отражающие какие-т.о общераспростра­
ненные представления об идеальном герое, так и эпи­
теты, выражающие специфический «нартский» идеал.
Эта особенность обусловлена самим содержанием ска­
заний о партах, пронизанных героикой боевой жизни.
Героем партских сказаний адыгов (как, впрочем, и
других народов, например, осетин или абхазов) является
богатырь-воин, как правило, бесстрашный в бою, прево­
сходно вооруженный, па чудесном коне.
Постоянный эпитет употребляется для определения
тех качеств, которые обязательны для истинного богатыря-нарта. Чтобы удостоиться звания нартского бога­
тыря стать равноправным членом нартского обще­
ства, нужно было выполнить прежде всего одно из глав­
ных условий, которое предписывало герою одному, без
спутников отправиться в поход и одержать победу над
врагом.
«Щу закъуэ» (одинокий всадник) — одно из постоян­
ных определений и Сосруко, и Бадыноко, и Химыша, и
их врагов — Тотреша или Тлебицы. «Шу закъуэ» — опре­
деление, которое дается парту как бы мимоходом, но соДержит в себе высокую оценку. Оно свидетельствует
0 храбрости, непобедимости, отсутствии страха перед
опасностью.
Постоянный эпитет характеризует и вооружение ге­
роев: копье у них — всегда двуглавое («бжы дыкъуакъУэр»), а меч непременно стальной («джатэ маиеэ», «жыру
маиеэ»).
Постоянные эпитеты употребляются в описании нарт­
ского угощения: для почетного гостя режут рыжего оыка,
годовалого теленка, откормленного барана.
331
Ер цугъожъы пэплъыхэр,
о-орэда!
О тпхъа1уэ 1усыба, о-орэда!
Рыжий бык будет пищей для
тебя,
Ор гъэлъэхъу пшэрыри, о-орэда!
Шыпсэу ащ дык!этэуп, о-орэда!
Годовалый толоыок будет ШПЛС
(соус) к этому,
Кадушка белого1 саио
Будет ко всему напитком.
К числу наиболее широко и постоянно применяемых
эпитетов в адыгском эпосе относится слово «белый».
В нартском пиру пьют только «белое саио» (сэиэху,
I
сэнэфэ). «Белым» (уыэ хужь) именуется большой иартсшш дом — дом Аледжевых, где происходят большие
иартские пиры: «белым юношей» (щауэ хужь, шьэо
фыжъ) называют Тотреша, богатыря необычной, несколько
трагической судьбы. Белому цвету отдается предпочте­
ние в характеристике нартского патриарха — Насрена
Длиннобородого. У Насрена белая борода: «Ы жьак1эр.
уэсщи бынжэгум нос» («Его борода-сиег доходит до
пупа»).
Среди постоянно употребляемых эпитетов весьма часто
встречаются слова «золото», «серебро», «шелк», несом­
ненно, отражающие поздние представления о благополу
чии. В этом плане особый интерес представляет описание
ооевого снаряжения нарта Бадыиоко. Кольчугой ему слу­
жит рубашка из золотых петель («зи афэ джаиэр дыщэ
щ1ы1унэ»), меч у него тоже золотой («дыщэ джатэ»). как
и убранство коня:
И шьщ уанэу телъыр
Дыщэ хъэрэхъшцэщ
Седло его коня
Сплошь покрыто золотым
узором,
Поводья его
Отделаны серебром.
И шхуэмылак1ит!ыр
Дыжьын зэрылъэщ.
«Дыжььщ
гъэпск1ащ» — серебряное
седло, докрытое уанэр дыщэ
золотом;
«данагъуэр
зи шхуэмылакХэ» ^
поводья его из желтого шелка. Эпитет
«шелковый»
в адыгском
нартском эпосе также относится к числу
стоянных: у Сосруко — шелковые усы, у Бадыиоко — шел­
ковая плеть (данэ к!эшпыр).
Постоянным является и эпитет «дахэ» — красивая»
красавица. В нартском эпосе красивы все женщиныодних героинь красота является главным достоипст332
1
I
пом — и тогда их ими без этого эпитета и не употреб­
ляется: Акуэидо-дахо (в абхазском эпосе ей тождест­
венна Гунда Прекрасная). Для других женщин (это от­
носится и первую очередь к Сатаней) красота — одно
из многих достоинств, и тогда о ней упоминается
вс кол ЬЗ Ь, ЛИ I мсвходом.
Постоянные эпитеты в адыгском эпосе немногочис­
ленны, ими определяются качества или свойства, обяза­
тельные для того, чтобы быть зачисленным в герои либо
героини сказании. Свойства же эти, в свою очередь, необ­
ходимо диктуются темп историческими и природными
условиями, в которых жили творцы лартскнх сказании.
Вместе с тем здесь наличествуют и постоянные энитеты, выражающие «общеэпнческие» представления об
идеальном герое: «шелковыс усы», «(шелковая плеть»,
«красавица», «белая борода» и др.
Обладая рядом общих свойств, иартские богатыри на­
делены и такими специфическими качествами, которые
четко отличают хитроумного Соеру ко от сурового аскета
Бадыиоко, юного мстителя за' смерть отца Ашамеза от
непреклонного Батареза, а коварного Тлебицу от честного
в борьбе Тотреша. Основное место в этой конкретной ха­
рактеристике героев принадлежит эпитетам — индиви­
дуальным определениям. Могут быть выделены две группы
этих эпитетов: одни имеют устойчивый характер, другие
такой устойчивостью не отличаются.
Индивидуальные определения, которые имеют устой­
чивый характер, применяются для характеристики тех качеств, которые являются основными у данного героя
(либо предмета) и непременно наличествуют во всех ска­
заниях (и вариантах), посвященных этому герою.
Выбор этих эпитетов применительно к разным героям
различен. Тому есть ряд причин: специфика происхожде­
ния образа, идеалы, нашедшие в нем свое отражение
и др. Так, в образе Сосруко подчеркивается прежде всего
его «железная» природа: железное тело («Сосрукъуэ нарт
л1ы къуапц1э» — «Сосруко — булатный мужчина»), железныо глаза («гущ1ыиэ жанит1)».
Эпитет — устойчивое индивидуальное определение хаРастеризует иногда и происхождение героя, Это тем оолее важно, что в адыгском эпосе генеалогическая цикли­
зация, как мы уже говорили, выражена довольно слаоо.
Если в характеристике героя отводится место его «родо333
словыой», то значит, это необходимо для эпического пове­
ствования. Не случайно в сказаниях настойчиво подчер­
кивается, что Соеру ко — «нерожденный» сын СатанейГуаши, а отцом его был «пастух нартских коров». Этот
момент со временем приобретает новый смысл. Отзвуки
усиления классовой дифференциации среди адыгов прони­
кают в древний эпос, и имя героя, рожденного от пастуха,
сопровождается отрицательным определением: «жэмыхъуэрылъхууэ емынэ» — «дьявол, рожденный от пастуха ко­
ров»— позже оно станет еще более презрительным— «чувячник», «лъапэкI эры хъ».
Исключительная роль в «эпической жизни» Сосруко
принадлежит его «неродившей» матери — Сатаней Гуашс.
«Родство» Сосруко и Сатаней характеризует устойчи­
вое индивидуальное определение: Сатаней называет его
всегда «сп къаи» — «мой воспитанник»; не забывают об
этом и другие нарты, как бы вскользь напоминая: «Сатанеи-гъуашэ и къаи Сосрыкъуэ» — «Сосруко, воспитанник
Сатан ей-Гуашн».
Сосруко обычно называет Сатаией-Гуашу «ди аиэ» —
«наша мать». Определение это является весьма устойчивым: прнмечательио, что так обращаются к леи н другие
нарты.
Та роль, которую играет Сатаней
в жизни главных
нартских богатырей, прежде всего Сосруко, свидетель­
ствует о том, что женщине в адыгском эпосе принадле­
жит исключительное место. Рядом с Сатаней в сказаниях
выступают и другие красавицы, но героиней предстает
только она. В характеристике ее необычной, весьма важ­
ной роли в жизни других нартских богатырей и всего
нартского общества основное место принадлежит устой­
чивому индивидуальному определению,
выражеиному
главным ооразом в эпитете «гуаша».
В адыгских языках слово «гуаша»
многозначно: госножа, хозяйка, свекровь — иначе
говоря,
старшая. В абхазском оно озпачает
«основа»,
«опора»58.
Содержание
адыгских сказаний
позволяет утверждать, что Сатаней
действительно
выступает в обществе иартов в роли хозяйки
распорядительницы
номки» его. Это — основнаянартского рода, «главной эко­
черта, которая выделяет СаочоркЛу^^-Ила.
Абхазы.
стр. 383.
334
такой среди других нартских женщин. Все остальные
качества должны способствовать выполнению этой основ­
ной ее роли. Она прекрасна и вечно молода — потому что
она мать всех партой и как мать всегда молода и красива
в глазах своих детей. Она быстро и красиво шьет одежду:
ведь ей приходится обшивать всех иартов, а число их
иногда (например, в абхазских сказаниях) доходит до ста.
Она должна уметь варить самое вкусное пиво (в осетштских сказаниях), потому что это обязательное качество
хорошей хозяйки. И все эти способности Сатаней сконцентрированы в одном постоянном определении ее —
• «гуаша», настойчиво повторяющемся не только в различ­
пых ии клах сказаний, но и почти во всех национальных
версиях.
Главное и образе Сатапей-Гуашн — ее положение «хо­
зяйки» партского рода, роль мудрой помощницы всех пар­
той и прежде всего главного героя — Сосруко. Сатаней
необыкновенно умна. Мудрость ставит ее в одни ряд
с лучшими нартскимн богатырями.
Сатаней говорит:
Меня считают за партского
Шу шэе нарт сыпащТ,
всадника,
женщинами
не равняй5Э.
Меня с
Сэ фызмп сапумыщТ.
Историко-этнографические
!.
В адыгском эпосе наблюдается известная трансформа­
ция образов основных героев. Так, образ Сатаней-Гуашп,
выступающей в сказаниях о разных героях, нередко по­
лучает противоречивое толкование: те качества, которые
в одних сказаниях определяются как достоинство, в дру­
гих оцениваются как недостаток или как свойство, не за­
служивающее одобрения. Это относится, например, к определеншо «дахэ» (красавица).
Если в цикле сказаний о Сосруко привлекательность
героини воспевается, то в сказании о Бадыиоко, где Сагапей стремится увлечь своей красотой этого героя, чтооы
предотвратить его возможное столкновение с Сосруко,
как источник
привлекательность Сатаней рассматривается
беды или зла.
отзвук уже утверждавженшины, се
59 Несомненно, тут следует впдеть
щнхся патриархальных отношений, когда сравнение высшей но
Ума н способностей, с мужчиной должно звучать
хвалой.
33 5
В эпитетах — устойчивых индивидуальных определе­
ниях, характеризующих Сатаней, явственны отзвуки не­
которых обычаев, широко распространенных у адыгов.
Иногда сказания называют ее так: «Сэтаней-Гуаша,
джэшыр зи гушыТэгу» (Сатапей-Гуаша, фасоли собесед­
ница). Издавна у адыгов, как и многих других народов
Кавказа, существовал обычай гадания на фасоли (по
расположению и окраске зерен). Вероятно, ага характерпстпка должна свидетельствовать о многосторонности
дарований Сатаней — хозяйки, распорядительницы иарт­
ского рода.
Стабильные индивидуальные определения занимают
главное место также в характеристике других героев
адыгского эпоса. Качества нарта Бадыпоко, сурового
воина, ищущего «друга-молодца себе под стать», сорат­
ника в боевых делах, гиперболизированы до предела.
В нем сверхъестественно все — рост, сила, бесстрашие и
даже вовлекая целеустремленность, переходящая нередко
в аскетпзм. Бадыпоко — обладатель «полной меры иарт­
ского мужества» всегда рпсуется в столкновениях с пле­
менами, враждебными партам. Постоянное определе­
ние его—«протпвппк (соперник) киитов» («чилтыр зи
ныкъуэкъуэгъу»).
В характеристике главных героев адыгского иартского
эпоса — Соеру ко, Бадыпоко и Сатаней — эпитеты — устой­
чивые индивидуальные определения весьма многочис­
ленны и разнообразны. Героев второстепенных, как правило, определяет какой-нибудь одии эпитет, указываюЩий на основную их черту.
Так, в определении «иартского тхамады» Насрена по­
стоянным является эпитет «борода» («Нэсрэи-ЖЬакТэ» — «Насрен-борода»). Имя Насрена никогда не упо­
требляется без этого эпитета, в котором подчеркивается
главная черта этого героя — роль патриархального ста­
рейшины, пользующегося всеобщим почтением в обществе
партов.
Нартский эпос
.1»п™г,ру»г‘(.лГАшв' "ос™т"°
ета смынет»). Не вызывает
симпатий —
1
народа и старуха
Уорсар, которая помогает
партам в осуществлении злых замыслов. Старуха Уорсар
умна и проницательна. Однако ум ее направлен на вы336
полпение тех дел, которые народ не одобряет, и потому
ни мудрость, ни почтенный возраст ее («седая голова») не
вызывают уважения мартов. Напротив, постоянный эпитет «шхъэлъащТэуэсу Уэрсырыжъ» (седовласая старая
Уорсар) всегда имеет отрицательный оттетюк.
Наряду с индивидуальными определениями, .которые
имеют устойчивый характер, почти в каждом сказании
встречаются эпитеты, которые появляются только од­
нажды и больше не повторяются.
Особенностью этой группы эпитетов является то, что
они, пожалуй, в большей степени, чем постоянные эпи­
теты— стабильные индивидуальные определения, выде­
ляют не только специфические черты героя, но и харак­
теризуют тс из них, которые позволяют судить об эпохе,
нашедшей в образе данного героя наиболее полное худо­
жественное отражение.
сказаниях
Своеобразным «поэтическим клише»
о Бадыпоко является описание этого героя, сидящего на
копе: искры, вылетающие из- ноздрей копя, обжигают
траву па обочинах дороги, а комья земли из-под копыт
его кажутся тучей над головою всадника. Вероятно, из
этого представления возник еще одни эпитет — индиви­
дуальное определение Бадыпоко: «всадиик-огоиь» («шу —
маф1э»), «пылающий всадник» («шу — маск!э)».
Этот величественный воин очень храор. Сказания н а^
стойчиво напоминают, что Бадыноко — «лТыхъу» 1храо
рый муж), «бэлэрыгъ зекТуэкЬ» (неукротимый в ооюБ
«парт хахуэщ» (храбрый нарт) и даже «л ь.
я л !ыхъужь» (храбрейший из храбрых).
Особенно выразительны эпитеты — индивиду*
*
редел синя, не имеющие устойчивого характера, хар
Р
зугощие славного иартского старейшину
|
кав_
Сказания рисуют Иасреиа-патрнарха, т!
еш>\
казского старика («Нэсрэпыжъ» -ежной бомудрого, степенного, дожившего до "вкГсКброды» но не утратившего юношеской ’ \
ттесколько
п°го вынести трудные многодневные походы.[ Несколько
точных эпитетов — индивидуальных
Рельефный образ этого героя. Эпитет
1 ‘ ' скому тха.
почтение нартов к своему стареиши
^ звучит
МаДе>> («Нарт тхьэмэдэ Нэсрэп Жьак^эш )•
(Насрен
в' обращении «Иэсрэн ЖьакТэр-ДИДьнцЪ жьак1эщ» <
I
Борода — наша золотая борода).
22
Заказ № 1480
337
I
Но старый Насрен прежде всего воин, как и все
нарты; об этом свидетельствует упоминание о том, что
шубой ему служит кольчуга: «Нэсрэныжьыр афэ джэдыгущ» (у старого Насрсиа шуба-кольчуга). Единство
«шуба-кольчуга» подчеркивает в герое прежде всего
черты воина — главную особенность всех иартекпх бога­
тырей.
Характеристика иартекпх героев будет неполной, если
не сказать об их верных помощниках, друзьях и боевых
соратниках — конях. Идеальный герой-нарт невозможен,
просто немыслим без коня: «Сказки и предания черкесов
изображают обыкновенно древних героев приросшими
к седлу от продолжительного странствования па коне»со.
Эпитеты, определяющие копей, позволяют определить
эпоху, отраженную в эпосе, и ее идеал — идеал воппа.
Бесспорно, в первую очередь здесь надо видеть отражение
эпической традпцпп: нераздельность богатыря с конем —
существенный прнзпак богатырства в эпосе разных на­
родов.
Умение выбрать хорошего коня, определить его масть
и будущие прекрасные свойства, нередко угадать в не­
взрачном жеребенке альпа — необходимое качество нартавонна. В партском эпосе адыгов эпитеты содержат точные определения масти коней. У Сосруко — Тхожей (бу­
ланый маленький), у Бадыноко — «чегып» (желтый с бе­
лой мордой), конь Батареза — «къэрапц1э» (вороной),
Ашамеза «къэтран» (черный, как смоль) либо «пцТэгъуэплт,» (гнедой), Шауея—«чемыдэжь» (темиогиедой),
копь Тлеоицьт «хакъу къэрапцТэ» (смолисто-черный).
пптеты индивидуальные определения преобладают
н в описании «внешности» копя. Характерно, что пред­
ставление о внешнем виде коня создает упоминание от­
дельных деталей, например: «Уи ппДэгъуэплъ блапщэу
щхъэгъурыр Тэк1уэц1пжыну гъэпсащ» (с лебединой шеей
твои гнедой тонкий, в две ладони шириной, готов
■ыдврт„“'"впРртщ“ Тхожея' нупР,шеР> последовательно
«предварительной
недооценки»
(А. П. Скафтымов) коня, и эпитеты играют тут основную
со
<{ХаР<?ктеР
адыгекпх песен». — «Терские ведомости», 1869.
Дг .о
13. стр.
2.
338 л
I
роль. Рисуя' маленького и невзрачного внешне коня <они
как бы оттеняют его необыкновенные сказочные свойства,
благодаря которым он помогает своему хозяпну-нарту
в его подвигах.
Иными чертами наделен конь Бадыноко. В отличие от
1хожеяу коня Сосруко, у Бадыноко копь лишен сказочных
черт: он не понимает человеческого языка, не является
помощником н соратником хозяина — не дает ему советов
н т. д. Он напоминает скорее всего коней героев русского
былинного эпоса.
Эпитеты, характеризующие коня Бадыноко, оттеняют
лишь одну его черту: сухость, поджарость, «тонкий стан»,
обусловливающие быстроту его хода.
В адыгском героическом эпосе можно выделить еще
одну категорию эпитета, которая является и своеобразной
синтаксической конструкцией. Характерной чертой этой
категории является то, что она сочетает в себе обращение
к герою с характеристикой, которая определяет самые
разные стороны: происхождение его, положение в нартском «обществе», характеризует его внешность, боевое
снаряжение, воинские доблести, отношение к нему
нартов и т. д. Это своего рода «эпитет — обраще­
ние».
Наличие этой категории эпитета в нартском эпосе
адыгов связано с той его особенностью, что значитель­
ное место в нем занимает диалог. Диалог и является^той
частью эпического текста, где возможны «эгштсты-оораЩештя». Их содержат диалоги Сатаней и Сосруко, Сосруко
и Сатаней с Тхожеем, Сатаней с Бадыноко; особенно
оодыное место и роль отведены им в сказаниях оо Ашамезе.
Эпнтеты-обращеыня как бы синтезируют в себе осповыые качества эпитетов — постоянных и индивидуальных
определений, еще более усиливая оценочный момент, характеризуя прежде всего отношение к герою, к которому
°бращена р ечь.
Так, напрнмер, эпптеты-обращеиия, рисующие отношеНи® Сатаней к Сосруко, подчеркивают не только их
«родство», но и любовь Сатаной к своему воспитаннику и
ее заботу о нем:
Сосруко, мой воспитанник,
Сосруко, мой свет!
Сосрыкъуэ
, сп къан,
Сосрыкъуэ си нэху!
339
22*
I
или:
Сосрыкъуэ си къан,
Сосрыкъуэ си иэху,
Сосрыкъуэ си мыгъуэ!
Сосруко, мой воспитанник,
Сосруко, мой свет,
Сосруко, горе мое!
В сказаниях о Вадыиоко этнтет-обращешгс характери­
зует отношение партой к этому герою не непосредственно.
Оно звучит в той высокой оценке, которую дают парты
его воинским доблестям:
Нартхэ ди Бэдынокъуэ.
Иартхэ ди л1ы пкъугъэ;
Ш1опщэуэгъуар
кънщ1ым
Санэ сфэм уретъэж
Щытыр къыщТегъэж
Щысыр кънщегъэлъэт».
Нартскнй наш Вадыиоко,
В ком сродоточио иартского мужества.
От удара его плети
У пьющего чаша падает из рук,
Стоящих заставляющий выскочить
из дома.
А сидящих заставляющий вскочить
(па ноги).
Эпптет-обращеыне является основным средством ха­
рактеристики героев в сказаниях о юном богатыре Ашамезе. Так, в обращении матери к Ашамезу выражена ее
любовь к сыну. Мы узнаем, что Ашамез — первенец своей
матери и единственный ее ребенок, потому он непременно
красивый: «стройный» и «тоикостаниый».
Ооращаясь к сыну, мать Ашамеза говорит:
А си щ1алэ ес,
А сн щ1алэ псыгьуэ.
пли:
Уэ си Ашэмэз,
Уэ си щ1алэ ес,
Уэ си щ1алэ псыгьуэ,
Сн щГалэ мыгъуэ,
Си щ!алэ закъуэ!
О, мой сыночек единственный,
О, мои сыночек тоикостаниый.
О, мой Ашамез,
Ты мой мальчик стройный,
Ты мой мальчик тоикостаниый,
Ты мальчик мой бедный
(букв, «горе»),
Мой мальчик единственный!
А вот как обращается Аш амез к матери:
Уэ сп анэу сп анэ,
Уэ си анэ дыгцэ,
О, моя мать, моя мать,
Моя мать золотая.
340
Гипербола и адыгском эпосе занимает весьма скромл ос место. Она содержптся главным образом в характорнстико оогатырей, отразипшнх идеальные представления
о герое сравнительно поздней, феодальной эпохи, таких
как Вадыиоко, Батарез, Ашамез. Не случайно в характе­
ристике персонажа более древнего происхождения, как,
например, Сосруко, гипербола совершенно отсутствует!
В характеристике нарта Вадыиоко гипербола стано­
вится одним из основных средств героической идеали­
зации.
Обращаясь к Вадыпоко-младсицу, лежащему в колыбели, старцы говорят.
Ун зыджэ макъыр шуупщэу,
Пусть твои одни зов будет
подобен шуму ста
всадников,
Пусть твой одни удар (будет
равен) мужеству ста
мартов,
(Пусть) твой один шаг (будет
равен) пробегу
выносливого хуары.
Иартшцэ лГыгъэр уи зэ
уэгъуэу,
Хуарэжь жэрыгъэр у и
лъэбакъуэу.
Целиком гиперболическим оказывается описание Бадыноко в походе в иолпом богатырском снаряжении:
Япэк1э пшагъуэгуэ щыплъагъур,
Шы пэшхъып гъуэзщ.
Иужьымк1э къуалэбэгуэ щылъатэр
Шы лъэгу вабдзэ ят1эщ
Шыгущ1ы1ум шатыргуэрэ щыухуар,
Сагъындакъ зэпылъщ,
МаскГэгуэрэ къы1урпхгуэ щьшлъагьур,
И шы тхъурымбэщ.
То, что видится впереди туманом,
Пар из ноздрей копя,
Птицы, что летают сзади (него),
Грязь из-под копыт коня,
Шатер, что раскинут на спине коня, —
Натянутый лук.
То, что тебе видится вылетающими искрами.
Пена его коня.
341
Иногда детали этого описания варьируются:
Шы лъэгум къыщ1эк1ыр
Пшэм хырегъэхэ.
В поэтическом языке адыгского эпоса сравнения более
многочисленны, чем гипербола; они содержатся в харак­
теристике всех основных партскпх героев.
При анализе эпического текста обращают внимание
прежде всею сравнения гиперболического характера.
Такие сравнения содержатся,' например, в описании
поединка
Сюсруко с Тотрснгем:
«Щыблэ выщТэуэ
согъухъуэ» — «(Словно) гром, как откормленный бык, за­
ревел я»; «Щыблэ уэкТэу сыгъуахъуэри» — «Я заревел
словно гром»;
7 .
То, что вылетает из-под копыт коня,
Долетает до туч.
Или:
II шы из бзпйм к ьрихуам
Гъуэгу напщ1ит1ыр нслыгьуз.
То, что вылетает из ноздрей
его коня.
Обжигает обочины дороги.
В ним я пщ1апт1эпсрп
И натТэм къыпхпхуащ.
Вариации эти обычно бывают незначительными; сказаиц я о Бадыноко показывают удивительную устойчивость
описания героя в боевом снаряжении, на коне; в част­
пости, абсолютно совпадают во всех текстах гиперболы.
В соответствии с величественной внешностью гипербо­
лически описано и бесстрашие Бадыноко, его честность
в бою, п его богатырский аппетит:
Бэдыпокъуэу, бланэ гъэшхар
зц шэджэгъуашхэ,
Вы гъэшхар зи пшапэГус.
Бадыноко, чей обед —
откормленный олень.
Чей ужин — откормленный вол.
Не случайно, очевидно, и то, что в описании «большого
нартского дома», где происходят богатырские пиры и
принимаются важнейшие решения, также употребительна
гипербола.
Гиперболически изображаются н те, кто собирается
в этом доме:
Санэхубжьэ я к1адэщ,
Вы ехъуа я нышщ,
Гъэлъэхъу шпэрп я
шыпещ.
Рог их белого сано — кадка,
Их угощение — откормленный вол,
К нему подлива —из жирного
барана.
Необходимо заметить, что прием гиперболизации, соI енно не характерный, например, для цикла Сосруко,
в сказаниях о Бадыноко является постоянным.
пшероола преобладает в описании и других героев
ЭДвСЬ Г“Пеб60'
342
I
Словно из восьми волов пот
Заставил вьтступпть у него на лбу.
Богатырская сила Тотреша характеризуется следую­
щим сравнением:
«Бжэныц и джэдуэ уапэгум сырихщ» — «(Словно) ко­
зий пух, снимает меня с седла (так легко)», или: «Словно
козлиную и собачью шерсть» — «Бжэныцрэ хъэныпэу
зэрихьащ».
Гиперболическое сравнение характеризует огромную
силу и юного богатыря Ашамеза: одним плевком оп гасит
огонь, которым пылает седло его отца, — «словно костер
из дров в три слоя» («Пхъащакъуэ маф1эщ»). Встре­
чается -гиперболическое сравнение и в характеристике
нарта Батареза: «Езы гущэмэ, ой дуней, пылъыпкъыр
хэлъти» — «Сам он, ой дупай, был крепок, как слон», пли:
«Жаньтр илт, пылыр шткът» — «(как) сталь, его мышцы,
(как) слои, ого тело»61.
Другая большая группа сравнений основана тга упо­
доблении: бытовым предметам или домашним животным.
Меч героя сравнивается с острыми зубами собаки: «Си
ДЖатэ&ьурэ, ой дуней, хьэщхьэрыТудзэ («Мой меч, он
Дунай, лезвие которого словно зубы бешеной сооаки»);
или: «Хьэдзэкъэиыр и джатэ» («Меч его подооен оскален­
ным зубам собаки»).
61 Упоминание о слонах, крокодилах и прочих жннотных, нс
обитающих па Кавказе, весьма часты не только в эпосе адыгов,
по п в фольклоре других народов Кавказа. Эту особенность еще
в прошлом воке отмстил Л. К. Услар: «Несмотря на незнание или
полузнаипе горцами львов н орлов, гг львы и орлы часто упо­
требляются ими для сравнения». (Л- К- Услар. Этиографи
Кавказа, II. Тифлис. 1888, стр. 82.)
343
Потерпев поражение в поединке с Тотрсшем, Сосруко
возвращается домой «с помутневшими глазами, словпо
рыба, попавшая в сеть» («И пэр хъэрахъэу, хъыр зырадза
бдзэжьейуэ»). А когда он попадает в руки к гшыжу, тот
грозится: «Проглочу тебя, словно ягненка» («Шынэл
папщТэу узы1урыслъэфыпкъэ»).
Разгпевавшпйся Бады моко срашгивастся со старым
пнем,
который
моментально
вспыхивает от огня:
«Дакъэжь мафТэгуэ зэщТонэ» («Как старый пень, разгорается огнем»).
Достоинства героя нередко сравнивается с предметами
вооружения: о Бадыноко, например, говорится: «Подобно
маисе, приближаешься ты к предводителю войска чпптов»
(«Мансэу чынтыдзе пашэм йок1уал1э»), а стройность Са­
таней сравнпвается со стройностью древка копья самыра:
«Самыр бжыкТ хуэдэгуэ зпгъэпещ» («Нарядилась, словно
древко копья самыра»).
Следует подчеркнуть,
что в адыгском эпосе мы не обпаружпли традиционных сравнеиий, характеризующих
женскую красоту; можно сослаться лишь па единственное
сравнение, употреблеипое при характеристике Сатаней:
Дыгъэ нэбзпйр ун лэгущ,
Дьпцэхэр — ун куэщТщ.
Твой лик — (словно) луч солнца,
Твой подол — словпо пз золота.
Особенности поэтики
партскнх сказаний в известной
мере связаны со спецификой
В отличие от исполнителей их бытования и исполнения.
эпоса ряда других пародов62,
адыгские джегуако63 не
«специализируются»
только па
партскнх
сказаниях. Опн исполняют
гнх жанров — нсторико-песепного
произведения и Друфольклора
(«орэд»,
«уэрэд» — псспп), «гьыбзэ»
(пссни-плачн) и др. Искусство джегуако своими
корнями уходит в глубокую Древность.
Джегуако, или
как правило, были профессноналышми певцами;гегуако,
своим
искусством они добывали себе
пропитание. Характеристике искусства джегуако посвя­
щена обширная литература61. А. Т. Шортанов пишет:
«Творческий диапазон джегуако весьма широк и много­
гранен. Он выступает и поэтом-повцом, и рассказчикомимпровизатором. В творческую группу «джегуако» входнло несколько человек, иногда до десяти н более. Группа
«джегуако» состояла преимущественно из двух-трех му­
зыкантов, играющих па национальных инструментах...
Кроме музыкантов, эту группу представляли певцы II
рассказчики, а иногда и акробаты. Идейным и художест­
венным руководителем оставался «глава репертуара» —
иоэт-иевец. Каждый участник группы совмещал в своем
творчестве несколько видов исполнения».. .°5
Как указывает А. Т. Шортанов, «в художественном
репертуаре джегуако было в основпом два тематических
направления: а) героических сказов, легенд, песен, куда
входил и партский эпос, сказаний и речитативов о выдаю­
щихся борцах за счастье народное; б) бытовых, нравст­
венно-дидактических и сатпрпко-юмористическнх про­
изведений» 66.
Искусство джегуако, являясь составной частью народ­
ного театрального зрелища у адыгов, в то же время су­
щественно отличалось от остальных видов народных зре­
лищ67. Творчество джегуако активно и непосредственно
вмешивалось в жизнь, в события дня, остро и ярко ком­
ментировало происходящее, опираясь на реалистические
приемы, на живой разговорный язык68.
Следует отметить, что артели певцов существовали
сравнительно педолго, а с принятием ислама стали посте­
пенно исчезать. Основными носителями и исполнителями
эпоса стали сказителп-одипочкн, которые сохранили их до
наших дней.
„
& У Р У с б и о в. Сказания татар-горцсв Пятигорского
уезда Терской области. — СМОМПК, выгг. I. Тифлис, 1881; Т. КеРашов. Адыгейские сказки. Ростов-на-Доиу, 1937; М. Та л па.
Устное творчество кабардинцев. — В кн.: Кабардинский фольклор;
д ^ с У11 о в- Литература и писатели Кабарды. Нальчик, 1957;
Нал! ^ V5 Т а П ° П ^еатРальиос искусство Кабардино-Балкарии.
Известно, наир., что у тгоркоязычных народов существу
иовцы, «специализирующиеся» только на исполнении эпическ
произведений. У киргизов это — «мапасчп» («джомокчу»), У ка
хов
— «ьтрчп», у якутов — «олонхосуты».
63 «Джегуако» — букв, «играющий».
* А. Т. Ш о р т а и о в. Указ, соч., стр. 10—11.
“ Там же, стр. 20-21.
Кроме искусства джегуако, в адыгские народные зрелища
входили также «ажагафакепчп» (танец козла) и «щопщако» —
игры. у постели раненого.
8 См., напр.: М. Т а л п а. Кабардинский фольклор. М.—Л., 1936.
344
345
62
Имена выдающихся адыгских джогуако прошлого нам
почти неизвестны. Случайные и весьма отрывочные све­
дения об их репертуаре, манере исполнения, обществен­
ном положении содержатся в различных работах, посвя­
щенных описанию Кавказа. Из этих работ мы узнали
имена таких джегуако, как Султан-Ксрпм-Гпреп, Шазо
Ибрагим, Таяир. К сожалению, ни в одной из работ доре­
волюционных авторов не удалось обнаружить описание
адыгского певца-исполиителя нартского эпоса, его эпиче­
ского репертуара, манеры исполнения. Даже лучшие
дореволюционные публикации эпоса адыгов нс имеют
паспортных данных. Теперь- уже невозможно восстано­
вить, от кого были записаны тексты, опубликованные
в прошлом веке К. Атажукиным и Л. Г. Лонатинеким,
как эти тексты были исполнены (сказом или пением)
и т. д. В связи с этим особую ценность представляет за­
пись нартского эпоса, сделанная в 1914 г. представите­
лями Рижской фабрики грамзаписи. На пластинке сохрапились имена исполнителей весьма популярного сказания
о бое Сосруко с Тотрешем. Поет сказание профессиональ­
ный джегуако Асхад Шогеиов, кабардинец по националь­
ности, из Баксанского района Кабарды. Играя на пхацыке, ему подпевает другой профессиональный джегуако,
кабардинец Мамыша Казпев.
В Кабарде еще живы старики, которые слышали ыартскле сказания в исполнении этнх замечательных певцов,
Запись на пластинку сохранила нам не только имена иародных певцов и текст сказания, но что особенно
важно —■ и мелодию.
После Великой Октябрьской революции, когда нача­
лось систематическое и планомерное собирание текстов
нартского эпоса, значительное внимание уделяется изуче­
нию творчества отдельных сказителей. В Адыгее, Кабар­
дино-Балкарии и Карачаево-Черкессии сотрудниками
научно-исследовательских институтов были выявлены
многие знатоки нартского эпоса и произведены многочис­
ленные записи.
За очень редким исключением69,
дней не являются профессионалами. исполнители нашпх
Как правило, они
трудятся в колхозах, а в свободное время исполняют
иартскне сказания.
Как раньше, так и теперь нартский эпос исполняют
преимущественно мужчины. Но иногда и женщины рас­
сказывают о подвигах мартов (от сказительницы Чаус
Жуковой записан полный цикл сказаний о Малечипх).
Обычно сказитель знает сказания о каком-либо одном
из иартских героев, и не всегда весь цикл. Характерно,
что некоторым сказителям сказания об одном герое из­
вестны и в стихотворной, и в прозаической форме. Инте­
ресно отметить, что в отличие от исследователей, которые
различают: «орэд» — песня вообще, «орэдыжь» — старин­
ная песня, «гьыбзэ» — песпя-плач, причитание, сами ска­
зители не придают значения этим различиям. Как пра­
вило, иартскне сказания они называют по имени того ге­
роя, о котором пойдет речь: «Сотовой и гъыбзэ» («Плач
(«Пшииатль
Сатаней»),
«Сосрыкъуэ и пщыпаль»
о Соеру ко»).
Для обозначения понятия «сказание» употребляются
такие названия: «шиыиатль» — песня; «тхыдэ» — сказа­
ние; «таурыхъ», или «хътгщеэ» — предание. Но, говоря
о иартских сказаниях, исполнители чаще всего употребляют
тер ми и «п ш 11 и атл ь ».
Почти не известны сказители, «специализирующиеся»
только по иартскому эггосу. Как правило, каждый скази­
тель знает и произведения других жанров. Зато в репер­
туаре почти каждого сказителя преобладают сказания об
одном из иартских богатырей. Это обусловлено тем, какой
нартский герой наиболее популярен в данном районе.
Известно, что сказания об одних героях — например,
о парте Сосруко, — широко бытуют у всех адыгских на­
родов. Сказания и песни о других иартских богатырях
пользуются разной популярностью: у шапсугов — это Батарез, Ашамез, Тлепш, у кабардинцев и беслепсевцев —
Сосруко, Бадыноко, Шауей, Ашамез; только у кабардинЦев зафиксирована пшииатль Лашып, в Черкесспи самым
популярным является сказание об Адшох и т. д.
Современные исполнители нартского эпоса — в осиовном люди преклонного возраста, неграмотные пли почти
Таким исключением является, напр., ныне здравствующий
^шРхаи Хавпачев, таким был Бекмурза Пачев (умер
в 1936 г.). См. о нем: «Пащ1э Бэчмырзэ». Налшык, 1962; X. Тву-
но в. Чудесный самородок.— В кн.: «Литература и ипсатсли Ка­
барды». Нальчик, 1957 и др.
346
347
неграмотные. Нередко эпический репертуар получен ими
«по наследству» — от отца к сыну /0.
70 Народный поэт Кабарды Лмирхан Асхадовнч Хавпачсв родплся в 1882 г. в селении Кахуп. По национальности — кабардиисц. Отец его, Асхад, был талантливым джегуако и передал сыну
свою любовь к поэзии. Замечательная память Ампрхана хранит
огромное количество песен и сказаний о партах; он великолепно
рассказывает их и мастерски поет, нередко он выступает вместо
со своим братом и сыном. Особенно любит он исполнять пшинатль о Сосруко и шпннатль Лапши.
Кабардинский народный сказитель Хасанов Гузср Салихович
родился в 1854 г. в селении Псыгаису. Неграмотный. Дожил до
ста лет, умер в 1954 г. Репертуар Гузера Хасанова, который он
также унаследовал от своего отца, был необычайно богат —он
знал и исполнял сказания о партах, сказки, героические песни.
Гузср был талантливым исполнителем нартских песен.
Черкесский народный сказитель Мурзабек Салихович Ордоков
родился в 1884 г. в селении Хабез. По национальности — черкес.
Неграмотный. Мурзабек знает очень много сказаний о партах.
Особенно любит он сказывать о подвигах нарта Батарсза, а также
о парте Сосруко и светлорукой красавице Адпюх. Кроме партскпх сказаний, Мурзабек знает в большом количестве адыгские
предания и старинные народные песни, которые он великолепно
поет. Сказнтельское мастерство Мурзабека пользуется огромном
любовью народа,
Хамдохо Люб родился в 1881 г. в адыгейском ауле Пчпхатлукаи. Люб — один из известных адыгейских сказителей: он
исполняет нартские сказания, предания, легенды, сказки. Сказа­
ния о нартах занимают главное место в его репертуаре: ом увле­
кательно^ рассказывает их и прекрасно поет песни о героях-партах. Особенно любит он сказания о нарте Патаразе.
Адыгейский сказитель Ибрагим Лчагу родился в ауле Афинсип в 18м Г. По национальности — шапсуг. Отец Ибрагима хоадыгскшг фольклор, мастерски исполнял его; от него
^ слышал многие нартские сказания, сказки и героинегпйгтропЖ Иорапш поот нартские и героические песни под
аккомпа1,емент на древнем адыгском музыкальном
инструменте — шычепшппе.
сетюппиСг^т^ВПа ??укова Р0Дилась в 1880 г, в кабардинском
шюнатннпгттг1апрВ0'.9Тец ее **куб Джатажоков, абазинец по напевпом-п*крг\-яттСЮпЖП311Ь ПР°ЖПЛ п Кабарде. Он был народным
запомшгля и\- п°’й^Т нег0 *аус сль,шала сказания о нартах «
нпя о няпто большом количестве. Особенно любит она сказаисключнтолгпл >аТарезе пТ(.мУДРой Малечнпх и исполняет их
кебжеков Ча\гг япГГТЛПВ0* Кроме нартских сказаний и нартских
желаний,’здравиц
МН0Г0 адыгскпх сказок п хохов - благопоВ
рии, АлыгеГкппя;МЛСТат', рассм,®иия адыгов - Кабардино-Балкашвх за
6В°'Черксссии- а также у адыгов, прожнваюбытоваш.иУ хотя ’,,Р.лГСК1,Й эпос сохра"яется в живом устном
* есомненно, эпическая традиция идет на уоьтль.
348
Кабардинские "*Р°*ИЫЯ
тсли
Асхад Шагенов
адыгскими
Адыгские сказания о партах отразили в своеобразной
художественной форме огромный исторический период
в жизни народа — переход от матриархата к патриархату,
и атр и архал ьно-родово й строи и особенно высший его
этап —период так называемой «военной демократии».
Особенность нартского эпоса у всех народов Кавказа со­
стоит в том, что в отличие от таких памятников, как
«Давид Сасунский», «Манас» пли у крайнекис «Дум ы»,
партский эпос не содержит изображения конкретных
исторических событий. В художественной, нередко фаитастпческн-обобщенной форме в нем отразилась жизнь
его создателей на древних этапах ее развития, первые
представления народа о мире, о человеке, народный
взгляд на важнейшие события исторической жизни.
Но, как справедливо подчеркивает В. Я. Пропп, «. . . худо­
жественный замысел историчен даже тогда, когда он об­
лекается в совершенно фантастическую форму»71.
Нартскпй эпос адыгов отличает не только значитель­
иое историческое содержание, но н высокие поэтические
достоинства. Анализ поэтики этого выдающегося эпиче­
ского памятника (таких ее важнейших компонентов, как
сюжетосложснне, композиция,
циклизация, соотношение
стиха и прозы, поэтический язык эпоса) является серьез­
ным подспорьем при решении важнейших вопросов исто­
рического изучения эпоса.
В. А. Дынник
СЮЖЕТИКА ОСЕТИНСКОГО
НАРТСКОГО ЭПОСА
И ЕГО ИДЕАЛЬНЫЙ ГЕРОИ
Само исполнение осетинских сказаний о нартах певнами и рассказчиками , само восприятие слушателями
подчеркивают одну из привлекательнейших особенностей
нартского эпоса —- своеобразное слияние глубокой перво­
бытности и вместе с тем свежести. Исследователи давно
отмечали то особое благоговейное внимание, с каким осе­
тины слушают рассказы о подвигах своих излюбленных
героев — мартов. Однако нельзя не подчеркнуть, что
в высшей степени серьезное по своей сути отношение
к героям и событиям нартского эпоса сочетается в слу­
шателях с каким-то интимным восприятием их, как будто
эти герои далекой старины — в то же время близкие их
знакомцы. Живости восприятия содействует и характер
исполнения. Эпическое повествование нередко преры­
вается возгласами самого певца — прямым обращением
к аудитории. Особенно часто это бывает в рассказе
о схватке с врагом. Повествуя о том, как Батрадз при
встрече с обидчиком нартов — наглецом Алафом раздро­
бил ему руку мощным пожатием, народный певец выра­
жает пожелание, обращенное прямо к слушателям: «Всем
вашим недругам такого пожатья!» («Батрадз и сын кри­
вого уаига» 1). Подобного рода эмоциональные обращения
к слушателям можно найти в сказании о битве нартов
с сыном владетеля Хызовской крепости, а также во мно­
гих других сказаниях. И падо видеть, как живо откли­
кается аудиторпя на эти прямые обращения к ней!
В. Я. П р о п п. Указ. соч., стр. 58.
1 «Нартскпе сказания. Осетинский пародпый эпос». М., 1949.
Все дальнейшие цитаты даются по этому изданию.
351
I
Жизненность и острота восприятия осетинских партских сказании поддерживаются еще и тем, что на
территории Северной Осетии есть множество .мест, связанных по своим иазваниям с партами. В Куртатинском
ущелье есть древнее кладбище, носящее название Нартского кладбища, и, конечно, когда певец передает своим
слушателям рассуждения старого Урызмага о том, что
парт, бесславно кончающий свою жизнь, неспособный со­
вершать подвиги, «на нартском кладбище недостоин ле­
жать»,—то все сказание «Последний поход Урызмага» и
образ состарившегося нарта воспринимаются особенно на­
глядно и остро благодаря ассоциации с Иартскпм кладби­
щем Куртатинского ущелья, местом, где многие бывали и
о котором многие слышали. Там же, в Куртатинском
ущелье, есть и другое место, связанное преданием с пар­
тами и именуемое Нартским иихасом. Те, кто видел Нартскнй нихас пли же знает о его существовании, может
особенно наглядно представить себе, например, как в ска­
зании об Ацамазе и Агунде, нарты, сошедшиеся па со­
брание — нихас, любуются оттуда молодым Ацамазом, иду­
щим со своей свирелью на Черную гору, к красавице
Агунде. Величие и прелесть горной природы, занимающей
столь большое место в художественном мире этого сказа­
ния, воспринимаются при таких условиях с особенной
жизненностью. Точно так же и трагическая гибель нарта
дослана может соединяться в восприятии слушателей
с представлением о Могиле Сослана, как называется один
старинный надземный склеп около селения Нар, — о. ведь
в сказании о Сослане могиле умершего нарта отведено
очень большое значение даже в чисто сюжетном плане,
На этой могиле юный Харафырт, отомстивший за своего
родича Сослана его погубителю — страшному колесу
Ьальсага, укрепляет побежденное колесо в виде надгробия.
Там же, на могиле, свершается и посмертная месть
Сослана своему^ обидчику Сырдону: мертвый Сослан через
отверстие в гробнице поражает Сырдона, пришедшего глу­
миться над его прахом. Наличие в Осетии «нартских»
местностей и памятников материальной культуры ■— не
только свидетельство былой широкой распространенности
иартского эпоса, но и немаловажный фактор его современнои жизни, его современного восприятия.
Интерес к нартскому эпосу оживляется отчасти и бла­
годаря тому, что он впитал в себя многие особенности
повседневной народной жизин, народной психологии.
352
I
Иартскпх героев нс назовешь обыкновенными людьми.
Они обладают сверхчеловеческой силой. Они связаны
своим происхождением с миром фантастических существ,
постоянно общаются и даже сражаются с ними. И всетаки это люди. Жизпь нартов, с ее повседневным бытом,
с хозяйственными заботами и дружескими пирами, с мир­
ными беседами и жестокими распрями —это человеческая
жизнь, всякому понятная. Герои иартского эпоса но отпу­
гивают своим величием, хотя и совершают необыкновен­
ные подвиги.
Идеализация иартскпх образов не убывает в них чисто
человеческого обаяния. Нарты — не воплощение различных
доблестей, но живые люди, со своеобразными чертами ха­
рактера. Скупо, но метко обрисованы в нартских сказа­
ниях эти герои — одного нарта не спутаешь с другим.
В художественном сознании осетинского народа необы­
чайную четкость сохраняют все основные персонажи
иартского эпоса: выносливый и предусмотрительный,
склонный к раздумью старый Урызмаг; горячий и прямо­
душный Батрадз; изворотливый и озорной Сырдон, спо­
койная, не теряющаяся нн при какой опаспостп Сатана,
чувствительный и вспыльчивый Ацамаз.
Нарты не лишены слабостей и недостатков. Даже
Урызмаг, полный мудрости и благородства, лучший из
иартскпх мужей, как вынуждены призпать все нарты
в сказании «Урызмаг и кривой уаиг», — п тот, например,
оказывается способным поддаться раздражению и решает
развестись с Сатаной, за что и получает от нее урок
супружеской привязанности. Сослан, при всем своем уме,
бывает опрометчив и часто забывает оо осторожности,
в этом его недостатке отдает себе отчет его жена Бедоха.
Слишком ты неистов, уж очень ты яростен, —
При ярости такой легко ли уцелеть! —
I
оправдываются.
говорит она Сослану, и опасения Бедо.хн
— это злоязычник, вы­
Нечего и говорить о Сырдоие
Думщик всяческих козией, и поделом подвергается оы су­
ровым наказаниям со стороны своих же нартов.
Разнообразны характеры нартов, разнообразны и их
интересы, не сосредоточенные на одних только схватках
с врагами. В каком-то радостном самозабвении предаются
23
Заказ X. 1480
353
пый Сырдоп опрометчиво согласился отправиться в путь
с партами, положившись на обещание: «Ты пешком — мы
верхом, мы верхом, ты — пешком», но заметив, что такая,
с виду великодушная, формула ничего, кроме возможностен пешего хождения, ему не сулит.
На лукавой игре словами построена в этом же сказа­
нии и проделка почтенного Урьтзмага. Переплывая на
своем коне через реку, а Сырдону разрешив держаться при
этом за конский хвост, — Урызмаг как бы невзначай спра­
шивает Сырдопа, где следует остригать себе ногти, и вос­
пользовавшись его разъяснением — «Где вспомнишь про
ногти, так тут же и стриги», — буквально «тут же», остано­
вив копя среди реки, стрижет себе ногти па руках и ногах,
предоставив Сьтрдопу плескаться меж тем в холодной воде.
Даже прямодушный Батрадз — и тот не отказывает
себе в удовольствии посмеяться над своим противником
и, учтиво приветствуя Алафа (в сказании «Батрадз и сын
кривого уапга»), жмет ему руку с такою силой, что рука
раздробилась:
Как яйцо воронье скорлупкой хрустнуло!
нарты своей излюбленной пляске - симду; Сослан, состя­
заясь в пляске с Челахсартагом, пляшет на круглом
столе — фынге, не роняя с фынга ни крошки на землю,
затем пляшет по краям чаши, пляшет с полным кубком
па голове. Такое же большое место в жизни мартов заннмает п музыка. Батрадз, подвергаясь длительной закалке
в небесной кузнице, просит кузнеца Курдалагона дать
ему фандыр, чтобы, наигрывая на нем, скоротать время.
Владыка зверей Афсати дарит нарту Аца, в благодарность
за его гостеприимство, вечную свирель, а юноша Ацамаз,
получив эту свирель по наследству, так чудесно ^играет на
ней, что вся природа — леса, луга, звери — прооуждается
от зимнего сна к весенней радости. Сауай, сын Каидза,
наигрывает на фандыре у дома Урызмага, давая этим
знать о своем приходе. В «Сказании о том, как появился
фандыр» говорится, как Сырдоп после гибели своей
семьи изливает скорбь, играя на фандыре.
Большую человечность и простоту придают обликам
нартов п бытовые детали, во множестве рассыпанные по
нартскому эпосу. Нарты заботятся о добывании пищи,
о подыскании новых пастбищ для своего скота, строят
хадзар (дом) для нартекпх собраний. Хамыц запасает
тканп себе на одежду. Сырдоп вымаливает у кого-то ку­
сок сукпа для своих нужд. К Сырдону иа угощение иабиваются его приятели, под предлогом поминок гго его ро­
дичам, а то и ссылаясь на наступающий конец света.
Сатана, обращаясь за помощью к чудесному ястребу, обе­
щает ему в награду лучшую курицу из своего курятника.
Сослан, даже возвращаясь из Страпы мертвых, не забы­
вает о бытовых нуждах и при виде клубка пряжи, валяю­
щегося на земле, хочет подобрать его для Сатаны. Подоб­
ные бытовые черточки не раз уютно смягчают суровую
монументальность нартских образов.
Смягчает ее и шутка, которую так любят нарты. Сырдон то и дело подшучивает над остальными героями
нартского эпоса, он остер на язык, проказлив, умеет иг­
рать на слабых струйках своих врагов или приятелей,
недаром до сих пор в Осетин часто дают прозвище Сырдон какому-нибудь завзятому остроумцу и шутнику. Да
другие нарты непрочь пошутить, посостязаться с СырДО"
ном в остроумии и всяческих проказах, одурачить даже
самого Сырдона. С такого одурачивания начинается, на­
пример, сказание «Поездка нартов», в котором безлошад-
Нартекпе жепщипы не отстают от мужчин в способ­
ности бросить, когда придется кстати, задорное и острое
словцо, потешиться над свопм собеседником. Красавица
Акола, завлеченная хитростью Урызмага на вершину
горы, где нарты пляшут симд, отплачивает партам за
этот обман, находя для каждого приглашающего ее
к танцу ядовитый и меткий ответ. Да и степенная Сатана,
придравшись к тому, что ее супруг Урызмаг в сердцах
велит ей взять с собою все, что ей хочется, но только по­
кинуть его дом, — проявляет незаурядное остроумие и
увозит с собою самого Урызмага, предварительно его на­
поив. Веселые шутки партов друг над другом, порою бес­
хитростные, а порою тонкие и прихотливые; изобретатель­
ные издевки, находчивые ответы, хитрые выдумки, не­
истощимое балагурство, лукавые замечания, попадающие
не в бровь, а прямо в глаз, остроумные и неожиданные
решения, игра словами, шутейные перебранки все это
своеобразно расцвечивает тот мир героических подвигов,
«УДа уводят сказания о нартах. Ирония п юмор перели­
ваются в нартском эпосе всеми своими гранями, искрятся
к сверкают всеми своими красками. По смелому привленению комического начала в героические сюжеты нартекпй
354
355
23*
_____ ,____
эпос занимает совершенно особое место л эпическом твор­
честве народов.
Однако в целом нартский эпос отнюдь не создает впе­
чатления «приземленное™» — напротив, он глубоко пате­
тичен. Ни бытовые подробности повествования, пи человеческие слабости персонажей и даже отрицательные
качества и неблаговидные поступки некоторых из них
(особепно Сырдона), ни обилие комических элемептов не
снижают общего высокого тона нартских сказании. Как
ни развлекательны повествования о нартах, народ ищет
в них ие одного только развлечения. И для рассказчиков,
и для слушателей нартский эпос — это своего рода свя­
тыня. Недаром эпитет «нартский» и сейчас служит в на­
родном словоупотреблении лучшей похвалой, означая
высшую степень какого-либо достоинства — силы, ума,
храбрости, щедрости.
Жпвой интерес народа к нартскому эпосу, то значи­
тельное место, которое занимают нарты в народном созна­
нии, отчасти, конечно, объясняются обаянием седой ста­
рины. От многих нартских сказаний веет дыхапием древ­
ности. Хотя за многовековую свою жизнь этот эпос и
вобрал в себя многие приметы все новых и новых времен,
хотя его сюжеты и образы, несомненно, подвергались все
новым и новым осмыслениям, хотя многие идейно-худо­
жественные особенности его не могли избегнуть сущест­
венных, коренных перемен, — однако, и в нынешнем своем
виде он сохранил явственные черты древности. Безогово­
рочное почтение, с каким парты относятся к мудрой Са­
тане, привыкнув обращаться к ней за помощью в самых
трудных обстоятельствах, ее деятельность рачительной
хозяйки, распространяемая на всех иартов, ее спокойпая
властпость, весь ее величавый образ восходят еще ко вре­
менам матриархата. Глубокая древпость чувствуется и
в трактовке других персонажей партского эпоса. Так, не­
сомненно древнее происхождение величественных образов
старцев, занимающих столь видное место в сказаниях
о нартах, — седобородого Урызмага, всегда готового прийти
на помощь партам в трудную годину, мудрого наставника
и заступника иартов; старого Аца, имя которого произно­
сят с^ почтением не только нарты, но даже небожители;
агуирага, дряхлого старца со слезящимися глазами,
умеющего, одпако, быть справедливым судьей и недаром
356
!
:
-- :
приглашаемого Ацамазом и его братьями для раздела
наследства.
Нартский эпос донес до нашего времени немало черт
далекой старины, сохранил память о семейных отноше­
ниях, о повседневном труде, о хозяйственных заботах
давних поколений; отразились в нартских сказаниях и
древние верования, религиозные обряды, заклинания
и т. п. В этом плане иартские сказания — своего рода
«художественная археология».
И все же, если нартский эпос и сохраняет явственную
генетическую связь с древними временами, когда он был
создаи, то пптерес осетинского народа к своему эпосу
определяется далеко не одпой только лгобовыо к родной
старине. Нартский эпос — пе исторический. Сюжеты и герои его овеяны дыханием старины, но сами по себе
это пе исторические сюжеты и не исторические герои.
Назвапия народов, с которыми нарты вступали бы
в борьбу, почти тге встречаются в осетинском эпосе, —
в виде редких исключений можпо указать па агуров, упомипаемых в сказании «Спмд иартов» (о женитьбе Батрадза), да еще народ Терк-Турк.
Изображенные в партском эпосе события и персонажи
во многих случаях фантастичны. Нарты сражаются
с одноглазыми уаигамп, с семиголовым чудищем Кандзаргасом, с бесамп-кадзиями, с небожителями зэдамп н дуагами; они проникают в подводное царство Донбсттров,
даже в Страну мертвых — к владыке мертвых Барастыру,
даже па самое небо — к небесному кузнецу Курдалагону
и к пребывающему в небесах богу домашнего очага Сафе.
Нарты и сами обладают сверхъестественными свой­
ствами — не только необычайной силой, которую надо
рассматривать как типичную народно-поэтическую гипер­
болу, но и способностями колдовского характера: так, Са­
тана (в «Последнем походе Урызмага») свопми заклина­
ниями поднимает снежную бурю, Сырдоп ие раз дей­
ствует как оборотень, превращаясь то в кучу золота, то
в шапку («Сослан в Стране мертвых»), то в старика, то
а старуху («Жепптьба Сослана на Бедохе»). Несомненно,
что основой многих фантастических персонажен мог здесь
как это
в свое время послужить и исторический—материал,
в
частности,
на­
наблюдается в эпосе других пародов
пример, в русских былинах с их Змеем Горынычем пли
Идолищем поганым — собирательными образалш врага^
357
с которым борется народ. Однако вскрывать эту истори­
ческую основу — дело последователен. Восприятие слуша­
телей нартскнх сказаний, да и представления самих
исполнителей, не осложняются, в огромном большинстве
случаев, никакими конкретно-историческими толкова­
ния™. Равным образом, как пи велико место, занимаемое
в нартских сказаниях фантастикой, основной смысл сю­
жетов нартского эпоса не в полете фантазии. Как ни фан­
тастичен мир, с которым общаются парты, мир враждеб­
ный или дружественный им, какими чудесными свой­
ствами или колдовскими способностями ни обладают они
сами, нарты — люди, а не фантастические существа;
жизнь иартов, с ее заботами, чувствами, :интересами это
человеческая жизнь, только переведенная в некий идеал ьный план, насыщенная высоким нравственным пафосом.
Именно этот нравственный пафос
иартского эпоса и
придает ему поразительное единство. Нартскпе сказания
в целом представляют собою как бы наглядный кодекс
нравственных идей. Разнообразны и, казалось бы, разиопрпродны сюжеты нартского эпоса: повествование напо­
минает то сказку («Яблоко нартов», «Как Урызмаг
и Хамыц разыскали своего деда Уархага»), то героическое
преданпе («Последний поход Урызмага», «Батрадз и уаиг
Пестрая Борода»), то новеллу («Как Урызмаг разводился
с Сатаной», «Поездка нартов», «Как Сырдоп обманул
нартов»), то поэму («Ацамаз и красавица Агупда»)
или же в оолышшстве случаев — прихотливое сочетание
пескольких жанровых форм. В нартском эпосе нет и собы­
тии, связующих все сказания в одно целое. Сказания
ооъединяются в циклы, но и в пределах цикла, посвященБатпашп^-Лт^3 Гер°еВ (УРызмагУ. Сослану, Сырдону,
г ^ д ? ДР*'’ взапмная связь между событиями разных
кажлпр ^6ДВа наме?ена> 1г в плане изображаемых событий
тельнпр тг сказании представляет собою нечто самостоя­
тельное и законченное.
Откуда же
единства имею
все ^
|
нартского эпоса?возникает
Конечно, впечатление
некоторое значение
здесь родственные связи между нартами (Батрадз — сь ^
Хамыца, Ахсар и Ахсартаг — дети Уархага; Урызмаг
Хамыц — братья, они —внуки Уархага и т. и.). Некот
рое значение имеет и то, что в рассказе о приключенп
и подвигах основного героя цикла изображаются п
нарты («Как Урызмаг и Хамыц разыскали своего ДеДс
358
Уархага», «Как Батрадз спас именитых иартов», «Как
появился фапдыр» и ми. др.); основной эпизод, посвящен­
ный главному герою цикла, может предваряться или за­
вершаться изображением нартского нихаса. Именно на
нихасе задумывает Урызмаг свой последний поход, глядя
на нартских юношей, для которых он уже перестал быть
образцом силы и доблести. На иартский нихас приходит
Сырдоп после гибели своей семьи и поет нартам песшо,
играя на фандыре. А иногда действие начинается с общей
партской охоты, похода или пиршества. Таким образом,
для фигуры основного персонажа сказания создается ши­
рокий фон иартской жизни, и основной персонаж, не пере­
ставая быть основным, все же выступает и как один из
нартов. Можно поэтому говорить о наличии в эпосе, по­
мимо отдельных героев, еще и коллективного героя —
всех нартов в целом.
Герои нартских сказаний даже в одиноких своих
поездках, в сраженье с врагом один-на-один или при до­
бывании себе в жены какой-нибудь красавицы, всегда
помнят о том, что они — нарты, всегда озабочены тем,
чтобы быть достойными называться нартами. Урызмаг за­
мышляет свой последний поход не только потому, что хо­
чет вернуть себе утраченную из-за старости славу, но и
потому, что
Кто бесславно влачит годы последние,
На нартском кладбище не достоин лежать.
повествующих о Сырдоне, изобилу
^ подстрапвзаимиой вражды, всевозможных з * “Умц над Сырдоваемых Сырдоиом над нартами или Р
ять его из
иом. И все же Сырдоп просит нар
все же и он досвоей среды («Как появился фандьр Ь
рожит тем, что он нарт.^
себе,
Отдельные, на первый взгляд как бы замкнутые
х еще вв больсюжеты многочисленных сказании
лтржду персона­
жей степени, чем родственными связ 1 ЗЛ11ЧНЫХ деяниях,
ь Нарты, взяжами или совместным участием их *
объединяются именно этим понятие^,
недостатками и
тые порознь, могут отличаться вся *
а совершать
слабостями, испытывать низменные чувсгва,
359
недостойные поступки; нарты как единое целое — эго носителп высоких достоинств, высокой нравственности. Раз­
розненные сюжеты нартского эпоса идейно скрепляются
прежде всего заветами богатырства, лежащими в основе
понятия «нарт».
Первый из этих заветов богатырства — любовь к своему
народу, постоянная готовность прийти к нему па помощь,
стать на его защиту. Правда, парты, герои осетинских
сказаний, — не парод в подлинном смысле этого слова, —
глубокая древность нартекых сказаний не допускает по­
добной модернизации, по те подвиги нартскнх героев,
которые они предпринимают для защиты чести и жизни
«всех нартов», современный слушатель и читатель воспринимают ие иначе, как подвпги во имя чести и жизни
народа. Основное призвание осетинских эпических ге­
роев — борьба с врагами «всех иартов», будь эти враги
одноглазыми чудовшцами-уапгами, коварными кадзпями
или жадными князьямп-алдарами. Старый Урызмаг,
рискуя жизнью во время своего последнего похода, пропи­
нает в крепость черноморского алдар а, чтобы истребить
ископного врага иартов в самом «гнезде ворона». Другой
славный нарт — юный Батрадз, охраняя иартскис стада,
отважно побеждает жестокого великана по прозванию
Пестрая Борода, нагло похищавшего ыартских овец и не
дававшего проходу сампм нартам. Батрадз вступает в бой
и с другим нартекпм недругом — Тыхы-Фыртом, угнавпшм к себе, в качестве дани, девушек п женщин нартского селения.
Если партские мужи защищают нартов прежде всего
как воители, па поле боя, то мудрейшая пз нартскнх жен­
щин Сатана всегда готова помочь партам своими сове­
тами: так, когда Урызмаг, перехитрив Черноморского
алдар а, который заточил его в башшо, передает партам
через алдарских гонцов якобы приказ прислать за него
выкуп, а в действительности — призыв напасть на кре­
пость врага, смысл такого иносказания раскрывает нар­
там догадливая Сатана. Она же, как заботливая хозяйка,
с материнской предусмотрительностью
накапливает
в своих обширных кладовых запасы пищи, чтобы в нуж­
ное время прийти на помощь всем нартам и спасти их от
голода.
- Второй завет богатырства, проходящий через весь
нартскии эпос — деятельная помощь своим боевым ДрУ'
360
зьям, своим товарищам, соратникам. Когда два славней­
ших парта — Урызмаг и Хамыц — попадают в ловушку
к великану Лфсаропу, Батрадз слышит с горных высот
глумливую песню Афсароиа, в которой тот описывает на­
падение клыкастых псов на двух заблудившихся вепрей,
пленнптем самым намекая на близкую гибель своих
и булатногрудый герой, разгадав страшный смысл
ков, —
песни, тотчас бросается на помощь нартам и уничтожает
великана-одно глаза совсем его отродьем («Батрадз и кри­
вой уаиг»). Когда одни алдар похищает в отсутствие
Сослана его жену, за оскорбленного супруга вступаются
все нарты («Как Батрадз сокрушил Хызовскую кре­
пость»). На пиру у небожителей Сослан, видя, что они
расчувствовались, пользуется случаем, чтооы выпросить
у них всевозможные дары, — гго не для себя, а для всех
иартов («Какие дары получил Сослан у дуагов»).
Третий завет богатырства в партекпх сказаппях
воинская доблесть. Герои нартского эпоса сильны, вынос
ливы, отважны, находчивы и изворотливы в борьбе с вра
гами. Нарты в буквальном смысле слова закаляют сеоя
для предстоящих им подвигов. Булатпогрудьш Ьатрад
для того, чтобы закалить
проходит всяческие испытания
небесного кузнеца Курдалагона
свое тело в горниле
(«Как парт Батрадз закалил себя»). Нарта ^осл^ар0>^е
закаляют, погружая при этом в корыто, наполи
*
локом волчиц («Рождение и закалка^Сослана»). ‘ стп_
одоления врагов мало одпой телесной силы, н<1
гагат победы своей изобретательностью, и, коД» 1 1
мер, нартам не удается взять приступом вр<_ | .
еле
пость, Батрадз велит привязать себя к ®^пые степь1
и вместе со стрелой проникает за кр
\ уже
(«Как Батрадз сокрушил Хь130В“^° «Последний поход
Упоминавшееся здесь раньше сказание
воинского
Урызмаг,, „се
к
«
Разума, как необходимого спутника^ ({ *
своему выфизической храбрости: ведь именно олаг Д;
урызмаг?
сокому воинскому разуму и военной _Р
во враже_
Даже оскудевший силою, отважно пр
д уж коскУю крепость и победоносно из нее я *
в своих
иечио, находчивый и хитрый на
слаРаспрях с нартами умеющий так ловк
. блеском пр0оостямп своих противников, еще сЬ
общими иартявляет свою изобретательность в
361
екпми врагами, Когда парты попадают но своей доверчивости в дом к людоедам и, предназначенные на
съедение, покорно ждут своей участи, так как оказались
приклеенными к скамьям, па которые их коварно усадили
хозяева, — один только Сырдоп находит выход из поло­
жения: он не только с самого начала разгадывает ковар­
ный умысел людоедов, но п спасает всех нартов, ловко
заставив людоедов перессориться между собою и в драке
истребить друг друга.
Четвертый завет богатырства, воплощенный в нартском эпосе, —■ забота о своей чести, высокое сознание
своего достоинства. В наиболее ярком виде этот завет вы­
ражен в сказании «Гибель нартов», где он подчиняет себе
весь замысел как основная идея произведения. Недаром
идея эта и выражена в лапидарной формуле самым муд­
рым из нартов — Урызмагом:
Лучше славу в веках по себе оставить,
Нежели оставить бесславных потомков!
Бессмертпая слава вечпой жпзпп ценней.
Вспомним, что п в раздумьях о своей старческой
судьбе мудрый Урызмаг больше всего огорчен тем, что
старость нанесла урои его былой нартскоп славе; свой
последний поход он предпринимает именно затем, чтобы
ее восстановить, а не ради богатой военной добычи,
она лишь сопутствующее обстоятельство его подвига.
Конечно, п сам герой, и все нарты радуются захвачен­
ным у врага богатствам, но прежде всего им дорога сама
победа:
Радуются нарты победе над недругом,
Богатства алдара раздали поровну.
на помощь всему иартскому племени, верность своим
товарищам, воинская доблесть, забота о нартской чести, —
скрепляют между собою прежде всего боевые эпизоды
нартских сказаний, но в виде отголосков — упоминании
о подвигах нартов, их характеристик, даже только по­
стоянных эпитетов (Батрадз Булатногрудый, храбрый Со­
слан, мудрый Урызмаг) — встречаются и в бытовых, се­
мейных, охотничьих и прочих сюжетах, что отчасти спо­
собствует объединению боевых и небоевых эпизодов эпоса.
Однако между этими двумя видами эпизодов есть еще
более крепкая, еще более существенная связь. Нартские
заветы богатырства — не только правила поведения в бою;
в них явственно осуществляется высокая идея душевного
благородства. Эта идея и роднит между собою боевые и
небоевые сюжеты нартских сказаний, преодолевая их
жанровое разнообразие. Казалось бы,
тематическое и
характеру
весьма далеки одпо от другого по жанровому
«Как Урызмаг разсвоих сюжетов сказание — новелла сказание «Батрадз и
водился с Сатаной» и героическое
сближаются между собой
I
Все эти заветы богатырства, составляющие идейную
основу нартского эпоса, — постоянная готовность прийти
в ы сокой"цел и*3 благодаря* своей хр абрости и вошско№
РОСТИ, то Сатана прибегает к кротости к * »уТоже
ству, чтобы в семейной жизни «существяЯ ^’юбовЬ]
по-своему высокую — возвеличить °УПР^
и мелсодействовать ее победе над домашними ДР ^ которые
кими ссорами повседневной жизни. У
’ оего муЖа
пускается Сатана, чтобы вернуть себе любовь
Урызмага, придают повествованию
как урЫзхарактер. Комизм все нарастает по Р га]1к ей уехать
маг, поссорившийся с Сатаной и "Р^Та прощальном
ИЗ его дома, все более и оолее пья
сонный, увопиру, устроенном Сатаной для нартов,
’ пр0сыпается,
зится ею вместе со всем ее до0Р° авоего дома, в пок своему удивлению, где-то далеко от сво ^ остр0уМНом
возке, рядом с Сатаной, погоняющей
' мага комизм
ответе Сатаны на недоуменный в°пР
г
над ним
шШе13Лшсп
пз-под
СИ,да
повествования достигает
все же господствует внезапно ”
тема супружески
Домашней повседневности патетическа дозволил ей взять
любви: напомнив, что сам Урыз>с
362
363
А в словах Урызмага радость по поводу торжеств
общенартской чести п славы сочетается с радостью по по­
воду восстановления и своей собственной чести и славь •
На что-нпбудь, видно, и старый сгодится, —
Хоть стара голова, зато пспытана.
!
I
с собою «любые сокровища, что будут по-сердцу», лишь бы
только она уехала от него, Сатана восклицает:
А что мне полюбится больше Урызмага?
Больше Урызмага что будет по-сердцу?
Вот тебя и взяла, — как же тут не попять!
Женское лукавство Сатаны здесь на службе у ее мудрости, комизм новеллистического сюжета способствует
утверждению высокого понятия о благородстве, и проделки
хитрой жены оказываются достойными занять в нартском эпосе место наряду с боевыми подвигами героев.
Единая идейная основа боевых и небоевых сюжетов
иартского эпоса непосредственно ощущается в сказании
«Как узнали, кто лучший из молодых партов» («Собра­
ние нартов»). Здесь лучшим нартом все признают Батрадза, — н, характерно, не только за его подвиги в борьбе
с иартскими врагами, но и за его достойное поведение на
пирах, за его достойное отношение к жене.
Сказание «Сослан в Страпе мертвых» прославляет
подвиг Сослана, бесстрашно вторгшегося в Страну мерт­
вых, куда нет доступа живым, чтобы добыть у владыки
мертвых Барастыра волшебное дерево. Этот эпизод отно­
сится к добыванию овдовевшим Сосланом себе новой жепы
(волшебное дерево составляет часть выкупа за нее), но
не его деяния занимают здесь центральное место, — они
служат рамкой для многофигурной картины загробного
мира: проезжая по Страпе мертвых, Сослан видит ряд
странных сцен, загадочных образов, смысл которых ему
потом разъясняет его покойная жена Бедоха. И смысл
этот нравственный, связанный с различными областями
человеческой жизни, начиная с домашнего быта, повсе­
дневного поведения, семейных отношений и кончая нравосудпем, вопросами богатства и бедности и т. п. Жен­
щина с большою иглой, зашивающая горные трещины,
непрестанно бегая взад и вперед, подвергается этому на­
казанию в Стране мертвых за то, что небрежно относи­
лась к своему мужу, шила ему одежду кое-как, крупными
стежками, —
г
Исполнитель о сетинского
инструментом — двенадиа
Теперь и стегает через все ущелье:
Ты крупно стегала, стегай еще крупней.
364
I
На пастбище вол, пренебрегая травою, жует бороду
у старика, — так наказан старик за то, что при жизни
кормил вола, своего супряжника, впроголодь, одною
только ржавой соломою. Другой старик осужден сидеть на
пустынном острове, в яичной скорлупе за то, что при
жизни сторонился людей. У тех, кто любил полакомиться
украдкою от своих домашних, съеденные куски отрыгаются в царстве мертвых горящими угольями. Тот, кто
всякими неправдами оттягивал себе соседскую землю,
принужден теперь таскать в гору песок дырявою корзи­
ной. Неправым судьям, охладевшим к своему долгу, не­
равно судившим богачей и бедняков, норовя урвать с каж­
дого хоть клок, —- здесь, в Стране мертвых, ледяные
бритвы снимают полбороды, притом пе бреют, а рвут по
волоску. Недобросовестные кормилицы, морившие голодом
младенцев, вороватые швеи, отхватывающие для себя ку
сок чужого сукна, строптивые дети, сварливые супруги,
скряги, предатели — все получают возмездие, которое
наглядно напоминает об их пороках. К такому обозрению
людских пороков присоединяются и символические образы,
толкуемые мудрою Ведохой как весть о будущем времени:
простая обувь побеждает в состязании сафьяновую — так
народ возьмет верх над знатыо; платок и шапка после
долгой борьбы мирно укладываются
рядышком
— так
мужчина и женщина перестанут спорить из-за
первенства,
УДУт равны; клубок разноцветных ниток разматывается,
но никак пе может размотаться — так без конца будут
раскрываться перед разумом тайны
вселенной. Отрицательные и положительные образы
согласно
служат здесь
одной цели — утверждению
нравственного
идеала,
По жанровому характеру,
место занимает обозрение, по сюжету, где центральное
по образному составу, отмеченному дидактической
епмволиной,
сказание «Сослан
в Стране мертвых»
сильно
отличается
и от героических
сказаний, и от
сказаний-новелл, входящих в иартский эпос.
Ближе всего оно
в
эт?м СМЬ1сле к сказанию «Смерть Сослана», ^.тпиипл
своим впягпм пт Т0И еГ0 части’ где наРт> преследуемый
к полю и к чрлрптР0(ЖТ П0М01Ч11 У природы, обращаясь
щий, говорит Рс оошПГ ”0рОД’ а Затем’ уже умнраю'
другими птицами'и жто™“Т' Ласто'1кой' шда5да“ "
аясь в жанровом и стилевом отношении от большинства сюжетов
партского эпоса, сюжет сказания «Со*
366
слан в Стране мертвых», тем пе менее органически связан
с ними, дорисовывая собирательный образ идеального
парта, господствующий над всем эпосом.
Сложное обстоит дело с сюжетом-обозрением, входящпм в «Смерть Сослана», — там речь идет не о людях,
ЖИВЫХ и мертвых, не об их взаимоотношениях, нравах
Н Т. П ., а о природе и ее явлениях. Обозрение это иоепт
своего рода мифологический характер — объясняет различные свойства полей и гор, птиц и зверей в зависимости
от того, как они относились к Сослапу, погибающему от
Колеса Бальсага. Так, поле, не пожелавшее остановить
Колесо, за которым гнался Сослан, с тех пор каждый
восьмой год ничего нс родит; по горе, не преградившей
путь Колесу, с тех пор каждый год ползут оползни; де­
рево, пе задержавшее Колесо своими ветвями, с тех пор
выращивает только цветы, а пе плоды; дуб, тоже не при­
шедший па помощь нарту, приносит желуди, годные
снести нартам
только свиньям . Ласточка, согласившаяся
свойвесть о том, что Сослан умирает, с тех пор получпла
пожелавшпп
ство быть для каждого милой; ворон, не
пп,пгл
клевать тело умирающего героя, был наделен пос‘ ,
необычайной зоркостью, чтобы всегда находит* к телу
живу, а медведь, тоже отказавшийся притронутьсятак что
терпения,
умирающего, получил дар великого
без еды, лежа в пещере,
способен проводить пять месяцев
как последствие
и т. п. Все это объясняется в сказаппи
лггл.г по опп
Ятгпгпгловенпй,
посылаемых
нартом,
^ благодарности,
проклятий или благословении,
выражают пе столько чувство а полная драматического
сколько нравственный приговор,
„пиону особепвеличия смерть героя придает этому пр^ псповеДОва1Ше
ную силу, — он звучит в устах Сося
»рак 1Г Это скавериости партскому идеалу благород с ’
особняком,
запие - миф, по подбору персонажей ст ш^ 0_художеоргашгческл входит в нартекпи эии гюжета, по отношествеиной целеустремленности св°°™ ляющему смысл п
нихо к нравственному идеалу, со
пафос основных нартских сюжетов.
образ ндеальКак же складывается в этихс < ^ сЮ>кетпкой эпоса?
иого парта, господствующий над
шает в себе лолЕсли его ни один пз героев не у м№ «наставник
ностыо, даже такие, как славньн
у молодых нартов
нартов», или Батрадз, превзошедш
^ и благород­
ие только силой, но и разумом, 1 -11
367
ством, — то уместен вопрос, как же складывается в разви­
тии нартской сюжетпки высокое понятие «нарт», к которому обращается и Урызмаг, стремясь поддержать в себе
дух перед последним своим подвигом, и Бедоха, упре­
кающая Сослана в недогадливости: «Эх, Сослан, ты же
нарт,— как не догадался!» — п старики, беседующие па
своем нпхасе о том, когда нартов можно воистину назвать
нартами, и другие персонажи.
Многие из сказании славят излюбленных героев нартского
"?■ эпоса. Однако такое прославление героя редко про­
ходит через весь сюжет сказания, — оно обычно сосредо­
точено на главном, кульминационном эпизоде. Сослан
умирает, как подлинный герой, его смерть — это апофеоз
нартского благородства, но навлек он на себя смерть тем,
что, возвращаясь из Страны мертвых, позарился на ста­
рую облезлую шапку, валявшуюся на дороге, — а этой
шапкой обернулся злокозненный Сырдоп и, попав за па­
зуху к Сослану, подслушал из его разговора с конем,
в чем гибель Сослана. В зачине сказания о последнем
походе Урызмага старый парт являет собою довольно
жалкий образ, сам называет себя «примером славы, став­
шей бесславием», — в основном же эпизоде сказания, как
контраст доживающему свой век старику изображен муд­
рый и смелый воитель — все тот же старый Урызмаг, но
в момент высшего проявления своего
Такое совпадение кульминации сюжета нартского духа.
своего рода
нравственной кульминацией героя особеппосозаметно
в сказанни «Как
появился фандыр». Если и в других сказа­
ниях отсутствует сплошной панегирик герою, то уж Сыр­
дон изооражен в начале этого сказания совсем в нсгсропческом виде; Хамыц угощает его здоровым толчком,
насильно приводит его к новому хадзару, построенному
для нартских собраний, и заставляет высказать свое мнение
о^хадзаре. Обида Сырдона на Хамыца и его месть своему
обидчику, выразившаяся в том, что Сырдон ловко похи­
щает его тучную корову п вместе со своей семьей всласть
наедается говядины; пздевательскпе шутки Сырдона над
им же обокраденпьтм Хамыцом:
Эх, бедняга Хамыц! Отощал с голода,
А его корову другой уплетает —
все это
отпюдь не изображает главный персонаж сказатгля в героичсском
виде. Лпшь после рассказа о жесто368
кой отплате Хамыца, бросившего в кипящий котел
всю
Сырдоиову семью, сюжет, до тех пор как бы прпземленный, внезапно развивается п ином, возвышенном
плане,
юмористический и бытовой стиль его сменяется траппескггм. В заключительной части сюжета скорбь Сырдона
о погибших сыновьях вытесняет из его души
мелкую
злобу п мстительность; изобретательский дар Сырдона,
проявлявший себя в начале этого сказания, да и по всему
циклу сказаний о Сырдоис, в злокозненных шутках и
всевозможных каверзах, здесь обнаруживает себя как
благородны Гг творческий дар: из костей и жил погибших
сыновей своих Сырдоп создает фапдыр и под его звуки
изливает отцовское горе в поминальной песне. Включение
самой этой песни в повествование усиливает его тра­
гическую силу. Образ Сырдона достигает здесь истпггпого величия духа, его действия становятся сопрпчастны
героическим деяниям славнейших из партов. Символиче­
ское обобщение такого смысла этого основного эпизода
можно усмотреть в концовке сказания — Сырдон дарит
свой фандыр нартам, а те принимают Сырдопа в свою
среду, л Урызмаг возвещает:
Так отныне, Сырдоп, ты будешь нам братом.
:>
*
Апофеозом нартского героизма и благородства можно
назвать сказание «Гибель нартов». В нем уже не одни
какой-либо нарт, но все нарты в целом проявляют вели­
чие Духа, предпочтя бесславной жизни славную смерть.
В сюжете есть три основных эпизода, демонстрирующих
партский героизм: это гордый отказ нартов поклоняться
могучему богу, за что бог решает наказать непокорных,
предлагая им самим выбрать наказание — лпоо потонуть
всему нартскому племени, лпбо продолжать жизнь в жал­
ких потомках; их единодушное решение выбрать смерть,
а не бесславную жизнь; их добровольная гиоель. Эти три
эпизода образуют как бы трехглавую вершппу повест­
вования, над которой парит образ идеального нарта.
И все же геропческпмп эпизодами не заполняется состав
Всего сюжета. Встречаются в нем и другие эпизоды, где
нарты проявляют недостойное героев колеоание д
Р
Дня себя кары и Урызмагу прпходптся
5:
тем’
До они, уже выбрав смерть вместо бесслав
V ’ т0
не менее малодушно цепляются за жизнь
I
24
Заказ № 1480
369
к одной, то к Другой уловке, чтобы отдалить свою
гибель.
Впрочем, надо заметить, что далеко не в каждом сказании о нартах сюжет сочетает в себе возвышенные и
приземленные мотивы. Так, обычно Батрадз появляется
в сказании лишь для того, чтобы совершить тот или иной
подвиг — одолеть одноглазого великана, засевшего в горах
и не дававшего проходу ни нартам, пп нартским стадам
(«Батрадз и уаиг Пестрая Борода»), спасти старших нар­
тов Хамыца и Урызмага от коварного недруга, опоившего
их, чтобы легче с ними расправиться («Батрадз и кривой
уаиг»), вернуть Сослану его жену, похищенную алдаром
(«Как Батрадз сокрушил Хызовскую крепость»), и т. и.
Если в цикле Батрадза герой довольпо редко изобра­
жается на фойе повседневности, то, напротив, в цикле
Сырдона приземленные мотивы преобладают, сюжеты
в значительной части цикла — чисто повеллпстпческие,
полны иронии и юмора, не позволяющих прорваться ге­
роическому началу. Даже сказания о Сырдопе, несущие
в себе явственное героическое начало («Поездка партов»
л «Как появился фандыр»), резко отличаются от героиче­
ских сказаний других циклов переизбытком новеллисти­
ческих и юмористических мотивов.
Героические темы и приземлепность, сосуществую­
щие в сюжетах других циклов, почти, так сказать, поля­
ризуются в цикле Батрадза и цикле Сырдона. Смена обы­
денного и героического начал в пределах одного и
того же сказания, выполняющая в других циклах столь
важную функцию в развитии сюжета, в циклах Батрадза
и Сырдона сведена к минимуму. Однако взятые в общем
плане, в связп со всем сводом нартских сказаний, сю­
жеты, относящиеся к Сырдопу, и сюжеты, относящиеся
к Батрадзу, сообща поддерживают высокую целеустрем­
ленность объединенного сюжета эпоса, подобно тому, как
приземленные и героические сюжетные элементы какоголиоо сказания, взятого в отдельности, сообща поддерживают высокую целеустремленпость его частного сюжета.
овествоваиия о Сырдоне оттеняют возвышенную кра­
соту нартских деянии, а повествования о Батрадзе лзооражают ее в наиболее сильных проявлениях, в кульми­
нации.
г
^ Подчеркнутым жанровым и стилевым разнообразием
сюжетных элемептов по разрушается, таким образом, а яа370
против — укрепляется и сюжетное единство в отдельных
сказаниях, и сюжетное единство всего эпоса в целом.
1очно так же разнообразием действующих лиц, их
характеров и поведения не разрушается, а укрепляется
идейное единство эпоса. Образ идеального героя нартских
сказании яе воплощен ни в одном из их персонажей, это,
как уже было сказано, образ собирательный. Даже Урызмаг или Батрадз, именуемые в эпосе лучшими из нартов,
не осуществляют полностью идеал эпоса, — нет в них,
например, недремлющей заботливости обо всех и каждом,
характерной для Сатаны, живого общения со всей при­
родой и жажды познания, свойственных Сослану, могу­
чего поэтического дара, присущего Ацамазу, неиссякае­
мого остроумия и изобретательности, проявляемых Сырдопом.
Образ идеального героя нартского эпоса складывается
из лучших черт персонажей. Но, несмотря па то, что это
образ собирательный, он отличается и яркостью, и пла­
стичностью, и живостью. Такая его особенность крепко
связана с особенностями иартской сюжетпки, — хотя вы­
сокие достоинства нартов и обнаруживают себя с необы­
чайной силой в кульминационных эпизодах сказаний,
однако героические поступки нартов сочетаются в эпосе
с их повседневным поведением, герои сказаний не отор­
ваны от бытовой среды, бытовых обстоятельств. Все это
придает и образу идеального героя пластичность и психологнческуго достоверность. За могучими плечами идеаль­
ного героя видится весь мир нартов, все многообразие
характеров, судеб и интересов — многообразие самой
жизни.
Пластичность и психологическая достоверность идеаль­
ного героя, кровная близость его с многочисленными дей­
ствующими лицами эггоса, совпадение сюжетных куль­
минаций с высшим проявлением нартских доолестеи
все это поддерживает не только эстетическую, но и эти­
ческую ценность нартских сказаний, придает ^кодексу
Душевного благородства, лежащему в пх основе, оольшую
силу эмоционального воздействия, драгоценное свойство
вселять в слушателей и читателей желание равняться на
идеального героя эпоса.
24*
3. В. Абаева
блестяще справляясь с любой задачей, которую задает
ей полная неожиданностей и трудностей жизнь нартов.
Если все другие женщины, как правило, являются герои­
нями одного сказания, то Сатана — героиня всего эпоса.
САТАНА — САТАНЕИ-ГУАШ А
(эпический образ и художественный контекст)
При словах «нартская женщина» перед нами встает
образ великой Сатаны. «Нарты Сатана» («Нартская Са­
тана») называет ее осетинский эпос; Сатаней-Гуаша
зовут ее в адыгских сказаниях; Сатаней-Гуашу славят и
абхазские сказители. Об этой героине повествуют сказа­
ния, сказки и легенды многих других народов Кавказа:
балкарцев, карачаевцев, ингушей, чеченцев.
Кто же она нартам? Необыкновенная ли красавица,
к которой все стремятся и любви которой добиваются, или
жена-хозяйка кого-нибудь из них, сестра их или мать,
юна она или стара, богиня или смертная?
Она и то и другое, она бессмертная женщина нартов, мудрая, хлебосольная, красивая п вечно юная. Чародейка п колдунья, она тем не менее вся соткана из ннтей, тянущихся из реальной обыденности, вппсана в бы­
товую обстановку нартской жизни. Большая хозяйка
большого нартского дома. И отсюда ее зпаченпе в эпосе.
«Можно мыслить нартов без любого пз героев, даже глав­
ных, но нельзя их мыслить без Сатаны» 2. Это замечание
В. И. Абаева в равной мере относится ко всем националь­
ным версиям нартского эпоса.
На протяжении всей своей эпической биографии Сатана держит экзамен на «лучшую женщину нартов»,
Сатане — Сатаией-Гуаше нередко посвящены целые
сказания, где она выступает главпой героиней; иногда она
участвует лишь в отдельных эпизодах. Но и в тех случаях,
когда Сатане отводится как будто незначительное место,
роль ее бывает весьма важной.
В осетинском, адыгском и абхазском эпосе невозможно
выделить специального цикла, посвященного Сатане.
Правда, в осетинском эпосе целый ряд сказаний посвя­
щен супружеской жизни Урызмага и Сатаны. Он так и
назван — «Сказания об Урызмаге и Сатане». Отсутствие
отдельного цикла о Сатане вовсе не исключает возмож­
ности выделить во всех трех версиях целый круг сказа­
ний о Сатане. Более того, радиус этого круга был бы до­
статочно внушителен, ибо Сатане дана «сквозная» роль
в нартском эпосе. И может быть именно это обстоятель­
ство и затруднило бы такое формальное выделение спе­
циального цикла о ней. По тому удельному весу, который
занимает Сатана в ряде сказаний, в названиях их наряду
с именем основного героя вполне могло бы стоять п ее
имя. В первую очередь это относится к циклу Сослана —
Сасрыквы — Сосруко. Сказания, целиком тяготеющие
к именам Сатаны и ее «камнерожденпого» сына, во всех
трех национальных версиях составляют довольно большую
группу (в адыгском и абхазском эпосе — его ядро)3. Тема
Сатаны до определеипогс момента имеет самостоятельное
звучание^ являясь как бы «циклом в цикле». Затем, с по­
явлением Сосруко, весь акцент переносится на рассказ
о его подвигах, а Сатана выступает уже как его помощ­
ница и покровительница. Но это не значит, что фигура
Сатаны — Сатаней отодвигается в сторону, куда-то в пер­
спективу. Она так активна в своем вмешательстве в дела
сына, что ее всегда чувствуешь где-то рядом, обе фигуры
1 Апалпз ведется па основе осетинских текстов с привлече­
нием параллелей пз адыгской п абхазской версий. Данные ДРУГ11
версий не привлекаются за недостаточностью ПУ0'т
национальных
ликаций.
В. И. А б а е в. Мартовский эпос. - ИСОНИИ, т. X, вып. ь
Дзауджпкау, 1945, стр. 36
3 См.: А. Алиева. Сосруко в адыгском героическом эпосе
? партах. — УЗ КЕНИИ, т. XX, серия филологическая. Нальчик,
1964, стр. 178—180; Ш. X. С а лакая. Абхазский парадный герои­
ческий эпос. Тбилиси, 1966, стр. 48.
372
373
даются как бы в одном освещении. Только когда повест­
вуется о самом акте героического подвига, фигура сына
выделяется ярче и крупнее.
Цикл о Сатане и ее «камнерожденном» сыне является
тем основным звеном, которое связывает все нацией альиые версин нартского эпоса. И во всех версиях, при бесспорном своеобразии, поражает совпадение ряда сюжетов
этих сказаний, вплоть до деталей.
Но Сатана — Сатаней — мать пе только одного «по рожденпого ею сыпа» — Сосруко — Сослана, но и другого ве­
ликого богатыря нартов — Батрадза, которому в осетипском эпосе посвящен цикл популярнейших сказаний.
Батраз адыгского эпоса имеет своей приемной матерью
чаще жепщпиу по имени Ваква (Веква). Но в цикле
о Шауейе, описание детства которого напоминает детство
Батрадза осетинских версий, названной матерью высту­
пает опять Сатаней-Гуаша.
Если в адыгском эпосе Сатаней — мать «нерожденных
ею сыновей», если в осетинском опа имеет н «иерождепных» (Сослап, Батрадз) п рожденных ею сыновей
(безыменный сын Урызмага, сын от Черного Ногайца),
то в абхазском эпосе — она мать всех нартов, а абхазские
нарты — братья.
В абхазских сказаниях образы Сатанеп-Гуаши и
Сасрыквы являются тем средоточием, вокруг которого
группируются сказания о всех других героях. Видимо,
общий для всех национальных версий цикл о Сатаие и
Сосруко был здесь настолько популярен и популярность
эта так поддерживалась последующей традицией (обуслов­
ленной, в свою очередь, историческими (факторами), что
все дальнейшие композиционные изменения не выходили
за пределы круга, в центре которого Сатана.
В осетинском и адыгском эпосе большая группа сказа­
ний посвящена Сатане и Урызмагу — Уазырмесу. Послед­
ний в осетинских версиях играет роль патриархального
старейшины нартского племени. (В адыгских сказаниях
в этой роли, наряду с Уазырмесом, передко выступает
Насрен-Жаке. Абхазские сказания не знают пи этого
имени, ни такого персонажа.)
Отдельные сказания и мотивы цикла Сатаны и Урыз­
мага (в осетинском эпосе) имеют параллели в других на­
циональных версиях (в адыгском они связаны с именами
Сатаны и Уазырмеса; ср. «Последний подвиг Уазырмеса»)374
Но самостоятельный цикл с включением оригинальных
сюжетов и тем они составляют именно в осетинском эпосе,
где эти герои связаны супружескими узами. Здесь Сатана
выступает уже в роли супруги и хозяйки большого дома
рода Ахсартагата, к которому принадлежит ие только
Урьтзмаг, но и она сама, как сестра н жена его.
В абхазском эпосе эти сюжеты не зафиксированы.
Мельком упоминаемый в некоторых варпаптах супруг
Сатаией-Гуаши является эпизодическим персонажем, ко­
торому эпос даже не дает в большинстве случаев имени.
Таков осповиой круг сказаний, связанных с именем
Сатаны в каждой из национальных версий нартского
эпоса. Мы подробпо остановились на этом вопросе, ибо
чем больше сказаний связано с тем или иным образом, чем
больше у пас «даппых» о жизни героя, тем полпее и ярче
его характеристика, его значение как определепиого худо­
жественного образа-тппа. Копечпо, одип и тот же сюжет
может быть художественно и идейно различно разработан,
но тем не менее именно за счет сюжета идет «бпографпческое» обогащение образа, его «объемное» раскрытие;
ведь в самом подборе мотивов, составляющих сюжетную
капву, уже содержится коренная характеристика героя.
Отсюда важную роль приобретает количество сюжетов,
легших в основу сказаний о тех пли иных героях. От сказапия к сказанию лепптся образ героя, приобретая все
большую завершеппостъ.
*
Стилю осетинских сказаний совершеппо чужды описа­
тельные характеристики героев. Наиболее пространная
«рекомендация» героини, которая зафиксирована нами,
имеет следующую форму: «У нартовской Сатаны были
Добрые (энергичные) руки; соль-хлеб ее были вкусны
как алутон4; вид ее был подобен солнцу; статью была
в ангела; движенья стремительны и легки, как у стрелы;
речь сладка, как у соловья; ответы — что ласка матери,
красивы и светлы»5. Необходимо отметить, что такая
описательпость и детализация совершенно не характерны
Для общего стиля осетинского эпического сказаг
4 «Алутон» — сказочная ппгца.
5 Архив СОНИИ. ф. 70, папка 2о. стр. 18/.
375
______ ____
В некоторых изданиях свода осетинских иартских ска­
зании имеется довольно объемное и поэтическое описа­
ние красоты и достоинств Сатаны6. Таких описаний
в фольклорных записях мы не находим. Но это и по
выдумка составителей. Это сведение воедино (санкцио­
нированное принципом издания) тех характеристик, ко­
торые разбросаны в разных вариантах сказаний (часто
относящихся не только к Сатане, но и к другим геронпям)
и поэтическая пх обработка. Таким образом, получается
до какой-то степенп собпрательиая характеристика, может
быть и правдиво отражающая определенные черты ха­
рактера Сатаны, но не соответствующая общей правде
художественпого образа.
Сатана дана вся в действии. Во всех национальных
версиях эпоса Сатапа — активное начало. Для создания
такого характера менее всего подходят описательные
конструкции и мы увпдпм, как, не теряя своего значения,
например, в характеристике внешности героини, этп по­
следние будут вытеснепьт другими приемами (показ героя
в поступках, речевая характеристика, прием антитезы и
контрастов и пр.).
Абхазские сказания считают главными такие черты
Сатаней-Гуашп, как красота, ум, хозяйственность, положе­
ние матери нартов.
Сатана прежде всего красива. Рассматривая те эпиче­
ские трафареты, посредством которых характеризуется
в нартском эпосе красота героини, можно выделить как
самое распространенное сравнепие с солнцем и луной.
Из сказания в сказание повторится образ солнца, утрен­
ней звезды и луны, как только речь зайдет о красавице,
в первую очередь — когда будет говориться о красавице
Сатане.
«Цвет ее лица был (подобен) солнцам и лунам», — говорит осетинское сказание. Не в одно, а в сто солнц и лун
сияла красота Сатаны. Сравнение это варьируется много­
кратно.
г
В ряде сказаний говорится о чарующей белизне тела
Сатаны. Но в осетинских (и адыгских сказаниях) тело
ее никогда не светится (это качество здесь отдано другим
героиням). В абхазском же эпосе постоянно подчеркивается, что Сатана может даже заменить нартам солнцес См.: «Нартскпе сказания». Дзауджтшау, 1949 (на осет. яз.)376
эпоса
Исполнитель осетинского нортскою
кисын-фандыром
с национальным инструментом
(хъисын-фгендыр).
1
ЯПк
Для всех национальных версий нартского эпоса в рав­
ной степени характерно описание телесного очарования
Сатаны — Сатаней-Гуаши. Известны осетинские варианты
сказания о рождении Сосруко — Сослана, когда иартский
пастух, увидев у реки обнаженным прекрасное тело Са­
таны, в изнеможении опускается па камень.
Все национальные варианты рассказывают об этом
очень похоже. В изумлении застынет кабардинский пастух
перед рекой Псыж, увидев на противоположном берегу
Сатаней, полощущую белье.
Среди бела дпя ярче солнца затмит красота СатанейГуаши глаза Зартыжву — пастуху абхазских иартов:
Что-то ярче солпца
Его глаза озарило
И мигом ослепило.
... Диво, что это такое?
Среди бела дня ярче солица
Что могло глаза затмить? 7
Сияющая, как солнце, красота, глаза, как звезды, золо­
тые волосы — все это международные поэтические опре­
деления красоты; они не составляют исключительности
иартовского эпоса. Но в каждом национальном случае
они, несмотря на всю конкретность и, казалось бы, узость
своей природы (солнце всегда солнце и луна только луна),
прпооретают необыкновенную поэтическую емкость, на­
циональную специфичность (порой переходя даже в язы­
ковые идиоматические формулы).
Красота Сатаны еще — в ее вечной молодости. В кабар­
динском сказании читаем:
Что не стареет,
А молодеет —
Эта Гуаша
С ликом девичьим.
Сатана не стареет и в осетинском эпосе (точнее —
старость и молодость в ее власти). Сказание «Сатана и
девица Ьорагаповых» так и начинается: «Сатана приняла
свои старый вид»8. Она подстрекает Урызмага привести
8 пР^1В ДАБНИИ, ф. 2, № 176, стр. 72.
0 В. И. А б а е в. Из
или. М.—Л., 1939, стр. 44. осетинского эпоса. 10 партовских сказа378
___
молодую жену. Но когда он прпводпт ее, то Сатана опять
принимает свои девичий впд9.
Абхазские сказания скажут о вечной молодости Сатаны
следующим художественным образом:
«Хотя Сатаией-Гуаша л родила столько (сто) детей,
по тело ее с ног до головы было подобно только что спятому ножному сыру» 10.
Красота — только одно из многих качеств Сатаны и,
пожалуй, не самое главпое. Да, Сатана красива н эпитет
«раесугъд» (красавица) довольпо употребителен. Но что
интересно: если в отношении других красавпц он почти
постоянен, то к имени Сатаны он не проявляет такого
стойкого постоянства. Почему? Ведь она самая красивая,
более того, она вечно красивая женщина эпоса, но, ви­
димо, какие-то не менее важные черты вытесппли на
второе место это определение — «красавица». Первым же
достоинством героини становится ее ум. Поэтому напболее
употребительны эпитеты, характеризующие это качество:
«мпого знавшая и проницательная» п. Нередко рядом
с ее именем стоит следующий сложный эпптст: «Арвы
хин, заххы каз лэеп» — « Хитрость неба, чародейство
земли».
Высшей похвалой геронпе патриархального времени
звучит характеристика мудрости Сатаней, данная в ка­
бардинском и абхазском эпосах: «Ты умней мудрейших
иартов» 12. «Слава ее была выше мужней» 13.
Героп-парты умны. Мудр Урызмаг. Но славу нм все же
приносит их доблесть и спла (исключая Сырдона осетпнских вариантов как носителя хитрости и юмора). Слава
Сатаны — в ее уме.
Все сказания, связанные с Сатаной, это, в сущности,
рассказы об уме и хитрости ее. Такой она выступает и
в сказаниях цикла «Сатана и Урызмаг» (например, в сказании «О Сатане п ножичке Сафы»).
Если в этпх сказаниях ум Сатаны реализуется
и остроумие, то в других, обретая общественное звучание,
■
!
!
«
9 В. И. Абаев. Из осетинского эпоса, стр. 45.
10 Апхпв АБНИИ, ф. 2, № 176, стр. 2.
11 «Памятники народного творчества осетпп», въш. 1, Влади­
кавказ. 1925, стр. 52.
12 Там же, стр. 104.
13 «Приключений парта Сасрыквы п его девяноста девяти
братьев». М., 1962, стр. 15.
379
кяияаиипяая
становится мудростью. И эта мудрость Сатаны спасает
жизнь отдельным героям, а зачастую целому партскому
племени.
Одной из распространенных сцен в доме Урызмага
является следующая картина:
Урызмаг, вернувшись с пихаса, сердито садится
в кресло (да так, что ножки кресла целиком входят
в землю). Сатана спрашивает его: «Что опять с тобой?».
И, узнав, советует что-либо мудрое.
Иногда она обращается к нему в такой форме:
«Мой старый, думы одолели тебя. Укрепи свою старую
голову, чтобы ум п речи были равны в мудрости»14.
И в этом обращении, в этом призыве к рассудку мы ви­
дим мудрость самой Сатаны.
Не раз и не два придет Урызмаг в дом таким серди­
тым и опустится тяжело в свое кресло. Но всегда Сатана
очень верно выводит его из затруднительного положения.
Сатана выступает как заботливая жепа, ограждающая
от коварства своего Урызмага. Но ее забота об Урызмаге — это забота и о всех нартах. Вот решают враги
убить Урызмага на пиру. Сырдон, которого они послали
пригласить Урызмага, намекает па грозящую ему опас­
ность. Сатане сразу понятен намек, п она разъясняет его.
Но не идти нельзя, л Сатана отправляет Урызмага на пир,
дав ему своего коршуна, который должен стать вестником
о грозящей ему опасности 15.
Мудрость отличает Сатану во всех национальных вер­
сиях нартского эпоса. Вот как говорят об этом абхазские
сказания. Как-то Сасрыква решил голодать, пока пе при­
думает, как одолеть великана. И тогда Сатаней-Гуаша ему
говорит: «Пока ты придумаешь нужный тебе способ, ты
умрешь от голода, это не годится. Не тебе, а мне придется,
наверное... выдумать, что-нибудь» 16.
Одной из блестящих иллюстраций той роли, которую
играет мудрость Сатаны в эпосе, является сказание
«О последнем балце 17 Урызмага» 18. Оно известно и адыг­
скому эпосу. Здесь говорится о просьбе плененного Урьтз-
мага прислать за него выкуп скотом: десять тысяч ДВУрогпх, сто тысяч однорогих и больше того безрогих, *п
если никто впередн такого стада не будет идти, то сиять
голову с рыжего вола и привязать ее на шею черного.
Задумались нарты над таким загадочным требованием
(буквально: «впали в мучительное раздумье» — «хъуырдухазпты бахаудтой»). И пошли они вновь кланяться муд­
рости Сатаны. И она разгадала требования Урызмага.
Сказание всегда подчеркивает, что ей это сделать совсем
нетрудно.
Этим походом и кончается цикл, названный «Урызмаг
и Сатагга», но не кончается их жизнь среди иартов. Оип
участвуют во всех актах партской эпопеи.
Адыгский вариант сказания о последнем походе Уазырмеса очень близок к осетинскому19.
Так, в «Сказании о Сауайе», оформленном в основном
на мотив позднего происхождения (п, по мнению
В. И. Абаева, заимствованном из черкесского)20, Сатана
выступает в обстановке, не свойственной ей по другим
сказаниям: она — мать дочери на выданье и круг ее пптересов не выходит за пределы семьи.
Сатана мудра и в этом сказании п, как всегда, дает со­
веты Урызмагу. Но прежде чем последовать им, он выказывает унижающее недоверие к ним, причем выражепиое в форме, быощей по престижу Сатаны слишком не­
посредственно: «Сатана вновь ему точно сказала...
Урызмаг рассердплся опять и жепу свою Сатану стук­
нул раза два палкой, мол, не говори лжпвых слов»21.
Дальнейшее повествование, однако, полностью «реаби­
литирует» Сатану. Урызмаг справляется со своей задачей
только потому, что «па этот раз он послушался Сатану» 2~.
Однако такая обрисовка героппи настолько не характерна для нартского эпоса в целом, что она тонет в общем
хоре признания и восхваления мудрости Сатаны.
Мудрость Сатаны пе пассивна. Кроме того, что ее со­
веты всегда зовут к действию, к подвигу, ум и активность
характера делают се соучастницей многих событии жизни
иартов.
14 «ГОго-осетппскпй фольклор». Сталннпр, 1936, стр. 60 (1,ь
осет. яз.).
15 Там же, стр. 172—173.
10 Архив АБНИИ, ф. 2, папка 176, стр. 37.
17 «Балд» — поход, экспедпцпя за добычей.
I® «Юго-осетпнскпи фольклор», стр. 48.
,э «Нарты. Кабардинский эпос», стр. 371.
20 В. И. Абаев. Нартовскпй эпос, стр. 80.
21 «Осетинское пародное творчество», т. I. Орджопнкпдзе,
1961. стр; 328 (па осет. яз.).
22 Там же, стр. 331.
381
380
.к.
Есть сказание о тяжелом годе, когда парты решают
уйти иа новые земли. Их ведет, предварительно разведав
все вокруг, самый старший — Урызмаг. В некоторых ва­
риантах этого сказания подчеркивается, что корм для
скота можно найти только в стране уаига (или Саштаг-алдара). Одолеть же его, как подчеркивает большинство ва­
риантов, становится возможным лишь благодаря тому, что
Сатане удается узнать, отчего может быть смерть уаига.
Иногда оказывается, что сюжет обязан своим суще­
ствованием Сатане. Мы имеем в виду не тс сюжеты, в ко­
торых Сатана активно действует, но те, в которых ее по
тем или иным причинам нет. Оказывается, даже своим от­
сутствием она способствует развитию фабулы. Так, в од­
ном варианте «Сказания о Му каре, сыпе Тара», половина
действия разворачивается только благодаря тому, что
нарты не успели во-время спросить Сатану, как им быть
с Мукарой, и он успел натворить бед; «пока они собира­
лись (спросить Сатану), сын Тара Мукара успел к ним
нагрянуть»123. Как вндпо, в сказаниях о различных героях
содержатся свидетельства ума и находчивости Сатаны.
С ее умом и остроумием мог бы тягаться разве только
Сырдон24. В большинстве случаев, когда партам прихо­
дится разгадывать загадки, задаваемые им жизнью, они
тут же на пихасе решают обратиться к Сырдопу, и в боль­
шинстве случаев он отсылает их к разуму Сатаны.
И только однажды сказание рассказывает о том, как
Сатана отослала за советом к Сырдопу.
Для того чтобы осмыслить характер остроумп
Сатаны, надо отметить глубокую разницу, существующую
между ней и Сырдоном. Юмор Сырдопа не безобиден: он
обычно переходит в злую насмешку над нартами. Житей­
ский юмор Сатаны, проявляемый в семейной сфере ее
жизни и целиком адресуемый Урызмагу, мягок и имеет
любовную окраску («Как Урызмаг отсылал Сатану 113
дома», «Ножичек Сафы»). Но вот задеты ее интересы п
юмор Сатаны переходит в коварное остроумие («Как
Сатана стала женой Урызмага», «Сатана и Борагановская девица»). Но когда грозит опасность Урызмагу пли
23 «Юго-осетпнскпй фольклор», стр. 36.
сС.
24 Сырдон —один пз популярнейших п любимых героев
тпнекого эпоса, хитроумный п изобретательный; он явЛЯ осе.
главпым носителем юмористического начала в осетинском э
382
«не рожденным ею» сынам, то юмор превращается уже
в «стратегическую» находчивость, в грозпое оружие
в руках картов. И чем напряженнее момент, чем больше
опасность, испытываемая партами, тем опаснее для вра­
гов становится мудрость этой женщины.
Сырдон нс знает такой приверженности нартам: он
приносит им бед больше, чем пользы. Этой раздвоенности
не знает образ Сатаны, являющийся с самого начала
Большой матерью нартов. Она всегда за своих сыновей,
всегда за нартов. Только когда нарты проявляют враж­
дебность к Сослану, она, восстанавливая справедливость,
помогает Сослану одолеть гордость и зазнайство нартов.
(Этот мотив особенно силен в абхазских сказаниях.)
Вопрос отношений Сослана и нартов в осетинском
эпосе несколько сложнее, чем возможно говорить о них
в пределах данной статьи, но большинство сказаний по­
зволяет утверждать, что и Сослан и Сатана никогда пё
противостоят нартам.
В ряде сказаний Сатана выступает не только как
мудрая женщина, по и как волшебница или колдунья.
Такую трансформацию ее образ претерпевает во всех
трех версиях эпоса. Сразу надо оговорить, что колдовство
Сатапы — Сатаисй-Гуаши каждый раз довольно простого
свойства. В частности, она обладает магией слова.
В абхазском сказании о Нарджхоу стоило Сатаней-Гуаше
произнести: «Нарджхоу, отнявший счастье моей дочери,
да превратишься ты в каменную глыбу», как сразу: «все
вышло так, как сказала великая Сатаней-Гуаша» 25.
В осетинских сказаниях Сатане стоит выпечь три ме­
довые лепешки, и, взяв кувшин с роигом, взобраться на
гору и помолиться, как все, о чем бы она не молила, осу­
ществляется (выпадает снег, день превращается в ночь,
останавливается на мгновенье солнце и т. д.). Чаще даже
обходится и без этого ритуала, она просто молит, и
просьба ее исполняется. Вообще боги послушны Сатане.
Они иногда бывают у нее в роли посыльных. Так, часто,
когда нартам грозит опасность, она просит бога сооощить
о беде Сослану пли Батрадзу.
В одном из сказаний о Ватрадзе говорится, что Сатана
2б
«обладала тайным искусством принимать любой вид» .
25 Архив АБЫИИ, ф. 2, № 176, стр. 323.
26 ССКГ, вып. X. Тпфлпс, 1877, стр. 13.
383
Колдуньей прослывает она позже среди мартов, и великан
Мукара крикнет ее сыну Сослану: «О, сын колдуньи!»
Эти черты характерны п для Сатанеи-1 уашм адыг­
ского эпоса.
Иногда она помогает сыну пооеднть врага благодаря
своему колдовству, которое нередко осуждается (осо­
бенно в сказании о бое Соеру ко с Тотрешсм) 27.
В осетинском варианте этого сказания также подчер­
кивается, что победа над Тотрадзом досталась Сослану
благодаря колдовскому наущенью Сатаны (правда, здесь
опо не осуждается).
Адыгские и абхазские сказания, как известно, ничего
не говорят о происхождении Сатаией-Гуаши. Но из осе­
тинских мы знаем, что она является дочерью водной и
небесной стихни (ее мать Дзерасса — дочь Повелителя
Морей, а отец Уастырджи — небожитель). Но нигде
в эпосе после ее рождения не вспоминается, что своим
появлением она обязана сверхъестественным силам и
поэтому обладает этими силами. Только изредка встре­
тится такое определение (в южно-осетинских текстах):
«Сатана была крестницей бога». Но это, вероятно, является
поздним христианским наслоением и вряд ли поддержано
мифом об ее рождении. Правда, о ней ие раз скажется:
«Богом созданная девушка» («Хуыцауы схоид чаг»), но и
это будет относиться к ее красоте, а ие к ее происхожде­
нию и отношению ее к небесным силам.
В каоардписких сказаниях встречается такое обраще­
ние к Сатаней: «Эй Сатаней-Гуаша, ие сравнимая ни
с кем, не доступная разуму человеческому, Мезитха,
богиня птиц лесных» 28.
Здесь как оудто Сатаней выступает в роли богиниНо^ мы также не найдем подтверждения этому в сюжетах
каоардписких сказаний. А вот имя Мезптхп в качестве
эпитета к Сатаней, переосмысленное как показатель кра­
соты, встречается не раз: «И полюбил пастух прекрасную
сатаней — белую телом Мезитху» 29.
Постоянный эпитет абхазской Сатаией-Гуашя «золотопятка», «золотая ступня» («Ухъышьаргуцы сакух27 СМОМПК, вып. XII. Тифлпс, 1891, стр. 6.
„
_
28 «Кабардинский фольклор». М.—Л., 1936, стр. 35. Мезпт.
богиня леса.
29
«Кабардинский фольклор», стр. 13.
384
шоуп»), т. е., видимо, приносящая счастье30. Это понятие
связано с определенными обычаями и поверьями (у абхазов в молитвах есть это обращение; кроме того, прп
определенном ритуале говорится: «твою золотую пядь
чтобы я обошел»). В эпосе, как эпитет к Сатане, он не
раскрывает в ней каких-либо сверхъестественных качеств.
В какой-то степени образ Сатаны несет в себе пережива­
ния мифологического порядка и близок древиейшпм
художественным образам великих матерей прпроды, но
в своей сущности иартовская Сатапа — настолько «зем­
ной» образ, что мифологическое начало перестает в пей
ощущаться. И приносит она счастье нартам не благо­
даря своей счастливой «золотой ступне», а в основном
благодаря своей любви к ним и мудрости. Мудрость ее
как матери помогает партам быть такими, какие опи
есть.
Именно как мудрой женщине поручается ей п роль
своеобразного эпического резонера. Она играет роль блю­
стителя определенных норм поведения, и парты считаются
с ее мнением в своих поступках и действиях.
Вот, к примеру, Урызмаг отправляется в поход вместе
с Сауайем. Сауайю удалось угнать табуны у турок и он,
разделив их на части, «долю старшего» отдал Урызмагу.
Но когда они уже возвращались домой, Урызмаг вдруг
подумал: «Если я приеду с этой добычей дохмой, жена моя
Сатана такая злющая и проницательная женщпиа, что
она первым свогш взглядом узнает, что добыча табуна не
моей плети» 31.
Как-то абхазскому Сасрыкве не повезло на охоте.
Первое, о чем он подумал, было: «А что станет говорпть
Сатаней-Гуаша?»
в пословичную
Часто речь Сатаны оформляется
форму. Когда Урызмаг смущен техм, что какой-то маль­
чишка зовет его с собой в поход, то Сатана отвечает ехму
пословицей: «Это ничего: мужество и ухм не зависят от
возраста» 32.
30 У осетин есть выражение «хорз ках» — хорошая нога, т. е.
человек, приносящий счастье. Ср. *“®ДОН0СТ(55Й?* ЭрПН1
ЗатайКаь«
ственным мечом л мужеством.
32 Архив СОНИИ, папка 25, стр. 161.
25
Заказ Л"» 1480
385
В другом случае, когда Урызмаг загоревал о том, что
ОН состарился и нарты перестали его уважать, Сатана
сказала: «Да что ты так сильно горюешь ц досадуешь. '
Ведь говорит поговорка: п камень стареет н дерево ста­
реет. Ты в свое время жил между партами мужем, и
теперь дошел до старости. Что тебе горевать и тужить
о том, что ты жпвешь так много, наш старый» 33.
Таким образом, для характеристики мудрости Сатаны
используются различные приемы: н отзывы мартов о пей,
и ее собственная речь и поступки, и сопоставления ее
с другими. Самым замечательным же является то, что она ;
всегда активно действует.
Так, для того, чтобы узнать численность войска у чпи­
тов, она шьет штаны с тремя штанинами н вешает их во
дворе. Удивленный Сырдои восклицает: «Даже у чиитов
среди их десятитысячного войска нет трехногого воина». I
!
Так была выведана тайна численности врага.
Но лучшая пз женщин Сатана — Сатаней обладает еще
рядом свойств, которые нарты ценят особо. Это в пер­
вую очередь умение Сатаны вестп хозяйство, быть щед­
рой, изобпльной даже в самые тяжелые времена, какие
только выпадалп на долю иартов.
О «хозяйственности», а также о хлебосольстве Сатаны
осетинского эпоса необходимо сказать подробнее.
пп, РежДе всего надо отметить, что сказаипе о голодттяВ схране наРТ0В П о том, как Сатана сумела
ИтгпгпаШТЬ всех’ является уникально осетинским сюжетом,
в екячяттттосо°тавляет отдельное сказание, но чаще входит
как бы его «обрати™
Урш“ага*’ тмтъ
В ЭТ0М сюжете воплотился обгцефольсформиюуягт п <<0 иасЫ1це1ШИ малым» (который, транциональногп ’т* ргш1шает в зависимости от времени и нана почве оелигппРПТа разлпчное сюжетное оформление,
на почве религиозного творчества эта мечта о хлебе насущном оформляется в чудо).
В некоторых осетинских сказаниях эта тема была
приближена к мотиву «насыщения малым». Это рассказ
не о всенародном пире, а об обычном угощении гостей
Сатаной.
03 «Памятники народного творчества осетин», выл. Т, стр. 39.
386
Пришли к Сатане четыре гостя, и сделала она им
четыре тонкие лепешки («тхнахджьт»). Стали гости не­
доумевать, мол, и есть их не стоит, все равно голода не
утолить. А тонки они были, словно острие ножа:
Если с одной горы кинуть на другую, то
проткнут (по путп) шею олешо.
V
оказалось, что
Ио вот стали они все-таки есть пх иодолеть.
Удивибольше одной лепешки всем четырем не
лись они и спросили Сатану, в чем причина сытости.
«Чтобы жертвой вам стала, гости, в них (в лепеш­
ках) их баркад34. У мепя был жир еще тех времен,
когда речь невестки не была слышна до удэелаэидыгонда35.
А ячмень был такой: во вторник его сеяли, в среду
а в воскресенье мололи»,
убирали, в четверг молотили,
тайной
изобилия. Упоминание
Здесь Сатана владеет
о молчаливой невестке — это позднейшее наслоение ди­
дактического порядка. Интересно, что и здесь проповедь
патриархальной морали вложена в уста супруги патри­
арха, хозяйки патриархального дома. Все это поздние
вставки, и для нас здесь больший интерес представляет
мотив с чудо-сытным хлебом, чудо-скороспелым зерном.
Замечательна фраза: «Изобилие этих лепешек в них
обладаюсамих!»
Вообще слово «баэркад», «бэеркаджыи», т. е.
щая баркадом, связано в эпосе с образом Сатаны. Она
так и прозывается: «иартов щедрая хозяйка». До сттх пор
хозяйкам желают: «Будь изобильной,
У осетин
Сатана».
о том, что осетппскпй партекпй эпос
Мы уже говорили характеристиками, теми эппчеекпбеден описательными
которые характерны для других
одическими трафаретами, Если описателыгость сущестэпических памятников, в эпитетах или в крайне кратких
вует, то она выражается
характеристики даны через
характеристиках. Иногда эти. Причем тут уже эти отзывы
отзыв одного героя о другом
, а пмеппо внутренних
касаются в основном не внешнихI характеризует Сатану
качеств персонажа. Так, интересно
сушили жир.
«Баркад» (бзеркад) — изобилие.
очагом, на которой
громко при мужчинах, при
5 «Удэелаэндьгг» — жердь над
^былаГг запрещал невестке говорить
25*
старших.
387
красавица Акула, когда Урызмаг приглашает ее вступить
с ним в танец «симд»: «Я бы станцевала с тобой, иартов
старший Урызмаг, но твоя хозяйка Сатана слишком
суровый человек и между нами будут нелады».
И тут же идет другая характеристика уже устами
самого Урызмага. Униженный п обозленный таким отка­
зом, он говорит ей: «Да будь ты жертвой для моей
Сатаны, чаши которой всегда переполнены и столы
обильны», — сказал Урызмаг» 36.
В кладовых Сатапы, которые она показывала Урызмагу, всегда было много еды и напитков. Появление
хмельного напитка у иартов связывается с Сатаной.
Существует целая песня о Сатане, до сих пор распеваемая
в пароде.
Присела птичка на дерево,
Сорвала листик хмеля,
Оттуда полетела
Села на хуртуап37,
Взяла зерно солода,
Отнесла их к Сатане,
Сатана сварила пиво38.
И по сей день в Осетин на редком пиру не поют:
Вынеси, Сатана, нам черного пива,
Произнеси здравпцу нартов, Урызмаг.
Абхазский фольклор также знает песшо о СатанейГуаше, в которой воспевается в весьма гиперболизиро­
ванной форме ее умение прясть, ткать, шить одежду для
нартов 39.
Кстати, в осетинском песенном репертуаре также
имеется трудовая песня о Сатане «Онай», которую поют
женщины, когда ткут:
Ой, онай, онай, онай!
Знаменитая нартовская Сатана
Делала Урызмагу бурку пз ста рун.. .40.
36 «Нартскпе сказания», стр. 235.
37 «Хуртуан» — место, где рассыпано зерно.
38
’
стр. 30.И. Джан а ев. «Сказания о нартах». Орджоникидзе,
39
Подробнее об этом см. в наст, сборпике: А. Аншба. Стих'
и проза в абхазском нартском эпосе.
40 «Памятники
народного творчества осетин», вып. II, 1927.
стр. 140.
388
I
!
'
Интересно, что здесь Сатана находится среди девушек,
которые ткут, и выбирает самую прилежную из них
и невесты для своего сына. Кончается песня тем, что
Сагана всех приглашает на свадебный пир (тема пира
сопутствует ей и здесь). Необходимо, однако, отметить,
что в осетинском эпосе эта черта хорошей рукодельницы
передана другим героиням и очень редко связана с име­
нем Сатапы.
В известных нам текстах адыгского эпоса мы также не
находим, чтобы это качество сопутствовало Сатаней.
Роль хозяйки партовского дома, которая дана Са­
тане — Сатаней-Гуаше во всех версиях эпоса, непосред­
ственно связана с ее основной ролью в эпосе — ролью
матери иартов. «Сатана — истинная мать народа. Центр и
средоточие партовского мира»41.
Тема материпства целиком связана в эпосе с именем
Сатаны. Но эпическая Сатана — не совсем обычная мать.
В отношении Сатаны это слово песет в себе обобщенное
значение (особенно в осетинской и адыгской версиях).
Сыновья часто величают ее «не родившей нас матерью».
Если разобрать все свидетельства о рождении главных
героев осетинского эпоса Батрадза и Сослана, то мы
увидим, что они необычны.
Сослан — Сосруко рожден из камня, оплодотворенного
неким пастухом при виде полуобнаженной Сатаны. Таким
образом, Сатана только косвенно причастна к рождению
Сослана и, тем более, к рождению Батрадза — он появ­
ляется на свет из опухоли на спине Хамыца. Но если
в самом акте рождения она сыграла косвенную роль, то
в том, что она мать, в ее сознании никогда не возникает
сомнений; она играет роль матери в воспитании героев,
принимает участие в их судьбах. Закалка Сослана, пер­
вый его подвиг, вся жизнь в эпосе вплоть до смерти
все окружено заботой Сатапы.
Но у Сатаны есть и сыновья, которые плоть от плоти
ее (сын от Черного Ногайца).
Есть в эпосе и грустное сказание «О оезымеипом сыне
Урызмага». В отсутствие Урызмага у Сатаны рождается
«морским родпсьты. Она отдает его на воспитание своим
как-то
к ним в гости
чам» Донбеттрам. Урызмаг попадает
п случайно убивает своего сына.
41 В. И. А б а е в. Нартовсиш эпос, стр. 41.
389
Вот, пожалуй, и все сказания, где Сатана выступает
в роли матери.
Но Сатана — мать всех нартов: жизнь ое неотделима
от их жизшг. И в этом плане ее образ приобретает обще­
ственное звучание. Судьбой каждого из них она озабо­
чена. И поэтому каждый из них постоянно обращается
к ней. со словами моя мать—«маемады хай», (дословно:
«доля моей матери»).
Тема матери находит особо близкую сюжетную парал­
лель в адыгском эпосе: Сатаией-Гуаша также участвует
в рождении или воспитании многих героев, прежде
всего Сосруко.
Таким образом, в отличие от осетинских сказаний,
в адыгском эпосе роль мудрой воспитательницы-матери
распределена между несколькими персонажами. Но вот
в цикле сказаний о Шауейе, описание детства которого
несколько напоминает нам детство Батрадза, названной
матерью, как и в цикле о Сосруко, выступает Сатаней.
Шауеи также неуязвим для огня, как и Батрадз. Только
что родившись, он глотает уголья. Чтобы остудить мла­
денца, Сатана уносит его на ледяную вершину горы
Ошхамахо, где он и вырастает. Позже он спросит ее:
Разве ты не моя мать?
Разве у меня есть отец?
И Сатана объяснит: «У тебя есть п отец и мать,
Я лишь вырастала тебя и воспитала» 4?.
«Наша мать» называют ее адыгские сказания — это ее
постоянный эпитет:
Сатаней, наша мать,
Слез не лей, наша мать,
Заживет боль в груди,
Горевать погоди!43
Непосредственной матерью всех нартов выступает п
абхазская Сатаней-Гуаша. Мы уже упоминали выше, что
она — мать ста нартов.
Все нарты платят Сатаней-Гуаше • большой сыновней
!! ^Яарты. Кабардинский эпос», стр. 466.
43 Там же, стр. 48.
390
|
|
привязанностью. Жизнь мартов — ото жизнь одной боль­
шой семьи. Абхазская Сатаней не только растит н заботится о нартах, но и воспитывает их. Разгневанная хва- .
стлнвостыо своих сыновей, она учит их скромности:
«Негодный, как смел ты повторить еще раз, что нет муже­
ственней тебя!» Только это сказала и со злости так опу­
стилась на железную скамыо, что скамья проломилась» 44.
Почти то же самое повторяет осетинская Сатана:
«А, нерожденный сын мой, говорила я тебе: наткнешься
когда-нибудь на равпого себе, вот так л случилось», —
говорила Сатапа Сосруко, который, прихрамывая, насилу
дотащился до Сатаны» 45.
Так основной темой проходит по всем национальным
версиям роль Сатаны—матерп л воспитательницы нарт•ских героев.
Образ матери (будь то Сатана или выступи она под
другим именем), радующейся, что ое сын отомстил за
отца, — один из распространенных образов в эпосе (да,
•кстати, п в других жанрах горского фольклора). Малолет­
ний (или молодой) сын, гордо вступающий в бой с убий­
цами отца — .мотив, вызванный к жизни требованиями
патриархального уклада, волновал воображение и удов­
летворял этическим нормам времени («кровь за кровь»).
Поэтому-то он часто окрашен в такие эмоциональные
краски. Эти последние в сюжетах, связанных с Сатаной,
дают ее образ в особенно жизненных тонах, раскрывая
новые черты в ее характере.
Насколько предупредительно будет охранять Сатана
тайну убийства отца, настолько же рьяно она будет
вдохновлять прозревшего сына на месть. И теперь она
уже сама вложит в его руки оружие, «Вот меч от жажды
боя горит синим пламенем. Конь, ожидая седока, дрожит
в нетерпении» 46.
На наш взгляд, образ матери молодого мстителя
позднейшего происхождения; эта функция прикрепилась
к имени «матриархальной» Сатаны сравнительно поздно.
В осетинском эпосе мотив кровной мести чаще всего
связан с образом Батрадза. Даже в других фольклорных
Жанрах, особенно в сказках о кровной мести, сохраняется
44 Архив АБНИИ, № 178, стр. 236.
ССКГ, вып. VII, стр. 8.
48 Архпв СОНИИ, № 74, папка 28а, стр. 30.
391
____ ___ ___ V! "
имя Батрадза, но не названо имя его матери. Чаще всего
Батрадз предстает здесь пасынком Сатаны47.
Развитие темы матери в позднейших сказаниях эпоса
дает образ Сатаны еще в одном раскрытии: Сатана — мать
дочери на выданье. Этот мотив мы имеем в осетинских,
абхазских и балкарских сказаниях. Сатана вновь выступает
заботливой и предусмотрительной матерью, но это уже
чисто женские заботы о том, чтобы дочь была примерной
хозяйкой и брак ее был счастливым. В приведенном уже
сказании о Сауайе так рисуется ее забота о дочери. Когда
Урызмаг сообщает ей, что сосватал дочь за сына Чаидза,
она встревожилась: «Да не простит тебе бог, наш старый!
Отдал ты нашу дочь на погибель тому, у которого мать
очень злая женщина. Она съест нашу дочь. У этой___
женщпны один зуб достает до неба, а другой до земли.
Как же ты поторопился и отдал нашу Агунду на погибель
в руки этой зловещей женщины!» 48.
Если в основном Сатана рисуется гордой, сильной и
в какой-то мере безжалостной женщиной, то более позд­
ний вариант дает «снижение» этого образа с высоты суро­
вых эпических тонов до мягкости лиризма. Сатана умеет
скорбеть и печалиться. Когда до нее доходит известие
о смерти нескольких нартов, она говорит: «Я не оставлю
их большие глаза и красные щеки на съедение воронам
и лисицам» 49.
Но п в этих
словах ощущается решительность и актив­
ность ее натуры, а не пассивная скорбь.
В сказании «О безыменном сыне Урызмага» особенно
подчеркнута сила ее материнской любви. Первая
тема —
жизнеутверждающая тема пира Сатаны — противостоит
здесь последующей теме — смерти (убийство Урызмагом
собственного сына).
Соответственно образ Сатаны
также дан здесь в двух
планах. Вначале это жизнерадостная
и гостеприимная
хозяйка нартов, в конце —
горестная
мать.
В этом контрасте особенно четко выявляется
эпическая
широта ее
натуры.
В доме Урызмага
идет пир, устроенный Сатаной,
А в это время Урызмага
уносит к Донбеттрам в своем
47 ССКГ, выл. IX.
34.
48 «Памятники народного творчества осетин», вып. I, СТР*
49 Архив СОНИИ, № 74, папка 28, стр. 30. •
392
клюве большая птица. Там он случайно убивает ребенка
(оказывающегося его сыном). Еще идет пир, когда та же
птица приносит его обратно.
Урызмаг мрачным входит в дом и опять идет тради­
ционный вопрос Сатапы: «Что с тобой, старый, что за
горе тебя посетило?»
Но когда Урызмаг расскажет, что с ним случилось, то
теперь уж от Сатаны по последует успокоительного слова:
«О, старый волк, ты съел и моего спрятанного сына» 50.
Веселье прекращается, нарты встают и горестные уходят
с пира.
В другом варианте дана более эмоциональная реакция
Сатапы: «И когда узпала (о гибели сына) Сататга, то
стала бить себя и рыдать. И люди разошлись»51.
Урызмаг, не зная, что убил собственного сына, спро­
сил о последпем у Сатапы. И Сатана сразу почувствовала,
что ее постигло горе: «Сатана не дала ответа, она сидела
у огня и проливала слезьт. Урызмаг понял, что сын его
мертв».
За отсутствием многословия здесь кроется картина
большого накала чувств: безмолвный плач Сатаны, без­
молвное сочувствие Урызмага. Так впервые мы видим
слезы в бесстрашных глазах Сатапы.
А сказание идет дальше. Сын выходит из Страны
мертвых; встречается с Урызмагом и завещает ему уст­
раивать по нем поминки и дать ему хотя бы имя: «Я твой
безыменный сын, в сердце которого вонзилось острие
твоего кинжала».
Сев на коня, он удаляется. Урызмаг торопится сооб­
щить о нем Сатане. Сатана бежит сыну вдогонку: «Огля­
нись хоть раз на меня» 52.
Но солнце уже заходит и сып, не успевая в Страну
мертвых, не оглядывается. Тогда Сатана молит солнце
остановиться на мгновенье, и солнце, повппуясь, еще раз
перед заходом освещает горы. И поныне у осетин послед­
нее свечение солнца называют «Солнцем мертвых». 1ак
начатый во здравие пир кончается помипаиием.
С именем Сатаны связало это сказание радость жпзни
и печаль смерти, веселье пира и номинальный ооряд, как
Архив СОНИИ, № 70. папка 25, стр. 190.
Там же, стр. 137.
«Юго-осетинский фольклор», стр. 148.
393
связало с ней легенду о хмельном напитке и легенду
о Солнце мертвых.
Адыгскпй эпос в поздних вариантах дает несколько
иное развитие образа Сатапеи: материнское начало под­
менено чпсто женским, и она выступает как ^красавицаобольстительница. Эти варианты выдсржапы в оолее изящ­
ной, изощренной манере (особенпо стихотворные тексты
сказания о Бадыноко).
Главное в этом сказании — даже в тех случаях, когда
Сатаней выступает как красавица-соблазнительница, —
в том, что вся забота ее о партах и чаще всего о Сосруко.
Ради него она, собственно, и зазывает Бадыноко, чтоб не
доехал он до дома, где пирует ее сын: «А минет пас —
пронзпт он копьем жилы на коленях Сосруко... Оттого
надобно его завлечь, зазвать его надобно» 53.
Таким образом, главное в Сатане не заглушено и
в этих вариантах. На протяжении всего эпоса Сатаней
не считают «обычной женщипой» и не забывается, что
«Сатаней подобна сидящему в седле нарту»54. Черты
хозяйки семьи (а не большого рода пли племени, подобно
абхазской Сатаней-Гуаше), отмеченные нами в поздних
вариантах осетинских сказаний, присущи в большей мере
и адыгской Сатаней.
Поздние варианты (абхазские, осетинские и адыгские)
характеризуют Сатану в несколько ином освещении, чем
основная масса сказаний. Она выступает в них более сла­
бой, если м^ожпо так выразиться, более человечной и мснее эпичной. В осетинском эпосе эта черта особенно про­
ступает в дпгорских сказаниях. Эта все усиливающаяся
«бытописательская» тенденция в одном из сказаний выво­
дит Сатану уже л вдовой Урызмага55.
Существует дигорскоее сказание, в котором говорится
о том, что нарты решили*поиздеваться над Сатаной (она
называется здесь просто «мать Сослана»). Сатана — старая женщина. Нарты решают, в отместку за какие-то
былые обиды Сослана, отправить его мать живой в преисподнюю и тем самым причинить ему боль. Так они и
делают. И тут Сатана плачет и стонет. От той, выручающей всех, приходящей ко всем на подмогу, Сатаны пет и
следа. Теперь она сама ждет помощи. Но молитвы ее
остаются в силе и на этот раз, и Сослан возвращается
домой и вызволяет ее с того света. Кстати, Сослан в этом
варианте тоже плачет над бедной матерью (сказание це­
ликом выпадает из того сурового стпля, в котором выдер­
жаны в основном осетинские сказания).
13 другом варианте, в данном эпизоде Сатана не мо­
лится, а попеременно просит разных птиц сообщить о ее
беде Сослану. Но ни ястреб, ни ворона, ни сорока не
внемлют ее просьбе. Наконец, появляется ласточка и
с большой готовностью берется быть ее вестницей:
«О именитая Сатана, я всюду пойду твоей вестницей. Мне
ие забыть, хорошая Сатана, всю твою доброту», — сказала
ласточка» 56. Даже в этом сказании проскальзывает ка­
кая-то «окольная» характеристика, через отношение к ней
птиц: не черные и хищные птицы оказались ее друзьями,
а ласточка, которая говорит здесь о ее доброте.
50 «Иартские сказания», стр. 109.
*.
(
53 «Кабардинский фольклор», стр. 37.
54 Там же, стр. 37.
г'5 «Ирон адаемы сфаелдыстад», т. I, стр. 62.
394
!
Ш. X. С а лака я
К ВОПРОСУ
ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЭПИЧЕСКОГО ОБРАЗА
Самобытность нартекпх сказании у разных народов
выражается не только в сюжетном составе эпоса и его
поэтике, но и в том, что в различных версиях на первом
плане выступают разпые герои. В осетинском эпосе
в центре повествования находится Батрадз, в адыгском
главное место занимают сказания о Сосруко, а в галерее
художественных образов абхазского эпоса почетнейшее
место принадлежит женщинам. Подчеркнутая идеализация роли женщины в абхазском эпосе дала основание первому исследователю этого памятника Ш. Д. Инал-Ипа
сделать вывод о том, что «в цикле Сатаней-Гуаши абхаз­
ские нартекпе сказания донесли не просто пережитки,
а наиболее яркую картину живого матриархального обще­
ства сквозь призму мифологического восприятия жизни» 1.
Действительно, первостепенная роль женщины в хо­
зяйственном и духовном быте, отсутствие в древнейших
сказаниях о Сатаней-Гуаше и Сасрыкве какпх-либо упо­
минаний о брачных союзах, вхождение древнейших
героев эпоса в семейство нартов по матрилокальному
признаку и многие другие исконные мотивы эпоса могли
оыть порождены только матриархальными общественными
отношениями. Правда, нартский эпос как жанр офор­
мился много позже тех эпох, какие в нем отразились.
1 Ш. Д. Инал-Ипа. Об абхазских нартских сказаниях. —
«Труды АБНИИ», т. XXIII. Сухуми, 1949, стр. 112. Эту мысль
автор развивает и в своих последующих работах: Нартский эпос
абхазов.— В сб. «Нартский эпос». Орджоникидзе, 1957; «Абхаз­
ский героический эпос». — Альманах «Литературная Абхазия»,
№ 3, Сухуми, 1958.
396
I
Сатаиой-Гуаша иартскогб эпоса абхазов— прародитель­
ница и глава эпической семьи — представляется нам древ­
нейшим образом, отразившим в основном матриархаль­
ные черты, хотя в нем запечатлелись и отзвуки более
поздних эпох.
Во всех национальных версиях нартского эпоса Сатанен-Гуаша играет исключительную роль. Как справедлнво заметил В. И. Абаов, «можно мыслить нартов без
любого из героев, даже главнейших, но нельзя пх мыслить без Сатаны» 2.
Вместе с тем следует признать, что в сказаниях северокавказских пародов, особенно осетин, эпическая деятель­
ность Сатаны все-таки значительно ограничена, несмотря
на почет и уважение, которым она окружена (например,
она бесправна на мужском совете «нихас» (в адыгских
сказаниях—«хаса»). В абхазском же эпосе (особенно
в архаических его пластах) Сатаней-Гуаша весьма самостоятельна и независима в своих поступках: она выступает родоначальницей и главой большого семейства, состоящего нз ста человек, Ыикакого мужского совета, напоминающего нихас, или другой формы общественной
подчинялась бы Сатаорганизации, решениям которых упоминается.
Здесь она
ней-Гуаша, в абхазском эпосе не
заботлива по отношению
всегда права, всегда умна и
к своим «детям» — нартскому братству.
Величественный образ Сатаией-Гуаши разрабатывается
не только в сказаниях, специально ей посвященных, но и
в тех, что повествуют о других нартекпх героях. Особое
место занимает хороводная «Песня матери нартов» 3, где
образ Сатаией-Гуаши предстает во всей своей эпической
величавости. В ней рассказывается о том, как в отсутстсыиовей, отправившихся в поход4, мать нартов за
вне
трое суток прочесала, спряла, соткала шерсть, снятую
с тысячи овец, постирала и высушила эту ткань, затем
одежду без примерки всем своим ста сыновьям и
сшила
При этом вся одежда пришлась нартам
выгладила ее.
запев хороводную песню, лихо
впору. Мать и сыновья,
2 В. И. А б а е в. Иартовскпй эпос. — ИСОНИИ, т. X, вып. I.
Дзауджпкау,
1945, стр.
36. Сасрыквы и его девяноста девяти бра­
3 «Приключения
нарта
тьев».
М., 1962, стр. 18-20.
4 «Хъыдрацара»—
букв, «в добычу за славой», т. е. в поход;
первоначально, возможно, д «на охоту», ср. с «шэарацара» — охота.
397
пустились в пляс. Если у текста данного сказания снять
поздние хозяйственные атрибуты (утюжка, кройка, нож­
ницы и т. п.), предстанет яркая картина матриархальной
семьи, где ведущая роль принадлежит женщине.
В процессе длительного бытования эпоса образ Сатаней-Гуашн претерпел значительную эволюцию. Анализ
различных сказаний позволяет проследить, как полно­
правная хозяйка нартского рода, не ограниченная ника­
кой властью, идеальная женщина и мать (какой рисуют
Сатаней сказания о Сасрыкво), в других случаях I (цикл
Нарджхоу) предстает слабой, мстительной, коварной
женщиной.
Попытаемся проследить трансформацию образа Сатаней-Гуаши.
;
I
В сказании о рождении Сасрыквы говорится о том,
I
как Сатаней-Гуаша, заметив на противоположном берегу
реки Кубани (илп Бзыби) нартского пастуха Нарджхоу 5,
воспылала к нему страстью и позвала к себе. Тот проворно
бросился в реку, но не смог переплыть ее. Все попытки
Иарджхоу переплыть реку оказались тщетными, не так
он силен, чтобы преодолеть могучий поток! Это вызвало
насмешку Сатапеп-Гуаши, которая говорит: «Мне, как
женщине, неудобно подходить к тебе первой, а не то я
Обложка книги „Приключения нарта Сасрыквы
переправилась бы через реку, не смочив пог выше
и его девяноста девяти братьев" у первого отколен»
. Нарджхоу посылает свою «стрелу», которая
его.
дельного издания абхазского нартского эпоса.
попадает в прибрежный камень (скалу) и оплодотворяет
последствии пз этого камня родится герой, кото­
сестры нартов Гундьг Прекрасной, Нарджхоу уже не
рому суждено стать знаменитым нартсклм богатырем.
«косматый пастух», неумелый и наивный простак, а не­
Сягттт'лгт случае нас интересует не описание рождения
победимый герой, воплощающий идеал мужской силы и
наптгт-пт’ * акцентиР0Вание слабости, беспомощности красоты. Иначе характеризуется здесь и Сатаней-Гуаша;
«не смочив
котоппр
тгргт,стуха’ Не сУмевшего осилить препятствие,
хотя это и умная, заботливая хозяйка дома, но она не
о может преодолеть эпическая героиня, даже
так величественна и идеальна, как в «Песне матери нар­
тов» или в сказании о рождении Сасрыквы. Здесь раскры­
Луто величргр01ряф!!^е„КрЛен>>* Здесь, безусловно, подчеркваются
ее такие новые качества, как коварство женщины,
трастиплФт г
пеи~^уаши’ образ которой резко конне
гнушающейся
никакими средствами ради своей цели.
пастуха
°Домо приниженным образом мужчиныОна уже не играет в хозяйственной жпзня нартов значи­
другом сказании, об умыкании героем Нарджхоу
тельной роли, она уже не всемогущая глава семьи, а ее
слово — уже не закон для нартов. Об этом, например,
ЗартыясДРУ Х сказашшх пастухом является не Нарджхоу, а
говорит хотя бы такой эпизод. Завидев издали направляв­
шегося к их дому могучего всадгшка Нарджхоу, Сатанейчения нарта Сасрыквьп! его^девянп^ТР* 70; Л" 126~127; «Прпклю- Гуаша с тревогой обращается к сыновьям, чтобы те оста­
Текст, записанный нами птДк„аостаАДевяти братьев», стр. 30—38. вили
игру в мяч — аимцакьача 7 и встретили гостя с по­
Отхара Гудаут^ого район^А^хазпн. АРстаа * 1961 г.,’ в Флоппи
добающими почестями, во избежание беды.
39в
7 «Аимцакьача» — абхазская национальная игра и мяч.
399
Ш .
«Приедет к нам гость, тогда и увидим мы его»,-^
сказали нарты, не обращая внимания на слова матери8.
Мать не раз повторяет свою просьбу, но нарты так и не
оставили игру в мяч. И только тогда, когда дело приняло
серьезный и опасный оборот, братья-нарты обратили на
гостя внимание. Подобное непочтительное отиошепие
нартов к своей мудрой матери— песомпенное свидетель­
ство утраты Сатаней ее былого величия и ведущего места
среди нартов. Об этом свидетельствует и тот факт,
что
в отличие от всех остальных сюжетов, где Сатапей-Гуаша
рисуется вечно молодой, пе умирающей матерью большого
нартского семейства, в этом сказании
говорится о смерти
героини.
Вот как
описывается гибель Сатапей-Гуаши. Испрошенный и нежеланный
жених Иарджхоу, выдержав все трудные испытания, потребовал
себе в жены сестру партов,
единственную дочь Сатапей-Гуаши — Гупду-красавицу
(Гуида-пшдза). По условию, отказывать ему было уже
нельзя, и тогда Сатапей-Гуаша решила отравить его ядом.
Она накрыла стол, усадила Иарджхоу на почетное место
и поставила перед нпм кубок вина, отравленного кусками
ядовитой красной змеи. Но Иарджхоу уже не тот простак,
над которым в свое время посмеивалась гордая СатапейГуаша, а могучий умный богатырь. Придерживаясь
стольного этикета, гость уступает первый бокал хозяйке
задома, и Сатаней-Гуаше (в отдельных вариантах п
в сводном тексте — дряхлому отцу нартов) не остается
ничего другого, как выпить бокал самой. Тут же она
падает замертво. Ее выносят в соседнюю комнату, заве­
ряя гостя в том, что у их матери бывают припадки,
оатем Иарджхоу предлагает бокал старшему из сыновей
Ьатаней-Гуаши, и его одолевает яд. Затем уже тост под­
нимает сам гость, но он процеживает вино сквозь густые
стальные усы и таким образом обезвреживает его. Одер­
жав победу и в этом виде единоборства, Иарджхоу увозит
уиду-красавпцу . Правда, ему не суждено было благо­
получно завершить свой путь, но в данном случае
нас не
чеппяАнмтяА<^^’
2’ № 126~127; № 176. стр. 317; «Приклю­
чения варта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев», стр. 264.
чоппяАРпаот,^Б
,?• 2’ № 126—127; № 176, стр. 323; «ПрпклюП -его Девяноста девяти братьев».
сто 269 СП текст0
1963 г. [г. РОчам,пра)
П1ШЛ ПаМИ °т Ла(’аУха Зосима в октябре
400
!
интересует дальнейшее развитие сюжета. Важпо другое —
мотив победы Иарджхоу тгад Сатаней-Гуашей. Трансфор­
мация художественных образов Сатаией-Гуаши и Нарджхоу налицо; она обусловлена социальными переменами
в общественной жизни народа, продолжавшейся веками
борьбой между матриархатом и патриархатом и оконча­
тельной победой: в этой борьбе последнего. «Ниспровер­
жение материнского права, — замечает Энгельс, — было
всемирно-историческим поражением женского пола»10.
Естественно, этот исторический переворот не мог не
отразиться в эпосе, возникшем в эпоху родового строя.
Отличительная черта абхазского эпоса состоит в том,
что в древнейших циклах Сатаней рисуется последова­
тельно безмужней; отец нартов отсутствует; в более позд­
них сказаниях он рисуется настолько дряхлым, больным
(иногда — и слепым), что не может играть первостепенпой роли пи в хозяйственной, ни в духовной жизни нар­
тов. В эпосе абхазов отец нартов не получил даже соб­
ственного имели, которым наделены все более или менее
запоминающиеся персонажи, включая и животных.
Возникновению сильного главы патриархальной семьи,
достойного преемника Сатапей-Гуаши, препятствовал, повидимому, созданный ранее с такой огромной обобщаю­
щей силой образ женщины — главы материнского рода.
В народном сознании представление о Сатаней-Гуаше как
главе большого нартского семейства укоренилось на­
столько глубоко и прочно, что впоследствпи, при измепившейся ситуации, когда женщина уже пе соответство­
вала занимаемому в обществе положению, оказалось
невозможным окончательно низложить ее и заменить
мужчииой-патриархом.
Следует заметить, что и в нартских сказаниях адыгов
,г осетин, где патриархальные отношения получили
гораздо большее^ чем у абхазов, отражение, фигура пат­
риарха не затмила образ Сатаны-Сатанеи. Правда, Урызл*иг в осетинских сказаниях признается достойным суп­
ругом своей мудрой жены. В. И. Абаев, касаясь вопроса
взаимоотношений супругов — Урызмага и Сатаны, ппгиет: «Быть супругом такой выдающейся дамы дело не­
легкое, связанное с риском обезличиться, затеряться,
10 Ф. Энгельс. Происхождение семыг, частной собственностгг й государства. М., 1948. стр. 60.
401
26 Заказ № 1480
отойти па задний план. Однако с Урызмагом этого не
случается, С большим достоинством II честыо он поддерживает супружеский «ансамбль». Рассудительность,
выдержка, находчивость в минуту опасности — таковы
отличительные черты старшего из нартов. В щедрости и
храбрости он под стать своей супруге» п.
Как видим-, здесь ие идет речь о превосходстве Урызмага над Сатаиой. Выражения «поддержать ансамбль» и
«под стать супруге» свидетельствуют о равнозначности,
но никак не о превосходстве супруга. Вообще же, в осетинском и адыгском эпосе так же, как и в абхазском,
образ Сатаней-Гуашп несравненно сильнее, глубже, мону­
ментальнее образов патриархальных глав.
«Попытка представить Урызмага в осетинских и Иасрена в кабардинских сказаниях в качестве «старшего»
нарта является относительно поздней и в общем ие дове­
дена до конца», — пишет Е. М. Мелетинский 12.
Сложный образ Сатаней-Гуашп получил различное
толкование. Одни рассматривают его в мифологическом
аспекте, другие, наоборот, усматривают в нем реальные
бытовые черты эпохи родового строя.
Дюмезпль, основываясь на материале осетинских
сказаний, пришел к выводу, что в цикле сказаний о Са­
тане п Урызмаге бытовые мотивы превалируют над мифо­
логическими. Подчеркивая полную земных забот и тягот
жизнь- героев, исследователь вместе с тем возводит гене­
зис этих образов к мифу. По мнению Дюмезиля, в про­
цессе эволюции фольклорных сюжетов герои мифа, божествеииые существа, часто мепяют (теряют) свою мифо­
логическую природу и трансформируются в бытовых
героев. Происходит, таким образом, процесс снижения,
«оземленпя» мифических образов 13.
Соглашаясь с такой трактовкой образов Сатаны и
Урызмага, В. И. Абаев пишет: «Пам кажется, что в цикле
Урызмага и Сатаны мы имеем такое именно снижение
старых мифических образов, причем связь наших якобы
«земных» героев с их божественными или полубожественными прототипами выступает еще ощутимо и пр И- А б а е в. Указ, соч., стр. 37.
Г.1ГГГ
л етТ И н с к 11 й. Место нартских сказаний в иото^ШГ13Эг°Сп
?ЯаРТСКйй эпос». Орджоникидзе, 1957, стр. 39.
и. и и те т. и. Ье^ёпйез зиг 1ез Иаг1ез. Рапз, 1930, стр. 167*
402
зра шо» . И исследователь восстанавливает
первопачальныи мифологический образ Сатаны
в виде «дочери
солнца и воды» 15.
Е. М. Мелетинский,
образа Сатаны
считает ее «матриархальной прародительницей оопа,
которую, по его мнению, «пет оснований рассматривать
в качестве сниженной в бытовой план «богиню '“X
согласны с таким объяснением сущности этоГ образа
действительно, в аохазском эпосе ие обнаруживается
никакой связи эпической героини с божественпымп
енлами.
Правда, Сатаней-Гуаша — прорицательыица и чародойка. Она каким- то чудом всегда узнает об опасности,
подстерегающей ее сыновей, и выручает их. Но эту черту
героини мы объяснили бы ие мифологической природой
оораза, а необычайной идеализацией бытовых черт эпохи
материнского рода. В абхазском эдосе, как указывает
Ш. Д. Инал-Ипа, «вообще богов в настоящем смысле этого
слова еще нет — иарты не знают ни молитв, ни жертво­
приношений» 17. Здесь не только нет представлений о монотеизме, но даже отсутствует сколько-нибудь развитый
пантеон языческих богов. В трудных случаях СатанейI уаша, Сасрыква пли другие герои обращаются к неопре­
деленной сверхъестественной силе («доу^а Йарцопт»),
т- е. произносят молитву или заклятие. Религиозные
представления героев эпоса скорее всего напоминают
первобытную магию, анимизм, тотемизм.
Сатаней-Гуаша особое внимание и заботу проявляет
0 своем чудесно рожденном младшем сыне — Сасрыкве.
Любопытно проследить отношение Сатаней-Гуапш к Сас­
рыкве в различных вариантах эпоса (архаических и более поздних). Если в древнейших циклах СатапейГуаша неизменно покровительствует Сасрыкве, рев­
ностно оберегая его от всевозможных опасностей, преждо
всего от козней других сыновей, ие признающих «неза­
коннорожденного» героя своим родным братом; если
14 В. И. А б а е в. Указ, соч., стр. 39.
15 Там же.
,с Е. М. Мелетинский. Указ, соч., стр. 43.
_ 17 Ш. Д. Инал-Ипа. Слово о нартах. — Предисловие к книге
«ПрпкЛ10чешгя нарТа Сасрыквы и его девяноста девяти братьев),
ртр. Ю.
403
26*
подвиги л победы героя, как правило, ооусловлIIвались
постоянной поддержкой матери-чародейки, то постепенно
герой все более и более теряет это покровительство н,
наконец, вовсе лишается его. Когда Сатанен-Гуаша незаметно сходпт со сцены, как бы предрешается этим роновая судьба ее любимого сына. В этом эпическом про­
цессе мы склонны видеть отражение борьбы двух форм
общественной организации — материнского и отцовского
родов, закончившейся победой патриархата.
Роль женщины в нартском эпосе, как справедливо
отмечают все исследователи, исключительно велика.
В то же время нельзя не заметить, что эта роль раз­
лична в циклах эпоса. Возможно, это — результат отра­
жения в эпосе положения женщины на протяжении мно­
гих веков, в течение которых формировался эпос. Если
нартский эпос отражает различные этапы родового строя
и более поздние эпохи, то и образы женщин в циклах,
возникших в разные периоды развития данного строя,
не могут быть однотипными.
Если образ Сатаней-Гуашп в своей первоначальной
основе воплощает широко обобщенные типические черты
женщины эпохи матриархата (здесь мы не говорим о на­
пластованиях последующих эпох, которые, по нашему
мнению, не составляют основу образа), то ее дочь —
Гунда Прекрасная воплотила, на наш взгляд, черты об­
щественной жизни, характерные для переходного периода
от материнского рода к отцовскому. Абхазская Гунда
так же, как адыгская Адиюх, осетинская Агуида, отли­
чается неооыкновенной, неземной красотой, «сияет без
солнца, сверкает без луны», как говорится в эпосе; к ней
сватаются или же ее похищают различные богатыри
(Нарджхоу, Хважарпыс, Хабжин и др.). Из-за обладания
упдои Прекрасной, собственно, и возникает вражда
между нартом Сасрыквой и его братьями, завершившаяся гибелью Сасрыквы (Щ. Д. Инал-Ипа справедливо
видит в этом сказании отражение борьбы за переход
от группового брака к парному) 18.
ц Гунда-красавица неи играет той ведущей роли в хозяйственной И дУХ0ВН°й жизни нартов, не проявляет тоя
и в решении важнейших общественных вопро*!
стр. 117.
Д- Инал-Ипа. Об абхазских нартекпх сказания**
404
со в, какие отличают
постоять
за себя, защитить
^
п свою честь- -13 отдельных абхазских
сказаниях оораз Гунды примыкает к эпическим образам
богатырских дев мирового фольклора, генезис которых
исследователи возводят к матриархату 19. В сказании го­
ворится о том, как Г уида-красавица вступила в сдиыоборство со своими жейихамд, у побежденных женихов
она отрезала уши или клеймила спины. Такая участь
постигла девяносто девять неудачливых богатырей, сватавшихся к ней, и только лишь сотый, Хважарпыс, смог
победить ее20.
Богатырская сила Гуиды-красавицы ярко показана и
в другом сказании эпоса, повествующем о том, как две
женщины—дочь аиргов Ханна и Гунда-красавнца —
в неравном бою легко одержали победу над вооруженной
сотней всадников во главе с Бырзыком Хуаша — нежелан­
ным женихом Ханиа. Причем, Ханиа сражалась палкой,
а Гулда — лишь пятками21. Активной, деятельной нату­
рой рисуют Гунду и многие другие сказания, особенно
те, где рассказывается о том, как она спасла Сасрыкву,
упавшего вместе с табуном с моста в разбушевавшуюся
горную реку22. Могучая сила сестры нартов — Гуыдыкрасавпцы подчеркивается в сказаниях неоднократно
(ей ничего не стоило сдвинуть с места большую желез­
ную скамыо нартов (арымз) или приподнять тяжелую
надочажиую балку).
Однако, несмотря па все это, Гунда-красавица не яв­
ляется богатырской девой-воптелышцей. Гунду воспиты­
вают братья, поместив ее на седьмом этаже дворца, от­
куда ей ие позволено ни спускаться вниз, ни смотреть
на небо. Братья кормят свою любимую сестру лишь кост­
ным мозгом горной дичи23.
»
19 В. М. Жирмунский. Народили героический эиос. М„
1962.
20 Архив АБНИИ, ф. 2, № 126-127; №176
парта Сасрыквы и егоIк*°ВЯ™гшсанный ’ нам., в июле
1963 гТ“ Барцыца Смела (сё"
22 «Приключения нарта Сасрыквы и ого девяноста д
братьев», стр. 256—263.
23 Там же, стр. 89—93.
405
Если Сатаией-Гуаша полна забот о нартах — своих
сыновьях, то Гунда-красавпца в основном сама является
предметом попечения братьев-нартов. Хотя Гуида отдель­
ными чертами и сближается с женскшш образами ма­
триархальной эпохи, в целом же этот оораз мы склонны
относить к переходному периоду от материнского рода
к отцовскому, ко времени возникновения и упрочения мо­
ногамной семьи.
Следует обратить внимание н на то, что в отдельных
вариантах известного сказания о рождении Сасрыквы
иногда в роли Сатаней-Гуапш выступает Гунда-краса­
впца: в сказании, записанном нами от талантливого ска­
зителя Кастея Арста, матерью парта Сасрыквы, которая
встречает пастуха Ерчхеу, названа Гунда-красавнца.
Безусловно, здесь имеет место замена одной эпической
героини другой, что, несомненно, есть результат поздней­
шего переосмысления эпических образов.
Что же касается образа Зылхп, дочери ацаиов-карликов и матери непревзойденного героя нарта Цвицва
(в адыгских и осетинских версиях карлица — мать Батраза, функционально
соответствующего абхазскому
Цвпцву), то он определенно был создан в период рас­
цвета патриархата.
Зылха, как и все ацаны, была небольшого роста, но
ооладала огромной физической силой и была искусной
мастерицей-ткачпхой. Она так усердно и с такой силой
работала у станка, что и дом, и вся окрестность содрога­
лись, когда она ткала. Вдобавок ко всему, Зылха была
женщиной ^крутого права, болезненно переживала малей­
шие оскорбления и никому не прощала обиды. Она по­
кинула своего супруга Куна за то, что он имел неосто­
рожность упрекнуть жену в медлительности24.
В то же время совершенно очевидно подчиненное по~
ложение Зылхи в обществе, где мужчина занимает гла­
венствующее место. Пренебрежение нартов к этой кар­
лице, почти равнодушное отношение к ней со стороны
сородичей мужа, сведение до минимума ее роли как ма­
тери не только в воспитании, но даже в рождении реоенка (в абхазо-адыгских версиях карлица разрезает
~
«Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти
баГуавВ; БарЦа СемепаТвКСТЫ’ записанные нам“ °т 3осИма Ла'
406
чрево
ножом,
выкидывает
недоношенного ребенка н
осеАамыца), и, наконец, ее невзрачный облик - все это уже
шо1шйаСТ Иа гослодство в эпосе патриархальных отноСроди других женских образов абхазского эпоса сле­
дует назвать дочь аиргов — невестку нартов, жену нарта
иасрыквьт. Дочь аиргов во многом напоминает сестру
нартов Гуиду-красавицу, но, в отличие от послсдпей, она
обладает божественным даром — мизинец ее излучает
солнечный свет. Этим мизинцем темной ночыо опа осве­
щает путь своему мужу Сасрыкве, когда тот возвра­
щается из дальних странствий с удачей. Завистливые
братья стали упрекать Сасрыкву в том, что он совершает
подвиги лишь благодаря мизинцу своей жены. Оскорблен­
ный герой требует от жены, чтоб она не освещала ему
дороги, когда он будет перегонять табун через камен­
ный мост. Жена стгачала послушалась, но, пожалев мужа,
высунула мпзинец как раз в тот момент, когда Сасрыква
переходил мост. От яркого света кони шарахнулись
в сторону п вместе с героем полетели в пучину горной
реки. Сасрыква спасся от гибели, но жена, решив, что
муж погиб, бросилась с высокого обрыва в теснину н раз­
билась насмерть.
Жена Сасрьшвьт наделена не только прекрасной
внешностью, но и высокими душевными качествами тт
незаурядным умом (она легко отгадывает смысл всех за­
гадочных происшествий, которые произошли с Сасрыквой
на пути к дому ее братьев и т. п.). Образ безыменной
жены Сасрыквы абхазского эпоса идентичен образу
Адшох светлорукон адыгских сказаний. ^
Другая героиня абхазских сказаний — дева пз рода
Лыдзаа, на которой женится нарт Дыд, занимает в эпосе
эпизодическое место. Сам сюжет женитьбы Дыда типпчный образец поздпнх сказаний о набегах, который
впоследствии, возможно, в силу большой популярности
подобных сказаний, примкнул к иартскому эпосу • _
Что же касается сказания о храброй дочерп старика,
провратившейся по заклятию злой старухи из женщины
«Приключения нарта Сасрыквы и ого девяноста девяти
братьев», стр. бб—71.
407
25
в мужчину26, то оно несомненно представляет собой
не что иное, как абхазскую версию распространен­
ной во многих странах мира сказки «перемены пола»,
глубоко и всесторонне исследованной венгерским фоль­
клористом Мартопом Иштваповпчем27. Образы злых
ведьм и старух в нартском эпосе занимают весьма огра­
ниченное место. Однпм из таких образов является страш­
ная женщина, проглотившая всех братьев парта Сасрыквы, которых герой освобождает с помощью своих
верных помощников — копя Бзоу п пса Худьтша. Злая же
ведьма, открывшая братьям-нартам тайну силы нарта
Сасрыквы и указавшая им его уязвимое место, во мно­
гом напоминает ведьму из сказаний о герое Абрскпле,
где образ ведьмы получил более детальную разработку.
Образ Гыиды — второй сестры нартов 28, глуповатой,
но работящей женщины, не имеет параллелей ни в адыг­
ском, пи в осетинском эпосе. Возможно, что этот образ
возник в недавнем прошлом и является пародией па эпи­
ческую Гунду-красавицу.
Подобное пародирование, на наш взгляд, становится
возможным лишь тогда, когда эпос начинает угасать;
эпические сюжеты деформируются и могут переходить
в смежные жанры, чаще всего — в сказку. Пародирова­
нию эпического образа также могло способствовать наличие в абхазском фольклоре такого сатирического жанра,
как «ахьзыртэра» — своеобразные частушки.
Как видим, образы героинь абхазского эпоса, в которых отразились идеальные представления о женщине
в различные исторические эпохи, в процессе длительного
бытования эпоса претерпели значительную эволюцию.
Этим обусловлена известная противоречивость образа
главной героини абхазского эпоса — Сатаней-Гуаши, ху­
дожественное совершенство которой и в наши дни при­
влекает внимание и слушателей, и читателей партских
сказаний.
26
«Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти
братьев», стр. 100—105.
27 М. И ш т в а н о в п ч. Проблемы генезиса грузинской локальной редакции сказочного типа «перемена
пола». Тбилиси—Будапешт, 1959 (дисс.).
28 «Абхазская пародная поэзия». Сухуми, 1959, стр. 99 (па
абх. яз.).
А. А. Аншб а
СТИХ И ПРОЗА
В АБХАЗСКОМ НАРТСКОМ ЭПОСЕ
Одно из существенных проявлений своеобразия иациональиых версий иартского эпоса следует усматривать
в различном соотношении и характере стиха и прозы.
К сожалению, пропорция стихотворной (песенной) и про­
заической форм изложения, равно как и их особенности
в иартских сказаниях каждого народа, еще не изучены
в полной мере, что делает весьма затруднительными со­
поставления и общие выводы по этому вопросу. Способ­
ствовать восполнению данного пробела на таком еще
мало исследованном участке, какой представляет абхаз­
ский нартский эпос, призваны наблюдения, излагаемые
в настоящей статье.
*
*
Абхазский нартский эпос включает в себя тексты,
различные по форме изложения: 1) чисто песенные
(в народной терминологии — «песни о нартах»), 2) про­
заические, с песенными или стихотворными вставками;
3) с начала до конца излагаемые прозой (в народе они
называются «рассказами о нартах»).
Текстов, передаваемых стихами песенного характера,
относительно мало. Из них наиболее полные записаны
Б. В. Шинкубой от недавно умершего сказителя Квачахия Абаса из села Джгерда Очамчпрского района
Абхазии К
1 «Абхазская народная поэзия».
(на абх. яз.).
409
Сухуми, 1959, стр. 87—107
Особое место среди поэтических образцов абхазского
эпоса принадлежит песне о матери нартов. Она уни­
кальна в том смысле, что ее сюжет не имеет соответ­
ствий в прозе. Песня о Сатаней-Гуаше существенным
образом дополняет то представление о нартском эпосе
абхазов, которое складывается при ознакомлении со ска­
заниями в прозе.
Тщательно и подробно, в подчеркнуто гиперболиче­
ских красках эта песня описывает, как трудится мать
нартов Сатаней-Гуаша. Встав рано утром, она наматывает на левую руку шерсть, снятую с тысячи овец; уда­
ром пятки вырывает огромный бук и делает из него ве­
ретено; затем выдергивает из земли обломок скалы и,
просверлив его большим пальцем, превращает в прясло.
Шагая по берегу реки, она прядет нпть. К вечеру пряжа
готова. На второй день Сатаней отбеливает ее в воде,
садится к ткацкому станку и, прежде чем наступит ве­
чер, превращает пряжу в полотно. На третье утро она
принимается шить. К вечеру готова одежда для всех ста
сыновей. Сыновья, вернувшись домой из похода, одевают
ее, и она им приходится впору. На радостях сыновья
вместе с матерью танцуют в хороводе.
Песня о Сатаней-Гуаше уникальна не только по со­
держанию (в ней звучит героика труда, а пе боевых
свершений, как в других образцах нартского эпоса), но
п по форме. Она имеет спецпальную «нартскую мелодию»
и исполняется в сопровождении старинного музыкального
инструмента типа скрипки —* «апхьарца»; когда звучат
финальные строки (после слов «Когда она их одела»)?
слушатели начинают хлопать в ладони и танцевать.
Другие песенные тексты, бытующие самостоятельно,
тоже связаны с именем Сатаней, а также с именами Сас­
рыквы (см. песни об укрощении им коня, о борьбе с бу­
шующим потоком, и, наконец, о его гибели) и Гунды*
(Иногда к имени еще одного нарта, Кетуана, прпкрепляется песня о возникновении пения и свирели; но этот
сюжет чаще встречаем в виде прозаического сказания, не
относящегося при этом к Кетуану2.)
Исполнитель песни, как правило, знает обо всех дея­
ниях богатырей. Это дают чувствовать и тексты песен*
Так, в песне о гибели Сасрыквы в борьбе с нартскпм
братством парты называют его унизительным прозви­
щем «отродье косматого пастуха», тем самым напоми­
ная его родословпую (ср. самостоятельное сказание
о рождении Сасрыквы). В пределах этого же песенного
текста Сасрыква в ответ па нападкп нартов напоминает,
как трусливо они вели себя перед железноусым Нарджхоу, похитившим их сестру. Реплика богатыря пред­
ставляет, в сущности, резюме большого сказаппя о по­
хищении Гунды.
Иногда внимание поспи сосредоточено на одном со­
бытии, упомяпутом и в прозаическом сказании, но нс
описанном в псм достаточно подробно. Из сказания
о жене Сасрыквы, красавице со светящимся мизинцем,
мьт, например, знаем, что Сасрыква попал в бушующий
поток. Но на этом: сказание кончается. Из песни же
узнаем, что Сасрыква пе погиб: его спасла Гупда.
В тех случаях, когда характер описываемого таков,
что распространение, расширение рассказа маловозможно (например, при объяснении свойств животных и
птиц, тате называемые «этиологические мотивы»), содержанпе песни и сказания примерно равнозначно (хотя
проза характеризуется большим количеством мелких под­
робностей) .
Одна из песен — о Гуиде — иллюстрирует возможность иной, чем в прозе, обрисовки образа. Красавпца
Гупда предстает в ней в сатирическом плане: она рпОбраз эпической красавицы
суется дурочкой, неряхой.
способствует
даже видоизменение ее.
резко снижен, чему
форму (Гынды
пасмешлпвуго
имени, получающего
этого яввместо Гунды)3. Правильно объясняет причину
леиия Ш. X. Салакая: «Подобное пародпроваппе... стано­
вится возможным лишь тогда, когда эпос начинает уга­
сать; эпические сюжеты деформируются и могут перехо­
дить в смежные жанры, чаще всего — в сказку.^ Пароди­
рованию эпического образа также могло способствовать
в абхазском фольклоре такого сатирического
наличие
— своеобразные частушки» 4.
жанра, «как • ахьзыртера»
песнп по маСледует отметить, что перечисленные Сатаней
•— мапере исполнения отличаются от песни о
3 «Абхазская народпая поэзия», стр. 99.
4 См. ласт, сборник, стр. 408.
411
л иу“'
410
!
тери ста нартов. Опп исполняются речитативом и
не имеют музыкального сопровождения.
В смешанных прозаическо-песепных текстах эпоса
можно выделить четыре типа соотпопгенпя прозы и
стиха, К наиболее редкому типу сочетания стиха и прозы
относится краткое, как бы резюмирующее повторепне
прозаического изложения стихами. Такого рода лзложение сюжета мы встречаем, как правило, в историко-ге­
роических сказаниях эпохи феодализма. Прикрепленное
к имени нарта Куна типичное сказание о набеге под названием «Как Куна сделали своим родственником грабители» построено по этой схеме.
Чаще песенно-стихотворные партии продолжают дей­
ствие, излагаемое в прозе. Обычно такого рода стпхотворные партии изложены в форме диалога. Примером
подобного чередования прозы и стихов могут служить
сказания о рождении Сасрыквы и укрощении им коня.
В первом сказании в стихах изложен диалог между Сатаней-Гуашей и ее соседками, которые сообщают, ЧТО
родился необычный жеребец, не подпускающий никого
к себе. Сатаней, уже предупрежденная Айиаром, отве­
чает, что конь, родившийся одновременно с героем, пред­
назначен ему, другой конь не может его замеппть.
Во втором сказании стихотворная часть передает раз­
говор Сатаней с ребенком — Сасрыквой, она говорит, что
Сасрыква сам должен пойти за конем, так как тот пикого
к себе не подпускает.
Иногда изложение событий прерывается своего рода
лирическим отступлением в стихах. В сказании о похи­
щении огня исполнитель как бы на время прерывает
рассказ, чтобы выразить в стихах сочувствие герою,
которым нарты несправедливо пренебрегли.
другом сказании
о борьбе нартов с дьяволами —
исполнитель стихами передает свое возмущение’ нартским братством, которое покинуло Сасрыкву одного
на поле боя.
Наконец, в роли стихотворных партий эпических
сказаний часто выступают поэтические строки, восходя­
щие к различным жанрам песенного фольклора или ис­
пользующие их традиции. В эпосе можно встретить трУ'
довые и колыбельные песни, частушки «ахьзыртэра»»
стихотворные тосты.
Весьма характерно для абхазских сказаний о нартах
обращение к поэтическому арсеналу популярного в на­
роде жанра «ахьзыртора». В частушке, встречаемой
в сказании о парте Купе, едко высмеиваются бесславные
враги нартов:
Уа, ахацоа рхацоа, афырхацоа,
Амфа тоаныкулоз шоахъпеиуаз шпашэзымдыри?
Иар^аа руаса рыхца аацара пдоыцулаз,
Народа ыйамкуа ртыц пацулаз.
Цхъау акацоараяы ацотллашам^аз,
Иар^ Кун яырххыла дзыхъзаз!
Нар^аа руаса шьтахьЪа пзыргьежьыз,
Ацулара ацкыс апуара амч шамаз еплызкааз,
Нарща рцыла «ы апдара зырх,аз,
Акулара пыжьны апуара шщазЦаз!
Уа, ахацоа рхацоа, афырхацоа,
Ахьз бзнакуа шоара ишоыцуп!^
Когда в исход собрались, как вн У нартов овец —угнать отправившиеся,
Пока нартов по было, па пх места напавшпо,
На вершине Пхъау (скала, гора.— Л. Л.) на рассвете,
Нартом Куном настигнутые,
Нартовских овец возвратившие,
Понявшие, что братство сильнее набегов.
^ другом случае (см. сказание о героическом сватовСасрыквы и Нарджхоу к дочери Апргов) частве
сопернику:
стушка служит выражением угрозы
Лара дажэуам, д^ахом,
Ах;ах;аира гушьаза;
Лыпхыз налоу дарбану,
Ах;ах;аира гушьаза;
Лгу зылуо, лыпсы, зылуо дарбану,
I
Ах;ах;апра гушьаза;х,апбвицушэо,
Ун ахацеп сареп ~
Ах;ахаггра гушьаза;
Чыхэцоыла цанбвигудло,
Ах;ах;аира гушьаза;анбеиеакшо.
^ах;оа ццышоцуа ~
А^а^аира гушьаза;
девяноста девяти брал его
5 «Прпключенпя нарта Сасрыквы
тьев». Сухуми, 1962, стр. 129-130.
413
412
Ыьамхыла ибысуонт,
Саара хыла пбымсх’уеит.
Уа, улага, улага,
Сацу сапыпшоа улага.
А9 на9уепт, ах пах' увит,
Аис'уа — гуара и'уапацсуент! 9
Саунау, Саупау,
Ахыбарцуа хыба9К анбарыцло,
Аадапра гушьаза;
Лара дажэуам, д^ахом,
Ах;ах,апра гушьаза;
Сара сышыцускуа шыцусык рыцлап,
Ах,ах,аира гушьаза!
Как мыльный порошок мелет,
Маленькой миской даю,
Большой тарелкой возьму,
Уаа, мели, мели,
Как мыльный порошок смели.
Мешалка мешает, терка трет,
В ущелье-двор бросает.
Она не стареет и пе молодеет,
Ахахаира гушадза с.
Кто ей снится во сне,
Кому она отдаст свое сердце, свою душу,
С тем мужчиной я встречусь,
Мы копями столкнемся,
Иашп острые сабли сшибутся,
К черепу череп прибавится,
Она но (по) стареет и пе (по) молодеет,
А к моим годам еще год прибавится,
Сказание о том, как Гунда и сестра Аиргов Ханиа
победили целое войско Бырзыка Хуашп, кончается
исключительно поэтичным стихотворным тостом:
И в другом месте (в том же сказании):
Уаа, -\ара ^ашьтахь лнуа адкунцэа!
З^ашьцыргуа шэадпакылт,
Шоы — шыцуса анцы шэыцпаргуоит,
Ауаа рыцогьа рйузго
Шэыцэгьа шэыЬунагааит.
Апргь рыцхара гаеызнар^аапт,
Ажэа шиэ.\эо
Аиреи ацереи яцны^эа рымоу ах;а
У ах, а «цпнх^оа амамзааит!
Ахтылцра еихылцра шэызнар^ааит,
Шэышьтахь ииуа пату шэыцурцаапт
Ур-у рышыуахь ииуагьы ны.\эазааит!10
Чы — шьымхыла абаху пхалаз,
Ах,ах,аира гушьаза;
Ацхэызба ацэа дыззалымхыз,
Ах,ах,аира гушьаза;
Мшыбзиа ахэашьа иацумшоаз,
Ах,ах,анра гушьаза;
Амала пааз, амала нцаз,
Ах^хднра гушьаза;
Ахыба9цуа хыба9к рыцызцаз,
Ах,ах,апра гушьаза
На коне на скалу взобравшись,
Не смогший разбудить девушку,
Поздороваться не сумевший,
Напрасно пришедший, напрасно ушедший,
К черепу череп прибавивший.
Уаа, кто после нас родится,- дети —
Земля вас родила,
Через сто лет вас ей отдадут,
Что людское зло упоепт,
Пусть вас избавит от зла.
Тепло Аиргов11 пусть вас греет,
В сказании о мудрой жене Сасрыквы воспроизво­
дится старинная трудовая мельничная песня:
Саунау, Саунау 8,
Сацу сапыншэа иалагоит,
с Рефрен, повторяемый после каждой строки.
.
7 «Приключения парта Сасрыквы п ого девяноста девяти щс
тьев», стр. 272, 273—274.
8 Саупау — богиня мельничного ремесла.
9 «Приключения парта Сасрыквы и ого
братьев», стр. 281.
10 Там же, стр. 121.
11 Апрпг — божоство военного дела л охоты.
415
414
&
девяноста девяти
Слово, сказанное вамп,
Как смерть и рождение не пмоют упрека,
Будет безупречно.
Пусть растет число ваших потомков,
Пусть онп вас уважают, почитают,
И поело них рожденные пусть здравствуют.
Используются в эпосе жанры фольклора, не предна­
значаемые для пения, но имеющие форму стихов, причем
более резко и наглядно выраженную, чем в несенных
текстах (прибаутки, пословицы, загадки и т. д.). Нагляд­
ным примером может служить прпбаутка, в которой Сасрыква высмеивается нартским братством за то, что в своих
подвигах опирается на помощь женщины (сказание
о жене Сасрыквы, красавице со светящимся мизинцем):
Махьа хуашоуп,
Исхэо иошоуп,
Сзыцутооу лашоуп.
А5Э наб шеагцала дьпехуоит,
Сасры&уа пц.\эыс лнацэкьыс ала дыяхуоит!
У бри азы иашьцеа
Даарыц^ашэшьаргьы 1<алопт112
Сегодня пятница,
Я говорю правду,
Спжу на коне.
Один мотыгой отца хвастался,
А Сасрыква мизинцем своей жены хвастался.
За это братья
Должны были бы его пожалеть!
Так как ни буквальный, ни поэтический перевод не
передает стилистической окраски прибаутки, приведем
русскую прибаутку аналогичного звучания:
В понедельник
Савка — мельник,
А во вторник
Савка шорнпк.. .
Пришел Богдан,
Ерша бог дал.. .13
12 «Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти
братьев», стр. 318—319.
13 'ОК. И. Чуковский.
Мастерство Некрасова. М, 1962,
стр. 569.
416
I
Н отдельных случаях эпическое изложение пспользует стилистику причитаний; можно встретить и импро­
визированные строки, повторяющие мотивы колыбельных
песен (см. сказание о рождении Сасрыквы).
Структура песенных сказаний и стихотворных партий
и вставок абхазского иартского эпоса в основном та же,
что 1Г в абхазской народной поэзии в целом.
Нлртскне песни, как мы уже отмечали, чаще всего
исполняются речитативом, без сопровождения музыкаль­
ного инструмента. В этих песнях налицо впутренпяя
ритмика и определенный размер, в то же время слоговое
равенство иногда нарушается, что вообще характерно для
архаического эпического стиля м.
Из фонетического богатства абхазского языка вытекает
обилие звуковых созвучий в абхазской поэзпи — ассошансов, консонансов, аллитерации. Это положенно дало
повод одному дореволюционному автору сделать следую­
щий вывод: «Абхазское стихосложение большей частью
соподчинено аллитерации)) 15. Вывод этот неточен (а по­
тому неверен), так как пе всегда звуковой повтор яв­
ляется постоянным я обязательным элементом. Первое
(и пока единственное) серьезное исследование по технике
абхазского народного стиха принадлежит топкому его знатоку Б. В. Шиикубс 16.
Им рассмотрены песни различных жанров, в том
числе и партские. Разбирая размер и ритмику эпических
песен, автор, в частности, отмечает, что певец начинает
обычно псспю с набора слов, не имеющих ясного содер­
жания, смысла или ставших непонятными новым поко­
лениям. Затем присоединяется имя героя, о котором
певец собирается петь. Это имя повторяется в песне с на­
глядными и неизменными эпитетами — «ахаца», «ахаца ^
ихаца», «аергь рхаца», «хаДа — гумшоа»
т. д. (герои,
герой из героев, герой героев, бесстрашный герои и т. д.).
I ясного смысла, по ооъяснешпо
Зачины, по имеющиевозможность певцу прппомппть
Б. В. Шиикубы, дают
В. М. Жирмунского п «Книге
14 См. об этом послесловие
моего деда Коркуда», стр. 244. Абхазия п абхазцы. — ЗКОИРГО,
15 М. Д ж а и а иг в л л и.
1894, стр. О14.принципах абхазского стпхосложекп. XVI.
16 Б. Тифлис,
В. Шинкуба.
Альманах Л? 3. Сухуми, 1952 (па абх. яз.).
иия. —
417
27 Заказ № 1430
(
«иьвк.
слова песни, а, главное, укладывают песню в определен­
ную рамку, устанавливают ее размер.
Размер строк в песне соответствует размеру напева:
количество акцентов в строке равно количеству ударении
в напеве. Иногда в текст песни добавляются слова или
суффиксы, которые влияют по только па метрическую
организацию стиха, но одновременно усиливают его эмо­
циональное воздействие.
Известно, что в акцентном (тоническом) стихе число
безударных слогов в строке но регламентировано. Ритм
стиха, его размеренность определяют только ударения.
Главных ударений в строке в историко-героических пес­
нях от 2 до 4, причем число слогов в стихе колеблется
в довольно больших пределах (от 7 до 14). В абхазской
народной поэзии вообще, в историко-героической в част­
ности, чаще встречаются трехударные и девятпеложные
строки. За исключением одной («Песня о СатанейГуаше») нартские песни, бытующие самостоятельно, не
имеют единого, выдержанного от начала до конца, раз­
мера и ритма. Четкая рптмика и упорядочеппый размер
в «Песне о Сатаней Гуаше», очевидно, связаны с ее тан­
цевальным характером 17.
Нартские песни, которые не имеют ни музыкального,
ин танцевального сопровождения, по-видимому, сохранили
свою первоначальную форму ^ исполнения, т. е. ритм и
речитатив 18. В одной и той же песпе речитативного ха­
рактера о матери нартов число слогов колеблется от 5
до 12, соответственно и число главных ударений в строке
меняется от 2 до 4 19.
В «Песне о Сатаней-Гуаше»20, для которой специ­
фично органическое переплетение слова, музыки и танца,
отсутствие рифмы восполняется повторением в качестве
рефрена звательной формы существительного — имени
атаней-Гуашп. Рефрен способствует композиционному
ооъединению стиха, т. е. выполняет роль рифмьт. Строка,
ез сопровождающего ее рефрена, несет два главных уда,0'7 Ср*:оФ/А°Рш* ^ Русском народпом стихосложении. СПб.,
стр. - (Ф. Корщ пишет, что в песнях, связанных с танцами,
ритм слышится яснее, четче).
хг !“ М. И. Косвен. Очерки истории первобытной культурыМм 19оЗ, стр. 159.
!>! «Абхазская народная поэзия», стр. 87—92.
2 Там же, стр. 94.
418
рения и содержит от 5 до 8 слогов. Обычно после 3 или
4—5 слогов (в зависимости от длины строки) в строке
слышится пауза (цезура). Вообще цезура в абхазском
народном стихе героического содержания носит подви­
жный характер.
К абхазскому народному стиху целиком применимо
заключение X. Востокова о том, что в русском народном
стихе чрезвычайно редки переносы из строки в строку л
инверсии, что фраза не может закончиться в середине
стиха и что расположение слов в стихе ничем нс отли­
чается от простого разговорного21.
Но прежде чем перейти к рассмотрению строфического
строения иартскнх песен, надо сказать о значении в них
рифм. В абхазской народной поэзии вообще, в иартской
песне в особенности, рифма — явление спорадическое.
Видимо, это проявление общей закономерности, состоя­
щей в том, что «музыкально-речевой стих ие знает —
в принципе — рифмы, точнее — она может в шгх возни­
кать, по нс является обязательным структурным призна­
ком их ритма» 22.
В синкретической по форме пополнения «Песне о Сатапей-Гуаше», как мы уже отмечали, рифм как таковых
пет. Рифма начинает появляться в тех народных стихах,
где намечается переход к декламации и речитативному
исполнению. Роль исчезнувшего музыкального напева,
служившего обозначению границ ритмического ряда,
теперь стала переходить постепенно к рифме. Рифмы, как
правило, глагольные, реже — именные. Тождественность
окончаний в одинаковых грамматических формах создает
возможность для появления строфических тирад разной
длины па одну рифму (монорпфм). Строфема завер­
шается глаголом-сказуемым совершенного вида, который
заканчивает мысль. Например:
Шэ&ьаптаз дук ахьылбуа,
Шьхуала длагу^аспы,
Пара лыцыр&уцпы,
Лиапала длаха — рахаиы,
стихосложении. Над. 2-е.
21 X. Востоков. Опыт о русском
^22
т и м о ф о е в. Очерки теории н истории русского
стиха, М., 1958, стр. 185.
27*
419
Амахуцуа ламхны,
Дардхус пТсацаньт
Лшьамхы илыкулк’усит23.
Голый бук большой где увидпт,
Пятой толкнув,
Его с корнем вырвав,
Рукой подняв-иавертев,
Ветки оторвав,
Воретепо сделав,
На колепп положпла.
!
Подобные же синтаксические ряды на одну рифму,
представляющую суффнгированный вспомогательный глагол
"Г” настоящего времени — «ауп» («есть»), встречаем
в песне о гибели Сасрыквы. Это — традиционная концовка песен о погибших героях:
Сасрыйуа дабаЪоу, СасрыЪуа бзиа.ху
Назара илацэа неицуицсеит.
Адгьыл еиужь цэар^ас нмоун,
Ажэран цеп-цеп хыбрас пмоун,
А^эых,э-ласцуа иш0апьх,оацэоу11,
Ашэацыпьан, ицьабацэоун,
Аецэацуа куастрас пмоун 21.
Где Сасрыкпа, Сасрыква доблестный,
Навсегда закрыл своп очи/
Широкое поле кроватью имеет,
Сияющее (чистое) небо крышей имеет,
Легкокрылые голуби его (горе) вестники (ость).
Природа о нем горюет,
Звезды вместо горящей Головин
имеет.
Рифма может
и в прозе, так как в абхазском языке глагол,встретиться
в
котором
сосредоточивается все действпе, стремится в
нет соизмеримых конец фразы, но в прозаической строке
носит свободный харак11ЧеСКИХ едшшц’ структура фразы
*
” Там ж" Н1а0Р7°Д,,аЯ
*
поэзия», стр. 87.
I
:
Абхазские сказания о партах, передаваемые прозой,
к численном отношении значительно преобладают над
песенными и смсшаппыми песенно-прозаическими. Мно­
гие из них не имеют несенных параллелен.
Таковы, например, сказания, связанные с именами
партой Хважарпыса, Нарджхоу и Цвицва25. К отдельным
текстам, повествующим о Сасрыкве и Гулде, тоже пс
зафиксировало песенных соответствии. Любопытно, что
ото, в основном, сказания, трактующие тппичпо сказоч­
ные сюжеты: завистливые жены партов хотят погубить
^ УПДУ Прекрасную (ср. сказки о спящей красавице):
Сасрьтква, благодаря коварству нартов, попадает в под­
земное царство, освобождает узников дракона — агулго ьа па и возвращается на землю иа орле (ср. сказки
о трех царствах) 20, он же выручает партское братство от
страшной людоедки27, побеждает при помощи благодар­
ных животных, птпц и рыб сказочную красавицу с всеви­
дящим зеркалом28.
Имеются в прозе и типично гтартскпо сюжеты (т. е.
сюжеты, характерные для всех народов, носителей нартского эпоса), как Сасрьтква, применив хитрость, побе­
ждает богатыря Алтарова сына Толумбака (СатапенГуаша шьет ему покрывало лз разиоцветпых лоскутьев и
навешивает на них колокольчпкн, чтобы напугать коия
противника, что и решило исход боя) 29, как он встре­
чается с одноруким пахарем30. Сюда же принадлежит
рассказ, поясняющий, почему Сасрыкве ие суждено было
иметь потомство31.
Только в прозе записаны сказания, повествующие
т»
о некоторых второстепеппых героях эпоса, таких, как ун,
Башныху, Сит32. Одно пз сказаний связывает с именем
парта сюжет, типичный для поздних сказании о на­
бегах 33.
25 «Приключения парта Сасрыквы и его девяноста девяти
братьев», стр. 233—235.
20 Там же, стр. 205—210.
27 Там же, стр. 191—204.
28 Там же, стр. 217—232.
29 Там же, стр. 250—257.
30 Там же, стр. 258—266.
31 Там
Там же,
32
же, стр.
стр. 301—307.
81-84, 122-130, 108-172, 78-80, 85-97.
33 Там же, стр. 71—77.
421
420
\
Только в прозе известны рассказы, где действует целое нартское братство: как появилась впервые п Абхазии
виноградная лоза, о встрече нартов с черными людьми,
как парты добыли у великанов различные сорта фрук­
тов 34.
Наконец, имеются тексты, где действующими лицами
являются безыменные герои. Это — международный ска­
зочный и эпический сюжет о «перемене пола» (или жсищине-воиие), тотемистическое сказание о нартеком маль­
чике, которому помогает человеческий сын собаки 35.
Из приведенного обзора видно, что в прозаической
форме изложены многие из самых типичных, бесспорно
исконных рассказов о партах. Вместе с тем можно замотить, что рядом с такими сказаниями, органическими для
нартского эпоса, имеются и другие, заставляющие думать
о сказочном воздействии на героический эпос. С одной
стороны, их присутствие объясняется большей (по срав­
нению с песенной формой) проницаемостью прозы. С дру­
гой — его нельзя не увязывать с историческими судьбами
эпоса как жанра, в позднейшее время его постепенным
забвением, ослаблением веры в подлинность описываемых
событий п т. д.
Могут быть приведены примеры недоверчивого, шут­
ливого отношения к рассказываемому в сказаниях о нар­
тах. Так, один из исполнителей сказания о Нарджхоу и
Хважарпысе — семпдесятппятплетннй Аршба Аслан пояс­
нял в 1959 г.: «В сказке говорят, что был Нархджхоу ге­
рой» зб. Сказание о том, как племянник нартов Тхапхуз
Шаруан отомстил великанам за нартов в одной из записей
кончается известной сказочной формулой («Когда делали
курбан37, я тоже туда попал, напоили, накормили и я
вернулся обратно»). Другой текст того же исполнителя
завершается словами: «Когда я во всем этом разобрался,
вернулся назад».
Сказание о племяннике
нартов Хьырхуз Шаруапе
34
«Приключения нарта Сасрыквы
братьев», стр. 241—249. 59—63, 236—240. и его девяноста девяти
35 Там же, стр. 112—117, 105—111.
36
Архив АБНИИ (рукой, фонд),
экспедиции 1959 г. Запись Л. П. Чкадуа. Материалы фольклорной
37 Записал К. С. Шакрыл от Аргуна Джансыхуа, 70 лет (по­
селок Куазан) в марте 1948 г. (рукоп. архив АБНИИ). Курбан
религиозный мусульманский праздник жертвоприношения.
422
:
тоже приобретает шутливое окончание: «Сделали свадьбу,
питье, подобное чему никто не делал. И я там был на
свадьбе, сделали меня толумбашем по абхазскому обы­
чаю. и я хорошо провел свадьбу»38.
Однако учитывая эти явления, вполне естественные
для поздней истории героического эпоса и фиксируемые
у многих народов, следует все же подчеркнуть, что в це­
лом и в настоящее время абхазы резко отличают сказку
от рассказов о партах, строго и почтительно говорят об их
подвигах.
Одновременно с этим порою наблюдается тенденция
«дополнить» историю героев эпоса за счет сказочных эпи­
зодов. Некоторые исполнители дают безыменным героям
сказки популярные имена персонажей эпоса — Сасрыквьт,
Сатаней-Гуаши, Башныхуа, Куна и др.
Имеются единичные случаи влияния на прозаическую
часть сравнительно педревиего жанра, как историко-ге­
роические сказания о набегах эпохи феодальных междо­
усобиц. Сказание «Как грабители сделали Куна своим
родственником» 39, уже упомянутое выше, повторяет тра­
диционную композицию и сюжетное построение истори­
ческих сказаний и эпических песен40.
*
I
*
Вопрос о том, какая форма изложения — песенная
(стихотворная),
прозаическая или лесенио-прозаическая — является органически свойствеипой героическому
эпосу не имеет однозначного ответа, В зависимости от
того, какой материал служит предметом изучения, один
исследователи полагают, что обязательный признак
эпоса - песенное исполнение41; другие находят весьма
характерным для эпоса сочетание прозаического рассказе
со стихотворными вставками песенного ха] с
1
Баслаху (род.
38 Записано со слои Ачба Александра в сел.
п 1880 г.) К. С. Шакрылом в 1949 г. (архив АБНИИ).
39 «Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти
братьев».
Абхазский народный героический эпос.
40 Ш. X. С а л а к а я.
Тбилиси, 1960., стр. 159—104.
. М., 1958.
41 В. Я. ГГ роли. Русский героический эпоспоэтика.
Л.. 1940,
42 А. Н. В е с о л о в с к и й. Историческая I
.: «Книга
СтР- 118 и сл. В. М. Жирмунский. Послесловие к кн
моего деда Коркута». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 242.
423
третьи считают, что первоначально ядро эпоса было про­
заическим 43. Подобная разноречивость предопределена,
по-видимому, большим разнообразием героико-эпических
памятников.
Что касается нартского эпоса, то можно считать уста­
новленным, что те материалы, которые зафиксированы
в XIX п XX столетиях, характеризуются сочетанием
прозы и стиха. Можно ли утверждать, что так было
всегда? Эта проблема принадлежит к числу дискутируе­
мых в научной литературе.
Некоторые исследователи адыгского нартского эпоса
утверждают, например, что эпос когда-то весь пелся и
только впоследствии постепенно трансформировался
в прозу44. Согласно другой точке зрения, смешанное сти­
хотворно-прозаическое исполнение адыгского эпоса —
исконная, пзпачальпая его черта45.
Исследователи осетинского иартского эпоса акценти­
руют, что между прозой п песней нет непреодолимой грани,
они отмечают близость «кадага» (от «кад» — «слава». —
А. А.) по форме к прозе, хотя он и поется под аккомпа­
немент струнных инструментов. Правда, они добавляют,
что у «кадага» возможен «стихотворный размер и
ритм» 46 . В. Я. Пропп не видит никакого противоречия
в том, что проза иартекпх осетинских сказаний приобре­
тет ритмичность. Он так объясняет это кажущееся про­
тиворечие: «Ритм песни определяется не словесным тек­
стом, а напевом. Ритмически можно петь любую прозу» •
Относительно абхазского нартского эпоса существует
’ что в Древности он в большей своей части пелся,
1960, стр.
1Пч0ВаН1Г* АмпРаииани. Грузинский эпос. Тбилиси,
-клор», М.-Л?тГстр 12- Гп?атиП^*Сгб* «Кабардинский фольи. В. ТресковН. Нальчик, 1953, стр. 90.
каза. Нальчик, 1963 гтп 4п?ЛдКЛ?)НЫв СВЯЗи Северного Кавв нартском эпосе аштггктг ™ А' Алпова- Сказания о Сосрыко
стр. 17.
адыгских пародов. Автореферат дисс. М„ 1901,
46 См.: «Нарты. Эпос
осетинского парода». М.—Л., Изд-во
ЛИ СССР, 1957, стр. 393.
47 В. Я. Пропп. Рецензия
сб. «Нарты. Эпос осетинского
народа», — «Русский фольклор, наМатериалы
и исследования»»
т. 111. М—Л., 1958, стр. 396.
424
г
по с течением времени трансформировался в прозу («при
этом проза постепенно приобретала сказочный облик»48).
Данные нашего анализа позволяют согласиться, что про­
цесс частичной трансформации в прозу действительно
имеет место в истории абхазского эпоса о партах. Вместе
с тем мы не думаем, что проза вообще не была одной из
исконных форм изложения нартского эпоса у абхазов.
Тот факт, что многие эпизоды, без которых трудно себе
представить иартский эпос, записаны только в прозе, за­
ставляет предполагать, что и в древности абхазский эпос
о нартах характеризовался нс только песенной, по и про­
заической формой изложения. (Разумеется, пропорция
между ппмп могла быть несколько иной; кстати сказать,
можно допустить, что в далеком прошлом граница между
прозаическим и песенным изложением была более подвпжной; даже в наши дин встречаются сказители — на­
пример, Маадап Саканпя, — которые один и тот же эпизод
передают и в виде прозы, и в виде поспи па мелодию
очень древпей фактуры, в сопровождении музыкального
инструмента.) Эта проблема требует специальных изыска­
ний комплексного характера (включая музыковедческие).
А покуда из разбора имеющихся заппсей со всей не­
сомненностью вытекают следующие выводы: 1) и проза,
и стих (песня) служат для передачи важнейших частей
абхазского нартского эпоса; 2) сказаппя, зафикспрованформах, обнаруживают органическую связь
ные в обетгх
эпоса
с другимп жанрами абхазской пародпой
нартского
;
поэзии и прозы 3) преобладание прозы пад стпхом
увеличением объема прозы за счет
частично объясняется наблюдаемого
в последнее время,
сказочного влияния,
и героико-эпикогда ощущение грани между сказочными
ческими сюжетами бесспорно ослабляется.
43 т Л Инал-Ипа. Из истории
Сухуми, * 1961, стр. 17—19 (на абх. яз.).
абхазской литературы.
I
К. Е, Г а 7 к а с в
О ЯЗЫКЕ И СТИЛЕ
ОСЕТИНСКИХ НАРТСКИХ СКАЗАНИЙ
Осетинский нартский эпос, как и сказания о нартах
у многих других народов Кавказа, бытует в двух фор­
мах — прозаической и стихотворной, причем прозаические
тексты занимают основное место. Вопрос происхождения
н исторического взаимоотношения этих двух форм эпнчсекпх сказаний представляет зиачительный интерес. Однако до сих пор он еще не стал предметом внимаиня
исследователей. Очень краткие указания па особенности
внешней формы сказаний и характеристика метрической
системы осетинского нартского эпоса имеются в общих
трудах, опубликованных в советское время
Для осетинского нартского эпоса характерен жанр под
названием «кадаег» (от слова «кад» — «слава»), который
поется в сопровождении народного музыкального двеивдцатиструнного инструмента, наподобие арфы (фавндыр) •
Осетинский «кадаег» имеет поэтическую форму и обладает
размером и ритмом. По наблюдениям В. И. Абаева и
И. В. Джанаева, в эпосе существует несколько размеров
стиха: самые короткие стихи состоят из девяти слогов,
а самые длинные из тринадцати слогов; после пятого пли
шестого слога обязательна цезура. Каждое полустишие
имеет, как правило, одно главное ударение, которое тяго­
теет к началу. Рифма не характерна для «кадаега». В песне
1 В. И. Абаев. Мартовский эпос. — ИСОНИИ, т. X, вып. Ь
стр. 114—115; Иван Д з а н а й т ы. Нарты кадджытае. Орджонпкпдзе, 1941 (на осет. яз.).
2 Можно предполагать, что в осетинском фандыро мы имеем
аналог национальной украинской бандуре, инструменту с пол ушаровой формой и с широким грифом (см. грсч. рапйига).
426
наблюдаются повторы коиоччых слов и оборотов, при
слов иногда бывает инверэтом порядок повторяемых
спвиы и.
является, по-видцмому,
На ргс кая эпическая проза
стиха. Предполапозднейшего
разложения
результатом
возникновения прозы чисто техинчегается, что причина
ие петь, а рассказыс кая : слушатель просит сказителя
повествования.
вать, чтобы лучше понять содержание
Ведь во время сказа можно остановить исполнителя эпоса,
переспросить, попросит!» повторить, что при пении совер­
шенно исключается, особенно если слушатель записывает
сказание. Преимущественное положение прозы над сти­
хом объясняется, на наш взгляд, характером и структу­
рой осетинского «кадазга», не отличающегося особой строп выдержанностью построения. Поэтому при
стихотворно-рнтгостыо
улавливая
записи слушатель, нс всегданевольно
записывает ес как
членение
песни,
мическос
прозу.
эпосе осетин нельзя противопоставлять
В партеком
прозу
поэзии: как гг поэзии, прозе свойственны здесь
кав высшей степени эстетические и эмоциональные
честна. Хотя в иартской прозе нет рифмы и однообразия
стихов и стоп, но в ней есть иные проявления внешней
симметрии гг последовательности, создающие стройность,
красочность и яркость художественной речи. На самом
деле, у иартского сказителя встречаются такие обороты
художественной речгг, такие эстетические средства выра­
зительности, которым может позавидовать самый зрелый
мастер художественного слова. Эти средства художествен­
ной выразительности созданы народом в процессе исто­
рического развития ого языка гг устно-поэтического твор
темы,
Речь героев осетинского эпоса,
“ЫТ°“ТрпТ разч ества
обходится без ггоэтпче®х тропо
‘повествовашш,
не
вообразивши фигурами. В ткань живс
быто1! обыденную речь героев эпоса, в разго ^е.гафоричоск„с
ВЫХ вопросов постоянно вкраплив.‘
|
МЫСЛЬ подвыражения, образные поговорки и
Ооганнческп свякрашивается поэтическим сравнение*-.■ *; чесК11е средзаииые с существом речи словссно-стгш
^ убедптеЛьетва делают ее определеннее, С1,ль“®?’ быть украшением
нее — и в этом смысле эти средства * >
усвоили традииашей речи. Нартскгге сказителп • >
427
ционные особенности эпического стиля в его исторически
сложившихся национальных разновидностях. Они харак­
теризуют героев и героинь эпоса в соответствии с народ­
ным идеалом красоты, преданности п верности в любви;
они изображают также врагов иартов — чудовищных,
безобразных великанов-уапгов во всем их безобразии.
В повествовании сказителя почти каждое слово песет
экспрессивно-изобразительные
функции.
Знаменитые
нартекпе образы оленя, коня, собаки, голубя, лисицы, ворона, ветра, облака, луны, солнца и т. д., символизирован­
ные и опоэтизированные, ио-вндимому, в глубочайшей
древности, продолжают обладать до сих пор в устах на­
родного сказителя особой художественной выразитсльностыо. На основе этих образов созданы и употребляются
различные фразеологические обороты, перифразы, мета­
форы, метонимии, сравнения и т. д.
Почти все личные имена нартских героев — Урызмаг,
Батрадз, Хамыц, Сослан, Созырыко, Ахсар, Ацырухс,
Ацамаз и др. — являются любимыми н распространеннымп именами современных осетин. В Осетии встречаются
роды (фамилии), которые связывают свое происхождение
с нартами: ср. фамилии Алагата, Бората, Бцелта, Хамыцата, Ехсарата и пр. Многие местности в Осетин
связаны с иартской номенклатурой: селение Нарт, мест­
ность Зилахар, куда, согласно преданию, иартскис герои
собирались для игр и развлечений, Кладбище иартов
(около селения Лац), Гробница нарта Сослана (около се­
ления^ Нар); святилища Реком (Цейское ущелье), Мыкалгаоырта (Касарское ущелье) и Таранджелос (Кадисар). связаны со смертью легендарного нарта Батрадза.
Мпогпе горные вершины, крупные камин до сих пор
носят нартские наименования. Само слово «изертои» —
«нартский» воспринимается теперь как наиболее вырази­
тельный эпитет со значением «чудесного», «превосход­
ного», «храброго», «находчивого», «ловкого» и «легендар­
ного».
Гакой эпический культ объясняется главной особен­
ностью нартского эпоса осетин, которому в высшей стецени характериа идеализация и, как следствие этого,
гиперболизация деяний его героев. Нартские богатыри
вырастают быстро, они отличаются огромными размерами
и силой:
«За день росли в высоту и пядь, а за ночь —
в длину, равную расстоянию от большого
пальца до ми428
зиица»д— «его брови были размером с бычыо дугу, его
глаза были размером с обод сита»; «семь пудов хлеба
четыре туши быков, семь чанов — все это принесли ему
для еды»; «раскопали такой погреб, что звук не доно­
сился со диа его до поверхности земли» 3.
Такая героическая гиперболизация нарастает по мере
того, как повествование все дальше отходит от конкрет­
ного события, которое его вызвало. Эпическое время, как
увеличительное стекло, и прошлое, рассматриваемое сквозь
него, принимают титанические размеры. И оттого прошлое
в жизни парода рисуется в эпосе гиперболически.
Для языка осетинского эпоса чрезвычайно характерно
обилие словесных архаизмов. Многие словарные элементы
эпоса настолько устарели, что часто недоступны понима­
нию современного читателя (ср. «даем да?и» — мне ка­
жется стыдно, «стзеры цаэуыи» — «идти в поход, «зенусы
цъити земаз зэелты мит», — вечный ледник и обильный
снег, «Баех йзе хъзетээфэей згъорын байдыдта» — копь сгоряча бежать начал, «парты таерыитаэ» — нартские юноши,
«тииты казрц» — шуба из беличьего или собольего меха,
«хаелаэм кэерц» — шуба, стянутая в талии и т. д.).
В осетинских сказаниях широко представлены уста­
ревшие термины, смысл которых можно выяснить, лишь
заглянув в словарь. Они создают впечатление глуоокон
архаики. Таковы: «хаевсургь» — копь особой породы, от­
личающийся выносливостью и необыкновенной быстротой,
«аласа» — мелкая порода выносливых коней, Арфюн
коня
кличка коня парта Урызмага, Дур-дур - кличка
небожителей,
нарта Хамица. Сюда же относятся имена
духов — покровителей: Афсати — покровитель благородпьгх зверей, Тутыр — владыка волков, Уастырджи — покровитель мужчин, Уацилла — повелитель грома, покро­
витель урожаев, Фалвара — покровитель мелкого рогатого
ветров, «дауэет» и «зазд» —
скота, Галагоы — владыка
К
устаревшим терминам отноДухи-покровители и т. д.
этнонимы: «агуры»
сятся также нартские эпонимы и
аланы,
вероятно, «огуз-огуры», с которыми предки о^ _
сталкивались в воинах У1 д ^“^'^.нское название
неизвестной народности, «Ассы» о
3 Здесь и далее пспельзевапы слодующие^нздапп^ н^1
эпоса: «Хуссар Ирыстопы фольклор»,
> г
дыстад, дыууао томы», 1961.
429
Валкарип (от «осы» — осетины), «Терк-Турк» — название
какого-то парода и страны, «гуыдшрытае» — великаны,
жившие до мартов (может быть, «киммерийцы»), «кадзитэе» — жители подводного мира, «мысыраг» — египтянин,
«упраг» — еврей, «хатиаг» — неизвестная народность, мо­
жет быть, хетты).
В нартском эпосе в большом количестве содержится
архаизированная бытовая, хозяйственная и военная локснка, которая в некоторых случаях имеет диалектное
происхождение. Диалектизмы, служащие для обозначения
устаревших реалий, связаны с архаизмами и вое прини­
маются как наиболее важный пласт лексики эпического
произведения. Будучи активным элементом языка эпоса,
архаизмы имеют свои особенности, которые сводятся
к следующему:
.1) Утрата словом своего активного, живого употребле­
ния в связи с забвением самой реалии. Так слово «азлутои», употреблявшееся первоначально для обозначения
нива особого приготовления, позднее стало обозначать
какую-то мифическую пищу, малая доля которой утоляет
голод и жажду; это же слово обозначает и нечто такое,
что редко встречается в природе: «роиг» — хмельной на­
питок, отличающийся крепостью и приятным вкусом;
«амцег» («хъан»)—ребенок, большей частью мальчик,
отданный на воспитание в чужую семью; «фатыг» — ка­
кой-то металл, из которого небесный кузнец сковал для
нартов чудесный музыкальный инструмент, «удаевдз»,
издающий без участия человека замечательные мелодии;
2) Утрата словом своего прежнего значения (семанти­
ческий архаизм) и появление у него нового значения, пли
расширенно прежнего значения: Так, часто употребляе­
мое в эпосе слово «пихас», означающее место собрания
нартских мужчин, где решались важные вопросы, устраи­
вали состязания, игры и судилища, позднее стало пони­
маться как место аульного сборища' родовых старшин и
старых мужчин, а позже приобрело еще п новое значе­
ние: речь, слово, разговор, беседа, молва.
Можно указать и на другие, более многочисленные
разряды устаревших слов и фразеологизмов, встречаемых
в языке осетинского эпоса. Некоторые из них имеют об­
щекавказское употребление и свидетельствуют о близких
культурно-исторических связях между народами — созда­
телями сказаний о нартах. Примечательно в этом отиоше430
пни слово «пакоидзп». По объяснению сказителя, это —
существо, стоящее над людьми, но ниже небожителей.
Согласно В. Ф. Миллеру, слово это перешло к осетинам
вместо с грузинскими сказаниями об Ампрапи, по оно
широко используется и в других их сказаниях, в частмости в иартских4. И. Я. Марр связал значение этого
слова со споен общелннгвнстнческой концепцией. Он считает, что «пакоидзп» — птица-пророк, птпца-вестнпк,
прежде всего «посредник между верхним и нижним не­
бом» 5. Пакоидзп близок к змшо-вишапу, захватчику
вод — у осетин «каэфхъуыидар». Общекавказское хожде— «сказание», которое
пне имеет также слово «кадаег»
заимствовавших
его у осетин,
у хевсур, пилавов и тушим,
означает «проповедник».
В современном языке иартского эпоса осетин сохрани­
лось множество слов и оборотов, которые сейчас являются
метафорами, но которые в далеком
только красивыми
первобытных взглядов на
прошлом были отражением их
показывают,
природу и человека. Наблюдения над языком нзменепня,
что в нем постоянно происходят различные
или сужением сематгсвязанные с утратой,
расширением
оборотов. В процессе такого изменения тетики слов
и
першгчная
форма мышления и всякая связь явлеряется
: «ночь смотрит тысячами глаз»,
пий. Когда мы говорим
метафора имела когда-то
то мы не подозреваем, что эта смысл, которые в ночи
у наших предков буквальный Первобытный, эмоцио. фигурами,' имеювидели тысячеглазое существо.
словесными
палыгый язык эпоса полой
с материалом изображения.
щими непосредственную связь эпосе значительную роль
В силу того, что в нартском
следствие этого,
играют мифологические образы и, как
природа рпвся внешняя
анимистические воззрения, средства
выражения имеют
ленной традиции. при
суется одушевленной и
характер
устапов
внешнего мира
соответственно
олицетворяющем восприятии предметы
существ.
приобретают черты и свойства оду^п'
0СЫЛКе, что
Оправдайте этого воспртштпя кроете
горюет,
•" ■л-"'" ” ”■
человек — мера всех
проливать
радуется вместе с ним небо может плакать,
что здесь облако или
126, ири>«-2^
л Б. ф. Миллер. Осстинскио этюды, ч. 1. стр.1918, стр
0 Б. я. М а р р. ОззеМса—1ар11сйса. ИРАН,
431
слезы; «... на голубом небе черпая туча по я вилась
(осела) и плачет над ним (сверху), проливает небо
своп слезы»; «дерево вскочило». Особенно часто олицетворяются произведения человечеекпх рук: «и говорит великан вертелу: «Хорошенько мне его изжарь»; «свирель
положили па свой стол нарты п им пела она
чудесные песни свопм звонким голосом»; «острие моего
ножа испускает огонь с синеватым оттенком, а мое
ружье, жаждущее стрельбы,' испускает огонь Красноватого оттепка».
Некоторые одухотворенные предметы принимают
в эпосе образы мифических героев — таково колесо Пальсага — сверхъестественное существо в виде колеса, иаделенное необыкновенной силой, «уацамопга» — большая
общенартская чаша, обладавшая чудесными свойствами:
когда нарты ппли из нее хмельной напиток — роиг, пиво
и брагу, содержание чаши пикогда пе иссякало, а при
правдивом рассказе о подвигах героев чаша сама подни­
малась к устам храбреца.
В эпосе нередко олицетворяются отвлоченпьте поня­
тия. В ряде случаев олпцетворепие возникает на оспове
обычной метафюрпзации: «пихас (собрание) повалился со
смеху» пли: «пойдпте п село соберите». Метонимия здесь
• характеризуется переносом названия на осповаипи внут­
реннего отношения, которое, помимо пространственного,
может иметь также логический и временной смысл.
Встречается в осетинском эпосе и такой вид метоппмпческого перепоса, когда целое заменяется частью (синек­
доха): «нартская Сатана была сильной рукой», т. е. Са­
тана пользовалась в нартском обществе авторитетом п
влиянием.
Метафорическая подмена предполагает пспользоваипе
в художественных, эстетических целях параллельного
представления вместо первоначального; ср. — «и полетел
Батрадз (т. е. побежал) оттуда». В данном случае ме­
тафора возникла на основе сравнения, п сказитель, помимо повтора пеРвггчпого представления (в скобках), об
этом говорит в другом месте: «копь летит подобно
птице». Здесь епщ нет метафоры, а только сравнение
двух представлении первоначального и параллельного.
потоке речи эти представления переплетаются и свя­
зываются^ мостами, перекинутыми из одной области пред­
ставлении в другую.
432
Являясь важным элементом поэтического стиля, ме­
тафора в нартском эпосе редко ограничивается одним
словом или словосочетанием. Нередко встречается ряд
образов, совокупность которых и придает метафоре эмо­
циональную и наглядную ощутимость. Такое соединение
нескольких образов в одну метафорическую систему может быть различным, что зависит от взаимодействия
прямого и переносного смысла и от степени наглядпости
и эмоциональности метафоры. Смысл такой разверпутой метафоры часто поддерживается как прямым, перво­
начальным, так и переносным, параллельным смыслом
или представлением; ср. «кто завтра не придет, у того
Дом разрушим (оскверним)», букв, «на ветер пустим»,
«на ветер поставим».
В языке осетинского партского эпоса пе всякая мета­
фора содержит элемент сравнения, иначе говоря, не вся­
кое сравнение синтаксически сжимается в метафору.
Сравнения как бы демонстрируют раздельность образов,
тогда как метафора показывает пх тождество. Сравнивая
два образа, сказитель использует для этого все грамматичсские и стилистические ресурсы осетинского языка.
Для сравнительной характеристики образов широко
оборот, в котором
используется особый синтаксическийвыступает
падежная
основным элементом сопоставления
зпачеформа (уподобительный падеж), соответствующая^
пню русских грамматических наречий «как», «будто»,
«мать Дзерассы улыбнулась, как
«словно», «точно»:
вонзил своп когти, словно
солнце»; «сокол в Ахсартага
Смотря по расположению объясняемого и объясняю^
Чего образа в этих предложениях•
^аетом. н '
(солнце и багор) следует за
обобщеэта постпозитпвиость сравнения но
эпоса пре­
ния. Впрочем, в языке осетинского нарте объясияЮЩКе
обладают препозитивные сравнения, • •
шка Пообразьг чаще предшествуют ооъясня * ‘ ‘ е полетел»;
Добно грому грянула»; «юноша "одоо
По-видн;
«Сослан как юлу повернул (закрз
'ытекаст из оощеп
мому, такой порядок расположен
как правило,
закономерности осетинского спитаК^Д’1У слову,
определение предшествует опреде * * также апаллтлСравпителыгые обороты образу
«хуызеен» — <<п0"
чески, с помощью послеложпых
28 Заказ № 14 80
433
степного язык*» партских сказаний. Он придает эпиче­
скому стилю красочность и художественную наглядность.
Нартскне эпитеты
^ отличаются поэтической оригиналь­
ностью и разноооразием. Ср., например: «йю фыртты
мает ыи басаста йзе уаейыгои тых» — «неприятности
сыновей сломили его титаническую силу»; «хорз цге
фашды швооздзег слхоравй» — «хорошо тебя угостим, если
хочешь — обедом, приготовленным па огне («дымный
обед»), а если хочешь — обедом, приготовленным без
огня («бездымный обед»)».
Эпитеты играют значительную роль в описании героя,
его поступков, внешней обстановки и т. д. Сказитель не
просто называет предмет, он подробно описывает его, пе­
речисляя его особенные качества и свойства, а также ха­
рактерные формы их проявления и т. д. Через них
автор-сказитель выражает свое отношение к предмету,
подбирая для этого положительные или отрицательные
эпитеты (осетинские постоянные эпитеты: «урс дазллагхъуыр» — «белая шея» пли «сау зазрдаэ» — «черное
сердце»).
Исследование особенностей художественного языка
нартекпх сказаний — большая и важная проолема.
добно», «стаевдДн» п смысле «толщиной»» и пр.; ср.—
«птице подобно он летит»; «его руки в ведро толщиной». Здесь место объясняющих образов но закреилено. В предложениях, где логнческнй акцент падает
на объясняющий образ, перестановка компонентов
исключается: «иартскому человеку ты подобен»; «плутовке подобной мне кажешься». Пространные сравпония ниогда образуются без служебных слов, путем развернутого объяснения: «было на коне такое маленькое
дитя, что не видно было его из-за двух подушек от седла», Многочислен и ы е сложи ы е сравнении
образуются при помощи сравнительных придаточных
предложений типа: «его хранилище для луков развали­
лось, как разваливается мельничный желоб».
В некоторых синтаксических конструкциях сложные
сравнения с послелогом «хуызэен» выступают в роли
обычных эпитетов; в таких случаях они становятся опре­
делениями, влияющими на выразительность другого
слова; ср. «смотрим — из горы чистая, как слеза, вода те­
чет». В данном случае объясняющий образ-сравнение
(«как слеза») принимает на себя функции определенияэпитета и выделяет в предмете существенный его при­
знак. В эпитете выражается определенное отношение ска­
зителя к предмету, о котором идет речь в повествовании.
Особое место в нартском эпосе занимают так называе­
мые постоянные эпитеты, неизменно сопровождающие
определяемое им слово независимо от их уместности
в контексте: «золотую трубку в рот вложил, свою беличью
ШУ°У на плечи накинул»; «небесный плут и земной
колдун» (про парта Сырдона). Для осетинского эпоса ха­
рактерны также многочисленные составные эпитеты типа:
«хъулоизачъе уэейыг» — «пестробородый великан», «ногхъуынуадзаг лаеппу» — «новую бороду отпускающий
юноша», «сагсур фаеспваед» — «оленя погоняющая моло­
дежь», «сглрхдазллагхъуыр аесннаэг» — «красио-иижиеегорло голуоь», «уредзеллагхъуыр заервытыкк» — «бело­
нижне е-горло^ ласточка», «цъаехдазллагхъуыр дзабылдар» — «голуоо-ппжиее-горло синица». Последние три
питета переводятся по-русски оборотом типа «голубь
с красной шеей» п т. д.
Сочетания из двух ц трех эпитетов представляют
большой интерес с точки зрения характеристики образа,
Эпитет — одно из самых эффективных средств художе434
2а*
I
А. X. Бязыров
К ВОПРОСУ О КРУГЕ
ОСЕТИНСКИХ НАРТСКИХ СКАЗАНИЙ
В фольклоре пародов Кавказа, в частности в осетин ском, длительное время «сосуществуют» самые различные
жанры: эпос, сказка, историко-героические песни и др.
Жанры эти, бытуя не изолированно друг от друга, естест­
венно, взаимодействуют, что выражается не только в том,
что собственные имена героев произведений одного жанра
проникли в произведения другого жанра, но и в более су­
щественных изменениях сюжетов, мотивов, характе­
ров героев и пр. И все-таки в каждой сфере фольклора
сохраняются специфические особенности в сюжете, стиле
и системе образов, которые позволяют отличать ту или
иную сферу фольклора, тот или иной жанр.
Так, например, в сказке «Правда не пропадет» главпый герой, младший сын Дзамболат, отправляется в под­
земную страну, освобождает от великана трех девушек,
отоивает скот, но старшие братья из зависти отрезают
ему ноги и оставляют в лесу; он встречает безрукого и
слепца, всем им возвращает здоровье къулыбадаегус
(русская Баба-Яга), в конце-коицов Дзамболат является
домой и расправляется с коварными братьями. Сюжет л
мотивы данной сказки почти повторяют сюжет и мотивы
волшебных сказок (см. типы 301 и 519) 2, но в сказке
Дзамоолат назван нартом.
К. С. «ИГзаписям дпгорцев И. Т. Собнева,
стр. 12-19.ППСТЦТуТ0М во°точпых языков», вып. XI, М., 1902,
ипд. Ке1еЫ БгётЬ —
5 В.Ц1еп йег оззеИюв ^о1кз<ИсЫогепне. — «Пеуие опепЫе», уо1. XX. Вис1арез1, 1932,
436
Надо полагать, сказитель употребил здесь термиц
«нарт» в смысле «богатырь», желая в самом же начале
показать, что речь в сказке пойдет о необыкновенном
человеке.
В сказке «Гатаг и его сыповья»3 главный герой
Цаугар совершает действия героя сказки, известной под
номером 950 — «Сокровища Рампсшшта». Он обкрадывает
царскую казну, отрезает голову товарищу н советует жепе
его для отвода подозрения при оплакивании выставлеикого трупа разбить кувшин. В зачине сказки Цаугар назван братом нарта Сырдона и сыном нарта Гатага, но его
качества нарта в сказке нигде не проявляются.
Приведенные сказки «Правда не пропадет» и «Гатаг
и его сыновья» ни одним исследователем не рассматри­
ваются как нартские сказания, настолько явиы в них
жанровые признаки сказки и настолько очевидна «слу­
чайность» названия сказочных героев нартами, но в других случаях показатели жаира могут быть выражены
значительно слабее.
Нартские сказания имеют свои, специфические при­
знаки, которые позволяют отличать их от сказок. Так, на­
пример, герой нартских сказаний не умирает п воскре­
сает, как в сказке, а отправляется в страну усопших и
продолжает существовать там. Если герой волшеодых
сказок оживляется при помощи чудодейственной водьь
шелкового платка или войлочной плети, то иаР*
герой просто отпрашивается у главы Страны ь р _ Барастыра, садится на коня и выезжает в стРа“У
_’
совершив свои земные дела, он возвращается Р4 шш
угасания последних лучей солнца. Так,
1 Р
на
Барастыра на время выезжает из Стран * Р
коне и сын Алимбега Тотрадз,
Убийце Созырыко < В сказании «О безыменном шн ^
Урызмага»5 сын Урызмага является к ЧУ* 1 ца со­
участвует в набеге на Терк-Турк и, попросив отца I
стр. 12-37. «Памятники народного ™орЧеуТВ Влада№аи!азГ 1930>
Владикавказ, 1927, стр. 88—93; вып.
стр. 97—112.
„
л
п жена» (Осетин3 ССКГ, ВЫП. III, 1873. Ср. «Бедпыо МУ>
ДО воры
окне сказки и легенды». Цхинвали, ю »
пе называются партами.
пгртпн», вып. 1>стр;„оп1/
4 «Памятники народного творчеств Юго-Осетии». Цхпнва. ,
, 5 ССКГ, вып. V, 1871; «Фольклор V™ ”
1936, стр. 142—148, 106—168.
437
«та»]
вить по пем помипки из отбитого в набеге скота, опить
уходит в Страну мертвых.
Герои-нарты не нуждаются пп в живой воде, пи
в оживляющей войлочной плети; эти чудесные предметы
в иартском эпосе не встречаются.
Нарты отправляются в поход па копях, сами добывают себе пищу, отбивают стада и табуны; они так
могущественны, что не пользуются НИ скате ртями-самобраикамп, шг шапкамп-невиднмками, ни копрами-самолстами. (Урызмага, например, переносит на остров огром­
ный орел, а Батрадза в крепость Хиза — огромная
стрела.) В сказке «Шапка-невидимка нартов» 0 говорится
о том, что сын Аца, Ацамаз, присвоил шапку невидимку,
всревку-облегчителя, подошвы-мосты, но в дальнейшем
повествовании об этих сказочных вещах ничего не гово­
рится, и не случайно. Богатырь-парт совершает своп по­
двиги, не прибегая к помощи ни чудодейственных пред­
метов, пи чудодейственных помощников, иначе он не
был бы нартом. А здесь нарту Ацамазу приписываются
действия широко распространенной у многих пародов
волшебной сказки (по указателю сюжетов — тип 518) —
о герое, отбившем у великанов чудодейственные пред­
меты (у осетин это «Сказка о двадцати сыновьях»7 и
«Мужественный юноша Калымат» 8).
Приведенные примеры убедительно показывают, что
в сферу сказок проникли термин «нарт» в значении «бо­
гатырь» п некоторые собственные имена нартскнх героев,
п это нельзя не учитывать при анализе нартскнх сказа­
нии. Так что уже здесь мы можем отметить, что сказки
«Правда не пропадет» (о младшем брате Дзамболатс),
«Гатаг н его сыновья» (о воре Цаугаре), «Шапка-невндпмка нартов» (о богатыре Ацамазе) к кругу нартскнх
сказании не относятся.
Урызмаг И коварная женщина-колдунья
Среди осетинских сказок выделяется цикл с сюжет°мер01Г 449> гДе жена, ставшая любовницей велпа’ пРевРащает мужа в лошадь, собаку и т. п„ в концес «Памятники народного творчества осетин», вып. П.
стр. 47—48.
1930? стпаР56ДПа? ™р«иво Юго-осетии*. вып. Ш. Цхинвал»,
* й, »Л^ГГ51,8327' «*Я8438
щаот коварную жену " ''осТщуВОсГзкц\™ьгч,"0Пп2т
:тм„„: плотник, подстрелив оленя, свежует его и готовят
па ото шашлык, внезапно только что убитый и освеже­
ванный зверь вскакивает и устремляется прочь, бросая
изумленному охотнику: «Более удивительное услышишь
от Цапана!» Охотник находит этого Цапана, и он деист внтельио повествует о более удпвителышх происшсствиях : как его жена стала любовницей уапга п как она
превращала его то в собаку, то в осла.
Герой сказки — муж коварной жены — носит в разлпчп ых варпантах разные имена: Цопан — в сказке «Старып охотник п До паи»9, «Гуса» —в «Сказке об охотнике» ,0, Умар — в сказке «Умар, сын Умара»п,
в сказке «Созырыко и сын богача Бат» 12 эту роль выпол­
пнет сын Бата, а героем зачина является нарт Созырыко.
Но в сказке нигде не проявляются его качества нарта:
ов просто слушает об удивительных происшествиях,
случившихся с мужем коварной жены, и выражает свое
удивление.
Таким образом, введение в сказку имени парта Со­
зырыко не превращает волшебную сказку в партское
сказание.
И это но случайно; герой произведений одного жанра
фольклора, попадая в произведения другого жанра, не
может действовать, не изменив принципиально своего ха­
рактера. Только потеряв качества нарта и приняв дру­
гие, герой может вновь стать деятельным, но теперь он
не будет нартом. Это убедительно подтверждает цикл
сказаний — охотничьих рассказов о черной лисице нар­
тов, где Урызмаг, Хамыц и Сослан (Созырыко) рассказы­
вают о своих занимательных приключениях. Здесь уже
не воспеваются герои-нарты; сказитель имеет перед со­
бой другую цель: занять, развлечь аудиторию. ас°1хс™
чпк хочет удивить слушателей необычностью лрон
ствия.
вып. IV,
«Памятники народного творчества осетин»,
стр. 79-85.
,ой ил
классн­
п «Сборн11к °А какпя>к*Кута^си, 1899, № 4; см. «Опыт ой
стоме
сказок по
фикацшг осетинских нартскнх народи>•
Аарие-Лндреева». — ИЮОНИИ, т. IX. Д^'оол
12 «Фольклор Юго-Осстин», стр. 30/
439
Е. Б. Впрсаладзе, анализируя эти сказания, выделяет
в эпосе «наиболее древшою струю кавказского эпоса —охотничьи, тотемистические мифы» и отмечает созвучие
рассказа Урызмага о встрече с лесной женщиной и
с охотничьими рассказами о любви богини охоты — Дали
к охотнику.
Действительно, в этих рассказах очень мало «иартского». Во-первых, нарт счел бы ниже своего достошгства рассказывать небылпцы только за то, что он,
но партской этике, должен п может добыть в бою как
мужчина, во-вторых, мало чести превратиться парту
в собаку п выть по ночам на лупу пли превратиться
в осла и, изнемогая, плестпсь под выоком; если бы даже
и случилось с нартом такое, он не стал бы об этом рас­
пространяться: это унизило бы его в глазах других
иартов; в третьпх, как мы говорили выше, мотив ожпвле* нпя мертвых, характерный для волшебной сказки, тгепзвестей партскому эпосу.
По-впднмому, правы те, кто предполагает в этих рас­
сказах внедрение в нартский эпос ненартских сюжетов.
Это тем более вероятно, что подобные сказки, рассказы
в фольклоре других пародов, как и в осетинском фоль­
клоре, пе знают пмен нартекпх героев. Таков, например,
герой сказки о кабардинском п балкарском охотниках 13,
пли цикл сказок о любовнице уапга (о нем говорилось
в начале.настоящей статьи).
Внешнее сходство с приведенными охотничьими расска­
зами имеет и действительно нартское сказание «О споре
иартов за кубок Амоига» 14, по как разительно отличается
оно по существу содержания! Нарты упрекнули Урыз­
мага за то, что он не сам достиг острова Донбеттров
в море, а его перенес в когтях орел; упрекпулп Сослана
за то, что тот лег над рекой, и по нему, как по мосту, пе­
реходил кто-то; а парту Созырыко было поставлено
в вину только то, что он невольно моргнул, когда Бальсагово колесо с необыкновенной силой ударило его в лоб.
Куоок амонга достался безупречному с точки зрения
этических норм нарту Батрадзу. «Есть большая разница
между поэмою или рапсодом и между сказкою. В поэме
13 В. Миллер. Осетинские этюды, вып. I. М., 1881,
стр. 150—151.
14 «Памятники народного творчества осетин», вып. I, 1925,
стр. 75—76.
440
поэт как бы благоговеет перед предметом своих песен,
ставит его выше себя и хочет в других возбудить к нему
благоговение; в сказке поэт себе на уме, цель его запять
праздное внимание, рассеять скуку, позабавить других»15.
Вот почему повествования, где Урьтзмагу приходится
исполнять роль смешного неудачника, нам кажется, со­
держат мало эпического и нс относятся к героическому
партскому эпосу.
Итак, сомнительно причислять к кругу осетипских
нартекпх сказании волшебные сказки — например, такие,
как тли 449, — «Созырыко и сын богача Ват» и «Пир
Урызмага», а также охотничьи рассказы «Урызмаг, Хамыц и Созырыко» 1С, «Спежнобородын Урызмаг, Созы­
рыко и Сослан» 17, «Как парты убили золотую лисицу»18,
«Черпая лисица иартов» 19, «Как Урызмаг, Сослан и Ха­
мы ц отправились на охоту»20.
Нарты и великаны
г
В сказаниях «Бычья лопатка»21, «Предание о велика­
нах» 22, «Как по мольбе Батрадза оживился великан»23,
«Великан и Даредзаны» 24 говорится о том, как Сослан
или Батрадз с кем-либо из партов или Даредзановых ночуют в пещере, которая оказывается глазипцеп или же
тазовой костыо гигантского существа, якобы когда-то
обитавшего на земле. По мольбе нарта гигант оживает,
пораженный изменениями! происшедшими в мире,
просит опять умертвить его.
осетии, как и
Легенды и сказки о гигантах бытуют у
сказанародов, наряду с иартекпми
у многих других
т. VI, М., 1903,
Полное собр. соч.,
15 В. Г. Белинский.
стр. 383.
, 53-59.
10 В. М п л л е р. Указ, соч., стр.творчества осетин» вып. II
17 «Памятники народного
стр. 17—20.
18 Там же, стр. 65—70.
19 Там же, вып. II, стр. 32—37. 25-27.
20 «Фольклор Юго-Осотип», стр.
21 СССГ, вып. III, 1870.
22 В. Миллер. Указ, соч., стр. 137.
осетин», вып. 1>
23 «Памятники народного творчества
VII, 1889,
стр. 64—65.
№ 331; СМОМПК, ВЫП.
24 «Кавказ», 1900,
стр. 16—17.
441
киями. Такова, например, «Сказка о великанах»25, где
пастуху в глаз попала «соринка» — бычья лопатка, на ко­
торой потом обосновалось целое село; «Сказка об уангах»26, где уаиг-велнкам спасся от преследователей тем,
что спрятался в дупле зуба гиганта, и др.
В осетинских волшебных сказках пелпкан-уаиг —
одни из главных героев; он умен, силен и сметлив, нстунает в дружественные и родственные отношения с героем
волшебной сказки — человеком, по нередко и враждует
с ним. Герой-человек раскрывает своп положительные
качества в борьбе с уангом. Чтобы победить уаига, герои
волшебной сказки наделяется сверхъестественно]!, нечело­
веческой физической силой и сноровкой.
В сатирических социально-бытовых сказках уапг-всликан обычно глуп, так что не отличает даже сыра от
камня, принимает укол шила за тяжесть и пр., но нас
интересует не этот сатирический образ.
Нарты тоже могущественны, физически сильны и
мощпы, но сила их по так фантастически преувеличена,
как у героев волшебных сказок п мегенд о великанах.
Урызмаг, Созырыко — Сослан, Ацамаз, Тотрадз н др.
по своим физическим качествам не выходят за пределы
человеческого; это богатыри, а не чудовища и великаны,
и не драконы. При столкновениях с уапгамп и великанами
парты не вступают с ними в борьбу, подобно герою вол­
шебных сказок, п не совершают в борьбе с ними никаких
героических подвигов.
Таким образом, из круга. нартского эпоса выпадают
легенды о гигантах «Бычья лопатка», «Предалне о вели­
канах», «Как по мольбе Батрадза ожил великан», «Вели­
кан и Даредзапы».
Урызмаг и циклоп пещеры
1-1
эпоса тех или иных иенартских сюжетов»
— сказания
о встрече Урызмага в пещере с циклопом.
В осетинском фольклоре, как п в фольклоре других
народов, бытуют варианты сказании об Урызмагс в пе­
щере уап га. Они имеют ряд характерных особенностей.
В частности, в записанном в середине XIX в. Г. Ша­
наевым сказании об Урызмаге28 рассказывается о том, что
Урызмаг сильно горевал о неожиданно погибшем сыне;
ому говорит знахарка: «Саулаг больше испытал!» Урыз­
маг находит старика Саулага, п тот повествует ему
о своих злоключениях с уангом, который съел семь его
сыновей с их копями. Урызмаг выразил старику сочув­
ствие и отправился домой. Однако ом не вознамерился
сразиться с уангом н угнать его стадо. Почему?
В сказке «Охотник и одноглазый великан»29 охотник,
услышав подобный рассказ от одинокого старика, не
остался равнодушным к услышанному. Он отправился
в пещеру, сразился с уангом и убил его, потом войлочной
плетыо оживил всех, загубленных уангом, в том числе
и семерых сыновей старика. Здесь охотник действует как
герой волшебной сказки, он может быть сильнее какого
угодно, великана, циклопа, дракона и т. п.; он владеет
волшебной войлочной плетыо, оживляет мертвых.
Другое дело парт Урызмаг. Он, во-первых, нс мог
обладать войлочной плетыо, оживляющей мертвых, иоо
нартам она неизвестна; во-вторых, нарт, хотя и рогатырь,
но не безгранично силен, чтобы одолевать, подооно герою
волшебной сказки, циклопов п драконов, которые тоже
мартам неизвестны. Если бы Урызмаг отправился
к уаигу, то ему пришлось бы претерпеть унижающее
его богатырское достоинство поругание, стать игруш­
кой в руках уаига. Таким он и выглядит в сказании
«О том, как великан поймал Урызмага»30, где ему при
шлось прицепиться к животу козла Курчи и только
таким унизительным для богатыря ооразом спастись
от уаига.
» ) называющие на включение в круг нартского
25 «Фольклор Азербайджана
п прилегающих стран», выи. П.
Баку, 1930, стр. 194—195.
20 В. Миллер. Указ, соч., стр. 92—93.
27 «Нартский эпос. Материалы
совещания 1956 г.» Орджоникидзе, 1957, стр. 154—174.
442
творчества
28 «Памятники народного
стр. 21—27.
29 «Осетинские
народные
Т|1'3“7ССКг!'ш,ш. VII, 1873;
сказки».
творчества осетин», вып. И* СТР443
осетип»,
ВЫП.
*1
Дзаудяшкау, 1959,
«Памятника народпого
Чтобы пе уронить все же престиж Урызмага, скази­
тель другого сказания — об Урьтзмаге и кривом вели­
кане31 — заставляет Урызмага на глазах уапга угнать его
стада для пира партов. Здесь Урызмаг поступает как
истинный нарт, здесь воспевается подвиг богатыря-иарта.
Нам кажется, пет такой страны с высокими горами и
глубокими пещерами, где бы но зародились местные пре­
дания о заточении кого-то за что-то в пещеру пли
о страшном обитателе пещеры (с сюжетным указателем
1137), как нет и такой страны с башнями и крепостями,
где бы не появились местные легенды о замурованных
в степу и т. п. И если бы когда-то возникло иартскос ска­
зание о столкновения иартского богатыря с обитателем
пещеры, то опо бы повествовало не об унизительном для
нарта бегстве, а о мужественной битве парта с уангом,
и если не силой, то хотя бы хитростью воина одолел бы
он уаига, как в сказании «Урызмаг и кривой
великан».
Уаиг—-одни из главпых героев осетинской волшебной
и сатирической сказки — встречается в иартском эпосе
в приведенных легендах, возможпо, потому, что в мест­
ном предании о встрече охотника с уангом в пещере
охотник случайно назван популярным именем парта
Урызмага. Местные предания о страшном существе в пе­
щере и встрече с ним охотника или пастуха бытовали
У осетин и помимо нартских сказаний (таковы, например,
«Бедпяк и черт», «Бедняк и великан» и др., с сюжетным
номером 812)32. Но здесь, по-видимому, нужно учиты­
вать и то обстоятельство, что эпос создается на основе
предшествующей фольклорной традиции, п в его создании
могут участвовать и мифы, и местные легенды. Примером
такого использования местной легенды о страшном оби­
тателе пещеры в нартском эпосе п является, нам кажется,
легенда «Урызмаг и кривой великан», где герой-нарт
действует по-нартски, сражается и побеждает страши­
лище. Сказания же «О том, как великан поймал Урыз­
мага» п «Еще вариант об Урьтзмаге» являются местными
преданиями, где охотник пли пастух случайно назван
популярным именем парта и ведет себя по-партски.
31 В. Абаев. Из осетинского эпоса. М.—Л., 1939, стр. 39—44.
32 См.: «Опыт классификации осетинских народпьтх сказок». — ИТООНИИ, т. X. Цхинвали, 1960, стр. 97.
444
Миф об Ацамазе
становится нартским сказанием
Известный иартовед В. И. Абаев сказания об Ацамазе
рассматривает как древний миф о весне, о пробуждоипп
природы после зимпей спячки33. В этом отношении обра­
щает на себя внимание «Сказание о сыне Уазп Ацамазе».
В нем Адам аз пе назван партом, как в других вариантах,
и другие действующие лица также являются не нартами,
а небожителями: это Уастырджы, Афсати и красавица
Черной горы Сауразсугъд. Действие развертывается сле­
дующим образом: при восходе Бонвазрнон (Вепера) и
Кардаг-стазлтл (Звезда травы) Ацамаз и Уасгерги отпра­
вились к Афсати за даром (лаваргур), встретили Нпкколу,
который посоветовал им попросить у Афсати свирель.
Афсати подарил нм свою свирель. Ацамаз заиграл на
свирели с Черной горы, собрались от Белого моря олени,
турьг, медведи и другие звери, вышла из Черной горы
красавица Сауразсугъд, очарованная песней Ацамаза.
В этом варианте Ацамаз — первый обладатель чудесной
свирели, которую он получил в дар от небожителя .
Сказание-поэма, записаппая М. Тугаповьтм, «Песня
нарта Ацамаза» 35 почти повторяет изложенное, но в более
развернутом виде. Кроме того, Ацамаз здесь уже назван
нартом, в качестве шафера с ним едет и нарт Созырьтко,
а среди сватов из небожителей, кроме перечисленных
в первом сказании, участвуют еще Елиа, Татартуп и
Фалвара. Вместо девы Черной горы появляется героиня
иартского эпоса, дочь Сайнаг-алдара Агуида. Таким ооразом, весенний миф об Ацамазе превращается в партское
сказание, а сам Ацамаз — в нарта.
36
В сказаниях «Дочь Адакеза Уазафтауга» и «Дочь
Адакеза Уадзафтау» 37 вместо небожителей претендентами
на руку красавицы являются уже только нартские геР°^
^ызмаг, Хамыц, Сослан, Батрадз и ДР-, но иещнтступная
красавица отвергает всех иартов п выбирает Ацамаза.
исотт, т. х, вып. г.
33 тэ
Дза^гл*
4баев- Нартовскпй эпос. —
томах; т. Г.
^каУ- 1945, 74-75.
Опл» «ГСетттсков пародиоо творчество», в двух
«ТЯГ
(па осотзс Гп Л 6 а 0 в‘ стр‘
осетинского эпоса,
стр.яз-)54—72.
37 Ханское-народное творчество», т. I, стр. 268—-/0.
СтР- 49_ алгятникд народного творчества осетпп», вып. и,
445
Сказания эти напоминают волшебные сказки с сюжетным
номером 558 л др., о красавице, живущей в медной башне
и выбирающей себе жениха из многих претендентов.
Здесь нарты выступают в качестве неудачливых женихов,
все они отвергнуты: Урызмаг слишком стар, Хамыц —
из-за ржавчины на зубах, Сослан — из-за ненадежности
и т. д. Отвергнутые женихи-нарты спокойно отъез­
жают, и это самое странное в сказаниях. Из нартского
эпоса известно, что когда какая-то из красавиц отказы­
вала нартам, то она не успевала даже раскаяться, такбыстро с ней расправлялись, а здесь даже сам Батрадз,
растерзавший дочерей Шаха и Сайиаг-алдара, уходит
безропотно л даже не мстит Ацамазу — своему сопернику.
Здесь нарты выступают лишь только для того, чтобы про
Ацамаза было сказано: «Вот видите, какой молодец! Даже
среди иартекпх героев был избран он!» Это уже
не по-иартски!
Имя «Ацамаз» носит и герой сказания «О иартском
князе Иасран-алдаре»38, который: убивает хана ЕлтаБыца (Тогуса), похитившего жену побратима его отца
Насраи-алдара, и доставляет ее мужу, а сам женится па
одной из жен хапа. Никто из иартов рода Ахсартаггата
в этом сказании не участвует. Это можно было бы объяс­
нить тем, что сказание повествует о событиях, происхо­
дивших до появления первых партов.
Итак, в течение многих столетий совместного бытоваппя древнпи весенний миф об Ацамазе (подобный
дошедшему до пас вышеприведенному «Сказанию о сыне
Уазп Ацамазе») превращается в иартское сказание —
«Песню о нарте Ацамазе». Другие же фольклорные произ­
ведения с именем Ацамаз — «Дочь Адакеза Уазафтауага»
и «Дочь Адакеза Уадзафтау» являются вариантами волшеопых сказок о деве, выбирающей себе женихов.
Выход Сырдона из нартского эпоса
в сферу анекдотов
звестно, что парт Сырдоп от прочих иартов отлится тем, что не совершает пи одного героического
двига. он не сражается с владетелями крепостей, не
38
«Памятники пародиого
стр. 3—17; вып. II, стр. 63—68.творчества
446
осотпп»,
вып.
Ь
участвует в набегах. Он не может отбить табун, а может
только украсть одного барана или корову, он не может
вызвать на единоборство врага, только натравливает на
него другого или преследует насмешками. Он крадет
корову Хамида, чтобы потом можно было подтрунивать
над хозяином; он ловко смазывает скамыо клеем, и нарты
не могут встать со скамьи без хлопот; он видит сгорбив­
шегося Созырыко, которому Гумскпп человек со спины
вырезал ремни, и смеется на ним, объявляя, будто Со­
зырыко песет богатства из набега и т. п. Вот это зало­
женное в его характере начало позволило Сырдопу раз­
виться в хитроумного пройдоху, а так как над иартамп
не всегда можно было безнаказанно шутить или совер­
шать проделки и каверзьг, то Сырдоп вышел из иартекпх
сказании на широкую арену анекдотов. Имя Сырдоп
стало синомпмом хитреца и пройдохи. Ему приписываются
уже проделки, которые никакого отношения к иартским
сказаниям не имеют.
Нарты тоже шутят, но эти шутки очень далеки от
шуток народных анекдотов о Сырдоне.
Так, в сказании «Красавица Шаха» 39 парты явились
на свадьбу своенравной невесты: «Мы тебя предупреж­
дали нд выходить до нашего приезда замуж, а теперь мы
пришли поздравить тебя!» Подходит к ней Батрадз,
берет ее за руку и вырывает руку. Подходит Созырыко,
берет за косу и скальпирует красавицу. Подходит Сослан,
берет ее за нос н сдирает с лица кожу. И все это прохо­
дит «чинно», как бы соблюдается этикет поздравления
невесты. Страшный «комизм» всего сказания построен
на противопоставлении выполнения обрядовых обычаев
и ужасных для жертвы последствий, т. е. казнь происхо­
дит в форме исполнения этикета дружелюбия и госте­
приимства.
В сказании «Нарт Батрадз»40 герой сосватал дочь
Сайиаг-алдара п отбыл в набег; но до его возвращения
на ней женился владетель Хиза Челахсартаг. Батрадз
явился к бывшей своей невесте и «носком сапога саданул
ее в горло, и голова полетела между небом и землей» —
такова шутка Батрадза пад своей приневоленной невестой.
39 «Фольклор Юго-Осстин», стр. 88—93.
40 Там жо, стр. 123—126.
447
>
Похитил СырдоИ яловую корову Урызмага (по другим
вариантам Хамыца), сварил ее в котле, пригласил самого
хозяина коровы, посадил его на голову топ же коровы,
завернутую в шубу, и славно угостил гостя мясом его же
коровы. Это шутка! Урызмаг (Хамыц) узнал о проделке
Сырдона из его же насмешек, и когда тот отлучился из
дому, то бросил в тот же котел трех сыновей Сырдона.
Каково же было Сырдону, когда он вместе с кусками
говядины стал вынимать то йогу, то голову своих детей!41
Ото тоже шутка нарта!
Сырдоп в знак уважения к старшим берется перенести
на своих плечах через реку Урызмага. В середине реки
Урызмаг захотел пошутить над Сырдоиом, останавливает
его и, сидя у него же на плечах, начинает срезать себе
ногти на ногах. А Сырдону пришлось стоять, дрожа,
в потоке42. Это тоже шутка нарта! А вот шутка другого
рода. В одном анекдоте Сырдоы попросил у соседей па
время котел, а потом вернулся с котелком, заявив хозяе­
вам, что у их котла родился котелок. Через некоторое
время он опять попросил тот же большой котел и потом
заявил хозяевам будто их котел умер. Соседи, раз пове­
рившие в рождение котелка, теперь должны были пове­
рить и в смерть котла43.
В другом подобном анекдоте Сырдон попросил взаймы
кусок сукна и сшил себе черкеску. На требование хозяина
возвратить долг он отвечает, что его бараны попасутся
в кустарнике, на кустах останутся клочья шерсти, он их
соберет, выткет сукно п тогда уж возвратит. Разумеется,
хозяин отказался от всяких надежд когда-либо получить
свой кусок сукна от Сырдона44.
Разумеется, и в первом и во втором случаях хозяева
не были нартами, иначе бы Сырдону не сдобровать, как
было при краже коровы Урызмага пли быка Хамыца.
Здесь мы имеем случаи, когда под влиянием анекдотов
оораз Сырдона из бедового для иартов человека видоиз­
меняется в хитроумного пройдоху. Итак, Сырдон выходят
из сферы нартсклх сказаний и становится героем апекдотов вроде Ходжи Насреддипа.
«Фольклор Юго-Осетпп», стр. 56—58; «Памятшшп народиого творчсетва Осетии», вып. II, стр. 31-32
42 Там же, стр. 44—45.
43 «Огопек», 1949, № 15.
44 Там же.
448
Исходя из характера нарта-богатыря, не терпящего
над собой чьей-либо шутки и подшучивающего над дру­
гими до кровавых слез, из всех поступков и проделок,
приписываемых нарту Сырдону, кроме вышеупомянутых
случаев кражи коровы и насмешек над крошечной женой
Хамыца, в эпосе возможны, как нам кажется, и следую­
щие: Сырдоп своей игрой на фаидыре развлекает, вернее
говоря, отвлекает иартов, пока Болгар угоняет их стада;
когда Бальсагово колесо, по наущению Сырдона же, пере­
било ноги Сослану (Созырыко), то Сырдон обманул нартов, будто Сослан победил Бальсагово колесо, и те вместо
того, чтобы плачем и стенанием проводить в страну
усопших прославленного парта, явились к нему с песнями
и плясками: когда Сослана (Созырыко), положили в склеп,
Сырдон закрыл собой отверстие склепа и не пропускал
солнечных лучей к Сослану, но эта шутка была последней
в его жизни — он был подстрелен из склепа Сосланом.
Все же анекдоты типа «Курдалагон», «Как Сырдон
сжег платье иартов» (в сказаниях это делает Батрадз),
о котле п сукне Сырдона н нм подобные не относятся
к эпосу45.
Круг осетинских нартских сказаний
В настоящей работе нами рассмотрены записи нарт­
ских сказаний Дж. и Г. Шанаевых, Вс. Миллера, М. Гарданова, В. Абаева, В. Карсанова, Л. Газзаева, Ш. Ва­
неева, опубликованные в различных изданиях с 1871
по 1939 г., —всего 133 нартских сказания. Как мы
показали выше, шестнадцать из них не могут быть при­
числены к кругу нартских сказаний и являются осетин­
скими волшебными сказками, анекдотами, охотничьими
рассказами или древними осетинскими мифами, в которые
проникли некоторые популярные партекпе имена и от­
дельные эпизоды из иартского эпоса46.
Основу осетинского иартского эпоса составляют дру­
гие 117 повествовании о рождепии, женитьбе, любовных
похождениях, набегах, отражениях вражеских нашествий
45 Некоторые из ппх, в литературной обработке писателя
Розо Чочиева, опубликованы в журпале «Мах дуг», 1^, 2
40 Позднейшие публикации мы намереваемся рассмотрев
особо.
29
Заказ М 1480
449
-
11 о гибели каждого из четырех поколений фамилии Ахсартаггата из племени нартов. Самое молодое — четвертое
поколение нартов — составляют Батрадз, Амзор, Асана,
Битар, Крымсолтаи и другие юные богатыри; третье по­
коление—это их отцы и матери, Урызмаг, Хамыц, Сослан
(Созырыко), Сатана и др.; второе поколение — это деды
Ахсар и Ахсартаг и бабушка Дзерасса; первое поколе­
ние — это родоначальники рода Ахсартаггата, прадеды
Уархаг или Бора.
В северо-осетинских нартских сказаниях прадедом
считается Уархаг, но фамильное название нартскпе герои
ведут от имени деда Ахсартага — Ахсартагката. Юго­
осетинские сказания родоначальником считают Бора и
фамильное название берут от его же имени — Бората.
Такое название одной и той же фамилии по имени родо­
начальника или по имени одного из его выдающихся потомков зафиксироваио в этнографической литературе.
Фамилия Бораевых и ныне существует в Осетии.
А о существовании фамилии Ахсартагкаевых в прошлом
свидетельствуют, как это верно заметил Б. А. Албо­
ров 47, «древние грузинские летописи, которые сооб­
щают, что в XIII в. от монгольского хана Берке из
Осетии в Грузию спаслись женщины из рода Ахсартакайан. В одной рукописи выступает одна женщина Лпмачав из рода Ахсартагкайац, а в другой — две женщины
Лим и Ауав из рода Ахсарфагкайаи48. Если учесть, как
трудно порой отличить в рукописи буквы «т» и «п» Друг
от друга, то не покажется неверным, что здесь речь идет
именно о фамильном названии .Ахсартагкайан».
Здесь мы последуем за теми сказителями, которые
называют героев по имени деда Ахсартага — Ахсартагкаевыми.
Прежде чем говорить о конкретном содержании нартского эпоса, необходимо подчеркнуть одну его очень
важную особенность — устойчивость основы сказаний,
связанных с одним изображаемым событием из жизни
рода Ахсартагкаевых.
Восемь вариантов повествуют о женитьбе Хамыца*
В одном варианте невеста названа Агундой, в одном
47 Б. А. Алборов. Осетинские нартские сказания о Созырыко и Гумском человеке.
48 «История Осетин в документах и материалах», т. I. Цхинвали, 1962, стр. 60.
450
[
она — из рода Хадмастпселовых, в одном — из Доиботтров, в одном из рода Цаккаевых и в четырех вари­
антах лз рода Бцсиоп (род Бцепоновых л поныне
здравствует в Юго-Осетшг). Но во всех сказаниях общая
основа события или происшествия: всегда невеста мала
ростом, во всех вариантах Сьтрдои насмехается над иен,
после чего она возвращается к своим родичам, оставив
зародыш или на спине Хамыца, или в камне49.
Пять вариантов сказания повествует о засухе у нартов.
Нарты вынуждены погнать своп стада на приморские
пастбища, принадлежащие в двух вариантах Мукара,
в одном — сыну Битара, в одном — Батрадзу, п в одном
Схуалн-малику; стада гонит на пастбища в двух вариан­
тах Созьтрыко, в одном — Аладжыко, в одном — Урызмаг,
а в одном варианте — даже сама Сатана...50
Каковы бы ни были различия в именах (разумеется,
в пределах нартских имен) и некоторых деталей проис­
шествий, основа события все же подтверждается всеми
вариантами: парты остаются без корма для скота по при­
чине засухи или не во время выпавшего обильного снега;
ошг гонят свои стада на приморские земли, сталкиваются
с хозяевами пастбищ и одолевают их.
Это постоянство основы нартских сказании и их ва­
риантов позволяет более или мепее уверенно судить
об изображаемых в партском эпосе событиях н пропсшествиях, о характере и типах нартских героев.
Основу нартских сказаний составляет образное жизне­
описание четырех поколений рода Ахсартагкаевых.
Цикл сказаний о родоначальниках рода Ахсартагкаевых охватывает жизнь двух поколенпй, прадедов и дедов,
фигуры праВ тумаппой дали времен маячат одинокие
Сасапы.
Напали
деда Уархага (или Бора) и жены его
на них какие-то враги и увели в плен Уархага, уцелела
лишь гостившая в то время у своего отца Бегоза пере­
менная Сасана. От этой женщины и родились близнецы
Ахсартаг и Ахсар. Отправились братья за раненной ими
птицей, оказавшейся Дзерассой (из рода Доноеттров),
II,
«Памятники народного творчества осетин», вып. VII,
21; В. Миллер. Указ, соч., стр. 14—18; ССКГ, вып.
1о87; ССКГ, вып. V, 1871; «Фольклор Юго-Осетип», стр. 28—33 и
о4—35.
50 ССКГ, вып. VII, 1873; «Памятники народного творчества
осетин», вып. I, стр. 64-68, 76-80, 169-172, 182-185.
29*
451
женился па ней Ахсартаг, а спустя некоторое время
братья пз ревности убили друг друга. Вот все, что изве­
стно пока о жизни первых двух поколении в сказаниях
«Ахсар и Ахсартаг», «Хсарт и Хсартаг», «Урызмаг, Хамыц и Сатана», «Бораевы 1г Ахсартагкаевьт», «Как
произошли парты», «Как родилась Сатана» и их
вариантах 51.
Наиболее полно представлена в иартском эпосе богатая
жизнь третьего поколения, поколения отцов. Семейную
внутреннюю жизнь рода Ахсартагкаевых живописуют
сказания о женитьбе Урызмага на своей сестре Сатане,
о женитьбе Хамыца на Бцепон, Сослана — на дочери
солнца Ацырухс или Азаухан, или на дочери владетеля
Чплах-сартага, о любовных похождениях нартских жен­
щин с небожителями Уастьтрджи, Сафа и др.52
Межфамильные отношения партов выражаются не
только в совместной организации пиршеств и набегов, по
и во враждебных отношениях; если герои-нарты в сказаниях считаются по прадеду Бораевыми, враги их будут
названы Ахсартагкаевьтми пли Алагаевыми, если же но
деду они пазваны Ахсартагкаевьтми, то враждебной пм
будет фамилия Бораевьтх (падо же как-то назвать другую
фамилию). Из этой группы сказаний наиболее устойчивы
сказания о неудачном покушении Алагаевых па Урызмага,
о мести Урызмага за сына Бораевьтм, о коварном убий­
стве Сосланом юного Тотрадза53. Межфамильные распри
отличаются такой же беспощадностью, как п войньт-иабеги на соседние племена; Сослан шьет шубу пз скальпов
самих же нартов, хотя и другой фамилии54, а Урызмаг
приводит с собой войско соседнего владетеля и с его по­
мощью громит другую иартскую фамилию55.
Виешнпе связи п отношения нартов третьего поколея с соседями показаны в многочисленных сказаниях и
51 См.: «Памятники~ народного творчества осетин» вып. И,
стр. 3—6; В. Абаев. Из осетинского эпоса, стр. 13—17; 18—22;
«Фольклор Юго-Осетпп», стр. 17—21; В. Миллер. Указ, соч.,
стр. 46—47.
52 В. М и л л е р. Указ, соч., стр. 48—52 и др.
«Памятники народного творчества осетин», вып. 1
СТР*54
ЮО-^-104 и др. «Фольклор Юго-Осетпи», стр. .59—63.
В.
Миллер.
Указ, соч., стр. 29—36;, «Памятники народНОГО
> тв°Рчества осетин», вып. И., стр. 55—57 и др.
В. Милле р. Указ, соч., стр. 70—77; «Фольклор Юго-Осетии», стр. 59—63 и др.
452
инвариантах. Наиболее популярны сказания о последнем
набеге Урызмага па приморские края Кафтысар-Хуынандопа или Алдара Саудеиджьтза, об угоне табунов Терк1урка Урызмагом тг его безыменным сыном, о набегах
дружин Сослана на владетелей Чилпхсартапа и Гумского
человека, о борьбе за приморские и стсппыс пастбища,
об убийстве Хамыца владетелем крепости Тыита II О ГПбели Сослана от руки Бальсагова колеса 5С.
Цикл сказаний о последнем, четвертом, поколении рода
Ахсартагкаевых повествует о жизни молодых богатырей,
не успевших постареть и погибших в борьбе с небожите­
лями вместе со всем племенем нартов. Какой-то злой рок
тяготеет над сыновьями Урызмага: пал первый сын от
руки отца и свой героический подвиг — угон табунов
Терк-Турка совершает после смерти; второй сын —
Асана — отразил набеги сыновей Азиа и владетеля Уарпа,
но пал от руки Бораевьтх; третий сын Крымсолтан
(Амзор) изгнал агуров, по тоже погиб, став жертвой
коварства нартов же. Неудачливы и сыновья Созырыко
Хайтар и Битар; единственный их «подвиг» — это то, что
они оделись в девичье платье и осрамили нартских
девиц57.
Лишь один Батрадз успевает совершить богатырские
подвиги тг пасть достойно в бою с врагом. Из его подвигов
наиболее популярны отражение набегов Алафа и Бедзепага, агуров и владетелей крепостей Уарпа, Хиза, Сайнага и его борьба с небожителями. Если Сослаиу для
битвы с владетелем крепостей приходилось притвориться
мертвым и этим выманить неприятеля из крепости, то
Батрадз или привязывал себя к стреле плп заряжал сооои
пушку (модернизация) тг таким образом влетал в кре­
пость, и горе было владетелю твердыни .
Намечаемое здесь поэтическое жизнеописание нартов
создает иллюзию реального существования в пРОИ*лом
рода Ахсартагкаевых и объединяет в одно монолитное
:
56 «Памятники народного творчества осетин», вып. I.
стр. 38—40:, ССКГ, вып. V. 1871: В. Абаев. Из осетинского
эпоса, стр. 36—39; В. Миллер. Указ, соч., стр. 19—22; «Памят­
ники народного творчества осетин», вып. II. стр. 15—18.
57 См.: В. Миллер. Указ, соч., стр. 70—77:, «Памятники пародного творчества Осетии», вып. II, стр. 53—55.
вып. Г,
58 См.: «Памятники народного творчества осетин»,
87—90; В. Миля е р. Указ, соч., стр. 27—28, 25—26.
стр.
453
целое сотни нартских сказаний, со своими споцифическпми прпзнаками, отличающими нартский эпос от дру­
гих сфер осетинского фольклора.
Конкретным содержанием волшебной сказки обычно
является одно или несколько событий из жизни одного
героя, одного поколения, а конкретным содержанием рас­
смотренного круга осетинских нартских сказаний является
общественная и частная жизнь героев четырех поколений
рода Ахсартагкаевых из племени нартов, и круг нартских
сказаний благодаря этому составляет одну эпопею.
Герой осетинской волшебной сказки может иметь фан­
тастически гиперболизированные физические качества и
побеждать чудовище, драконов и гигантов, может иметь
помощниками мореглотателей и горометателей, герой же
осетинского нартского сказания может быть только бога­
тырем со своеобразными, умеренно гиперболизирован­
ными, физическим качествами.
Типичными персонажами круга осетинских волшебных
сказок, кроме человека, являются уапгп-велпкапы, дра­
коны, мореглот, горометатель, благодарные животные,
клыкастая женщина и т. п., типичными чудодействен­
ными предметами осетинских волшебных сказок являются
войлочная плеть, оживляющая вода, иебеспое зеркало,
всеобъемлющая и всеоблегчагощая веревка, рог изобилия
и т. п. Круг же осетинских нартских сказаний лишен
всего этого, лишь в отдельных варнаптах случайно встре­
чаются некоторые из этих фантастических существ и чу­
додейственных предметов как исключение. Фантастиче­
ские существа сказок выглядят обычно как нереаль­
ные сочетания гиперболизированных частей тела разных
существ; так, уаиг — это семиголовый великан, дракон —
существо с головой змеи, туловищем ящера и крыльями
летучей мыши, гиперболизированные до неимоверности.
Осетинским нартским сказаниям чужды такого рода об­
разы. ^Нарты имеют дело с реальными владетелями кре­
постей — маликами, алдарами и царями, а из сферы
мифологии с пока необожествленными небожителями
и владетелями вод — Донбеттрами.
Такие особенности и позволяют судить о причастно­
сти того или иного, фольклорного произведения к эпопее
рода Ахсартагкаевых. Мало назвать героя нартом, чтобы
считать повествование нартским сказанием.
До сих пор нартский эпос изучался, с привлечением
некоторых исторических и археологических данных,
в большей мере в связи с осетинской мифологией и древ­
ними религиозными воззрениями, которые в народном
творчестве последних столетий играют пережиточную
роль. Между тем та сфера народного творчества, которая
до последних времен не теряла своего могучего влияния
и роли в народном искусстве, сфера волшебных и со­
циально-бытовых сказок, совершенно не изучена. Отсут­
ствие сравнительного изучения сказок и нартских ска­
заний; отрицательно отражается на выявлении специфи­
ческих особенностей' нартского эпоса. Между тем даже
самое первое знакомство с особенностями волшебных сказок, выявление типичных сюжетов, эпизодов, характеров
героев способствовало бы; выделению в эпосе сказочного
элемента. Без этого осетинский нартский эпос будет оста­
ваться бессистемным конгломератом сказаний, сказок,
местных преданий и анекдотов. В заключение можно
сделать такие предварительные выводы:
1) Осетинский нартский эпос составляют те сказапия, где слово «парт» имеет значение этнонима, обозна­
чая племя нартов, и где повествуется о жизни ряда по­
колений рода Ахсартагкаевых.
2) К кругу осетинских нартских сказаний не относятся повествования со словом «нарт» в значенпи «богатырь», или «великан», о коварной женщине-колдунье,
о присвоении волшебных предметов великанов, о безногом,
безруком и слепце, о воре-казнокраде, о воскресших
гигантах и др., представляющее собой волшеоные пли
сатирические сказки, местные предания или легенды.
I
I
Адыгские историко-героические песни, как и нартские
строятся по биографическому принципу, так что совокупиость песен, посвященных герою, воспроизводит всю
«биографию» песенного персонажа. 13 центре внимания
таких героических песен, как «Об Айдемкркане», «ОХатхе
Кочасе», «О Коджебердове Магомете», «О Темпркапе и
Орзамесс» и др., находится одни главный герой, жизни
и деятельности которого дается полное описание. Адыг­
ский ученый, этнограф и историк С. Хан-Гпрей такие
песни назвал «жизпеоппсательиыми» *. Наряду с «жизнеопнсатольиьтми» в адыгском фольклоре пзвестпы собст­
венно исторические песни, которые по терминологии
Хан-Гирея называются «Песни о войпе, или О многих
мужах» 2. Они несколько отличаются от героических.
В исторических песнях речь идет о каком-либо важном
историческом событии, имеющем общественное значение,
и чаще всего героем такой песни выступает весь парод:
описываются подвиги почти всех участников того или
иного сражения. Как в русских или абхазских истори­
ческих песнях, в адыгских не содержится подрооного
описания жизни героев и его подвигов. Судить о достопнслушатель должен, основыствах восиеваемых богатырей
ваясь прежде всего на той: эмоциональной характеристике,
которую дает им певец.
сказашгя называются обычно по
Нартские песни п
повествуется: («Плач Саимени героя, о котором в них
талей»), («Песня Шэбатнуко»), («Песня Сосруко, 1ГСПОЛияемая на пщьшэ»)3.
Аналогичным образом называются п псторпко-геропческие песни. Например: «Плач об Айдемпркане»,
«Песня о Хатхе Кочасе», «Песня о Еченуковых, испол­
няемая на пщынэ», «Песня о славном тфокотле» 4. Но не­
редко, в отличие от нартских сказаний, названпе исто­
рико-героической песпи связано с названием места, где
происходили воспеваемые в ней события: «Плач о Бзшок-
С. Ш. Аутлева
СХОДНОЕ И РАЗЛИЧНОЕ
В СКАЗАНИЯХ О НАРТАХ
И ИСТОРИКО-ГЕРОИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ
АДЫГСКИХ НАРОДОВ
Известно, что адыгские сказания о нартах бытуют
в прозаической, смешанпой (стихотворно-прозаической)
и стихотворной форме. Сказания от начала до конца
стихотворные, как правило, имеют свою мелодию и поются.
Уже по внешним признакам нартские и историко-героическпе песни сходны. Много общего обнаруживается
в поэтике иартского и исторического эпоса адыгов
(сюжетостроенип, композиции, системе художественных
средств). Не ставя своей целью осветить все стороны
взаимодействия этих жанров адыгского фольклора, мы
остановимся только на следующих моментах: общпость
терминологии нартских и нсторико-героических песен,
конь как персонаж в нартских и историко-героических
песнях, воеппые доспехи, образ Тлепша — покровителя
кузнечного ремесла и воинов в нартских и историкогероических песнях, общность и различие их поэтики.
Исключительная устойчивость эпоса, художественные
и идейно-тематические его особенности оказали огромное
влияние на тематику и поэтику многих жанров адыгского
фольклора, особенно историко-геропческпх песен. И в нартском эпосе, и в историко-героических песнях в художе­
ственной форме отражена действительность, сознание на­
рода на разных этапах исторического развития общества.
Однако содержание их, разумеется, совершенно разное.
Если традиционные герои адыгского эпоса Сосруко,
Бадыпоко, Шэбатнуко, Сатаней, Акуанда, Ашамез и др.
представляют собой художественно-обобщенные образы, то
персонажи адыгских историко-героических песен восходят чаще всего к конкретным историческим лицам.
456
о Черкессшь т. 1, стр. 94 (ру1 С. Хан-Гире и. Заппскн о
копись находится в архиве АНИН).
2 Там же, стр. 99.
Нар02е8№р№Уощенсь™икр“отьяшш.
3 «Пщынэ» — адыгский
4 «Тфокотль» — свободный,
457
(
ской бптве»5, «Песня о битве у устья реки Фарс»6,
«Плач о Чужкуапе».
В нартском эпосе адыгов, как и в сказаниях других
народов («Мапас», «Кёр-Оглы» и ДР-)> огромную роль
играет конь героя, который, как правило, рождается в один
день с героем и умирает вместе с ппм. Ни один из партов пе добивается победы без помощи коня. Сказочный
конь у партов — это верный кудесник, умный советчик,
добрый помощник и преданный друг. Копи партов обычно
имеют собственные имена, которые даются им либо
по масти, либо по сходству с различными предметами.
Так, конь Сосруко называется Тхъожъый («Маленький
буланый»), конь Орзэмеджа—Шъоехъук1 («Крысиный
хвост»), конь Ашамеза Къэтраи («Черный как смоль»),
конь Шэбатнука — Чэгый («Пегий»), конь ГГотэрэза —
Къэрапц1э ц1ьтк1у («Маленький вороной»), пли Дуль-дуль,
конь Шауея — Чэмьтдэжъ («Темногпедой»).
Коням героев нартскпх сказаний обычно присущи че­
ловеческие свойства: они могут не только разговаривать,
но и советовать, рассуждать, поучать. Так, когда нарт
Шауей едет на скачки, где оп должеп обязательно завоевать первенство, его конь советует ему: «Давай вернемся
и пойдем к Тлепшу, попросим его сделать три подпруги
для живота, а то, когда приедем на скачки, я буду должен
летать по небу, чтобы догнать партов» 7.
В другом сказании, о бое Сосруко с Тотрешем, гово­
рится о том, как парт Сосруко, побежденный Тотрешем,
возвращается домой и мать его, Сатаней, разгневанная
поражением сына, упрекает коня в том, что он дал
в обиду своего хозяина. Она говорит Тхожею:
Тхъожъыеу хьажъьшэ
ашхын!
Тхъожъыеу хьэцэ кТэкТахь,
Буланый, которого чтоб собаки
съели!
Буланый с собачьтшп зубами
и длинным хвостом,
Буланый, которого лошадям
не догнать,
Тхъожъыеу шыхэр
зыкТэмыхьажьын!
5 Бзпюк — название рекп, у которой произошло сражение
между бжедугекпми князьями и шапсугскими крестьянами.
6 Фарс —левый приток реки Лабы, впадающей в Кубань.
7 Архив АНИИ, рукой, фонд 1, папка 11, стр. 27.
458
Зыбыдзыщз
шъузэдемышъуагъэмп,
Усибыны пТугъэба, о?8
Хотя но одной грудыо
вскормленный с Сосруко,
Ты ведь дптя, воспитанное
,
мною?9
В ответ на упреки Сатаней Тхожей обещает помочь
хозяину победить Тотреша, но ставит определенные
условия:
Посмотришь, еслп дам тебя
Укъязгьэушъхьак1умэ еплъ!
(Сосруко) в обпду!
Только
отборной
травой (меня)
Атэкъэлъ-гулъ уцым сегъэгъу
корми,
!
ШхоГур гъурэу сфягъэш!,
Чэсэеу уиджэнэ гъупаэр
СыпэпТашъо щыгъэлъэраз,
Псы чъы1эми сплъэрэзахьэу,
Пчэдыжьым сегъэчэпау.
Уздечку тонкую прикажи
для меня сделать,
Белоснежпымп рукавами
платья своего
По морде моей покружи
(т. е. побей меня)
Водой холодной обмытый,
Позволь, чтобы утром били
меня по боку.
коЧерты антропоморфизма
ням, традиция боевого содружества
наблюдается и в истоа также наделение их кличками клички даются коням
в нартском
рико-героических песнях. Но здесь
таким признакам, как событиями
чаще всего не по
связаны с какими-то
Апдемиркан
эпосе: они нередко
пли его коня. Так, например,«Сыромятные
в жизни героя
Джэманщэрыкъ, т. е.
называет своего коня
себе коня за пару чувяк).
чувяки» (герой вымепял и нартские кони, принадлежит
Джэманщэрыкъ, как
и обладает некоторыми
как, нанрисказочной породе альпов
к черт,
' нартских героев, Он,
присущих коням
ия, л« «долга»,
из
Сосруко, всегда обладает чувством
М0Р>отношению
И КОНЬ Ыюдожи,,___
„
.V--по
к своему хозяину.
Когда „Айдемиркан был
предательски убит, Джэманщэрыкъ, почуяв беду, вырвался
из конюшни, куда он был заключен, п понесся к месту
гибели хозяина. «Подошел к изголовью лежавшего Айдемиркана, схватил его зубами, перекинул тело на спину,
I
:
I
8 Там же, стр. 47. подстрочные переводы
9 Здесь и дальше
статьи.
459
выполнены автором
!
привез к тому месту, где он родился, к его родной ма­
тери 10». А в другом варианте говорится, что «Джэмаищэрыкъ плакал так, что слезы сыпались (лились) из его
глаз» п. В песнях, отражающих более поздние историче­
ские события, кони уже лишены черт антропоморфизма.
Сравнивая роль коней в эпосе и дальнейшее развитие
этой темы в исторических песнях, можно заметить, что
фантастические элементы, сказочность, черты антропомор­
физма, которыми наделены нартские кони в ранних цик­
лах героических песен, ослабляются в исторических, где
конь героя все больше приобретает бытовые черты.
Несомненным отражением более поздних обычаев
следует объяснить тенденцию именования коней по имени
владельцев табунов:
Его копь бечкап пграл под ним,
А оп не считал удары меча своего
Ягубок Хаджпмуков 12.
Бэрэ умыхьакъу гущэу
Мы хьагъундэкъожъы
гущэмп къек1эса.
Долго не лая,
На круп этого старого Хагупдоко
садпсь.
Трамэу шы зьпПэмыхьэрэр
Трама; которого лошадям
по догнать,
По берегу моря водят (взад
и вперед).
Хы 1ушъом къыщызэращэ.
В историко-героических песнях кони чаще всего на­
зываются: Трам, Лоо, Шеолух (Шолох), Бечкап, Хагундоко и т. д. Существование коннозаводчиков с такими
фамилиями засвидетельствовано историками. «В 1889 году
из 48212 лошадей Кабарды у коннозаводчиков сосредото­
чивалось 24 656 голов... К тому времени по всему Кав­
казу славились имена коннозаводчиков Лоова, Трамова,
Кудашева, Дандурова, Куралеева, позже Лафишева, Тамбиева и многих других, имевших до 1000 голов лошадей
и свои тавра» 13.
10 Архнв АНИИ, рукоп. фонд 1, папка 42, док. 17, стр. 18.
11 Там же, папка 67, док. 3, стр. 4.
12 «Песня о Бзшокской бптве». — «Пароды Западного Кавказа. Кавказскпй сборник». Тифлис, 1910, стр. 43.
П. И. Калинин. К вопросу о происхождении и форми­
ровании кабардинской породы лошадей.-—УЗ КНИИ, т. IX. Наль­
чик, 1954, стр. 173.
460
Приемы характеристики коней в нартских п историкогероических песнях существенно различаются. Если
в иартском эпосе коням дается обстоятельная и полная
характеристика, то в нсторпко-геропческнх песнях певец
обычно характеризует коня, как и его хозяина, одним
штрихом, назвав либо масть, породу, либо акцентируя
внимание на поведении коня, или отношении воппа-всадиика к нему во время боя:
Ыа кого броепт свой взор
Нэк1э зытенлъэрэр
Жэмапшэрык, тот никогда
Жэмап щэрыкъым
от него по уйдет.
Тэк1эк1ырэи
I
или:
Шхъонт1эжъыер шхомн
рэджэгу,
Зэошхор джэгукэ зэхещэ.
или:
Шы КЪОЛЭПЭр копкъыкТэ
зэрефэ,
Чэтацэм лыфорэр рек1ыхы,
Бжыхьакъок1э Борэкъу.
Къодымыхьэр егьалъэ,
I
Хьадэмэ ялъэзэ мэзао.
Серенькой уздечкой
забавляется,
Великий бой, играя, начинает.
Пегого бедром гоняет,
Попадающих на острие меча
сбрасывает.
Из Бжегаковых Бороко.
Кодэмыха и заставляет
прыгать,
Через трупы перепрыгивая,
сражается.
В иартском эпосе значительное внимание уделяется
описанию вооружения. Предметы вооружения нартских
богатырей (кольчуга, шлем, лук, стрела, копье, меч,
изготовленные знаменитым кузнецом Тлепшем) упоми­
наются и в разных циклах историко-героических песен
(«Об Айдемиркане», «О братьях Ечаноковых», «Оо Ощмагической
нэуской и Бзшокской битвах»).
Оружие нартских героев нередко обладает
Тлелсилой. Например, в сказания «Стрела, сделанная
шем» 15 говорится о том, как один из нартов, по имени
Ерыщкеу, обидевшись за что-то на Сосруко, Пшэтыкчеча
ы Блипкчеча, решил их убить. Оя пошел к л
у
I
I
коней, принадлежащая фамимп «одампх.сообщается
14 Порода сказание хранится л архиве АНИИ н
15 Даипое
нами впервые.
461
!
попросил его сделать три стрелы, Тлепш сказал, что
можно обойтись и одной стрелой. На вопрос недоумеваю­
щего нарта Ерыщкеу, как можно одной стрелой убить
троих, Тлепш ответил: «Навожу стрелу па Сосруко, наставляю на Блипкчеча, пускаю па Пшэтыкчеча, — скажи
и пусти стрелу». Таким образом, особенность этой маги­
ческой стрелы состоит в том, что она не упадет на землю,
пока преследуемые ею враги живы, а когда упадет, то
больше не поднимется.
Виды оружия, упоминаемые в историко-героических
песнях, магическими свойствами не обладают, в этом
состоит их отличие от нартских.
Общим для нартских и историко-героических несен
адыгов является образ кузнеца Тлепша. Он всегда ри­
суется искусным мастером оружия. В «Песне об Айдемиркане» Тлепш изображен как великий мастер, который
отлил и закалил меч героя: «Рукоять меча его (Айдемпркана) Тлепш наш кан закаляет» 16.
В другом варианте этой песнп говорится: «Меч его
острый Тлепш наш кан отливает».
В приведенных примерах обращают на себя внимание
слова «наш кан», которыми называют кузнеца Тлепша
адыгские сказители.
Известно, что в нартском эпосе адыгов Тлепш выс?упает как искусный кузнец и покровитель всевозможных
ремесел. В образе Тлепша отразилось развитие материальиой культуры народа, а именно — возникновение желез­
ной металлургии. «Циклы нартских сказаний о Курдалагопе, о Сафе, о Тлепше, — пишет Е. И. Крупнов, — это
гимны, певшиеся предками центрального Кавказа желез­
ному веку, веку топора и меча, определившему их даль­
нейшее развитие в условиях уже железоделательного
производства» 17.
По справедливому замечанию Л. И. Лаврова, почитание Тлепша связано ие только с кузнечным ремеслом.
Это был культ вообще всякого ремесла, требующего спе­
циальных знаний 18.
16 См.: «Адыгейские старштыс песни». Майкоп, 1946, стр. 46.
17 Л. И. Лавров. Доисламские верования адыгейцев и ка­
бардинцев. — «Исследования и материалы по вопросам первобыт­
ных религиозных верований». М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 222.
18 Е. И. Крупнов. Древняя история Северного Кавказа.
М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 375.
462
Наделение же Тлепша словом «кан» в псторико-героических" песнях отразило другой, более поздний этап исторшт народа. Оно связано, на наш взгляд, с возникновением
института аталычества у адыгов19. По обычаю аталычества, воспитанник назвался «къан» (п1ур), а воспптатоль — «аталыком» 20. Закрепившийся в адыгском языке
термин «къап» — тюркского происхождения, наряду с пря­
мым значением приобрел и другое значенпе — «милосерд­
ный», что можно объяснить тем, что па капа смотрели
а на воспитателя как на микак на священное существо,
лосердного человека, Подобно тому, как воспитатель прок своему воспитаннику,
являет милосердие по отношениточеловеколюбия
готов потак и Тлепш из сострадания п
в
песнях
«тпкъан»
—
мочь всем, поэтому он называется
«наш кап».
большее место в нартТлепш занимает несравненно
песнях,
ском эпосе, нежели в псторико-геропческпх
особенно в поздних, где он почти пе упоминается.
В разных жанрах адыгского фольклора Тлепш играет
различную роль. Так, вечер, устраиваемый для раненого,
обычно открывался традиционной песней в честь Тлепша.
В ней воспевается его мастерство искусного лекаря, выбольпому скорого выздоровления.
ражается пожелание
Вот песня, записанпая в Шапсугии:
Лъэпшъэу тпкъан уп1азэ
Тэзэ мафэ тхьэм феш1.
Тхьэщыр япхъу уппэсакГу
Сымаджэр псаоу зэпэщэу
Тхьэм егъэхъужь,
етэТуал!21
ПсынкТэу ухъужьныэу
тбой лекарь,
—
его бог,
Тлепш паш милосердный
Счастливым лекарем да сделает
тпоя,
Дочь Тхащтгра — спделка
Больного целым
Бог да вылечит,ыздоровлвпия желаем.
Быстрейшего в
V9 Соглашаясь с Л. И. Лавровым, мы считаем неудачной расПфровку пменгг Тлепша, предложенную М. Е. Талпой: «господин
ЮД2оГ>!> См.: «Кабардппсклй фольклор». М.—Л., 1936, стр. 637.
„ м*' С. Косвен. Этнография н история Кавказа, М., 1961
21 Архпв АНИИ, рукоп. фопд 1, папка 28, док. 29, стр. 30.
стр. Ю4.
463
Опа же в другом варианте:
В нартских сказаниях и сказках Тлепш наделен магическпмн свойствами. Он, например, мог вызвать мороз22.
В историко-героических песнях он не ооладает средствами
магии и рисуется прежде всего как искусный кузнец. Такая эволюция оораза Тлспша исторически обусловлена;
известно, что эпос и историко-героические поспи отразили
разные этапы истории народа и потому одни и тот же ге­
рой играет в них разпую роль.
Нартские и историко-героические песни связаны с му­
зыкальной мелодией, и исполняются они под аккомиапемент древних национальных инструментов — шпчепшпне23 и камыле24 — соло или в сопровождении хора.
До революции они исполнялись в своего рода народных
школах — хачеще (специальное помещение для гостей),
на чапще25, в хороводе и на различных сходках только
мужчинами. В наши же дни иногда нартские песни
исполняют и женщины.
Следует отметить, что в зависимости от характера ис­
полнения форма стиха нартских и историко-героических
песен песколько видоизменяется. Народные певцы испол­
няют нартские и историко-героические песни речитативом
и напевом.
При речитативном исполнении стих почти не пзменяется. При напевпом же меняется и форма стиха, и его
размер: при напевном исполнении певцы для усиления
эмоционального воздействия добавляют к песенному
тексту различные частпцы и даже слова. Таковы, напри­
мер, «гущэк1э», «сэрмафэ», «ра», «оо-орэ-орэда», «сиорэд»,
«ей-ра» и др., так что увеличивается количество слогов
в каждой строке и соответственно число стоп.
Напевное исполнение песни о Шэбатнуко:
Орэдэ, орэдэ,
Нарт Шэбатшлкъоу
Орэдэ, орэдэ,
Хъагъу-шъугъу бэшТэу...
22 См.: «Адыгейские сказания и сказки». Ростов-на-Допу,
1937, стр. 210.
23 Старинный народный смычковый инструмент.
24 Род духового инструмента у адыгов. Тростниковая или
железная трубка с тремя отверстиями.
25 Вечер, устраиваемый друзьями, родственниками спе­
циально для раненого.
464
Ой, ой, ой, оу,
Нарт Шэбатпыкъуа, орэда,
Чннты ннэкокъогъуа.
Или:
А-а, парт Шэбатпыкъуа,
Ай-ой иатмэ ялэпкъэгьуя
А-а ябгэхэр зиш1ьтхьафа,
Ай-ой хьафыпчэ щыуа.
А вот речитативное исполнение песни об Ашамезе:
О си 1ащэмэзэу
Зяпэ гущэ тхъэи,
Иатьт псы кТалэмэ
Шэны уакъыдешТэ.
Напевное исполнение этой же песни:
О си 1ащы-1ащэу
О си Тагцэмэза орэ-да, оооо, орэдэ-ра
Зянэ гущэ тхъэи орэда оооо, орэдэ-ра,
Иаты псы кГалэмэ орэдэ-ра, оооо, орэдэ-ра
Шэны уакъыдешТэ орэда-ра, оооо, орэда.
наблюдаются и в нсторикоАи ал о п I ч Iше изменения
героических песнях. Например:
Хъуарэр щэкТэ къябгъэд,
Нэджыдэр хьадэкГэ къябгъажъу,
Xьаджэмыкьо Бахъчэрый.
(■речитатив)
т
I
'
(напев)
исполнения песня
напевного
Как видно, в результате
в двустишие,
сказания
из трехстишия превращается адыгские
нартские
что
часто в пих чередуются
Мы уже говорили,
бывают не только стихотворными,
же песни всегда
проза и стихи. Исторпко-героическпе
имеют только стихотворную форму.
30 Заказ X* 1480
■
465
В системе изобразительных средств и приемов харак­
теристики героев в нартсклх и историко-героических пес­
нях обнаруживается значительное сходство.
В нартских песнях, посвященных нарту Шэбатнуко,
нередки гиперболы. Вот как описывает сказитель коня
Шэбатнуко:
От его копя грязь отстающая,
Словно стая серо-черных галок,
Взлетает до небес.
Пар, исходящий от его коня,
Опаляет траву,
Пена, падающая с его коня,
Становится (па земле), подобно раскрытому шатру.
диалог как композиционный прием весьма характерен я
для эпоса, н для историко-героических песец. Для нагляд­
ности приведем отрывок из разговора Акуапды с Са­
таней:
Мать паша, Сатапей,
Что-то темное я вижу,
За войско принять его — маловато,
За гостей — многовато.
I
Томную точку, которую я впжу,
Принять за стадо дшшх животных — маловато,
За гостей — многовато,
За войско — слишком мало.
Если сможете мпе быть друзьями,
То приведите себя п ваши доспехи
В боевую готовность.
В историко-героических песнях гиперболы встречаются
сравнительно редко. Наиболее употребительпы здесь срав­
нения и эпитеты:
Къызэрэнэсэу пщэгъо корепэу мэуцу,
Ибзэ дыджыжъымп Айдэмыркъан рэгушхо.
По прибытии (Айдемпркан) скученным туманом
становится,
Луком своим горьким (т. е.: обжигающим)
Айдсмиркан гордптся.
Или:
( «Песня об Айдемиркапе»)
Его (Кочаса) Машуко26 тонкое,
Подобно весеннему грому, гремит.
Пуля, выскочившая из него,
Словно полярное сияние сверкает.
( «Песня о Хатхе Кочасе» )
Царя поганого войска, о горе,
Словно снопы спелого проса, о горе, лежат (рядом).
Хытыку Волет, о горе,
Сражается так, что с него кости сыпятся.
(«Песня о Тфыщатлевых» )
Известное сходство обнаруживается и в композиции
нартских и историко-героических песен. В частности,
26
Огнестрельное оружие, называемое по фамилии мастера.
466
Аналогично обращение и Хатхе Кочаса (героя одно­
именной песни) к своим друзьям:
.
В приведенных примерах наблюдается и текстологиче­
ское совпадение, что позволяет говорить о существовании
«1осх сотпшпез», общих для эпоса и историко-героических
песен.
Для характеристики героев нартских и историко-ге­
роических песен певец употребляет нередко одинаковые
слова и выражения. Например, чтобы выделить героя и
обратить внимание на его действия, называет его фамплию:
Ходит, словно голова его к небу подвешена,
Походка его наводит страх,
Меч вынимает п рубпт
Сын Аледжа Тотреш27.
А вот как такой же прием используется
героических песнях:
в исторнко-
Дзэжъпт1 ор хьажъэу зэрэшх,
«Сышхэщтэр» е1уй къегъаз,
Къегъази зьг щэжъыр гъахедз,
ТыгъургъунэкъокГэ Гъолай.
Архив АНИИ, рукоп. фонд 1, папка
461
3, стр. 47.
30*
Два войска, словно, собаки, грызутся,
«Буду кушать», говоря, поворачивается,
Поворачивает п пулю им бросает
Из Тугургуноковых Голан.
К. Г. Ц ху рб аева
Еще пример:
Хьэплъэкъо пхьэдэ 1уплъэ гупх,
Чатэр зырпхыкЬ
Тхьаркъохъо Иэгъой нэпаш1у.
О НАПЕВАХ
ОСЕТИНСКИХ МАРТОВСКИХ СКАЗАНИЙ
Впд мертвого Хаплоко наводит страх,
Когда меч вынимают,
Тхаркахо Изгой сияет.
(«Песня о Бзиюкской битое»)
Обращает внимание и то, что некоторые термипы и
собственные имена иартских героев перешли из эпоса и
прочно закрепились в историко-героических песнях. Это
прежде всего слово «нарт» и собственные_ имена эпических героев — Хымыш, Шэбатиуко, которые употреб­
ляются для определения достоинств песенных героев:
Мы дзэшхо зэогъум
ЛТыхъур парт Хъымыщ.
В этом войске большом сражающемся
Герой (Орзамес) - парт Хъымыщ.
Фэдэ нарт ппЬшхьагъэу
Дунэй нэфым ехыжьыгъэр
Ек1эньшъо Орзэмэс.
Подобного себе нарта положив себе под голову,
С белого света ушел
Ечеиуко Орзэмэс.
Характерно, что слово «нарт» в историко-героических
песнях употребляется для того, чтобы подчеркнуть доолесть героя. Вот почему в историко-героических песнях
многие герои именуются «нартами».
Таким образом, сравнительное
изучение иартских и
историко-героических песен свидетельствует
о наличии
в них ряда общих черт, являющихся результатом взаимодействия этих жанров и известпого
природы. В то же время вполне сходства их эпической
ощутимо видовое, тематическое их различие.
Мартовские сказания — богатейшее культурное насле­
дие пародов Северного Кавказа — стали предметом всесто­
роннего научного исследования сравнительно недавно,
хотя первые публикации сказаний (в частности, осетин­
ских) относятся к середине прошлого столетия. Начиная
с 30-х годов нашего века, замечается усиление интереса
к иартовским сказаниям как на самом Кавказе, так и за
его пределами. За это время было опубликовано большое
количество текстового материала; создай целый ряд цен­
ных трудов, освещающих широкий круг проблем: генезис
и развитие мартовского эпоса, историзм содержания, раз­
бор отдельных циклов, образов и сюжетов, сравнительнофольклорные параллели, особенности поэтической формы
И ПОЭТИКИ.
Однако далеко не все стороны привлекли должное
внимание ученых и стали предметов
авПШХся висслетени
Дования. К числу таких незаслужен
0 напевах
вопросов относится в первую оче^0^
особенностях,
нартовских сказаний и об их музьп
’ ‘ ще1«1СЯ литера13 самом деле, если °брати^
туре, то в ней либо вовсе не указ но_песепному творченость мартовского эпоса к музыка
дезорпептнству, что в известной мере стало
Д
’ые сведения
рующей читателя, либо даются весьл
'
?ые выо манере их исполнения. Даже и
бытования, не ИДУ?
оказывания, касающиеся традици ‘ льпЫх особенностей
Далее описания чисто внешних, Ф РА
ппя о характере
и не дают достаточно ясного пр Д^^ и ритмическом
напевов, об их структурном, ме д
469
строении. «Выразительны и лаконичны мелодии иартских
песен, — пишет о кабардинских сказаниях Т. К. Шейблер — ритмика запева в них нередко меняется в зависимости от числа слогов при неизменном размере (и неиз­
менном припеве хора)... песни поются медленно, затем
темп ускоряется, приближаясь к плясовому. Иногда до­
бавляется инструментальный подголосок, варьирующий
основной напев (подголосок исполняется на прямой па­
стушьей флейте— «бжами»). Все это дополняется еще
протянутыми басами хора, ритмическими восклицаниями
исполнителей, ударами трещотки «пхацыча», наконец
ударами в ладоши. Большинство иартских песен испол­
няется ныне двухголосно»
Об абхазских нартовских сказаниях читаем следую­
щее: «Нартский эпос абхазцев имеет смешанную стихо­
творно-прозаическую форму со значительным преоблада­
нием прозапческого повествования. Отдельные фрагменты
его исполняют в песнях, играя на народном двухструнном
смычковом музыкальном инструменте апхярце. Но
только в немногих своих частях эпос дошел в форме песен­
ного повествования, неотделимого от голоса и музыки (су­
ществует особая нартская мелодия), а иногда (например,
в «Песне о матери нартов») сопровождаемого танцами» 2.
Крайняя скудость имеющегося материала о напевах
нартовских сказаний объясняется прежде всего тем, что
фольклористика до настоящего времени все еще не распо­
лагает музыкальными записями. Те единичные записи,
которые имеются в нотных публикациях («Осетинский
музыкальный фольклор». М., 1948, стр. 23—29; В. Ахоб а д з е, И. К о р т у а. Абхазские песни, М., 1957,
стр. 326) не обладают достаточной точностью фиксации
и не сопровождаются словесными подтекстовками. Такие
нотные образцы не представляют научной ценности и не
могут быть предметом исследования.
Необходимость фиксации музыкального материала на­
певов нартовских сказаний является одним из вопросов
первостепенной важности не только потому, что именно
в них заключена та эмоциональная сфера, которая лежит
за пределами выразительных возможностей словесной поэзшг. Без папевов невозможно понять закономерностп
соотношения музыки и текста, нельзя разобраться в осо­
бенностях ритмического строения сказаний.
В живом исполнении мартовские сказания бытуют
в такой форме, которая предполагает одновременное из­
ложение текста и напева, по почти никогда ие использует
эти элементы изолированно друг от друга, разве только
за отсутствием талаптлпвтлх певцов-сказптслсй. Не слу­
чайно все собиратели единодушны в том, что наиболее
впечатляющее исполиеппе мартовских сказаний связано
с пением и музьткальпым сопровождением. В этом смысле
текстовые записи представляют собой известный суррогат.
«Много потеряли «Сказания о нартах» со стороны
художественной, — писал пзвестпый осетинский поэт
И. Джанаев (Йигер), — по той прпчпно, что они были
записаны ие непосредственно от сказителей в момепт пе­
редачи ими сказаний под аккомпанемент скрипки» .
«... Нартовские образы, в особенности если сказания
исполняются выдающимся певцом, производят сильное и
незабываемое впечатление»4.
В последнее время все чаще встает вопрос о п<
иалытом своеобразии мартовского эпоса у кажд
родов, его имеющих. Для разрешения этого
мотпвопроса вовсе недостаточно разобраться в сюжетах,
г^рственвах, образах, в особснпостях поэтики,
ным элементом национального своеобразп ,
которой,
является художественная форма произвел,
,
наряду с поэтляеекпм шшшешгем, »«”на ““н,важнейшуго, формообразуютуи рмь^Р^ мр10К«па
Циональная самобытность и
может проявляться
ярко
оказаний при этом ие менееособеипостях
виутрифразоа характере и форме папевов,
которая,
вого иптоттроваппя, в манере леполпенпя,
Кавказа далеко но
кстати, имеет у народов Северного
что у некоторых
одинаковую традицию. Так, утверждают,
п абхазов)
уродов (в частности, у черкесов, кабаРД1Г™^® пля прибытует хоровая традиция исполнения. Обрс
МеРа к отдельным: высказываниям.
1 Т. К. Ш с й б л е р. Кабардинский фольклор. — «Советская
музыка», 1955, № 6, стр. 73.
2 Ш. Д. Инал-Йпа. Приключения нарта Сасрыквы п его
девяноста девяти братьев. Абхазский народный эпос. М., 1962,
стр. 12.
Орджоникидзе . 1941,
3 Иван Джанаев. Сказания о нартах.
стр. 30.
— ИСОНИИ, т. X, въти* Iп 4 В. И. Л б а е в. Нартовскпи эпос.
Дзауджикау, 1945, стр. 109.
471
Пл
470
I
'
*
«Пение хором (народное пение) с древних времен за­
нимало видное место у народа адыге... хор создавал осо­
бый музыкальный фон, на котором певец-сказитель декла­
мировал слова былинных и героических повествований» 5.
Для кабардинских сказаний характерно, когда «запев про­
изводится речитативом па фоне унисонной хоровой мело­
дии (без слов), повторяющейся на каждом стихе»6.
Отсутствие котированных записей напевов адыгских
сказаний не дает возможности составить отчетливое пред­
ставление об исполнительской традиции партовского эпоса
у этих народов. Но публикации абхазских материалов
(правда, очень скудных) позволяют утверждать, что
сольно-хоровая традиция исполнения по крайней мере
у абхазов — явление новое и привилось сказаниям под
влиянием манеры исполнения столь распространенных
в Абхазии (как и у других северо-кавказских народов)
героических песен, во многом отличающихся от эпоса.
В сборнике «Абхазские песни», составленном В. Ахобадзе и И. Кортуа (М., 1957), приводится «Песня
о нарте» («Сказание о Сасрыкве»), которая была запи­
сана авторами-составптелямп в селении Дурипши Гудаутского района в 1956 г. В нотации запечатлено хоровое
исполнение сказапия без инструментального сопровожде­
ния. В этом же сборнике приведены записи двух сказа­
ний «Нарт Сасрыква» и «Песня о парте», выполненные
К. Ковачем в 20-х годах7. Примечательно, что эти йота­
ции отражают именно сольное исполнение в сопровожде­
нии двухструнного смычкового инструмента «апхярца».
Таким ооразом, сольное исполнение, требующее от певца
оолыпого поэтического и музыкального дарования, умения
аккомпанировать себе па музыкальном инструменте, было
характерно для исполнительской традиции абхазских эпи­
ческих повествований еще три десятилетия назад.
Нам известно, что и в настоящее время в Абхазии
среди талантливейших хранителей эпоса имеет распрост­
ранение сольная традиция исполнения с инструменталь­
ным сопровождением, что является типичным для нартов-
ских сказаний в отлично от хорового исполнения героиче­
ских п некоторых других песен.
Среди отдельных исследователей фольклора пародов
Северного Кавказа существует тенденция объединять
иартовские сказания и героические песни в один общий
эпический жанр 8. Между тем в отношении к осетинским
героическим песням и нартовским сказаниям это совер­
шенно не подходит.
В богатом и разнообразном музыкально-поэтическом
творчестве осетинского парода иартовские сказания занимают особос место. Своеобразие идейного содержания,
поэтических и музыкальных стрсдств выразительности,
наконец манера исполнения резко отличают эпические
сказания от героических песен, не говоря уже о других
песенных жанрах. Нс случайно народ издавна выраоотал
терминологию, строго разграничившую партовское сказание
(кадаег) от песни (зараег).
Словом «зараег» парод называет ^самые различные
песни, среди которых наибольший удельный вес
в осетинском народном творчестве приходится па песпл
героические. Но даже героические песни, которые, каз
лось бы, по общему эмоциональному тонусу и геР°
скому духу могли бы иметь «контакт» с эппч®““**
заниями, в действительности никак с ними не
’
по музыкально-поэтическим особенностям, ни по манере
«кадаег» и
исполнения. Никогда «зараэг» не поется как
исполнителен:
типа
обратно. Имеется, стало быть, два
рассказчик и певец-сказитель.
, тлогические, геБолынинство осетинских песен у * ескце — песни
ропческие, застольные, шуточно) исполняются,
преимущественно мужского Ре1Х®Р **
0 сопровожде­
нии правило, хором и без инструме ‘
ыХ ТОржествах,
ния. На различных празднествах
а число исполнри стечении большого количеств
с г^а>к’дЫц прпсутстиителей может быть неограничен! * • ховЫМи данными,
вующий, обладающий достаточны*
^ ле в качестве
может включиться в число по1 Щ _ /басовую партию) .
солиста, то как подпевающий втор^
5 А. Ф. Гребнев. Адыгейские народные песни и мелодииМ.—Л., 1941, стр. 198.
с «Нарты. Кабардинский эпос». М., 1951, стр. 16, 17.
7 Впервые записи эти были опубликованы в сборник
К. Ковача «101 абхазская народная песня». М., 1929.
эпосе абхазов. — «'1’РУДЫ
278.
АЫ-ТМи'
Салака я. О героическом ь
Об осовТ’ т XXXIII—XXXIV.
стр.
тЛнсктт^Дробнее
°б ЭТОМ см. Сухуми,
в кп.: К.1963,
Г. Д^УРбаова.
х героических песнях. Орджопикпдзе, 1965.
472
473
Сольно-хоровая традиция исполнения этих песен, при ко­
торой солист ведет основную мелодическую линию и излагает текстовую канву, в то время как хор поет в унисон
втору, основанную на длительно выдержанных тонах, ни­
когда7 не была п не является характерной для нения осетинских эпических сказании. Такой тип хорового пения
имеет распространение н у ряда соседних народов: абха­
зов, кабардинцев, чеченцев, но насколько оно имеет отношенпе к их нартовекпм сказаниям, судить трудно.
Под словом «кадазг» осетины подразумевают только
лишь эпическое сказание. При этом понятие «кадэег»
включает в себя и манеру исполнения — соло с инстру­
ментальным сопровождением. Рассказчика сказаний,
как бы он ни был искусен, никто не назовет «кадаеггазнзег» (сказителем), если он не поет их и не сопровождает
свое пение игрой па музыкальном инструменте.
«Рассказывать о нартах, — писал художник М. Туганов, собиратель и исследователь нартовских сказаний, —
мог всякий рядовой осетин, слышавший с самого детства
напевы сказителей, но именоваться сказителем... мог но
всякий: лучших сказителей народ знал хорошо п поэтому
они на всех «кувдах» (пиршествах. — К. Ц.), свадьбах и
общественных празднествах пользовались особым поче­
том и уважением» 10.
В противоположность песням (зараег) нартовские ска­
зания (кадаег) не принадлежат к категории общедоступ­
ных, массово-обиходных жанров. Исполнение нартовских
сказаний является достоянием особо одаренных певцовмастеров, обладающих отличной памятью, незаурядным
поэтическим и музыкальным дарованием и способностью
играть на каком-либо музыкальном инструменте.
«Игра на двух- и двенадцатиструнном фандыре и
длинные повествования под их аккомпанемент были
исключительной
привилегией
наиболее
даровитых
мужчин» и.
- старину осетинские сказители аккомпанировали
се°е на двенадцатиструнном щипковом инструменте
«ДУУадаестанон» (тип арфы, ныне вышедший из обихода)
или на двухструнном смычковом «хъисын фандыр» (род
скрипки). Современные сказители, когда под рукой не
оказывается национального инструмента «хъисын фандыра», легко нрпспосабливают для сопровождения обыкновеппую общеизвестную скрипку, патянув две жильные
струны и настроив се соответствующим образом.
Напевы осетинских мартовских сказаний, сохранив­
шиеся до нашего времени, представляют собой яркие об­
разцы древнейших пластов иародпой музыкальной куль­
туры. На это указывает их исключительная лаконичность,
ограниченность звукового объема мелодий, изменчивость
внутрнфразовоп ритмики, теснейшим образом связанной
с импровпзациопностыо поэтического текста,2. Напевная
декламацнонность, сочетаемая с речнтатпвпо-скороговоровными элементами, является папболее характерным
мелодическим складом большинства напевов. Им совер­
шенно не свойственны широкие мелодические распевы,
ибо на каждый слог текста приходится, как правило, один
звук.
Не исключены случаи, когда певец п
п наобото же сказание то с одним напевом, то с дрс Утверждения
рот, целый ряд сказаний —на один на. •
каЖдого
некоторых исследователей о существ 1ишеш>т достаточ­
на героев эпоса специальных напевов *
е это до сих
пых оснований. Во всяком случае на Р<
анализ мепор не подтвердилось 13. Лишь оравш
заппсанлодических вариантов одиих^п тех 4
ясную картину,
иых от разных исполнителен, может
ДОСТаточпым коК сожалению, наука еще не рас пол с
ответить не
личеством дотированных записей,
* рЯд проблем,
только на этот вопрос, по разреши
I
12 Народные произведения
эпос, 11злага|отся ^
вость нерпфмоваиных стиховых
7внутритаКГ0В
на неустойчивость впутрнфразо
' рет далеко нс
Ритмики.
жадных певцов имеет *
13 Одно и то же сказание У Р
сходные напевы.
475
10 М. С. Ту га но в. Новое ~в нартовском эпосе. — ИЮОНИИ,
вып. 1(У). Сталпнпр, 1946, стр. 172.
11 К. Л. Хотагуров. Собрание сочинений, т. ТТТ, М., 1951,
стр. 235.
474
I
встающих перед исследователем напевов осетинских мар­
товских сказаний, равно как и эпических сказов соседппх
народов. Именпо поэтому данная статья нс может претендовать па исчерпывающее и окончательное освещспне
всех проблем, касающихся средств выразительности: музыкалыто-интоиациоипого и ладо-гармонического строя,
ритмического склада, соотношения музыки и поэтического
текста. В пей изложены некоторые замечания по отдель­
ным музыкально-выразительным сторонам напевов, осно­
ванные частью на слуховом опыте, частью па.имеющихся
дешифровках магнитофонных записей ы.
При первом же знакомстве с напевами эпических по­
вествований осетин, имеющихся в обиходе современных
сказителей, а также сказителей недавнего прошлого, бро­
сается в глаза разнообразие форм как в структурном, так
и в мелодико-ритмическом отношении. Однако при всем
разнообразии напевов, их можно условно поделить па две
группы.
К первой группе относятся папевы, мелодические кон­
туры которых при повторении не подвергаются вариаци­
онному изменению и сохраняются на протяжении всего
повествования. Такие напевы отличаются краткостью изложенпя, логической и структурпой завершенностью и,
14 Магнитофонные записи, на слуховом анализе которых мы
делаем своп краткие выводы относительно осетинских эпических
сказапнй, хранятся в кабинете народной музыкп московской
консерватории нм. П. И. Чайковского. Они были записаны
в 1941 г. от различных певцов-сказптелей.
Среди них имеются такие сказания, как «О двух сыновьях
Нарт Уархага» (исполняет X. И. Хаспгов пз селения Саппба),
«Об одиноком сыне Нарт Хамыца» (исполняет он же), «Охота
Нарт Созрыко и Урызмага», «Нарт Бурафарныг», «Сказание об
одиноком сыне Нарт Хамыца» (исполняет Дзампаев), «Сказание
о нарте Урызмаге» (исполняет Л. С. Мамнев пз селения Нар),
«Нарты на охоте» (исполняет В. М. Гуриев пз селения Барзнкау), «Женитьба Назрана», «Сказание о том, как Сырдои спас
нартовскне табуны», «Сын колдуньи нартов, нартовскнй табун­
щик Махамат», «Сказание о нартах Ахсартагкаты» (исполняет
Д. А. Гатуев пз селенпя Дигора), «Сказание о семи нартах»
(исполняет А. Т. Цопанов из селения Дзуарикау), «Сказание об
Урызмаге» (исполняет Б. Р. Каргпев пз селения Хаталдон)Кроме указанных, имеются и другие записи, мы упомяпули
лишь те, которые послужили материалом для данной статьи.
Кроме этого, мы использовали йотированную публикацию
«Сказание о Сырдоне»,
помещенную в сборнике Б. А. Галаева
«Осетинские народные песни».
М., 1964, стр. 191.
476
= 71]
СКЛЗАНИЕ О НАРТЕ УРЫЗМЛГЕ
исп. Л. Мамисв
Зап. К. Цхурбасвой
Голос
Хъисып
фандыр.
17"
I»
<!Г
!■
N
1)Нар_ ты а. до».мыл
фыд аз ньисае.ны, мае хурл'ае,
ньисс
м...
Л>
куыкаиш...
_ таиигй^асхььп.нк-цуалфжфа.зы фгс-ра-зы
у*-узузя>-
%
к
Я
*
[у
гг.
' 3
5) Сантала ду~ ар_мж суг.тжм ра-у.гди ^феодам*!
V
Ь:
куыфсад®^
1
СКАЗАНИЕ О СИРДОНЕ
Спокойно ^ -89
ей!
I л '
фыд_былмлс:н Нар_ т«н.
Б. Л Галаев
1_2*_
Тенор_______ __
3
I
л
I
Кисын-фандыр ;
2
2
Ж
Нар.ты хъал_тге уггд сс_ мае
А
‘ Энергично, взволнованно (в том же темпе)
2
2
2
I I I
з
Л.
1. И_ у бон.згсгььт.Нар.та.хьалтаец^-яысфжндкод
з
з
О Стрэфояая
редакция
К. ЦкурбаевоЯ.
I
Г
з
I
СКАЗАНИЕ О СЕМИ НАРТАХ
исп. А. Цопанов
2.»асд.заагьы.Нарл-аен фыдбьшызжнкуынл®
цаеу н(ы)
Сыр-
А
и
Ужйл'ж.сем® фащазу. ын!
- до-ны насуагьхойт
Д-:.
ньТТ"
Г7Р
Г< 1
!рВДр.
1
нж уагьитой цуа-
I
ГП
3
ГР ГГ
Зап. К. ЦхурбасвоП
как правило, соответствуют одной стихотворной строке.
Эта особенность находится в тесной связи со стиховой, но
не строфической структурой самих текстом. В музыкаль­
ной фольклористике эти напевы получили название
однострочных или стиховых 15.
Напевы такого рода служат сказителю ритмическим
мерилом, которого он, несмотря на пмпровнзациоиность
текста, с явной неравнослоговостыо стиховых строчек, обязательно придерживается. Сказитель стромптся к тому,
чтобы уместить словесное содержание каждой стиховой
строки в хронометрические рамки напева.
Музыкальная форма эпических повествований,
н с полняемых с однострочными напевами, сводится к много­
кратному повторению лаконичного (продолжительностью
в 4—5 тактов) напева. Примечательно, что при повторе­
нии с каждой новой строкой текста, напев сохраняет
не
только мелодические контуры, но, что в данном случае
очень важно, свою временную протяженность.
Однако каждое повторение всегда сопровождается
варнантным изменением внутрптактовой ритмической струк­
туры напева. В данном случае это не может быть объяс­
нено изменчивостью мелодической линии, ибо она устой­
чива. Варьирование напева органически связано с резкой
неравнослоговостыо стпховых строк поэтического текста
п, соответственно, неустойчивостью расстановки слоговых
времен. Увеличению и уменьшению числа слогов сопутст­
вует раздробление долгих тонов напева на более краткие
длптельиостн, либо, наоборот, слияние нескольких корот­
ких длительностеп в один более долгий звук. Из сказан­
ного следует заключить, что внутритактовое ритмическое
строение напевов (соотношение ритмических долей)
в каждом последующем проведении (повторении) транс­
формируется под влиянием соответствующего данному
проведению поэтического текста.
Важно отметлть также, что напевам этой группы
свойственна равномерность акцентуации, в силу чего они
свободно укладываются в рамки единого тактового раз­
мера. Под влиянием четкой и равномерной акцентуации
напевов тексты приобретают форму тонического стихосло15 Иногда напев может соответствовать двум п более строч­
ка» образующим законченный по смыслу словесный период
(строфу), н тогда он называется строфическим.
480
женин с определенным количеством
Ударений в стиховой
строке.
Все особенности. характеризующие первую группу
повои, наглядно представлены в сказаниях «О п; наиарте
Урызмаге» и «О семи партах».
Напевы, которые условно отнесены
нами ко второй
группе, наряду с изменчивостью внутрифразовой
микн, характерпзуются существенным нзменением пх рптппТО на I (1101Г110-М С Л ОД IIЧССКОI1 СТруКТур Ы. В
оспове этих напевов обычно лежит один (иногда два-три) мелодический
оборот, повторяемый певцом в варьированном виде, бла­
годаря чему он производит впечатление непрерывной
импровизации.
Свободное мелодическое развертывание не стесняется
в них какими-либо метрическими рамкамп, как это при­
суще напевам нерпой группы. Увеличению пли уменьше­
нию слогов сопутствует но только изменение расстаповкн
слоговых времен внутри фразы, но также известное рас­
ширение или сокращение временной протяженности поневки.
Акцентуация в напевах весьма неравномерная и под­
чинена логической речевой акцентировке, что обусловли­
вает частую смену тактовых обозначении.
Одним из примеров такого типа является напев «Ска­
зания о Сырдоие», опубликованный в сборнике Б. А. Га­
лаева «Осетинские народные песни» (М., 1964, стр. 191).
Вся музыкальная ткань вокальной партии ск
о Сырдоие строится па одной довольпр Р ^^
й оД_
днческой попенке н объеме сексты соотнес ^
ной стиховой строке. В зависимо
протяженностьКОЛНпочества слогов в строке, временна
илп сокраггевки, как было сказано выше, ра
мой пропорции
ищется. Однако это происходит пе
пева все же не
с текстом. Хронометрические РаМК _ ‘ соКращеипя пли
поддаются резкому изменению в ст°1 оказывается сдеррасширения и в этом отношении п<
текстов, про­
живающим элементом при ямпровизад офорМЛенность.
вая пм определенную композяцио *
на следующем
Эту особенность напевов можно пр
дротяженност
схематическом изображении вреа
повторов ,6:
т
^ ск°бках указапа протяженность инструментальной Ш1терлюдиц.
Ча 31
Заказ № 1480
481
I
I строка
Поряд.
строф
кол.
слогов
нротяж.
напева
I строфа
II строфа
III строфа
IV строфа
10
21/8 (+8/8)
21/8 (+7/8)
21/8 (+8/8)
21/8 (+8/8)
26
20
27
'< строка
2 строка
; кол.
кол. иротяж. слогов
слогов I напева
И
21
18
2о
|Г,,8
20/8
19/8
19/8
10
8
нротяж.
напева
12/* (+8/8)
11/8 (+8/8)
10/8 (+8/8)
Ю/8 (+8/8)
речитативный
М елоднчес кая линия напева имеет
заключительный
звук которой,
(декламационный) склад,
в противоположность другим, всегда растягивается во
времени. Полевка к процессе исполнения подвергается су­
щественному интонационному н ритмическому варьирова­
нию, изменяется каждый раз и заключительный тон, со­
общая напеву ту пли иную ладо-тональную окраску
(ладовый склад основан на терцовой переменности; из ля
бемоль мажора мелодия переинтоиируется в до минор).
При внимательном прослеживании ладо-гармонических
сдвигов напева, сообщающих ему внутреннюю динамику,
наблюдается четкая периодичность, которая соответствует трехкратному вариационному проведению напева
(первое проведение с остановкой на второй ступени ля
оемоль мажора, второе — на основном звуке той же то­
нальности и третье — иа топике фригийского до минора).
В результате образуется строфовой напев, состоящий из
трехкратного повторения основной нопевки. Этот строфовой напев соответствует трем стиховым строчкам текста
п является тем музыкальным мерилом, который позволяет
текстовой материал эпического повествования, прибли­
жающийся к прозе, расчленить на закопченные по смыслу
строфы.
Таковы некоторые особенности на п евов, сопровожде­
щих осетинские эпические сказания о нартах.
Многие исследователи поэтических текстов осетинских
нартовекпх сказаний указывали на то, что все они, аа
очень редким исключением, имеют форму прозаичеРассказов* Это отчасти происходит, по словам
. Абаева, из-за того, что «большинство записывающих
само просит сказителя не петь, а рассказывать, так как
в последнем случае сказителя можно останавливать, не­
482
респрашивать, просить повторить, что при пении совер­
шенно исключается» 17.
Однако тексты, записанные вместе с напевом, тоже
мало чем отличаются от прозаического изложения. Лишь
в сочетании с напевом оживает их внутренний ритмиче­
ский пульс стихосложения. Напевы оказываются тем не­
отъемлемым п важным элементом, который сдерживает
импровизацию «прозаического» текста и придает ему оп­
ределенную в каждом данном случае композиционную
оформлен ность.
«Народный размер» сказаний, по поводу которого поле­
мизировал И. Джанаев в своей работе «Сказания о нар­
тах» 18, заключен в самих напевах, и только исследование
этих напевов в тесной взаимосвязи с поэтическим текстом даст ключ к пониманшо композиционного и рптмпраскроет
ческого строения нартовских сказанпй, а также
особенность
определяющих
национальную
ряд сторон,
героического нартовского эпоса.
.
17 В. И. Абаев. Указ, соч., стр. И4
18 Иван Д ж а н а е в. Указ, соч., стр. ав.
I
I
I
:
31 Заи. 1480
I
Преобладание эпического жанра п его поэтическое совершенство в абхазском фольклоре — результат псторических условий жизни народа, создавшего его. Вся псторпя
абхазского народа — это история беспримерной борьбы за
свободу и независимость.
В Л пены — стране абхазов, самым ценным качеством
человека всегда считали героизм, готовность жертвовать
своею жизнью ради отечества и свободы народа. Воспева­
ние героизма, мужества стало высшей поэзпей, духовпой
иотреоиостыо народа, веками но покладавшего оружие.
Сказания о нартах и Абрскилс, идеальные эпические об­
разы, созданные народом, до сих пор живут в его памяти.
Сатан си-Гуаш а, Гунда-пшдза, сто братьев-нартов —
любимые народные герои. От криков партов срываются
звезды, нарты не знают поражения в боях, они могучи
в гневе, безграничны в любви; они способпы выращивать
сады, создавать блага жизни.
Среди всех героев абхазских эпических сказаний выде­
ляются два гиганта — нарт Сасрыква и Абрскил.
Сасрыква вырублен из камня и закален в расплавлен­
ной стали; он обладает необычайной силой, энергией, вы­
соким чувством личного достоинства. Его подвиги, его от­
ношение к братьям-партам, матери своей Сатаней-Гуаше,
сестре Г.унде-ггшдза — все говорит об его псключительнои
цельности. Образ этот зародился в обществе, где лич­
ность, герой стоял впереди коллектива, а не над ним, где
герой выступает «как орган коллектива»как идеальное
выражение его чаяний и воли. И потому он представляет
собой образец гармонического единства эпической формы
и содержания. Именно это является одним из секретов
А. Н. Гогу а
ЭПИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
В АБХАЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
I
«Лучшие произведения великих поэтов всех стран, —
писал Горький в статье «Разрушение личности, — почерп­
нуты из сокровищницы коллективного творчества народа,
где уже издревле даны все поэтические обобщения, все
прославленные образы и типы» *. Фольклор всех народов
вдохнул жизнь в их литературы. В молодых, родившихся
на пороге Октябрьской революции, литературах, какой
является и абхазская, литературно-фольклорные связи
стали развиваться в новых условиях, когда общественное
начало получило чрезвычайно важное значение.
Особая роль фольклора в процессе становления и раз­
витая абхазской литературы объясняется своеобразием
самого абхазского фольклора и тем положением, которое
он занимает в духовной жизни народа.
Устная народная поэзия сопровождала всю жизнь аохаза. В долгие зимние ночи у пылающего очага, в часы
отдыха от полевых работ, в жаркие дни в тени вековых
деревьев всюду слушал народ поэтические сказания
о народных героях. Могучие образы их жили в душе
каждого горца, сопутствовали ему и в горе, и в радости,
воодушевляли, вселяли силу п надежду; смертельно ранен­
ный в бою слушал знаменитую народную «Песнь ранения»»
где пелось о^том, что «тяжелая рана — украшение бойца»»
весть о^ гпоели героя входила в дом с мужественно-тра­
гической мелодией «Азар», которая заменяла плач, п т. Д.
з всех видов народного творчества абхазов самыми
популярными являются сказания о нартах и могучем
Абрскиле, приковапиом к скале.
1 М. Г о р ь к тт й. О литературе, М., 1953, стр. 54.
484
:
I
;
бессмертия
А геройобраза.
другого абхазского эпоса, богоборец Абр­
скил, — глубоко философский образ. Это — обобщение от­
ношения народа к добру и злу, символ великой справед­
ливости,
которая должна существовать па земле.
Абрскил — носитель нелоборимой силы и правды народа.
За эту правду он восстает против самого бога. Закован­
ный в глубокой и мрачной пещере врагами, он ни на миг
Не теряет воли к борьбе.
образы устной поэзии веками
Эти могучие эпические И потому эпос оказал такое
жили в сознании народа.
М. Горький. Указ. соч. , стр. 51.
485
31*
__
спльпое влияние на все жанры абхазского фольклора,
особенно на историко-героические песни. Народ веками
воспитывался на эстетике эпоса. В момент рождения аб­
хазской литературы, с одной стороны, существовала бо­
гатая эпическая традиция, с другой — определенная исто­
рическая ситуация (революционной героики и т. д.),
изображение которой вполне укладывалось в эпико-герои­
ческие формы. Вот почему эпический жанр приобретает
в абхазской литературе первостепенное значение. Вместе
с тем героизм современной советской эпохи уже нс укла­
дывался в рамки эпической традиционности.
Первые абхазские писатели, и прежде всего основопо­
ложник абхазской литературы Дмитрий Гулиа, столкнултхсь с решеппем сложных вопросов, связанных с заро­
ждением художественной литературы и формированием
творческой ппдивидуальпости
советских
писателей.
В этом процессе, помимо традиций национального фоль­
клора. был использован опыт развитых литератур народов
СССР н в первую очередь большой опыт русской лите­
ратуры.
Д. И. Гул па заложил основы многих жанров абхазской
литературы, используя художественные традиции фоль­
клора. Фольклор в его творчестве занял определенное
место. Уже в первой лпро-эппчсской поэме Д. Гулпа
«Письмо юноши л девушки» видим творческое использо­
вание лексики и ритмики абхазского фольклора.
Ряд эпических произведений Д. Гулиа написан по
фольклорным мотивам; средп них значительный интерес
представляет поэма «Пистолет Эшсоу» 3. Это сравнительно
позднее предание, широко известное в Абхазии; опо
ооычно излагалось прозой. Поэт переложил его в стихи.
В поэме рассказывается об отважных горцах, населяющих
Дал и Цабал, о двух братьях-киязьях — Батале и Эшсоу,
полюоивших красавицу Эсма-Ханум. Поэма построена по
принципам, характерным для абхазских историко-герои­
ческих песен. Начинается опа с эпического введения,
цель которого — усилить интерес к повествованию. Вся
поэма излагается в эпическом тоне; он сохраняется даже
там, где сюжет достигает своего наивысшего напряжения
(ссора братьев из-за девушки, грозившая кровыо). Илтеабх.3яз!). ГуЛИа* Сочннон«я,
т. I. Сухуми, 1956, стр. 31 (на
486
Ресны портретные характеристики, почти полностью запм
ствоваппые писателем из народного эпоса. Вот как на"
пример, рисуется образ красавицы Эсма-Ханум у д’ Гу
лиа:
у
Была она осанкой очень совершенна,
Косы доходили от головы до самых пят,
С глазами большими, величаво прекраспал,
Наряды были ой к лицу. В. роскошном убранстве
она была.
1
!
■
Подобная портретная характеристика героев харак­
терна для абхазских сказаний о нартах. Так, о сестре нартов прекрасной Гуиде (Гунда-пшдза) в иартскпх сказаниях говорится: «Не было из рожденных женщиной прекраснее, чем она, она казалась божественной. Облик,
стан, телосложение не мог описать язык человеческий,
тело со было подобно нежному молодому сыру, она сияла,
светила без солнца, без луны».
Как видим, Д. Гулиа немного изменил традиционную
формулу описания эпической красавицы, добавив описаиие ее наряда.
Язык поэмы Д. Гулиа еще очень близок к фольклор­
ному: в нем немало поэтических выражений и образов из
художественного языка фольклорных произведений.
Эшсоу» Д. Гулиа
Как видно, в поэме «Пистолет с повествовательной
фольклор еще не слит органически
п характеристики
тканыо поэмы; фольклорные ооразы
вставки. Одиногда представляют собою своеобразные
нако, несмотря на некоторую комп°31‘д‘1°™^твершдеппп
это произведение сыграло заметную р
траДицпп
эпического жанра в абхазской литературе.
художественные цтр ДДго
Своеобразно использовал
эпоса другой абхазский писатель, ьаэ.
* СПМВОЛИпоэме «Дева Гор» образ Девы 7 собирательный
ческий образ Апсны — страны аохазов.
На вершине горпой — гляньте! —
Вот сама она белеет,
Как папирус, тот, что с Нила,
лучистый.
Как алмаз горит
тпбче стана,
Нет на свете легкий пояс —/V вкруг стана
487
Из цветов сплетен он нежных.
Тех, что пет нежней на свете!
Вся одежда — розы! розы! —
Ниспадает розопадом
А струится ароматом,
И пьянеют им все дали!
Выотся косы, будто змеи,
Золотого блеска змеи,
И па мраморные плечи
Опустившись, грезят сонно.
Все лицо трепещет смехом,
И горят глаза-алмазы,
Все в себе она окружье
Дива-Дева Гор вместила.
Так было с времен глубок*их.
На вершппе — будто солнце...
А у пог ее — владенье,
Гор могучих край чаруйный.
И от взора по укрылся
И в долине и в ущелье
Не один из них —любимых
Сыновей ее — абхазов!. *
В этом описании символической Девы заметно влия­
ние нартского эпоса, а именно образа матери мартов Сатаней-Гуаши (как и Сатаней-Гуаша, Дева Гор рисуется
матерью всего абхазского народа) и сестры нартов Гундапшдза (необыкновенная красота Девы Гор: «ее глаза —
алмазы», тело ее белеет, «как папирус, тот, что с Нила»,
розы облекают ее стан...). Вернее будет сказать, что об­
раз этот создан под влиянием образов основных героинь
нартского эпоса, воплотив лучшие их черты.
Приемы описания, своеобразное использование трехкратности (счастливые годы Девы Гор, ее порабощение
и горе, Советская власть, возвращенное счастье), харак­
терной для композиции некоторых жанров устной народной поэзии, обилие постоянных эпитетов — все это гово­
рит о близости поэмы к народной эпике. Безусловно,
фольклорный материал реализовался автором сообразно
* «Антология абхазской поэзпп». М., 1958, стр. 149—150. Поэтпчеекпй перевод этого отрыпка
и все подстрочные переводы
выполнены автором статьи.
488
\
г
его художественному вкусу н замыслу самого произведе­
ния. Следует заметить, что автор несколько увлекся ли­
тературной стилизацией. Такие эпитеты, как «диво-Дева»,
«глаза-алмазы», «зион-улыбка», «Дремо-дерсво», «веткаласка» «Кавказ-седовлас», «ночь-иеволя» и др.,— не
свойственны абхазскому фольклору. Они или придуманы
поэтом, или калькированы с русского языка.
Поэт Иуа Когониа умело и тонко использовал богатей­
шие возможности абхазской народной поэзии в жанре ли­
тературной поэмы. И. Когониа глубоко чувствовал специ­
фику народной эстетики, понимал ее своеобразие и отли­
чие от эстетики художественной литературы.
И. Когониа поставил перед литературой чисто художествеяные задачи и смело, мастерски разрешил их, одно­
временно используя профессиональный опыт своих пред­
шественников (в первую очередь Д. Гулпа) и художест­
венные достижения народной поэзии.
И. Когониа оставил после себя не более двух десят­
ков стихотворений и восемь поэм. В его поэмах встречается значительное количество сюжетов, мотивов и поэтических формул, заимствованных из фольклора; вместо
с тем его поэмы — вполне оригинальные произведения.
Возьмем для примера две из них: «Абатаа Беслан» и
«Зосхап Ачба и сыновья Жанаа Беслана».
Поэма «Абатаа Беслан» создана по мотивам популяр­
ной абхазской историко-героической песни. 1 оэт взял
в основу сюжет одного из песенных вариантов п перер
ботал его по-своему. Последнее заметно п в портр
характеристиках, и в дипамнке повествования.
липаех образ пастуха Батаква’^““рмиескп спасает
жествеыиая и цельная личность, ш г р
свою мать, сестру, невесту, мстпт за кров Р
в на_
тически становится главным героем поэмы (
родной песне).
.„„рф^ртся поэтический
На протяжении всей поэмы О
топот коней,
ритм героического эпоса, слышен тревожный от которых,
Дружные выстрелы, мужественные
Р ф’ольКЛоре), но
правда, уже не срываются звезды (к
*туацШ0. Речн
все это создает определенную эш
* ен№ ЧТо вполне
героев несколько эмоционально во
преобладает
обусловлеро тем героическим фоно ’
НЬ1 реалпстпчев поэме. Вместе с тем все геро
с
не амазонки, не
сними чертами, а героини здесь
489
1
девы-воительницы хотя, как и они, бесстрашны в своих
поступках; они женственны, умеют любить и ненавидеть,
а иногда проявляют даже слабость.
Что же оставил поэт от эпической традиционности?
Прежде всего описание портретов героев, их одежды, ору­
жия и т. д. Сохранена и эпическая триада, которую автор
своеобразно применил для усиления драматизма (когда
враги окружили дом Беслана, он поочередно приходит
к жене, матери, сестре, предупреждая о нависшей пад
ними опасности).
В поэму введены и песни (правда, с прозаическими
заготовками), напоминающие народные плачи Амыткума.
Постоянные эпитеты «вороной конь», «черный арха­
лук», «залетная птица» и т. д. уже не являются постоян­
ными в прежнем смысле слова, так как приобретают ка­
чества художественной детали, оттеняющей образы, кон­
кретизирующей действие. Устаревшие слова и тропы
писатель заменяет другими, более приемлемыми для
современности. Свою героиню он уже не сравнивает
с солнцем и луной, как в народно-эпических произведе­
ниях. В поэме она «светит, как свеча, освещает, словно
зажженная лучина...» Таким образом, Когониа находил
для традиционной эпической поэтики новое применение,
повышая ее идейно-художественную значимость и тем са­
мым заставляя ее звучать в новом ключе.
В его поэме уже нет героя непогрешимого, без слабо­
стей, оез грехов: смертельно раненный Беслан, лежа
у разграбленного своего дома и еще шевеля обескровленными губами, говорит подоспевшему другу:
Убили меня враги,
Угнали семью,
Прошу, дай знать брату,
Ушедшему в горы пастухом.
Зачем ему гнаться, кого он нагонит...
С кем он справится уже,
Что оп может сделать, бедняга,
Не видевший ничего,
Кроме жизни пастуха б.
5 Иуа Когонпа. Стихи и поэмы. Сухуми, 1955, стр. 110 (на
абх. яз.).
■
\
Примером того, как п творчестве Когояпа традицион­
но получает повое осмысление, может служить псполыо
ванне нм чпсла «100». В абхазских нартскпх сказаниях
оно постоянно и обязательно. В поэме Когонпа это число
встречается довольно часто. «Беслан проскакал меж ста
всадников, п всех он выбил из строя», или «Беслана окру­
жила армия из ста человек», «Батаква ведет бой с сотней
люден», «сто человек залпом стреляют в одного». Но у Когопиа эта гппербола ослаблепа, опа характеризует реалъные явления.
Другая поэма И. Когонпа, «Зосхап Ачба п сыновья
Жапаа Беслана» — ярко социальное произведение. Князь
Зосхан Ачба не взлюбпл сильных, независимых и храбрых
сыновей Жапаа Беслана. Князь Зосхан — главпый персо­
наж поэмы — хитрый, коварный, неглупый враг трудового
парода. Поэт рисует его скупо, по выразительно; это хро­
мой, невзрачный человек; па боку у него висит богато
убранная шашка: «На боку висела шашка, опрокиды­
ваясь», она висит, «болтаясь», «ударяясь о боюь и т. д.
Характерное для народно-эпических произведений оппсазачастую превращалось в фетиш,
пие оружия, которое
сатирической обрисовки
здесь обращается в деталь для использована традицион­
героя. И в данной поэме вновь
нее ли родстчтобы узнать,
пая триада : Зосхан Ачба,
Жанаа, навещает трех кпязей
венников у братьев
Абжуйской Абхазии и лропзв Бзыбской, Гумской представляющих
и
собой эпические
носит три монолога,
повторы.
плачи двух сестер братьев Жанаа,
Высоко поэтичны
. Плачп-прпчптаття сущепроданных Зосханом в неволю п как
^ самостоятельный
ствуют в абхазском фольклоре
гзведещгй, особенно
жанр и как компонент эпических про! иародпо-поэтпчсисторико-героических песен. (Ооразцом
п Киахба
ского плача является, например, п
ое \ И. КогоХаджарата в народном сказания 00 3 1 ка^ заКончеиное
ппа включил в свое произведение <юиалЬного возноэтическое произведение огромно
с плачем
Йгореве».
действия, который можно поставить
—
Ярославны из бессмертного «Олова
^ СТепеип, чем
Язык поэмы «Зосхан Ачба» в
клор11змамп, но они
поэма «Абатаа Беслан», насыщен^ ‘дмер? сестра Жапаа
встречаются довольно часто.
491
490
/
оплакивает одного из персонажей словами
п выражениями
из народных плачей:
Его пуля пе была подобна обычной нуле,
И порох, который оп сыпал в ружье пе был
порохом обычным,
Его черное ружье пе было подобно обычному
И голос его пе был подобен обычпому голосу ружыо.
мужскомус.
Иуа Когониа написал еще шесть поэм:
все они созданы по мотивам народно-эпических сказаний и песен.
В них (особенно в поэмах «Хмыч-охотшгк» и «Новей и
Мзауч») поэт достиг еще большего
художествеииого совершеиства в попользован ни иародиой
словесности, особенно иародиого эпоса, в
литературных
произведениях,
В поэмах
писателя заметны и фольклорная пластика про­
явления характера, фольклорная палитра и «не фольклор­
ная конкретизация красок, точность и завершенность
художественной структуры образов» 7.
'I. Когониа своим творчеством, особенно своими по­
эмами, способствовал развитию родной литературы, ста­
новлению ее глуооко национальных традиций, утвердил
эпические_ жанры, доведя их до художественного
совершенства. Чутьем талантливого писателя
понял оп
величие эпических образов,
которые
поднял
до
героев
современности, осмысливая *
героическое
прошлое в иастоящем.
пптштКт^0Г0Н1га целое открытие для абхазской литеобиачип гЬптт^тМ СВ0?.00Разный сплав пародно-разговорной,
турноГ^^$)ечгг 0^ТН0Ы,
иаконе^ художествеипо-литератонотескиГ ^ Прозратгиа^ легкая, точная, она делала
Своими хупожррп Поэта ГИ^К1Ш’ мягким п мелодичным.
СКОГО тонпческогостиха И РЛзработкамп народно-поэтичеформирования- ргттггг П^Ха
™огониа подготовил почву для
шего влосярчгтпт Л аОО ТОНИЧеского стихоеложенпя, ставВ ЩюцмсрТВт!тт0СН”0ВНЫМ в ^хазской поэзии.
туры влиянтгр жД Иеишего Развития абхазской литературы влияние фольклора становилось
иньтм, внешне ме7 тгУ1г 01111 а* Стихп 11 поэмы, стр. 110.
К вопросу о фольклорнзме древней
фольклор.
Материалы
иссле­
дования», вып. VII. М.—Л., Изд-во
АН СССР,
1962, стр.и 26—43.
л. И. Емельянов.
русской
492
Л. Квищшиа. В ого поэме «Шаризан» образ волевой™
сильной женщины напоминает эпических дев-вонтельшш
(героиня переодевается в мужское платье н памере
вается мстить за КР0ВЬ сиосго брата). В другой его поэме,
«Даур», используются народный плач, поспи и отдельные
образцы фольклорной лексики.
Уже в 30-е годы сложились национальные традиции
аохазскон литературы. Ярким свидетельством зрелости
абхазской литературы является творчество поэта Баграта Шннкубы. Б. Шинкуба, поэт-новатор, на основе народпого
стихосложения и творческого опыта своих предшествен­
ников — поэтов Д. И. Гулиа, И. Когониа, Л. Квнциппа,
Л. Лабахуа, — усовершенствовал и утвердил в абхазской
поэзии систему силлабо-тонического стихосложения.
Баграт Шинкуба — один из собирателей и лучших
знатоков родного фольклора, который не только знает, но
и топко чувствует. Он хорошо понял художественные воз­
можности современной абхазской литературы и ее новые
отношения с фольклором. Устное народное творчество
впиталось в поэзпю Шинкуба и получило здесь оригиналь­
ную поэтическую жизнь. Шинкуба создал классические ооразцы литературной баллады: «Гунда-красавпца», «Дитя»,
«Свирель», «Рица» и т. д., сюжеты которых восходят
к устной народной поэзии абхазов.
Особое место в творчестве поэта занимает героическая
поэма «Песнь скалы», о народном герое-рсволюцпонере
Киахба Хаджарате. О нем создано много историко-геро ческпх песеп и сказаний. И поныне жпвут современ
источникам глубоко
смЙгокоо лро,ш.дсриал, он ппшет свое
иие, где народно-поэтические элементы играют подчиненИУСпГбы „ приомь, творческого
тов фольклора в поэзии Шинкуоа <
«ГундаЛюбопытна в этом отношении
« Отечествсннои
пшдза». Поэма написана в годы
героизму. Балвойны, когда особенно усилилась
‘ ^ гдаба «Дева
лада Шинкуба кое-чем напоминает
* едставлена епмвоГор». В обоих произведениях Родина пред
493
ЛИЧССКИ 13 образе красавицы. Красавица эта названа
у Шиикуба именем эпической героини Гулды. У нее,‘как
И В эпосе, есть сто братьев-нартов — заступников. В па­
тетичный, возвышенный язык баллады поэт с художест­
венной осторожностью и чувством меры вставляет выражения, заимствованные из народной эпики. В общем же
баллада написана современным литературным языком.
:
1
Молодой поэт В. Анкваб написал большую поэму ПО
мотивам и сюжету народного эпоса об Абрскиде.
Процесс влияния фольклора на прозаические и драма­
тические жанры абхазской литературы протекал не­
сколько своеобразно. Известно, что в абхазском фольклоре
преобладали прозаические жанры, что можно объяснить
известным стремлением к реалистическому мышлению.
В абхазском фольклоре рассказы реалистического харак­
тера — это вполне закопченные и художественном отно... изустные творения народа. И вполне закономерно,
шепни
абхазский
писатель М. Лакрба в своем сборнике абчто
хазских новелл «Аламыс» поместил эти народные расНесмотря на
сказы почти без какой-либо переработки.эпических
эленаличие в них множества традиционных
ментов, новеллы эти, за редким исключенном, имеют реа­
листическое содержание. Сюжет одного из этих расска— «Два брата», — по-видимому, ведет свое начало из
зов
партского эпоса, от сказания о парте Кстуаие, изобрет­
I
Окутай мраком неба своды,
Самодоволен и жесток,
Ввергая в бедствие народы,
Враг шел лавиной па восток*.
Он обрекал люден на муки, —
Была военная гроза, —
В крови его алели руки,
Горели жадностью глаза.
И вот пленился, озираясь,
Он солнцеликою страной, —
Гора Ерцаху, возвышаясь,
Сверкала нежной белизной.
II в нем желание созрело
Ярмо на шею ей надеть, —
Своей рабыней Гунду сделать,
Сокровищами овладеть.
Кто этой девушки не знает?
Подобной ей красавиц нет.
Прекрасный стаи глаза пленяет,
Немеет перед ней поэт.
И Гунда, всех красавиц краше,
Их славпт в песне боевой8.
шем свирель и песню. В новелле М. Лакрба этот эпиче­
ский сюжет трансформируется и, освобождаясь от мифи­
ческого, становится вполне реалистическим.
Начинается новелла с того, как два брата, «разделив­
шие надочажиую цепь», жили в мире и достатке. В пер­
вой части рассказа уже намечается основной конфликт,
который усиливается во второй его части, где^ рушатся
все иллюзии о безмятежности крестьянской жпзн
в прошлом. Герой рассказа Елкаы находится во в^а
уже устаревших в классовом обществе пошшп
’
долга и мужского достоинства, из-за К0^0РЬ^^
0Й
Сибирь. Сюжетная ситуация, в которую попадает^герои,
враскрывает суть лжегероизма, приведшего Р
Язык рассказа насыщап пе «рлш>
"
(Перевод В. Серебрякова)
Творчество Шиикуба — это новый этап во взаимоот­
ношениях фольклора с абхазской литературой.
И в настоящее время многие абхазские поэты обра­
щаются к фольклору, чаще всего к его эпическому жанру*
Это поэты — А. Джонуа, Л. Ласуриа, К. Ломиа и др. Зна­
чительный интерес представляет поэма Джонуа «Нарт
Сасрыква», которая является переложением в стихи одпого из популярных сюжетов нартского эпоса.
<.
!
8 Баграт Шин куб а. Стихотворения. М., 1959, стр. 94—96.
494
друшмк характерна»™
х,»«.стояражениями, но и
лого языка фольклорных произведении.
ыа абхазскую
В свете проблемы влияния фол
Р
д и. Гупрозу еще больший интерес представляет Р^^ццальлна «Каманин». Это большое эппче
Ш10ННОй абхазно-бытовой роман из жизни предр *
ц вес1чма слож­
ной деревни. В художественном пос Р
ц романа Капиного и интересного образа глав!
заимствованных
мачич встречается много эдемепто ,
чпч напоминает
сателем из эпоса: образ бесстрашно
495
фольклорные образы дев-вотттелышц. Каманин с детства
дружпт с мальчиками, ездит с ними на буйволах, а впо­
следствии становится известной наездим цен. 1] срсодевшнсь в мужское платье, она убивает своего бывшего
мужа, мучителя князя Тотластана.
В первых главах романа
наблюдается обилие фольклорно-этнографического
материала,
заметно
влияние и народно-поэтического
чувствуется
часть названии глав — известные языка (даже большая
Чем дальше действие приближаете народные пословицы),
41 к финалу,
становятся обществе!
шыс
конфликты,
фолькл то .ч острее
тивы
отступают, и почти исчезают в конце. ирные
Это монятио: во второй части они менее оправданы с
и ловенной стороны. Такое развитие романа
л'УДо>кестмерно, ибо фольклорные элементы быливесь.ма законев первой части романа для обрисовки сильной
л необходимы
римой личности героини, протестующей
иеиримикого принижения.
протин социальД. Гулиа открыл широкий путь абхазскому
Но помимо большой эпической формы он создал жанр и
ромаиу.
небольшой реалистической новеллы. Обычно сюжеты и
мотивы новелл заимствованы писателем из фольклора.
Так рационально, творчески были использованы Д. Гулпа эпические традиции абхазского фольклора.
В области драматургии интересную работу по твор­
ческому освоению народно-поэтического наследства про­
делал известный драматург п режиссер абхазского театра
М. Кове. По сюжетам и мотивам историко-теропческнх
сен «Ипапха Киагуа», «Киахба Хаджарат» он создал
родно-героические драмы, которые долго нс сходили песо
насцены абхазского театра. Эти произведения сыграли зна­
чительную роль в развитии национальной драматургии и
театра.
М. А. Кумах о в
К ЭТИМОЛОГИИ ИМЕНИ ОСНОВНОГО ГЕРОЯ
АДЫГСКОГО И АБХАЗСКОГО ЭПОСА
В области изучения ономастики иартского эпоса до­
стигнуты значительные успехи. Здесь прежде всего сле­
дует отмстить тот большой вклад, который внес в изучение
нартской ономастики (как и в изучение эпоса в целом)
В. И. Абаев. В работах В. И. Абаева дастся обоснованная,
научная этимология целого ряда терминов и собственных
имен иартского эпоса. Вместе с тем нельзя не отметить,
что ономастика иартского эпоса еще недостаточно разра­
ботана. Причиной этого служит не отсутствие исследова­
ний в этой области — их довольно много, — а несовершен­
ство методики исследований большинства авторов, зани­
мающихся этой проблемой. Вопросы нартской ономастики
могут быть
—жКдаЗЗ
стики, истории, археологии и т. Д. ^то 1
н0 оче_
и не требует пояснений. Но должно'
того или
видным,
что для выяснения пР0И^Хде всего пеИНОГО
термина, или собственного нм >! материалом
Аохазская литература развивается в общем русле
Обходимо располагать достаточным языков:Есл„
многонациональной советской литературы. Вместе с тем
И
владеть методикой этимологи
нь1ц языковой
она тесно связана со своей родной почвой, со своей худо­
Даже
лингвист,
хорошо
знающий
лоИяеского
анажественной колыбелью — фольклором, в особенности
материал, не владеет методикой
11М0Л0Г11ческяе про­
с его эпическим жанром.
лиза, он не в состоянии решить - ^ пеКОторые
Фольклор, — как вечные снега на вершинах гор, пиблемы. Между тем, как это ни пар
выводы псто^^11е Р««, он~~как вековые залежи, сокровища земли,
исследователи нартской ономастию Д ^ поДххас сомнпдобывает человек, чтобы превратить
их в характера
полез­
рического
на очень скур» 1 элементарной тех
ную энергию и электрический свет.
тельном материале, не владея пр! \'оаКтерпо, чт0 ’
никой этимологического анализа.^ ' ^ 11Х Цспоряже
авторы нередко сами признают, 1
497
■
некоторыми соображениями относительно первичной
формы корневого элемента этого имени. В связи с этим
коснусь также соотношения абхазо-адыгской формы
Сосрыко и осетинской формы Сослан.
Научной этимологией имени Сосрыко занимались мно­
гие ученые. М. В. Рклицкий возводил имя Сосрыко к СосИр-Ко, что означает, по его мнению, «сын Соса-Иропца»3.
Форму Сосрыко М. В. Рклицкий считал результатом
«своеобразного восприятия» исконного осетинского имени
Сослан, восходящего к Сос-алан4.
В. И. Абаев справедливо отверг этимологию М. В. Рклпцкого5, считая, что имя Сослан едва ли является по
6
происхождению осетипским \
Правда, В. И. Абаев полагает, что имя Сосрыко представляет собой кабардпнизацшо имени Сослап путем при­
бавления обычного в кабардинских именах элемента «ко»,
что значит «сын». В. И. Абаев делает предположение, что
имя Сослан попало в кабардинскую среду из дпгорской
среды, а оттуда уже в кабардинпзированион форме Созруко было заимствовано в иранскую7. Ж. Дюмезиль
также считает, что имя Сосрыко восходит к Сослан, т. е.
Сосрыко является видоизменением первичной формы
Сослан. Что же касается этимологии последнего, Ж. Дюмезиль связывает корневой элемент этого слова8 с осетин­
ским сос-ан в значении «жаркий период лета»и.
написанной
В статье «Проблемы нартского эпоса» В. И. Абаев,
после опубликования работы Ж. Дюмезиля,
птме.
возвращаясь к этимологии имен Сослан и
Р ’тается
чает, что происхождение корневого элемент
статье
еще неясным9. Следует отметить, что
форм
В. И. Абаев по-новому ставит вопрос о соотношении
Сослан и Сосрыко. Рассматривая Со У
еяного в одДве формы одного и того же имени, ФР^ по-адыгски,
ном случае по-осетински, а в Д1 у
очень мало фактов, но, тем не менее, они, как правило,
:
приходят к далеко идущим выводам, которые они до]
настойчиво
навязывают
пауке.
Бросается
в
глаза
вольно
еще то обстоятельство, что к исследованию чрезвычайно
трудных вопросов, касающихся этимологии важнейших
1у
терминов и собственных имен нартского эпоса, проявляют
интерес в основпом не лингвисты, а специалисты, зача­
стую далеко стоящие от лингвистики. Изучение онома­
стики нартского эпоса, повторяем, ни в коей мере нельзя
объявить монополией одних лингвистов. Но необоснован­
ные, скороспелые выводы, которые часто делаются па ма• териале ономастики иартского эпоса, объясняются несо­
вершенством методики анализа конкретного лннгвистического материала.
В своем докладе «Проблемы нартского эпоса», прочи­
танном на совещании, состоявшемся в октябре 1956 г.
в г. Орджоникидзе, В. А. Абаев писал: «В самом деле,
можно допустить, что мотивы, образы, даже целые сю­
жеты иартскпх сказаний могли возникнуть независимо
у разных народов... Но абсолютно исключено, чтобы тер­
мин «нарт» или собственные имена Сатана, Урызмаг,
Сослан, Созрыко, Батрадз, Сирдон и др. появились неза­
висимо в разных местах. Каждое из них, вне всякого сом­
нения, возникло в одном определенном месте, у одного
определенного народа и отсюда уже распространилось
I
среди народов» *. Мнение В. И. Абаева, которое мы все­
цело разделяем, ни в коей мере не противоречит общепри­
нятому положению о том, что нартскпй эпос является
мн огонационал ьны м.
Сказания о Соеру ко (Сосрыкъуэ) составляют основ пое
ядро нартского эпоса у адыгейцев, кабардинцев, убыхов,
аохазов и аоазни. Поэтому не требует пояснений тот
факт, что выяснение этимологии имени Сосрыко имеет
исключительно важное значение для изучения нартского
эпоса. Не случайно В. И. Абаев писал, что «тот, кто разъ­
I
яснил бы элемент Соер в слове Сосрыко, оказал бы не­
малую услугу партским исследованиям» 2.
Я не беру па себя смелость решить вопрос об этимо­
логии имени Сосрыко. Мне хотелось бы лишь поделиться
: ш (- с ».^О рджшшкпдао,
** Там же, стр. 27.
о нартах 11 цартекпх
^ “ Сб'
;
498
г*
сказа-
тт 3
Рклицкий. К вопросу
_*• Владикавказ, 1927.
1945, стр. 28.
5 Там же.
й эпос. Дзауджикау.
р В. И. Абаев. Нартовскшг
Там же, стр. 29.
1ез Ьгпеиез с1 1е*
8 Дам же, стр. 28.
апаЮНепз зиг
,.4Ч- й и ш е г П. ОосишеШз
а ™П8 г*и Сан сазе, Рап'з, 1900.
эпоса.
В- И. А б а с в. Проблемы партского
32 Заказ № 1 /«80
499
В. И. Абаев оставляет открытым вопрос об исходной
форме корневой морфемы Сослан и Сосрыко. Здесь
В. И. Абаев сделал существенную поправку к точке зрештя, согласно которой форма Сосрыко считалась лишь
«кабардинизнрованным вар I г актом » имени Сослан.
Из исследователей, в том числе лингвистов, никто
не сомневается в том, что вторая часть имени
Сосры-къуэ (Сосрыко) представляет собой общеадыгское
слово «къуэ» (сын). Причем здесь мы имеем дело не
с архетипом этого слова, а с живой словоооразовательпой
моделью, действующей в современных адыгских языках.
Ср., например, каб. Сосрыкъуэ (Сосрыко), Темрыкъуэ*
(Темруко, т. е. сын Темура), Болатокъуэ (Болотоко, т. с.
сын Болата). Иными словами, составной, производный
характер анализируемого имени является очевидным.
Но что же представляет собой в абхазо-адыгских языках
первый компонент разбираемого имени? Является ли он
видоизменением формы первого компонента осетинского
Сосл-ан?
Эту проблему, имеющую существенное значение для
решения целого круга проблем нартского эпоса, пред­
ставляется необходимым расчленить на два вопроса.
Первый вопрос — этимология элемента Соер. На дан­
ном этапе изучения нартской ономастики не представ­
ляется возможным этимологизировать элемент Соер.
Второй вопрос, решение которого должно предшест­
вовать решению первого вопроса, касается исходной зву­
ковой формы элемента Соер и его отношения к осетин­
скому Сосл(ан).
Анализируемое имя в адыгейском, кабардинском,
убыхеком языках и их диалектах представлено в следую­
щих фонетических вариантах: Созрыкъуэ — Созырыкъуэ — Сосркъуэ — Сосырыкъуэ — Сасрыкъуэ — Сасырыкъуэ
Саусырыкъуэ — Саусырыкъуэ — Сэуэсырыкъуэ. Сравнительно-исторический анализ всех вариант­
ных форм показывает, что более архаичной (первичной)
формой является Сэуэсыры-къуэ. Отсюда видно, что форме
Соср//Созр соответствует Сэуэсыры. Заметим, что форма
Сэуэсыры не является каким-то архетипом, а представляет
сооои живую форму, встречающуюся поныне в адыгских
языках и диалектах. Но по отношению с Соср//Созр
форма эуэ сыры является исходной. Это доказывается
тем, что в адыгских языках с точки зрения звуковых со500
/
НК." Сэуэшрь^!^
1
;
касается ооратного явления - перехода Сэуэсыры в Сосп//
Созр, то оно иллюстрирует наиболее типичные ™
новые процессы адыгских языков. Изменение «эуэ» в «о>>
(ср. Сэуэсыры, Соер) н редукция гласных «э» — «ы» до
нуля (ср. Сэуэсыры, Соер) - закономерное явление в этих
языках. Ср. идентичные примеры—«эуэ» — «о»; каб
«сынэуэжьз-ч>сыиожьэ» (я тебя жду), редукция «э» п се­
редине слова: каб. Гуэщэпагъуэ -> Гуэщпагъуэ (собствепноо имя), редукция конечного гласного «ы»: адыг,
«лэпсы» — каб.
«лэпс»
(мясной
бульон),
адыг,
«уэщхы» - > каб. «уэщх» (дождь), адыг. «мэщы»-жаб.
«мэш» (просо). Количество примеров можно легко уве­
личить, по в этом нет необходимости, поскольку указан­
ные звуковые изменения строго закономерны п известны
всем исследователям адыгских языков.
Итак, становится очевидным, что при выяснении ис­
ходной формы (следовательно, и этимологии) рассматри­
ваемого имени нужно исходить из формы Сэуэсыры.Форма
Соер является вторичной, закономерно восходящей к Сэуэ­
сыры. Попутно заметим, что изложенное позволяет сде­
лать также вывод, касающийся уже не только лингвисти­
ческого аспекта проблемы эпоса. Как известно, согласно
адыгскому сюжету о рождении Сосрыко, последний ро­
дился из камня, оплодотворенного нартекпм пастухом Сое,
которого поразила красота Сатаией, находившейся па
Другой стороне реки. Сюжет о рождении героя пз камня,
как известно, сам по себе является древнейшим и встре­
чается по только в иартском эпосе. Этот сюжет, прпписы
вающий отцовство Сосрыко пастуху Сосу, относится
к инновациям, т. е. к позднейшему периоду- ' с
в°ря, пастух Сое моложе самого Сосрыко.
*казекпх
тельствует не только тот факт, что у ДРУГ1*Х
дрународов в качестве отца Сосрыко выступав
оперЖпгой (например, Уастарджи у осетин), но и
мые данные лингвистического характере
царт(и отсюда весь сюжет, связанный с эт * * в^зпПклп на
СКим пастухом), так и название
птг0ГИИ имени
основе так называемой народной
оопдВОДЯщее пмя
Сосрыко, в котором якобы выделяется 1
приведенные
Сое. На самом деле, как в этом убеждаю
Сосрыкъуэ на Сое +
выше примеры, расчленение имени
32*
501
рыкъуэ является ошибочным. В качество первого мо­
мента разбираемого имени выделяется не Сое, а Сэуэсэры,
т. е. имя Сэуэсырыкъуэ состоит в синхронном плане из
Сэуэслэры + къуэ, что буквально означает сын Сэуэслэры.
Как отмечалось, слово это образовано но продуктивной
общеадыгской модели типа Темрыкъуэ «Темроко» букв,
«сын Темура», Болэтокъуэ «Болотоко», букв, «сын Болата», Нэмыт1окъуэ «Намиток», букв, «сын Намита» и т. д.
Теперь сопоставим форму Сэуэсыры (къуэ) с формой
Сосл(ан) в осетинском. Можно сделать два вывода. Во
первых, учитывая значительные фонетические различия
между адыгским Сэуэсыры и осетинским Сосл, считать нерешеиным генетическое тождество этих форм. Во-вторых,
если же их генетическое тождество но подлежит сомне­
нию (или подтвердится), то все же остается очевидным
тот факт, что осетинское Сосл ближе стоит пе к ис­
ходной адыгской форме Сэуэсыры, а к позднейшему ее
видоизменению Соер. (Заметим, что на осетинской почве
закономерным является изменение «р» в «л», а не обрат­
ный процесс, что может подтвердить вторичпость Сосл во
отношению к Соер, если, разумеется, опп генетически
тождественны. Из этих двух выводов вытекает следую­
щее, что, собственно, преследовало настоящее сообщение:
опровергается распространенная точка зрелпя, согласно
которой Сослан считается исходной формой для Соерыкъуэ (Сосрыко).
*
!'
БИБЛИОГРАФИЯ ИЗДАНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ НАРТСКОМУ ЭПОСУ
;
!
Публикации текстов о носа
1864
Адыгские
«Отрывки из народной поэмы «Сосыруко» и рассказы, пере­
веденные. на кабардинский язык Казн Атажукиным». В Воснноиоходпой типографии Главного штаба Кавказской Армии. Тифлис,
1864.
1868
Осетинские
«Осотнискпе тексты», собранные Дан. Чонкадзе и Вас. Цораевым. Издал академик А. Шифнер. Приложение к пзд. «Записки
имп. АН», т. XIV, кн. 1—11. СПб., 1868. Тексты - стр. 43-50.
1
I
!
I
*
I
Настоящая библиография в1^лю^®длт“ова^шеН за период
нартских сказаний и исследования, о у
. «„««рлов* I. Публикации текс 1812 по 1968 г.
Библиография состоит из трех .? бл°'ографпчсские указатели. ,
стов эпоса; II. Исследования; III- Бпомогра^
(тскстЫ_110
Работы расположены в хронологнче
^ Алфавиту) •
национальным версиям, а исследовашш
бы*И просмотрены
Работы, включенные в «БиблиоР * веНной библиотеке и*йе у1зи. Составитель работал в Госуд_Р
фоидах Кабардин И. Ленина, в библиотеках и арх „ ‘есск0го научпо-псс
Балкарского, Адыгейского, Карачаево-Черкесс^ №ударствеияом
Довательского институтов и В.ТТ1-Л ню
л
архиве литературы и искусства
м просмотреть не Уг<
Работы, которые по разным причинам Щ
лось, помечепы звездочкой.
текстов к псследова
и
Перечень публикации эпических осетпяском, виг^?«ева и
языках народов Кавказа — абхазском,
Т.
Ха^нюю дридеч®нском — представили Ш. X. ^ рт Ш1 свою яскренв
А- О. Мальсагов; составитель выраж
зпательность.
.503
1870
1878
Чечено-ингушские
Чсчспо-ннгушскис
«Из чеченских сказаний». — ССКГ, вып. IV. Тифлис, 1870,
стр. 4—7.
1871
«Чеченцы. (Из записок П. А. ГоловннскогпЬ
стр."257°—258.С1!0'”1 °бЛа°ТИ,>! ВЬт' Т'
18жТексты-
Адыгские
1879
Ат а жуки и К. Из кабардинских сказаний о партах.—
ССКГ, вып. V, отд. II. Тифлис, 1871, стр. 41—71.
Адыгские
Остряков II Народная литература кабардинцев и ее образцы. — «Всстпик Европы», 1879, кп. 8, стр. 697—710.
Осетппские
1881
Шанаев Дж. Народные сказании кавказских горцев. Осе­
тинские народпыо сказания. — ССКГ, вып. V, отд. П. Тнфлпс,
1871, стр. 1—37.
Чечено-ингушские
Миллер В. Ф. Осетинские этюды, ч. I. Осетинские тексты.
М., 1881. Тексты — стр. 14—79.
Ахриов Ч. Из чеченских сказаний. — ССКГ, вып. V. Тиф­
лис, 1871, стр. 38—46.
Балкаро-карачаевские
1872
«Сказания о нартскнх богатырях у татар-горцев Пятигор­
ского округа Терской области». — СМОМПК, вып. I, отд. II. Тиф­
лис, 1881, стр. 1—37.
1882
Осетинские
Чечено-ингушские
* Ах рис в Ч. Этнографический очерк иигушевского парода
с приложением его сказок и преданий. — «Терские ведомости»,
1872, № 27—35, 39, 42-43, 45—46; 1873, № 3, 21—22, 24—26.
Чечено-ипгушскнс
Семенов II. Сказки и легепды чеченцев. С предисловием
и замечаниями собирателя. Владикавказ, 1882.
1873
1883
Балкаро-карачаевскнс
Осетинские
Ш а и а е в Дж. Народные сказания кавказских горцев. Из
осетинских народных сказаний. — ССКГ, вып. VII, отд. И*
•лис, 1873, стр. 1—21.
1883, стр. 138-168.
1875
Чечено-ингушские
1885
ССКгДып°У1П. Тпф™с, Ш5ПРТекс™’ Вер0ВаНПЯ п повеРья)’'
— стр. 34—40.
Осетинские
— Сборник материалов
Этнографическом
п0 ^тттпгЛ ^
с^* Осетинские сказки.
Музпп
издаваемый при Дашковском
У ’ вьш- I. М., 1885, стр. 113-140.
1876
Осетинские
Шанаев Г. Народные
кавказских горцев. Из осе
тпнеких сказаний о нартах.сказанпя
— ССКГ, вып. IX, отд. И. Тпфлпс,
1876, стр. 1—64.
504
1887
Осетинские
I
.Миллер В. Осетинские этюды, ч. III.
1о87. Тексты — стр. 170—174.
505
Исследования.
1889
Осстппские
«Сказания о нартах». Составил по рассказам туземных жите­
лей учитель Осетинской Георгиевской школы, Кубанской обла­
сти, Баталпашинского уезда А. Кайтмазов. — СМОМПК, вып. VII,
отд. II. Тифлис, 1889, стр. 3—36.
1900
Адыгские
1901
1891
Адыгские
Адыгские
Васильков В. В. Очерк быта темнргоевцев. — СМОМПК
XXIX, отд. I. Тифлис, 1901. Тексты — стр. 115—116.
Л он а ти некий Л. Г. Кабардинские тексты. — СМОМПК,
вып. XII, отд. И. Тифлис, 1891, стр. 1—96.
Лопат и нс кий Л. Г. Кабардинские предаппя, сказания и
сказки, записанные по-русски. — СМОМПК, вып. XII, отд. I. Тиф­
лис, 1891, стр. 143—144.
1893
Абхазские
Чечено-ингушские
«Страничка из северо-кавказского богатырского эпоса. Ингуш­
ско-чеченские сказания о нартах, великанах, людоедах и героях»,
записанные со слов стариков-ингушей в 1892 г. Б. К. Далгатом.—
«Этнографическое обозрение», 1901, ки. ХЬУНТ, № 1} стр. 35—85.
1902
Альбов Н. М. Этнографические наблюдения в Абхазии.—
«Живая старина», вып. III. СГ16., 1893. Тексты — стр. 325—328.
Адыгские
1894
Д ь я ч к о в - Т а р а с о в А. И. Абадзехскне былиньь —Б кн.:
очерк). -ЗКОИРГО,
«Абадзехи».
(Историко-этнографический
кн. XXII, вып. IV. Тифлис, 1902. Тексты —стр. 28—38.
Абхазские
Джанашвнли М. Абхазия и абхазцы. (Этнографический
очерк). ЗКОИРГО, кп. XVI. Тифлис, 1894. Тексты — стр. 33.
1896
Адыгские
Осетинские
«Дпгорские сказания по записям дигорцев И. Т. Собиева,
К. С. Гарданова и С. А. Туккаева, с переводом и примечаниями
Всев. Миллера». — «Труды по востоковедению, издаваемые Лаза­
ревским институтом восточпых языков», вып. XI. М., 1902.
ит-тт/уут™,™0 тт(тчеР“11е> тексты П. Тамбиева». — СМОМПК,
вып. XXI, отд. III. Тифлис, 1896, стр. 258—265.
1903
Балкаро-карачаевские
1897
Тульчппский II. П. Поэмы, легенды, песни, сказки п по­
словицы горских татар Нальчикского округа Терской облает
«Терсшш сборник», вып. VI. Владикавказ, 1903, стр. 19—-0,48 53,
о1*—82.
Чечено-пигушскпе
Чечено-ингушские
Грен А. Чеченские
«кпа-й™"' -см=:. «га. чик
1898
гп* Светлов В. Семь сыновей выогп. Ингушское предание.
СПб., 1903, стр. 28.
Балкаро-карачаевские
1906
506
Адыгские
— Газ.
«На *т?Ьячк°в-Тарасов А. Н. Из сказаний о партах.
■Кавказе», Екатериноград, 1906, № 6.
507
Осетинские
Куба л ов Л. 3. Песни кавказских горцев.
Владикавказ, 1906.
1907
1924
Герои-парты.
Адыгские
«Псатль». Краснодар, 1924 (па адыг, яз., на арабской графиче­
ской основе).
Чечено-ингушские
Осетинские
Гатцук В. Как погибли нарты-эрстхуа. (Чеченское преда­
ние).—-Жури. «Юная Россия», 1907, май, стр. 644—650.
Гатцук В. Морской конь. Невиданпос дело. — Жури. «Юная
Россия», 1907, шоль, стр. 888—894.
* А м б а л т ы Цоцко. Парты Хазмыцы фырг Батрадзы таур(Амбалов Ц. Сказание о нарте Батрадзе, сыпе Хамыца). Берлин, 1924.
* Га дне в Ц. Из цикла сказаний о нартах. — «Горский вестпик». Владнкавказ, 1924, № 1, 2.
аЗГЪТСШ
1909
Осетинские
I
1925
* «Из сказаний о нартах». — Газ. «На Кавказе», 1909, № 6.
Адыгские
«Псатль». М., 1925 (на адыг, яз., на арабской графической
основе).
1911
Осетинские
«Дпгорон кадапгае. Туйгъаптп Махарбегп фннст». (Т у г анов М. С. Песнь о нарте Ацамазе. Днгорское сказание). Влади­
кавказ, 1911.
Чечено-ингушские
Бывалый. Дуль-Дуль Ат-Лаган. — Газ. «Терские ведомости»,
17 июля 1911 г.
Бывалый. Молптва Сеско-Солсы. (Чечено-ингушское ска­
зание).—Газ. «Терскпе ведомости». 18 июля 1911 г.
Осетинские
на*
«Памятники народного творчества осетин. Нартовские
родные сказания», вып. I. Владикавказ, 1У^Ь.
1926
Адыгские.
Адабият. (Адыгейская литература.) Краснодар, 1926 (на адыг.
яз-, па арабской графической основе).
!
1927
Осетинские
1912
Осетинские
* 1кзки1 V. Бег 8аи^ уоп БоззНко бет Хаг1еп. Бгезйеп ипЛ
Ъе1р21е, 1912.
Дигорскоо народ«Памятники народного творчества осетин. Гарданти. Издание
краеведения.
НОС творчество», вып.
в ..ш.с. «га»*
Осетинского научно-исследовательского
Владикавказ, 1927.
1913
Осетпнскпе
♦Икскуль В. Я. Песня о нарте Созирко. (Кавказские мифы)Перевод Вл. Волынцева. — В. Я. Икскуль. Полное собр. соч.,
т. III [место и год изд. не указаны].
1928
I
Осетинские
осетин», вып.
1920
«Канка515сЪ.е МагсЬеп. Аизее^гаЫЬ ипб иЬегзеЬгЬ уоп А. Бн,с-»*
1еппа, 1920.
Осетинские
♦Городецкий С. Ацамаз и Агунда. — Газ. «Вольный горец», 1920, № 24.
III. Б записи
1929
Осетпнскпе
кадджыта?»11рои аДаэмьг уацмыстж, I чнныг. Нарты 1 Нартскпе
сказаниггл\ ?т 10го~осетлнского народного творчества.
)' Цхинвали, 1929.
508
509
I
1930
Адыгские
Осетинские
«Адыгейские сказки». Записали и перевели на русский язык
И. Цен и др. Ростов-па-Допу, 1930.
«Кабардинский фольклор». Вступит, статья, комментарии и
словарь М. Е. Талпа. Ред. 10. М. Соколов. Общая велакиня
Г. И. Врой до. М.-Л., 1930.
Р д м
Рец.: Максимов ГГ. Замечательная книга. (К вопросу
о собирании адыгейского фольклора). — Газ. «Адыгейская
правда», 17 февраля 1937 г.
Ч и ч с р о в В. И. Кабардинский фольклор. — Жури. «Лите­
ратурное обозрение», 1937, № 4, стр. 43—45.
«Хуззаг нрон адаемы уацмыстае. III чиныг». («Памятники
юго-осетинского народного творчества», кн. III). Цхппвали, 1930.
1931
Чсчспо-пнгушскис
Бека II. Тсмбот. Ачамза-Боарз. — «Г1алг1ай литературап
юкъарла ц1е сийгаш». (Боков Тсмбот. Холм Ачамаза. —
В сб. «Красные искры». Ингушское литературное общество).
Орджоникидзе, 1931.
1932
Чечено-ингушские
ваннахов1 1)В Ордт**На^Ха ^°|дз9^В1^ам’ I- (Аушев А. Фольклор
1933
Чечено-ингушские
Оахарга Н. Лоре а. Колой К1ант. — «Вайнаьха богахоувцам. (Ахриев Лорса. Колой Кант. — «Фольклор вайнахов»).
Орджоникидзе, 1932.
Осетинские
«Хуззаг Ирыстоны фольклор». («Юго-осетинский фольклор»).
Цхинвали, 1930.
1937
Адыгские
«Адыгейские сказки». Литературная обработка П. Максимова.
Ростов-на-Дону, 1937.
*М. Гнесин. Черкесские народиые песни. — Журн. «Народное творчество», 1937, стр. 23—33.
1939
«Песни горцев». Редакция и комментарии Эфенди Капиева.
М., 1939, стр. 137-139.
Адыгские
Балкаро-карачаевские
<(^ч®мсз (старинное карачаевское сказание)». Перевод С.Карачаева. Ворошиловой, 1939.
Осетинские
сказаний.
'Текст
осетинского эпоса. 10 нартовских
речи Чт т?В0Д’ комментарии. Приложение: ритмика осетинской
• 1Н-"Л., Изд-во АН СССР, 1939.
Каб^рда,>.^ЛэзГстр0:55~бГбб-70ЛаШ,Ш*~ В КН” «Писатели
1940
1935
Абхазские
«Абхазские сказки». С предисловием А. Хашба
вступит.
статьями акад. И. И. Мещанинова П В. и. Кукба. —и АБНИИК,
1935.
Абхазские
1936
Абхазские
(«Абхазские сказки»! Под псч^ак' Ку„беи РРвдакциала.
1936.
°д Р°Д- А- Хашба и В. Кукба). Сухуми,
510
К. Шьайрыли
X.
лакукуа», I атом. Епцудыршэеит К. Шакрыл и
X. Бгам^ \
(«Абхазские сказки». Составили
Га*6а>- Сухуми, 1940.
Адыгские
песни»). СостапитгфЧ?гэ орэдыжъхор». («Адыгс1ше старинные
* ’ Корашев. Майкоп, 1940.
511
1945
«Адыгэ пшысэхэмрэ тхыдэжъхэмрэ». («Адыгейские сказания н
сказшг»). Составитель Т. Керашев. Майкоп, 1940.
«Адыгэ усэнэр». («Адыгская поэзия»). Дамаск. 1940.
Адыгские
«Нарт хъыбархэр». («Нартские сказания»). Нальчик, 1945.
Чсчепо-ннгушскнс
1946
«Г1алг1ай фольклор (богахбувцам)». («Ингушский фольклор»).
Грозный, 1940.
«Чечено-ипгушский фольклор». М., 1940. Тексты —стр. 249—
Осетинские
271.
Балкаро-карачаевские
(
«Нарты
1946.
кадджытаэ».
сказания»).
Дзауджнкау,
1947
ттт .<<КъЖла1* Ф0ЛЬКЛ0Р)>- («Карачаевский фольклор»). МикоянШахар, 1940.
Адыгские
1941
Яко л л ев II. Ф. Кабардино-черкесские фольклорные тек­
сты. — УЗ КНИИ, т. II. Нальчик, 1947, стр. 203—213.
Абхазские
«Абхазская народная поэзия». Составление и предисловие
Д. И. Гулиа и X. С. Бгажба. Сухуми, 1941 (на абх. яз.).
Осетинские
«Нарты. Осетинский народный эпос». Перевод с осетинского
Г. Леонидзс, В. Горгадзе, С. Пашалишвили. Сталинир, 1947
(на груз. яз.).
Адыгские
«Адыгэ орэдхэр». («Адыгейские (черкесские) народные песни
и мелодии. Сборник первых записей»). Составитель и редактор
А. Ф. Гребнев. М.—Л., 1941, стр. 11—13.
«Нарт эпос» («Нартскпй эпос».) Нальчик, 1941.
1948
Адыгские
^ (^* Яковлев. Грамматика литературного кабардиио-чер,0/^ого языка. Приложение № 2. Фольклорные тексты. М.—Л.,
‘У48, стр. 363—367.
Осетинские
«Осетинские нартовские сказапия». Перевод с осетинского
194в'а
^и^еАииского- Предисловие К. Кулова. Дзауджнкау,
Осетинские
«Ирон адазмон сфа?лдыстад. Фаендззем чпныг. Нарт аэмзо
Даредзанты кадджытаэ». («Памятники
пародного творчества осстин, вып. V. Сказания
о партах и Даредзанах). Орджоникидзе,
1941.
1942
«Сказания .
Вале
Осетинские
«Нарты. Осетинский народный эпос». Материалы собрали и
обработали: 3. Багаев, 3. Ванеев, М. Туганов, Д. Шавлохов.
X. Плиев, П. Санакосв, И. Качмазов и Р. Чочиев. Сталнпнр, 1942
(на осет. яз.).
1944
(«Нартские
Перевод о осе—™ в
м-л':
стр. 23—29.
1949
I
Осетинские
«Из сказаний о нартах. Эпос осетинского народа». Перевод и
вступит, статья В. Дынник. Предисловие К. Кулова. М.. 1944. ^
«Из сказании о нартах. Эпос осетинского народа» («Женитьоа
Ацамаза»). Перевела с осетинского В. Дынник. — Альманах
«Дружба народов», 1944, № 10, стр. 129—137.
Осетинские
педагоГОн
народное ГТ1^РЧ°П
«Ирон адаэмои сфзелдыстад.
институттаэн асмаз скъолатаэи». (Осет1 р
ИЛи К. Казбеков
ство. Хрестоматия для пединститутов).
Калоев. Дзауджнкау, 1949.
оказания»)* Дза^ 4
«Нарты кадджытзе». («Нартские
х
.
с» Перевод
^949.
«Нартские сказания. Осетинский
Разина, С. Бритае1и
Валентины Дынник, под ред. Н. Тихонова, Б.
цРодисловие С. Бптпева. М., 1949.
512
513
л.
1957
«Осетинские нартскне сказания». Переиод и литературная
обработка 10. Либединского. Примечания С. Притаена. Вступи
статья К. Кулова. М., 1949.
*
тельная
Абхазские
«Абхазские носин». Составили И. Кортуа и В. Ахобадзе 06щая редакция И. Иаримапндзс. М., 1957. Тексты — стр. 168,* 337.
1951
Адыгские
Адыгские
«Нарты. Кабардинский эпос». М., 1951.
Род.: Л е и т е с А. Героический эпос кабардинского на­
рода. — «Дружба народов», 1952, IV, стр. 256—261.
«Иартхэр. Къэбэрдей эпос» («Нарты. Кабардинский эпос»).
Нальчик, 1951.
«Адыгейские сказки». Перевод с адыгейского Т. Керашова.
Литературная обработка Павла Максимова, Тсмбота Ксрашева.
Майкоп, 1957.
«Антология кабардинской поэзии». М., 1957. Тексты —
стр. 19—63.
«Марты. Кабардинский эпос». М., 1957.
I
«Яблоко нартов. Осетинские нартскне сказания для детей».
Обработал и перевел С. Бритаев. Орджоникидзе, 1954.
Осетинские
«Нарты. Энос осетинского парода». Издание подготовили:
В. И. Абаев, И. Г. Джусоов, Р. А. Ивнсв и Б. А. Калоев. М.,
Изд-во АН СССР, 1957.
народа. «Русский
Род.: В. Я. Пропп, Эпос осетинского III. М.—Л., 1958,
исследования»,
фольклор, материалы и
стр. 395—399.
переводе осетинского эпоса
Абаев В. И. О новомСССР»,
ОЛЯ, т. XIX, вып. I. М.,
«Нарты». — «Известия А11
1900, стр. 57—58.
Чсчсно-ингушскпе
Адыгские
«Адыгэ пшысэхэмрэ тхыдэжъхэмрэ». («Адыгейские сказания
и сказки»). Составитель А. Гадагатль. Майкоп, 1954.
«Вега г1оз Г1алг1ай иисатслий лдторааураи соорнпк .
раш Б. X. Зязиков, О. А. Мальсагов. («Рад ^
^ Зязиков и
турный сборник ингушских писателен», воет. • •
О. А. Мальсагов). Фрунзе, 1957.
Осетинские
«Нарты фэеткъуы. Нарты кадджытаз сыволлаэттшн. Бакуыста
саз Брытъиаты Созырыхъо». («Яблоко нартой. Нартскне сказа­
ния для детей»). Обработка С. Бритаева. Дзауджикау, 1951.
1954
Осетинские
1958
1955
Адыгские
«Адыгэ тхыдэжъхэмрэ пшысэхэмрэ». («Адыгейские сказания п
сказки»). Составители: Ю. Тягостен, А. Гадагатль. Майкоп, 1955.
I
Адыгские
1956
Абхазские
«Абхазские народные песни и рассказы». Составил И. Кортуа.
Сухуми, 1956 (на абх. яз.).
«Абхазские сказки». Составил X. С. Бгажба, перевод П. Цере­
тели. Тбилиси, 1955 (на груз. яз.).
Адыгские
у
«Кабардинская эпическая
С. Лппкина. Нальчик, 1956.
поэзия».
514
Абхазские
,* лпсо Тексты — стр. 19 ^
«Антология абхазской поэзии». М.,
• азаИпй. — «ДРУ;коа
С. Липким. Из абхазских нармык сказа
чародои», 1958, № 3, стр. 152—157.
Избранные
переводы
I
I
I
п /Овг В1апке ЗЫИ. КаЬагШпег
СегЬагЛ Соззшан. ВегНп. 1958.
НеМспзадеи»
1959
Абхазские
ОЬсгзсЫ уоп
п перепел с абх.
V р^бхазскио сказки». Составил, обработал
и бгажба. Сухуми, 1959.
к гПьыпкуба». («Абхазскал и?пУажэлар рпое8"^ Е11чуир1гаетш1-куба). Сухуми.
ап народная поэзия». Составил Б, Шп )
33*
515
Адыгские
1962
Балкаров С. X. Нарт Сосруко. Лдшох.
Поспи о парте
Абхазские
«Пар]) Сасрыкуеи цшьыиое а жэн зежапмк поп,
Ацсуа жолар реиос». Акуа, 1962. («Приключения мота Са^п?®811,
ОишегИ Ссог^ез. ВесИз оиЪукп, IV. — «1ех1сз зпг За\уззгас|иа» . «1оигпа1 АзтПсрдс», Ь. ССХЫП 4.
^;«ГшГа демтн братьеи- Аб“‘
«Приключения нарта Сасрыквы и ого девяноста девяти
братьев. Абхазский народный эпос». М., 1962.
Балкаро-карачаевские
«Малкъар лоэзняиы аптологпясы».
поэзии»). Пальчик, 1959.
(«Антология оалкарской
Балкаро-карачаевскпс
«Материалы и исследования по балкарской диалектологии
лексике и фольклору». Тексты, переводы, комментарии. Словарь
Под ред. А. 10. Бозиева. Нальчик, 1962.
Осетинские
«Сказания о нартекпх богатырях. Осетинский эпос». Перевод
п литературная обработка Юрия Лпбединекого. М., 1900.
Осетинские
Дзуцати X. Парты кадджытзе. («Дзуцати X. Нартскпе
предания»).— Жури. «Фидиуаг», Цхинвали, 1962, № 5, стр.76—85.
Чечено-ингушские
«Палг1ан фольклор». Гулдаьр X. С. Осмпсп.
фольклор». Собрал X. Осмиев). Грозный, 1959.
(«Ингушский
1963
Адыгские
1960
Адыгские
БишегП С. Боситепи апаЬоПепз зиг 1ез Гапдисз е1 1ея
1гаг1Шопз с!и Саисазе. Рапз, 1960.
0
БитегП С. ВёсВз оиЬукЪ, IV. ТехГез зиг 8а\Узэгод а
«.1очгпа1 Аяш1щие», 1900. р. 432—438, р. 351.
«Адыгейские сказания и сказки». Перевел и составил
М. К. Хуажев. Майкоп, 1963.
«Адыгэ 1уэры1уатэхэр», т. I. («Адыгский фольклор», т. I).
Составитель 3. ГГ. Кардангушев. Вступит, статья А. Т. Шортанова. Нальчик, 1963.
Осетинские
«Сырдоны таураэгътае». («Сказы о Сырдоне»). Орджошшидзе,
1963.
Балкаро-карачаевские
Осетнисгаю
36.
«Антология осетинской поэзии». М., 1960. Тексты — стр. 15-
«Къарачан халкъ таурухла». Черкесск, 1963^ Дсюйюнчлат-
«Сказапия о нартекпх богатырях. Осетинский эпос». Перевод
и литературная обработка Юрия Либединского. М., 1960.
ц%г: с- *• го'я"“
Р- А. Ортабаева, X. Суюнчев). Черкесск, 1Уоо.
Чечено-ингушскпе
1961
«Чудесные родники. Сказания, сказки п
Абхазские
хьасташ (Мал1г
Альманах «*ТР°
«Абхазские сказания». Составитель Б. В. Шипкуба. Перевод
с аохаз. С. И. Липкина. Сухуми, 1961.
с а г о в Ахмет. «Чудесные родники*;.
гор», 1963, № 3, стр. 68—69.
1964
Адыгскйе
Два отрывка
о нартах. м
печатного издания
Гад агат ль А. М. Адыгские тексты
«з пгшшатля о Сосырыко (к 100-летию первог
„Осетинские
адземы сфаелдыстад. Сараэзта йаз Салазгаты Зоя», т* I.
сетинскос пародиое творчество в двух томах». Составя
о. М. Салагаева). Орджоникидзе, 1961.
тт
516
песни пародов Че-
'
-
33 Зак. 1480
5/7
на кабард. языке). —УЗ МШИ, т. ТН, серия фольклора и лите­
ратуры. Майкоп, 1964, стр. 220—238.
Осетинские
«Осетинские народные песни», собранные Б. Л. Галаевым
в звукозаписях, йотированных совместно Б. А. Галаевым и
Е. В. Гиппиусом. Под род. и с предисловием Е. В. Гиппиуса. М.,
1964. Тексты —стр. 191.
Чечеио-ингушскпе
«Нохчипи фольклор. Наьрт-эрстхойх лаьцна днпцарш туьнрапаш». ХЬттпйнарг — Сераждпп Эльмурзаев, т. НТ. («Чеченский
фольклор. Сказания о нарт-орстхойцах», т. III. Составил С. Эль­
мурзаев). Грозный, 1964.
1965
Абхазские
«Абхазские сказки». Составил, обработал и перевел с абхаз.
X. С. Бгажба. Сухуми, 1965.
;
1967
Абхазские
«Ацсуа фольклор аматер.,алкуа (Академик Н. Я. Мапо иап
хин аГшытэ)». Акьыцхь иазирхиеит, алагалажэеи азгуатакуеи
„9„т. С Л. Зыхоа («Материалы абхазского фольклора Из
архива аьад. П. Я. -Марра». Подготовка текстов, вступит, статья
и примечания Б. Л. Зухоа). Сухуми, 1967.
Род.: Антиба А. Материалы абхазского фольклора «Вопросы литературы», 1968, № 8, стр. 223—224.
Чечено-ингушские
«Г1алг1ай фольклор», И. Оттадаьр Абу Мальсагов. («Ингуш­
ский фольклор», т. II. Составитель Абу Мальсагов). Грозный, 1967.
1968
Абхазские
«Апсуа лакуну а», II атом. Енкунршэент К. Шьакрыл. («Абхазскпе сказки», т. II. Составил К. С. Шакрыл). Сухуми, 1968.
Адыгские
«Адыгэ таурыхъхэр» Зэхуозыхьэсар Еэчыжь Л., Сакий II.
(«Черкесские сказки». Записали Л. Бекнзова и И. Сакнсв). Чер­
кесск, 1965.
Осетинские
,
Куге ^ез Негоз, Ье^епйез зиг 1ез Хаг1ез, 1гас1шЬ с1е Гоззе1е
а\гес ипе шЪгойисМоп, е! с!ез по1ез раг Сеогпез БишегП, ргоГеззеиг аи СоПе^е йе Ггапсе», СаШтагй, 1965.
Рец.: Г агк а ев К. Е. Книга о героях. — ИСОИИИ, т. XXVII,
языкознание. Орджоникидзе, 1968, стр. 261—268.
Гуриев Г Ье Ыуге без Негоз. Ьевепдез зиг 1ез Кагллг>
Ьез. ИСОИИИ, т. XXVII, языкознание. Орджоникидзе, 1968.
Чечено-ингушские
Клоп ев Мусбек. Нарты. Грозный, 1965 (на чечен. яз.)«
1966
Балкаро-карачаевские
«И™* ^алкъаР““къарачай нарт таурухла». («Нарты.
=°;КараЧаевскпе наРтекие сказания»). Составление, преди­
словие и комментарии А. 3. Холаева. Нальчик, 1966.
Осетинские
О6пяЯптипК0 наРтов> Для детей среднего и старшего возраста»Обработка и перевод Созрыко Брптаева. Орджоникидзе, 1966.
518
Исследования
1812
I К 1 а р г о Ь Ь. Ве1зе ш Пен Каиказиз ипа
ип1егпошеп 1и с!еп 1аЪгеп 1807 ипс! 1808. Па11
1814, В. I—И.
1826
0еЙЙ^
>
II е ч а е в. Отрывки из путевых записок о юго восточно
сшг. — «Московский телеграф», 18-0, ч. /, с р. 1841
из
м&кз« да ак гагда»-
нпе о нартах — стр. 36.
1846
обычап кабардинцев, — «ЛитсРадо ж н ц к и й И. Законы и
черкесских народов. — Газ.
ратурная газета», 1846, № 1-2.
X а н - Г и р о й Султан. Мифология
«Кавказ», 1846, № 35.
— «Ставропольские хубврн
К у с и к о в В. О поэзии черкесов.
Лениая
ские ведомости», № 1 и 2.
«гайского народа, сое I ■ 1 [С
Нормой Ш. Б. Исто,.п^аДЬ.^>0зпи.Иог51„выи. Гифпо п рода пням кабардинцев
1861.
,1
!
1866
1883
Миллер В. Ф. Кавказские предания о
ванных к горам. — ЖМНП, 1883, январь, стр. 100^116аПаХ’ прпкоМиллер В. Ф. Сообщение о поездке в гопскпр пкт
Кабарды п в Осстпю летом 1883 г. - ИКОИРГО^ УПТ Тпфлпс
1884.
«Ше Задеп шнЗ Ыейог йез ТзсЬегкеззепуо1кз. СезаттсИ уоп
КаЪапИпег ЗсИога-Вектигзт Ко^тоу. ВеагЬсЦе1 иш! тЦ. стог
Уоггес1е уегзеЬеп уоп А(Зо1Г Вег^о». Ьс1р21^, 1866.
1870
1885
А х р и е в Ч. Несколько слов о героях в пнгушевских сказаниях. — ССКГ, вып. IV, отд. II. Тифлис, 1870, стр. 1—4.
Пфафф В. Б. Материалы для древней истории осетин. —
ССКГ, вып. IV. Тпфлпс, 1870.
1871
х “ я а нс к и й М. Великорусские былппы Киевского цикла.
Варшава, 1885. О нарт, эпосе —стр. 30—32.
1886
Ковалевский М. Современный обычай и древний закоп.
Обычное право осетин в историко-сравнительном освещепни,
ч. I—И. М., 1886.
[Т а и о с в С. И.]. Заметка о музыке, танцах и песнях урусбиовцев. — «Вестник Европы». СПб., 1886, стр. 94—98.
Дубровин II. История войпы и владычества русских на
Кавказе, т. I. Очерк Кавказа и народов, его населяющих, кн. I.
Кавказ. СПб., 1871. О нарт, эпосе адыгов — стр. 107.
Пфафф В. Б. Путешествие по ущельям Северной Осетии.—
ССКГ, вып. I. Тифлис, 1871, стр. 127—176.
1872
Лаудаев У. Чеченское племя. — ССКГ, вып. VI. Тифлис,
1872, стр. 1—62.
Пфафф В. Б. Народное право осетин. — ССКГ, вып. II. Тнфлпс, 1872.
1873
Иоакимов А. Предрассудки моих учеников (из жизни панспонеров Сухумской горской школы). — Газ. «Кавказ», 1873,
№ 54.
1874
Иоакимов А. Абхазцы. — Газ. «Кавказ», 1874, № 39, 47.
1875
Ахриев Ч. Ингуши (их предания, верования и поверья).
ССКГ, вып. VIII, отд. I. Тпфлпс, 1875, стр. 1—40.
1881
Урусбпев С. Сказания о нартскнх богатырях у татар-горцев Пятигорского уезда Терской области. Несколько слов от со­
бирателя и переводчика. — СМОМПК, вып. I. отд. II. Тифлис,
1881, стр. I—VIII.
Услар П. К. Древнейшие
сказания о Кавказе. — ЗКОЫРГО,
кн. XII. Тифлис, 1881.
1882
М.,1Л882.ЛЛеР Е °СеТ,Шские этюды. Часть вторая. Исследования.
М п л л о р В. Ф. Черты старины
тин. -ЖМНП, 1882, ССХХП, август.
в сказаниях и быте осе­
520
I
I
»
1889
М и л л о р В. Ф. Отголоски иранских сказапнй па Кавказе. —
«Этнографическое обозрсппс», кп. И. М., 1889, стр. 1—39.
1890
Ковалевский М. Закон и обычай па Кавказе, т. I—II.
М., 1890.
Миллер В. Ф. Кавказские предания о циклопах, — «Этнографическое обозрение», 1890, кн. И, стр. 25—44.
1892
Кавказа.
Максимов Е., Вертепов Т. Туземцы Северного
вып. I. Владикавказ, 1892.
р
«акс.
Миллер В. Кавказско-русские параллели. в
•*
е
курсы в область русского народного эпоса», I М1 . р
М., 1892, стр. 1—36.
1893
с64?,п. ьягяьяч-дгЕгС-
„".гквд&йдай■ —г
«О сборнике материалов для °Л „ЗСКОГо Учебного окр}
Кавказа, издаваемом Управлением Кавь 18дз.
Отзывы проф. Мпллера. — ЖМНП, 1пф
1899
■ Я”»®'
Потанин Г. И. Восточные мотивы __
пейском эпосе. М., 1899. О партсьом эп
52/
евро-
?
К
}
;
1901
Веселовский А. Прометей в кавказских легендах и миро­
вой поэзии. — «Кавказский вестник», 1901, кн. 15, № 3, стр. 26—43.
Рклицкни М. В. К вопросу О нартах и ваптпм.чниях. - 1101 ШИК, вып. 11. Владикавказ, 1927.
ртск,л сказа­
Я к о в л ев И. Несколько слов о чеченской и
ингушской народной песне. — Газ. «Сердало», 1927, № 63.
1902
Дьячков-Тарасов А. Н. Абадзехн. (Историко-этнографи­
ческий очерк). — ЗКОИРГО, кн. XXII, вып. IV. Тифлис, 1902.
1908
Н. С. Т. Кавказские параллели к фригийскому мифу о рожде­
нии из камня (земли). — «Этнографическое обозрение», 1908,№ 3,
кп. ЬХХУШ, стр. 88-92.
1911
1928
1929
Далгат Башир. Материалы по обычному праву ингушей.—
ИИИИИК, вын. 11. Владикавказ, 1929.
Ж а и т и е в а Д. Г. Мотивы исторического эпоса северокав­
казских горцев. — «Записки Горского научпо-исследовательского
института», вып. II, 1929, стр. 181—197.
Ковач К. В. 101 абхазская песпя (этнографическая запись
с историческими справками). Сухум, 1929.
ДжанашиаН. С. Абхазский культ п быт. — «Христианский
Восток», т. V, вып. 3. Пг., 1917.
* Алб о ров Б. А. Термин «парт». (К вопросу о происхожде­
нии нартского эпоса). Владикавказ, 1930.
Г о н к о А. Н. Из культурного прошлого ингушей. — «Записки
коллегии востоковедов АН СССР». Л., 1930. Об эпосе —
стр. 726—727.
Семенов Л. П. «Нартскпе памятники» в фольклоре ингу­
шей и осетин. Владикавказ, 1930.
Б и т е г 11 О. Ье^епйез зиг 1ез Иагкез. Рапз, 1930.
Д з а г у р о в Г. А. Вс. Миллер как собиратель и исследова­
тель памятников пародной словесности кавказских горцев. —
«Известия Северо-Кавказского педагогического института», т. II.
Владикавказ, 1924, стр. 78—88.
1925
Куба лов А. 3. К вопросу о происхождении мартовских
посей. — ИИИИИК, вып. I. Владикавказ, 1925. стр. 379—382.
Тугаыов М. С. Кто такие нарты? — ИОИИИК, вып. I. Вла­
дикавказ, 1925, стр. 371—379.
1927
Алборов Б. А. Термин «Хатпагау» — осетинский термин. —
«Соорнпк научно-исследовательского общества этнографии, языка
и литературы при Горском педагогическом институте», т. 1. Вла­
дикавказ, 1927.
стр 40У 46^ ° В И Н
Т^еРкесы (адыге) • Краснодар, 1927. Об эпосе —
т/тг»т1т>гтД76вопросу° нартах и нартских сказаниях.—
ИОНИИК, т. II. Владикавказ, 1927................
!
А л б о р о 1» Б. А. Ингушское «Гальерды» и осетинское
«Аларды».— ИИИИИК, вып. I. Владикавказ, 1928, стр. 349-431.
С е м о и о в Л. 11. Чах Ахрнев. Первый ингушский краевед. —
ИИИИИК, шли. I. Владикавказ, 1928, стр. 261—270.
Щ е б л ы к л н И. И. Искусство ингушей в памятниках мате­
риальной культуры. — ИИИИИК. Владикавказ, 1928.
Миллер В. Ф. О некоторых древних погребальных обрядах
на Кавказе. — «Этнографическое обозрение», 1911, № 1-2,
стр. 125—136.
1913
Трубецкой И. С. Из области северокавказского эпоса.
Встреча нарта Сосрыко с великаном. — «Дневник XIII съезда
русских естествоиспытателей и врачей в Тифлнсо (16 -1 нюня
1913 г.)», стр. 465—466.
1917
1924
!
1930
1932
— В кн.:
Абаев В. И. «Даредзаиовские» скааан5в? ^комментарии
йгьагяйя** №» >«- »•я- “•»*' м-л-
1932эпоса горцев
ДрягипН. М. Л1®60’3™ институга языка п мышления»,
Северного Кавказа. — «Труды Ин
У
т. И, АН СССР, Л., 1932, стр. 183^^Г:ге _ «Революция и горец»,
Кер аше в Т. Искусство
Ростов-на-Дону, 1932, № 2—3, стр.
1933
Ф0льклопяЬ °а п°в Д’ К постановке изучения чечено-ингушского
СтР. 58—64 <<^еволг°Диия и горец». Ростов-на-Дону, 1933, № о,
522
523
-
1940
1934
X. С. Б га ж б а. Очерки об абхазской литературе. — ♦Труды
АБНИИ», вып. XVII. Сухуми, 1940.
I
ТгиЬехкоу N. 3. Егппегипёеп аиз е;пош АиГеШЬаП. Ье1
с1еп ТсЬегкоззеп (1ез кге1зез Тиарзе. — «Саисазюа», Ьофгде, 1931, XI.
1941
1935
Джаи ас в И. Сказания о партах. Орджоникидзе 1941
К у л о в К. Героический нартовский эпос. (Древнейший
памятник осетинской устной литературы). — Газ. « Крас кое
знамя», 1941, № 6.
эпоса.
—
А 6 а \шшленне>?. Сб^сЗ
СССР,
«Язык и
1935, стр. 63—78.
Ваиетп 3. Общество партов. (Опыт социалыю-исторического аиализа нартовских сказаний). — ИЮОНИИ, вып. II. Сталиннр, 1935, стр. 205—216.
тж^тттгт*
1942
ши
Абаев Л. И. Парты. Вводная статья к юго-осетинскомт
изданию эпоса «Нарты». Сталппнр, 1942 (на осет. яз.).
Б и т е г П С. Ногасез е1 1ез сипасез. Рапз, 1942.
Пулов К. Д. Матриархат в Осетии. — ИСОНИИ, вып. VIII.
Дзауджикау, 1935, стр. 158—232.
Семенов Л. П. К вопросу о мировых мотивах в фольклоре
ингушей и чеченцев. — В кн.: «Академия наук СССР — акаде­
мику И. Я. Марру». М.—Л., 1935, стр. 549—564.
Соколов Юрий. О фольклоре Кабардино-Балкарии. — Газ.
«Социалистическая Кабардино-Балкария», 28 июня 1935 г.
Талпа М. Устное творчество кабардинцев. — «Литературный
критик», 1935, № 12, стр. 166—206; «Северокавказскнй больше­
вик», 12 июля 1935 г.; «Социалистическая Кабардино-Балкария»,
1935, май.
Тибилов А. Об Юго-осетинском фольклоре. — ИЮОНИИ,
вып. II. Сталынпр, 1936, стр. 239—247.
1936
Дрягин Н. М. Анализ нескольких карачаевских сказаний
о борьбе нартов с еммечь. — «Яфетический сборник», т. VII. Л.,
1936, стр. 18-34.
1937
1945
Абаев В. Нартовский эпос. — ИСОНИИ, т. X, вып. I. Дзатджикау, 1945.
Рец.: Г а г к а е в К. Е. Нартовский эпос. — «Советская этно­
графия», 1946, № 2, стр. 239—241.
Г а р д а и о в Б. В. Абаев, Нартовский эпос. — ИСОНИИ.
т. X, вып. I. Дзауджикау, 1945, 118; «Советская этногра&пяч
1947, № 2, стр. 242—248.
А и д р е е в - К р и в и ч С. А. Кабардино-черкесский фольклор
в творчестве Лермонтова. — УЗ КНИИ, Нальчик, 1946, стр. 241-
I
283.
I
Пчел и н а Е. Г. Нартовский (богатырский) эпос в памятннках североосетинских могильников. — В кн.: «Эрмитаж. Гос.
сообщения», т. III. Л, 1945, стр. 10-11.
Максимов П. Фольклор адыгейского (черкесского) на­
рода.—Жури. «Литературная учеба», 1937, № 8, стр. 70—79.
1938
Абаев В. И. Опыт сравнительного анализа легенд о пропсхожденпп нартов и римлян. — Сб.
«Памяти
академика
?тТ
К Бтв,_ РеД* акаД- И. И. Мещанинов. Л., Изд-во
АН СССР, 1938, стр. 317—337.
1939
А б а е в В. И. Из осетинского эпоса. 10 нартовских сказаний.
Приложение: Ритмика осетинской речи. М.—Л., Изд-во АН СССР,
*
I
I
1946
1 о у и о в X. И., Магдебург И. Литература и искусство. —
кн.: «Кабардинская АССР», Нальчик, 1946, стр. 220—255.
1 Уганов М. С. Новое в нартском эпосе. — ИЮОНИИ. вып. I
\V). Сталинир, 1946, стр. 170—186.
Н,т ите2П
Без опагеез зсуЫпдиез оЬ 1а дгоззеззе аи ХагРо
в™,?!' ~~~ «БаЪотиз»,- Неуие сГеЬискэз 1аЫпез, уо1. V, Ра$с. 3—^
Игихе11ез, 1946.
и|Ш 6»Н С. А ргороз бе «Уагэвгатиа». — «ЕхЬгаК (1о ГАпурчлГе^^л1,1п8Ь]ЧиЬ йе рЫ1о!021'е еЬ сГГПзЬоп’в 0пен1а1ез е! Ма8>>’
IX (1949). ВгихеПез, 1946.
1<70<7.
Морина 3. М. Некоторые стилистические приемы и другие
характерные особенности абхазских сказок. — «Труды АБНИИ»,
вып. XVI. Сухуми, 1939, стр. 23—40.
Тейлор Э. Первобытная культура. Перевод с английского.
Под редакцией, с предисловием и примечаниями проф. В. К. НиКОЛЬСКОГО.
1947
I
х«/0«7а
524
I
О* Амазонки. История логеиды. — Жури. «иним
ская
с атнографИЯ)>? 1947, № 2, стр. 33-60; № 3, стр. З-Зо.
по иаптлЗс к п й Б- в- Быт осетин в период военной демократии
овскому эпосу. Очерки по истории осетинского нарою
525
с древнейших времен до 1867 года». — И СО И ИИ, т. XI. Дзауджикау, 1947, стр. 5—197.
Танеев С. И. О музыке горских татар. — В кн.: «Памяти
С И. Танеева». М., 1947.
Туганов М. С. Как я работал над картинами партскпх
оказаний. — Жури. «Мах дуг», 1947, Лг 7, стр. 39— Л (па осет. из.).
1948
Абаев В. И. Всеволод Федорович Миллер как осетиновед. ИЮОНИИ, вып. VI. Сталинир, 1948, стр. 19—33.
Семенов Л. Археологические разыскания в Северной Ососии. — ЙС011ИИ, т. XII. Дзауджикау, 1948, стр. 44—131.
Шогенцуков А. О. Сказания о нарте Сосруко.— >3 КИПИ,
т. IV, Нальчик, стр. 137—157 (на каб. яз.).
народное
......
АБНИИ», вып, XXIV, Сухуми, 1951, стр ^9-Щ ^
1952
Б р и т а о в С. Об осетинском народном творчестве. — «Мах
дуг», 1952, № 5.
Гутнов X. О некоторых ошибках и оппт-п „„„
нартского эпоса.-Газ. «Социалистическая Осетия», К декабря
Калоев Г. 3. Мотивы богоборчества в осетинском эпосе
Автореферат канд. дне. Дзауджикау, 1952.
Ч и ч о р о в В. И. Некоторые вопросы теории эпоса п совре­
менные исследования нартских сказаний осетин. — НОЛЯ т хт
вып. V, 1952, стр. 393-410.
’
А1>
Шьыш^уба Б. В. Ацоуа жэеиираалеццартэышьа апрпнципцуа рзы. (Ш и и к у б а Б. В. О принципах абхазского стихосложения). — «Альманах», Сухуми, 1952, № 3.
I
1949
Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор, т. I. М.—Л.,
Изд-во АН СССР, 1949.
Инал-И па Ш. Д. Об абхазских партскпх сказаниях.—
«Труды АБНИИ», вып. 23. Сухуми, 1949.
Ипал-Ипа Ш. Д. Отражение в абхазской религии и
мифологии роли женщины в общественной жизни. — «Сообщения
АН Груз. ССР», т. X, № 3. Тбилиси, 1949.
«Нартскпй эпос». Сборник статей. Дзауджикау, 1949.
стр. 3—20: К у л о в К. Д. Героический: эпос осетинского народа,
стр. 21—34: Скитский Б. В. Нартскпй эпос как истори­
ческий источник.
стр. 35—41: Туаева О. II. Образ женщины в осетинском
нартском эпосе.
стр. 42—47: Абаев В. Историческое в нартском эпосе,
стр. 48—79: Семенов Л. П. Нартские памятники Северной
Осетии.
Скитский Б. В. Быт древних Осетии по нартским сказа­
ниям. — «Хрестоматия по истории осетин с древнейших времен
до 1917 г.», ч. I. Дзауджикау. 1949, 1-е пзд.; Орджоникидзе,
1956, 2-е лзд.
1953
!
Крупнов Е. И. Об этногенезе осетин и других пародов Се­
верного Кавказа. — Сб. «Против вульгаризации марксизма в ар­
хеологии». М., 1953, стр. 141—164.
Мальцев М. И. О некоторых особенностях поэтики кабар­
динского богатырского эпоса «Нарты».— УЗ КНИИ, VIII, 1953,
стр. 85—108.
1954
«Всесоюзное совещание по вопросам изучения эпоса народов
СССР». —НОЛЯ, т. XIII, вып. V, 1954, стр. 483-488.
1955
Б г а ж б а X. С. Об абхазском героическом эпосе.-«'1 руды
АБНИИ», вып. 26. Сухуми, 1955, стр. 233—248.
Далгат-Чавтараева У. Б. Совещание по в0ПР°самЛ3^"
чения эпоса народов СССР. — «Советская этнография», 1Уоэ, •»- *»
стр 172 181
. 'Инал-Ица Ш. Д. Ацсуа фольклорп алптературен рзь.
ацааракурк. (И и а л - И п а Ш. Д. Некоторые вопросы абхазской
фольклора л литературы). Сухуми, 1955.
Кабарды. Нальчик,
. Тоунов X. И. Литература и писатели
1950
(Зие^иез саз апешпз (1е «НциЫаНоп Дез хчеШагДз». ШзКнге
еЬ зитуапсез раг Сеог^ез ВитёгП Ех1гаН Де 1а «Ке\ще
т1егпа1юпа1е Дез БгоНз Де ГАпПаие». Тоте IV —1950. ВгихеИез,
р. 447—454.
1951
Крупнов Е. И. Материалы по археологии Северной Осе­
тии докобанского периода (опыт периодизации памятников эпохи
энеолита и бронзы). — «Материалы и исследования по археологии СССР», вып. 23. М.—Л., 1951. Об эпосе — стр. 64.
Мальцев М. И. О кабардинском эпосе «Нарты». — Газ. «Ка­
бардинская правда», 1951, Л* 240.
526
1У55.
Ш е й б л е р Т. К. Кабардинский фольклор. «Советская
МУЗЬЛ?Й’Л6- Несин оиЬукЬ. — «1оита1 А* Ш,
Р- 34-37.
1956
В. И. Этимологические
__ «Труды Института языкознания
I
СтР- 450—457.
527
I
стр. 82—90: С е м е и о п Л
п- Нартскпп эпос в
материальной культуры,
памятники
стр. 91—109: И нал- И п а ш п и
стр. 110-128: Калоев Г. 3
стр. 129-153: А р д а с в п о в X Т& ЭП0С
^ абхазцев,
осетин.
скал литература.
'
*пчжш* эпос п осетинстр. 154—174: Далгат У. Б
к вопросу О иартском эпосе
у народов Дагестана,
стр. 175-213: Калоев Г». Л. Истопил
записи и публикации
нартского эпоса.
1
А ,
„ ,,, ,/1%Я,
гкчгЬскнй 1;'^
быт и реформа Зороастра.
АгсЫу
оп*А5?Г.ХХ1У
СовкозЫепзко
Акабеппе, уей». РгаЬа, стр. 23 о .
К поПросу о соцнальпо-
„П.УГга*-партского эпоса. — «УЗ Чу— ШИ.,
1У’ То6ескРов2И. В7'Творческое содружество. Нальчик, 1950.
Чурсин Г. Ф. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми,
195КогазПтСуЬМЧиез ыЙем дам 1е ЫМогв <1сз оззез раг
Сеог^ез Битсы!. Ех1гаИ с!и «1оигпа1 АзтНцис» (аппее 19.%).
Рапз, р. 349—367.
партского
Со МО И О В Л. И. к вопросу о ПрОНСХОЖПОтпг
нартского эпоса. — ИСОПИИ, т. XIX, д1туджш;ау, 195Досетинского
стр. 166-
1957
Абаев В. И., Калоев Б. А. Послесловие. - В кн : «Нарты.
Эпос осетинского народа». Изд. подгот В. И. Аоаев, II. 1 ■ Джусоси, Р. А. Ивпев и Б. А. Калоев. М., Изд-во АН ССС1, 13о7.
Багов П. М. Л. Г. Лопатлнскпй как исследователь кабар­
динского языка. — УЗКИМИ, т. XI. Нальчик, 1957, стр. 133 1ь).
Цхурбаева К. Музыкальная культура^ Осетии. Краткий
очерк. Орджоникидзе, 1957. Об эпосе —стр. 4—7.
Цхурбаева К. Музыкальная культура Северо-Осетин­
ской АССР. — В кн.: «Музыкальная культура автономных респуолик РСФСР». М., 1957.
Ш е й б л е р Т. К. Музыкальная культура Кабардино-Балкар­
ской АССР. В кн.: «Музыкальная культура автономных респуб­
лик РСФСР». М., 1957.
«История Кабарды (с древнейших времен до наших дней)».
М., Изд-во АН СССР, 1957.
Крупнов Е. И. Древняя история н культура Кабарды.
М., 1957.
Д. М а л ь с а г о в. Наьрт-орстхой. Дега г1оз. Г1алг1ай лисателпй литературан сборник. (Д. М а л ь с а г о в. Нарт-орстхоицы). —В 1ш.: «Радость сердца». Литературный сборник ингуш­
ских писателей». Фрунзе, 1957.
М е л е т и и с к п й Е. М. Нартскнй эпос адыгов и осетин и
его основные циклы. — Альманах «Дружба», VII. Майкоп, 1957.
М ел етпнекий Е. М. Совещание по вопросам изучения
нартского эпоса народов Кавказа. — НОЛЯ, т. XVI, вып. I. М.,
1957, стр. 90—94.
Мелетинский Е. М. Совещание по вопросам изучения
стр^Т381—388ЭП°Са^‘ ИСОНИИ, т. XIX. Орджоникидзе, 1957,
«Нартскнй эпос. Матерпалы совещания 19—20 октября
1956 г.». Орджоникидзе, 1957.
стр. 5—21: Чичеров В. И. Вопросы генезиса и развития
древних форм народного эпоса в освещении фольклористики
и некоторые проблемы нартекпх сказаний.
оп пъ. м аев* В. И. Проблемы нартского эпоса,
р. о7 7о. мелетинский Е. М. Место нартских сказании
в истории эпоса.
стр. 75—81; он же: Примерный указатель сюжетов нарт­
ского эпоса.
528
народной ^ творчество/— «Сборник™ статей о таТард^'пско0» устное
ратуре». Мальчик, 1957, стр. 183—200.
А
1 литс1958
I
А б а с в В. И. Историко-этимологический словарь осетинского
языка, т. I. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958.
Абаев В. И. Сармато-боспорскис отношения в отражении
нартовекпх сказании. — «Советская археология», Изд-во АН СССР,
1958, XXVIII, стр. 54-61.
Алборов Б. А. Осетинские партекпе сказания о Созрыко и
Гумском человеке. (К вопросу о происхождении слова «Бумаг»).—
УЗ СОГМИ им. К. Л. Хетагурова, XXIII, вып. 3, 1958,
стр. 99—124.
«Вопросы изучения эпоса народов СССР» (на правах ру­
кописи). Институт мировой литературы им. А. М. Горького
АН СССР (1958).
«Вопросы изучения эпоса народов СССР». М., Изд-во
АН СССР, 1958.
стр.: 5—23: Ч и ч е р о в В. И. Вопросы изучения эпоса паро­
дов СССР.
стр. 188—199: Бгажба X. С. Об абхазском героическом
эпосе.
стр. 200—208: Далгат У. Б. К вопросу о народности эпи­
ческих сказаний и исторических песен у народов Северного
Кавказа.
И и а л - И п а Ш. Д. Абхазский героический эпос. — Альманах
«Литературная Абхазия». Сухуми, 1958, № 3.
Ме лоти некий Е. М. Предки Прометея (культурный гев мифе и эпосе). — «Вестник истории мировой культу! >
^58, № з? СТр
—,|2|
Салакая Ш. X. 'Основные виды абхазского геровческого
°са- — !Х Конференция аспирантов и молодых пау шь> •_ 1-‘бп_
ппк°п дн Груз ССР. План работы п тезисы докладов. Тб
лпси, 1958.
1
529
X X V5 М о жду и а род и ы П коип'мГвостотомпот Сп011еТСК0Г0 Восток#СССР. м.. Изд-по носточ.ю),'литературы! 1960
ЛелеГации
Ь о з и 6 в А. 10. О сборе и публикации произведении устного
народного творчества балкарского народа.-В кп • Тматсшплп
научной сессии КЕНИИ по проблеме* перподп^ии отбо^
публикации адыгейского, кабардинского, черкесского, балкарского
и карачаевского фольклора 26—28 марта 1959 г.». Нальчик, 1960.
а ™)ллтт?лтг 1т7™2п паРТСК0М обществе п осетинском
эпосе. — ИЮОТТМИ АН 1 ССР, вы гг. X. Цхинвали, 1960, стр. 81—93.
«Изучение пародно-поэтнческого творчества». — «Вопросы со­
ветской науки». М., Изд-во АН СССР, 1960.
Исаев М. И. Славный путь ученого. — ИСОНИИ, т. XXII,
выгг. Г. Орджоникидзе, 1960, стр. 5—28.
Караева А. И. О фольклорном наследии карачаево-балкар­
ского народа. Черкесск, 1961.
К р у и и о в Е. И. Древняя история Северного Кавказа.
М., 1960.
М а л ь с а г о в Д., Зязиков Б. Г1алг1ай говзаме литература.
(М а л г. с а г о в Д., Зязиков Б. Ингушская художественная Л 11торатура). — Альманах «Утро гор», 1960, № 1, стр. 59—65.
«Материалы научной сессии Кабардино-Балкарского научноисследовательского института по проблеме периодизации, отбора
ублпкащш адыгейского, кабардинского, черг^сского, балкарГГ II
ского и карачаевского фольклора 26—28 марта 1959 г.». Нальчик,
1960.
1959
Абаев В. И. Осетино-вапнахскнс лексические параллели.—
ИЧИНИИИЯЛ, т. 1, вы II. 111, языкознание. Грозный, 1959,
°ТР А^ч^абадзе 3. В. Из истории средневековой Абхазии. Су­
хуми, 1959.
Ар д асе нов X. И. Очерк развитии осетинской литературы.
(Дооктябрьский период). Орджоникидзе,
1959. Об эпосе
стр. 31—43.
_ . _
...
Балтии И. И., Бекизова Л. А. Литература пародов Ка­
рачаево-Черкессии.— «Труды КЧ1111И», выгг. 111, серия филоло­
гическая. Черкесск, 1959, стр. 122—172.
Евсеев В. Я. О типологической близости карсло финского
II нартского эпоса. — «Вопросы литературы и народного творчества. Труды Карельского филиала АН СССР». Петрозаводск,
1959, стр. 37—41.
«История Северо-Осетинской АССР». М., Изд-во АП СССГ,
1959. Об эпосе —стр. 31—37.
К а л о е в Б. А. Мотив амазонок в осетинском мартовском
эпосе. «Краткие сообщения Института этнографии», нып. XXXII,
АН СССР. М., 1959, стр. 45—51.
Лавров Л. И. Доисламские верования адыгейцев и кабар­
динцев. — «Труды
Института
этнографии».
новая
серия,
т. ССЬХ, 1959.
Отаров С. А. Малкъарны фол ькл орун дай. [Балкарский фоль­
клор.] — УЗ КБНИИ, т. XVI. Нальчик, 1959, стр. 299—309.
Семенов Л. П. Фригийские мотивы в древней ингушской
культуре. — ИЧИНИИИЯЛ, вып. I., история. Грозпый, 1959,
стр. 197-219.
Смирнова Я. С. Военная демократия в нартском эпосе.—
«Советская этнография», 1959, № 6, стр. 60—68.
Тресков И. В. К вопросу о происхождении и истории бы­
тования оораза Прометея.-УЗ КБНИИ, т. XVI. Нальчик, 1959,
стр. 329—361.
Шьынцуба Б. В. Ащэ&уы «Ансуа жэлар рпоезна» ацхважоа. Акуа, 1359. (Шин куб а Б. В. Предисловие кеб. «Абхаз­
ская народная поэзия»). Сухумп, 1959.
Май? 1959^ 2 ** ^ Ьокк АУгззепсЬаПНсЬе ВисЪ^езеИзсЪаН, Багт-
эпических жанров.
Петросян А. А. Изучение народпого эпоса. —БЛ, им.
№ 4.
Грузнискни эпос. ТбпЧико в а ни М. Я. Ампраннагш.
лисп, 1960.
с1е Чие1чис5 гергбЕе..(а11опз
Г) и т е 7 11 Сеогдез. А рюроз
Развита, МШештГоШогЦиез '<Лоз оззёЮз. ЗопёогаМгиск
^
геп гчг КиНигкипЙо, Ваш1 VII, НеП 5 (6), лш,
N
№.... К.-С»*» •«$* «гАЯ» I
Рецл К. Г а гк а е в. — Сеогдез БитехП. Бокг, ЛУгззепзсЬаПС1?е3е 8С1аГ1, 0а™з1ай1;, 1959, 244з. — ИСОНИИ,
178^^* ВЬШ * (ЯЗЫК°знание). Орджоникидзе, 1962, стр. 173-
с1гиск аиз ХУ^пег ХоЛгс п
ИяЪвв*. —
5(1 Вг].. 1900.
дппогзку. Ва1№}—
(1е5 МогдспI' а г к а е в К. V?0° &сЬпГ1 кп: *^^ыкозпа.ше.
«8опс1сгаЬс1п.ск аиа> Д1С0НШ, т. XXIII,
йапз Герорее
1апс1ез», 56 Вй., гт>.
179_18о.
Орджоникидзе, 1962, стр.
<<Тгб5оГз аез апсёке^о-ге йез геиБ и тп е 2 г 1 О. ьез I
• •
КагТе. Аппа1ез йи
Бит егП О. Е1ийез оиЬикЬз. Рапз, 1959, р. 56—57.
1960
шш-Литнш Б: ^^Цирыхъ^ осетинских нартекпх сказа1960, стрС103™20
ХХП’ ВЬШ*
язьшознание* Орджоникидзе,
1
530
'
! I
б^а>омфольклоре.б3_77
екпх песен в
филологическая. Наль
531
.
■
1961
Н. Научное засе. 1962). -НОЛЯ,
Богданова М. По поводу письма В. Корзуна.
ВЛ, 1961,
№ 9, стр. 209-211.
. .
Хьэдэгъэл Аскар. Адыгэ нартхэр. (Г а д ага т л ь А. Адыг­
ские нарты). —УЗ КЕНИИ, т. XVIII. Нальчик, 1961, стр. 104—114.
И н а л- И п а III. Д. Ацсуа литература а^оурых аТшытэ.
(Инал-И на Ш. Д. Из истории абхазской литературы). Су­
хуми, 1961.
Караева А. О фольклорном наследии карачаево-балкарского
народа. Черкесск, 1961.
Корзун В. Б. Необходимо научное издание иартского
эпоса.-ВЛ, 1961, № 9, стр. 207-209.
Косвен М. О. Этнография п история Кавказа. Исследова__ материалы. М., Изд-во восточной литературы, 1961.
ния п
Крупнов Е. И. О чем говорит памятники материальной
культуры Чечепо-Ингушской АССР. Грозный, 1961.
Мальсагов Д. Д., Зязиков Б. X. Иохчнйн г1алг1айп
богахбувцам — советски литература нсторе очеркаш. (М а л ь с аг о в Д. Д., 3 я з и к о в Б. X. Фольклор ингушей и чеченцев. —
В кп.: «Очерк истории советской ингушской литературы»). Гроз­
ный, 1961.
«Очерки истории балкарского народа (с древнейших времен
до 1917 года)». Нальчик, 1961.
Ошаев X. Д. Нохчий халкъаи бартаи кхоллара — Нохчпйн
советски лптературан истории очеркаш. (Ошаев X. Д. Устное
народпое творчество чеченцев. — В кп.: «Очерки истории совет­
ской чеченской литературы»). Грозный, 1961.
С а л а к а я Ш. X. История собирания, публикации и изуче­
ния абхазского фольклора за годы Советской власти. — «Труды
АБНИИ», вып. 32. Сухуми, 1961.
Тресков И. В. К вопросу происхождения и истории быто­
вания образа Прометея. —УЗ КЕНИИ, XVIII, 1961, стр. 31—61.
Шортанов А. Т. Театральное искусство Кабардино-Балка­
рии. Нальчик, 1961.
.т,да чиЖиТт* ь г»Т?«вСс,"'"‘в”"""" к“ ,„4,;,”, Гор*™,1^м,"з'р - ”■"“•«■ (»”'«—»■
Караев а Л. И. Становление карачаевской литературы. Ли­
тореферат каид. дисс. Черкесск, 1903.
К а р м о к о в X. Наше суждение о происхождении имени
«Сосруко». — Жури. «Ошхамахо», Нальчик, 1963, № 4 (на
каб. яз).
К о р з у и В. Б. У истоков искусства слова. — В кн.: «Чудес­
ные родники. Сказания, сказки и пссип народов Чечено-Ингуш­
ской АССР». Грозный, 1963, стр. 5—19.
Крупнов Е. И. Древнейшее культурное единство Кавказа
и кавказская этническая общность (к- проблеме происхождения
коронных народов Кавказа). XXVI Мождупародпый конгресс
востоковедов. Доклады делегации СССР. М., 1963.
М а л ь с а г о в Д. Д., Ошаев X. Устное поэтическое творче­
ство чочопо-пнгушского народа. — В кн.: «Очерк нсторшг чеченоингушской литературы». Грозный, 1963.
Мелет л некий Е. М. Пропсхожденне геропческого эпоса.
Ранние формы и архаические памятники. М., 1963.
Реп - Путилов Б. У истоков эпоса. - ВЛ, 1963, Л«. 10
Сихарулидзе К. А Происхождение героического эпоса.«Вестппк отделения общественных наук АН ГСЫ». юшпеи,
Слотов’К. В. Происхождение героического эпоса. — «Советская этнография», 1963,^ 5фольклориста. _ «Русская литераБ азаиов
тура», 1966, У.
№ 2.Б.. Кидайш-Покровская Н. В., Пу­
Далгат
хов и. В. В плену предвзятой схемы (о книге Е. М. Мелетипского «Происхождение героического эпоса. Ранние формы
и архаические памятники». М., 1963). — «Советская этпогра-
1962
Ж п р м у и с к п й В. Народный героический эпос. Сравни­
тельно-исторические очерки. М.—Л., 1962.
И нал- И и а Ш. Д. Нартаа рзы а жоа. — АшэЪуы <<Нар^ СасрыЪуеи цшьынражэп зежэ-рык пара иашьцэен» ацхьажэа.
(И на л-И па Ш. Д. Слово о нартах. — В кн.: «Приключения
нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев»). Сухуми, 1962.
И и а л - И и а Ш. Д. Слово о нартах. — В кн.: «Приключении
нарта Сасрыквы н его девяноста девяти братьев». М., 1962.
«Ьа зосхе!© зсуПицио ауаКеНе <1ез с1аззез ГопсНоппеНез? раг.
Сеогдез БитегП». — «1п<Ыгатап ДоигпаЬ. Уо1. V, Рапе. 1902,
№ 3, р. 287—292.
фпя», 1905, № 5, стр.
Брагинский
И. 94-113.
С. К спорам о генезисе геропческого
эпоса.
—
«Советская
этнография»,
1966, №
Померанцева Э. В., Соколова
В. 1.К., Чистов К. В.
О статье У. Далгат, Н. Кпдапш-Покровскон, И. Пухом
«В плену предвзятой схемы». — «Советская этнография», 1966,
V*
№ 2.
такая полемика?
В.
Е.
Что
дает
Гусев
графил», 1966, № 3.
533
34 Заказ X* П50
1963
Абаева 3. В. К образу Сатаны иартского эпоса. — ИЮОНИИ,
вып. XII, Цхшталп, 1963, стр. 52—93.
532
Внрсаладзе Е. Б. Плодотворна ли такая критика? —
№ 1.
«Советская
1966, № герое»
1.
К
отл я р Е.этнография»,
С. О «культурном
африканской...
мифоло­
гии. (К дискуссии по книге Е. М. Мелетпнского «Происхо­
ждение геропческого эпоса»). — «Советская этнография», 1966.
о
«Советская этно-
1
/*
N
-- Е. М. Мелетпнского «Пронс«К итогам дискуссии по книге
хождепне героического эпоса, Ранппе формы и архаические
памятники». — «Советская этнография», 1966, А2 6.
Петросян А. А. Важный вклад в развитие фольклори­
стики.— Газ. «Советская Абхазия», 23 ноября 1963 г.
Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былпны. Летоппси. М., Изд-во АН СССР, 1963.
Салака и а Ш. X. Ацсуа жэлар рхоурыхтэ-фырхадаратэ
хэамтакуа. (С а л а к а я III. X. Историко-героические сказании
абхазского народа). — Жури. «Алашара». Сухуми, 1963, А- 5.
С а л а к а я Ш. X. О* героическом эпосе абхазов. — «Труды
Абхазского института языка, литературы и истории», т. ХХХГН
XXXIV, 1963, стр. 278-303.
Семенов Л. П. Археологические и этнографические разыскашш в Ингушетни в 1925—1932 гг. Грозный, 1963.
И. В. Тресков. Фольклорные связи Севериого Кавказа.
Нальчик, 1963.
Рец.: Шариф А. А. Об исследовании «Фольклорные связи Се­
вериого Кавказа». —УЗ КЕНИИ, т. XXIV, серия филологиче­
ская. Нальчик, 1966, стр: 274—279.
Корзун В. Б. Тысячелетние рукопожатия народов.—
ИЧИНИИИЯЛ, т. V, вып. III, литературоведение. Грозный, 1968.
стр. 159—162.
Ш о р т э н Аскэрбий. Адыгэ 1уэры1уатэхэр. (Ш о р т а и о в
Аскербп. Адыгский фольклор.— В кн.: «Адыгский (фольклор»).
Нальчик, 1963, стр. 3—34.
А к - К б Ь б к, 8 а 1 и г - К а г а п е1 8 о з и г д а. Ш. МоШ с!о
Гёрорее одйоиг е! зон гауоппетеи! ей АпаСоВе, аи Саисазе е1 оп
Аз1е Сеп1га1е раг Рег1еу N. Вога1аг. ГИотте. «Веуио. ГгапдаЬе
<1 апШгороЬдщ». .Таплчег—аУгП, 1963, р. 86—105.
V о & 1 И. Внй-ютшге с!е 1а Гайдне ОиЬукЬ. Оз1о, 1963.
1964
■Ю«ЙГ*А и
лиева А. Всесоюзная коиферепция, посвященная пробле-
ЯТшЖтСа ,,ар0Д0В Кавказа- НОЛЯ, т. 23,
отштАт? ПСВ а
* 3 11СТ01)Ш собирания, публикации и изучения
^
П Мазанпй 0 СаУсырыко (Сосрыко). —УЗ АЛИИ,
а ™ «М фольклора и литературы. Майкоп, 1964, стр. 185—203.
тах Птяп!^
В а5ЫГСК0М героическом эпосе о нарипстпка вепгпГг
1! б110граФпп геРоя. Сравшттелытая характе-
I ^двяг нгг.т.,рТ7Г&_уз ктш
Ьщ&ЯЦ. ЙЯС 1964*РТСК°М “°“ да‘"
я с А?,4 а б а д з е 3. В. История и культура древней Абхазия.
М., 1964.
Аут лева С. Ш. Фольклор. — В кн.: «Культуиа и бьтт кол­
хозного крестьянства Адыгейской автономной области» м_Т[
изд-во «Наука», 1964, стр. 167—176.
’
1 ооластп>- м* л,!
...... чор|чесскЫ[алитературыЬтштп1тм5иОГО насле«ия в стаповло-
!
“'"Ат»”?1"л нядава-япг а * »•
ПОЛЬ 1964.
а Л- А- 10ркссскап советская
советская литература. СтавроГ а г к а с и К. Е. В.УХТУ ^11ЛЛ01)Т (^•библиографическая
справка), — ИСОНИИ * тт* ХХ1У’
шп- В Орджоипкндзе, 1964,
стр. 9—22.
I
I адагатль А. М. Адыгский эпос «Нарты». Автореферат
канд. дпсс. Тбилиси, 1964.
I адагатль А. Об адыгском эпосе «Нарты». —УЗ АН ИИ
т. III. Майкоп, 1964, стр. 143-172. Тексты-стр. 227-258.
Егорова Л. И. Изучошю фольклора народов КарачаевоЧеркессии. Ставрополь, 1904.
3 у х б а С. Л. Некоторые общие мотивы и сюжеты геронческого эпоса о нартах и волшебной сказки (по материалам абхазекого фольклора). XIV конференция молодых научных работни­
ков и аспирантов АН ГССР. Тбилиси, 1964.
Калоев Б. А. В. Ф. Миллер как этнограф осетинского на­
рода.— ИСОИИИ, т. XXIV, вин. I. Орджоникидзе, 1964, стр. 23—24.
К о р з у и В. Б. О своеобразии художественного метода иартского эпоса.— УЗ ЧИГПМ, № 20, серия филологическая, выи. 13.
Грозный, 1964, стр. 3—36.
М а л ь с а г о в Ахьмад. ВаГшаьха нарторстхон дола ду1щараш. (Мальсагов Ахмет. К вопросу об изучении иарторстхойского эпоса вайпахов). — Альманах «Утро гор», 1964, N° 3,
стр. 42—45.
Мам лева II. Образ Сатаны в публикациях осетинского
нартского эпоса. Орджоникидзе, 1964.
д
Мамиева Ы. Всеволод Федорович Миллер. - Альманах
<<С° Ге л3еЯт пТо к и йТТ ШрЖ ^ос! - В к„.: «Теория
литературы"‘основные проблем в историческом освещения.
Р0ДЬМ е л е тп п с к пРГ Е ЫМ Т' Первобытное наследие и арханчеМ слот ин ^“КДуЦар0ДНЬ11\ конгресс антропологических н
ских эпосах. VII
истоках
ГГуз
АЛИИ,
‘т.
III,
серия
абхазо-адыгских народов.
фолшелора Гли^ратуры^М
и
исторпческого^пом. Автореферат «сс. »
ИСОНИи!* т.Н XXIV; выл. I-Ор»—*
Эльмурзаев О.
ичунИИИЯЛ, т. IV, выл.
МГ4 86-эз.
V
«а>“;ганЯял“г,,ш'к,"х'
-ЛИШ.
‘
Грозный, 1964, стр. ЯЧГ-^Г
129-137.
34*
535
534
пн._
I
\
1905
Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Вос­
тока и Запада. М., изд-во «Наука», 1965.
Абаева 3. В. О героинях нартского эпоса. — ИЮОНИИ АН
Груз. ССР, т. XIV. Цхппвалп, 1965, стр. 59—87.
Гаглойти 10. С. К изучению терминологии нартского
эпоса. — ИЮОНИИ, т. XIV. Цхинвали, 1965, стр. 88—109.
Зухба С. Л. Дореволюционные записи абхазских народных
сказок в Ленинградском архиве. — «Советская этнография», 1965,
№ 1, стр. 104—106.
Ииал-Ипа Ш. Д. Героический нартский эпос. — В кн.:
«Абхазы. Историко-этнографические очерки». Второе переработан­
ное, дополисипое издание. Сухуми, 1965, стр. 595—008.
Инал-Ипа III. Д. Об абхазо-адыгских этнографических па­
раллелях.—УЗ АНИИ, т. IV (история и этнография). Краснодар,
1965, стр. 222-247.
К а р м о к о в X. Г. О происхождении имени Сосруко. — «Сбор­
ник научных работ аспирантов», вып. I. Нальчик, 1965, стр. 159—
167.
М а л ь с а г о в А., Былов В. Фольклор вайнахов и его нздання. — ВЛ, 1965, № 6.
Бек и зов а Л. А., Туго в В. Б. Литература абазин (обзор).
«Труды КЧНИИ», вып. IV, серия филологическая. Черкесск, 1965,
стр. 90—165.
Шортэн А. Адыгэ 1уэры1уатэ. — В кн.: «Къэбэрдей лите­
ратурам и тхыдэм теухуа очеркхэр». (Шортаиов А. Адыгский
фольклор. — В кн.: «Очерки истории кабардинской литературы»).
Нальчик, 1965, стр. 5—53.
Цхурбасва К. Г. Об осетинских героических песнях.
Орджоникидзе, 1965.
1966
А н ш б а А. А. Вопросы поэтики абхазского
нартского эпоса.
Автореферат канд. дисс. М., 1966.
А н пз б а А.^А. Ацсуа нар^аа ренос асиужетепцкаашьа апрнпцнпцуа. (Аншба А. Принципы сюжетосложенпя в абхазском
нартском эпосе).— Жури. «Алашара», 1966, № 1.
А у т л е в 17. Об одном «новом
направлении» в нартоведснпи. — ИСОНИИ, т. XXXVI,
литоратура. Орджоникидзе, 1965,
стр. 205—219.
Д а в л е т о в К. С. Фольклор
как вид искусства. М., изд-во
«Наука», 1966.
Калмыков И. X. Общие черты в материальной и культур­
ной жизни народов Карачаево-Черкессии. — «Труды КЧНИИ», V.
Ставрополь, 1966, стр. 3—29.
Караева А. Устное народное творчество. — В кн.: «Очерк
истории карачаевской литературы». М., изд-во «Наука», 1966.
Коков Дж. Кабардинские географические названия. Крат­
кий словарь. Нальчик, 1966.
К о р з у и В. Б. Фольклор горских народов Северного Кавказа.
(Дооктябрьский период). Грозный, 1966.
Крупнов Е. И. Изучение нартского эпоса и археология.
Археолого-этнографический сборник. — ИЧИНИИИЯЛ, т. VII,
вып. I, история. Грозный, 1966, стр. 29—42.
К у а ш си Б. И. Стихосложение нартского эпоса. — Б кц.:
Б. И. Куашои. Собр. соч., т. II, стр. 106—190 (на каб. и рус.яз.).
К у м а х о в М. Л. О соотношении Сосрыко и Сослан. — УЗ
АНИИ, т. V, языкознание. Краснодар—Майкоп, 1960, стр. 61—66.
Магомедов Л. Л. П. К. Услар как крупнейший кавказо­
вед и лингвист (к 150-летию со дня рождения). — НОЛЯ, т. XXV,
пып. V, 1900, стр. 377—385.
Мамб ото в Г. X. Праздники и обряды адыгов, связанные
с земледелием. — УЗ КЕНИИ, т. XXIV. Нальчик, 1967, стр. 161—
180.
М ал ьс а г о и А. О. Нарт-орстхойский эпос ингушей и чеченцеп. Автореферат канд. дисс. М., 1906.
М а м и о и а И. Проблема эволюции эпического образа (Са­
тана в осетинском иартском эпосе в сравнении с другими нацио­
нальными версиями). Автореферат канд. дисс. М., 1906.
Сала кая III. X. Абхазский народный героический эпос.
Тбилиси, 1900.
Рец.: А н ш б а А. А. Исследование абхазского фоль­
клора. — ВЛ, 1966, № 10.
Зухба С. Салакая Ш. X. Абхазский народный героиче­
ский эпос. Тбилиси, 1966, 184 стр. — «Советская этнография»,
1966, № 5, стр. 176-178.
А и ш б а А., 3 у х б а С. Первая мопографня но абхазскому
фольклору. — Газ. «Советская Абхазия», 25 декабря 1966 г.
Иштвановнч М. Ш. X. Салакая. «Абхазский народный
героический эпос». — Ас1а ЕИшодгарЫса Асайеппас ЗсшШагит Нипдапсае», Ь. 16. .ВибарезЬ, 1967, стр. 443.
Тресков И. В. К географии «Нартиады». — УЗ КЕНИИ,
т. XXIV, серия филологическая. Нальчик, 1966, стр. 29—62.
Т у г о в В. Б. Становление абазинской литературы. Черкесск,
1966 (па абаз. яз.).
Цулая Г. В. Историческая интерпретация основных обра­
зов абхазского героического эпоса (нарты и Абрскпл). Авторефе­
рат канд. дпсс. М., 1966.
Цулая Г. В. Следы религиозно-мифологических представле­
ний в абхазском партском эпосе. — «Советская этнография», 1966,
№ 5, стр. 132—141.
1967
1
536
I
Алиева А. Эпитет в адыгском героическом эпосе. — «Учезапискп КЕНИИ», т. XXIV, серия филологическая. Нальчик,
1УЬ/, стр. 17—28.
Аншба А. Об именах Сосрыко и Сослан. — «Сборник науч­
ных работ аспирантов». Сухуми, 1967, стр. 117—119.
Аншба А. А. Сказптели абхазского нартского эпоса. Тезисы
докладов научной сессии Сухумского гослсдинстптута им.
А. М. Горького, посвященной 10-летшо кафедры абхазского
языка л литературы. Сухуми, 1967.
ГадагатльА. М. Героический эпос «Нарты» и ого генезис.
Краснодар, 1967.
«История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен
До наших дней», т. I—II. М., пзд-во «Наука», 1967.
Зухба С. Л. Абхазская народная сказка. Автореферат канд.
Дисс. Тбилиси, 1967.
537
Калоев Б. А. Народное творчество. — В кн.: I ». А. К а л о о п.
Осетины. (Историко-этнографическое исследование). м., ИЗД-ИО
«Наука», 1967, стр. 219—225.
..
«Происхождение осетинского парода». Материалы научной
сессии, посвященной проблеме этногенеза осетин. Орджоникидзе.
1967.
стр 9—21: А б а е в В. И. Этногенез осетин по данным языка,
стр. 22—41: Крупнов Е. И. Проблема происхождении
осетин по археологическим данным.
стр. 98—124: Калоев Б. А. Данные этнографии и фольклора
о происхождении осетин.
«Очерки истории Карачаево-Черкессии». В 2-х т. Отп. род.
В. И. Невская, т. I. С древнейших времен до Великой^Октябрь­
ской социалистической революция. Ставрополь, 1967. Об эпосе —
стр. 65—66.
Салакая Ш. X. О некоторых спорных проблемах нартовсдення. Тезисы докладов научной сессии Сухумского госпсдииститута им. А. М. Горького, посвященной 10-летшо кафедры абхаз­
ского языка и литературы. Сухуми, 1967.
0с,т“'-
ЗйзйЕз&гж
^гагёдаг - »«
I
'.““лт”"0 'То|,с“с "•*““”»• ”° 1ш“1тош”'в”д”ГпРгпП,«Г; Л;тУказатель статс" по капказоведенпю, поведших и газету «Терские ведомости». — «Известия СевеооКавказского (горского) подинститута», пып. 1. Владикавказ, 1923.
Дубровин И. История пойны и владычества русских- на
™ВТТТ°Г,Тг
”• т0чсрк .Каш;аза « народов, его населяющих!
мг. III. Ьполнографнческии указатель источников к первым двум
книгам.
Калоев Б. А. Библиография. — В кн.: «ГТартский эпос. Ма­
териалы совещания». Орджоникидзе, 1957.
К у а ш с в Б. И. 30 лет собираппя и изучения кабардиночеркесского фольклора. —В кн.: Б. И. Куашев. Собр. соч., т. IГ,
стр. 145—166.
К у а иг с в Б. И. Библиография кабардино-черкесского фоль­
клора. — УЗ КТТИИ, т. V. Нальчик, 1950, стр. 278—292.
К у а ш с в Б. И. История собираппя и изучения кабардиночеркесского фольклора.— В кн.: Б. Куашев. Собр. соч., т. II.
Нальчик, 1966, стр. 101—145.
Миапсаров М. ВШНозгарЫа Саисазюа еЬ Тгавзсаисазша.
Опыт справочного систематического каталога печатным сочине­
ниям о Кавказе, Закавказье п племенах, эти края населяющих,
т. Т, отд. I и ТТ. СПб., 1874-1876.
„ п
Миллер В. Ф. Систематическое описание коллекции Даш­
ко вского Этнографического Музея, вып. И. М., 1889, стр. 117—
119.
П а г и р с в Д. Д. Перечень некоторых кпиг статей п заметок
о Кавказе. — ЗКОИРГО, кн. XXX. Тифлис, 1913, стр. 309-530
И о л и с в к т о в М. А. Европейские путсшественппкп ХШХУ,ПоТл'свкТоТе‘^Европейские путешественники по Кавнголшну
1968
Абаев В. И. Этноним «хазар» в языках Кавказа. — МСОНИИ.
т. XXVII. Орджоникидзе, 1968.
Алборов Б. А. Легендарное колесо нартских сказании.—
ИСОИИИ, т. XXVII. Орджоникидзе, 1968, стр. 142—181.
АпшбаА. А. Ацеуа иартаа р.^эам^ацуа рсахьаркырата
^ыдаракуак. (А л ш б а А. А. Некоторые художественные осо­
бенности абхазских нартских сказаний). Сухуми, 1968.
Дюмезнль Г. Брат и сестра. — ИСОНИИ, т. XXVII, языко­
знание. Орджоникидзе, 1968, стр. 181—187.
X а м и ц а с в а Т. А. Б. А. Алборов — собиратель и исследо­
ватель осетинского фольклора. — ИСОНИИ, т. XXVII, языкозна­
ние. Орджоникидзе, 1968, стр. 187—193.
Эльмурзаев С. Ч. Общее и специфическое чечено-ннгушт/ггггтгЛ?йг2?5ТХ0^$?нх сказаипй в кавказском эпосе «Нарты». —
стр 73—94
Т ^ ’ ВЬШ ***’ Л11теРатУРове‘ДС11Пе* Грозный, 1968,
I) п т ё 2 П О. МуШе еЬ ёрорёо. Рапз, 1968.
указатель <т*
,
» 50 т (1Ш-1895 гг.).-В а,,а Л»»™»
™Г^а?д''Л;«?"«Таф|» '»«аР«» п Балка,,™.
Библиографические указатели
,.„,Аыалиаи 11 с. Библиография трудов 13. Ф. Миллера по Кавт Ш.^ыплГстр 9°1-92КОГО бпблш)гРа(1ш,]еског° общества», 1914,
выпБ1-ШгБакуВ19й1Т1925.ЛЫ ДЛЯ бпблиогРаФи“ Азербайджана,
___ ^^3* Р и ** А. В. Народная словесность Кавказа. Материалы
для библиографического указателя. - «Известия Восточного ф-та
Бак? ™СК0Г° Г0С™аРствен"0Г° ун-та им В И Ленина".
!
"""Йи* гг,-
«
Алыгш?Л^Г^ппрт1О1*ь^^а^ИИ0~^алка^1Ш’
КаРачааво-Черкесспп и
Д°
Ш1
>■•)*•
словссЛ. Ингушская .. лалепска, "ар»,.я
посты Владикавказ, 1928.
11 чеченская народная словесСеменов Л. Ингушская " ПГ. Грозный, 1959, стр. 152ность. — ИЧИНИИИЯЛ, Т. I, ВЫП.
статей, напечатанных
189.
В кн.: «1врСистематический список
в «Терских ведомостях» за период
скпГг сборник». Владикавказ . 1893.
Составитель
539
538
{
С к а з и н Е. В. Дагестап в советской исторической литера­
туре. Махачкала, 1963.
Ска зпп Е. В. Литература о Дагестапе на западноевропей­
ских языках. Махачкала, 1964.
Смолье к пи Л. В., Кукушкина Р. А. Библиография
работ и статей по истории, экономике, сельскому хозяйству, при­
роде, языкознанию, литературе, культуре и искусству Северпой
Осетии, опубликованных в 1950, 1951, 1952 гг. и в первом гголугодин 1953 г. в ИСОНИИ.
Указатель всех статей п заметок, помещенных в «Записках»
и «Известиях» Кавказского отдела императорского русского гео­
графического общества с начала издания по 1892 г. — В кп.: «Кав­
казский календарь на 1893 г.».
Указатель этнографических статей и заметок в кавказских
изданиях от начала их существования. Сост. А. Хаханов. —■ «Этно­
графическое обозрение», I, 1893.
Я куш кип Е. И. Обычное право, вып. Г. Материалы для
библиографии обычного права. Изд. 2-е, пспр. и дополи. М., 1910.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
I
;
А ВНИИ — Абхазский
научно-исследовательский институт им.
Д. И. Гулиа.
АВНИИК АН —Абхазский
краеведения АН СССР. научно-исследовательский пистптут
АМИИ — Адыгейский лаучно-исслсдовательский институт.
ВДИ — «Вестник древней истории».
ВЛ — «Вопросы литературы».
ДАГНИИЯЛ — Дагестанский научно-исследовательский институт
истории, языка и литературы им. Г. Цадаса.
ЖМИП — «Журнал Министерства народного просвещения»,
ЗКОИРГО — «Записки Кавказского отдела императорского русского географического общества».
ИА АН СССР — Институт археологии АН СССР.
ИГАИМК — «Известия Государственной Академии истории мате­
риальной культуры».
ИИМК АН СССР — Институт истории материальной культуры
АН СССР.
НОЛЯ «Известия Академии паук СССР. Отделепио литературы
и языка».
ИКОИРГО — «Известия Кавказского отдела императорского рус­
ского географического общества».
ИНА — Институт пародов Азии.
ИНИИК — Ингушский научно-исследовательский ипститут крае­
ведения.
ИРГО — «Известия русского географического общества».
ИСОНИИ — «Известия Северо-Осетлнского научпо-исслеловательского института».
ИЧИНИИИЯЛ — «Известия Чечено-Ингушского научно-исследо­
вательского института истории, языка и литературы». ^
КБР1ИИ — Кабардино-Балкарский научно-исследовательский ин­
ститут.
научно-исследовательский инКЧМИИ — Карачаево-Черкесский
статут.
5//
I
1
1
ОНИИК — Осотипскпй научно-исследовательский институт крае­
ведения.
СКАЭ — Северо-Кавказская археологическая экспедиция Инсти­
тута археологии АН СССР и ряда научно-исследовательских
институтов.
СМОМПК — «Сборник материалов для описания местностей и
племен Кавказа», вып. I—ХХХХУ1. Тифлис, 1881—1929.
ССК — «Сборник сведений о Кавказе», т. I—VII. Тифлис, 1871 —
1880.
ССКГ — «Сборник сведений о кавказских горцах», т. I—X. Тиф­
лис, 1871—1880.
ТГАИМК — «Труды Государственной Академии истории мате­
риальной культуры».
УЗ КНИИ — «Ученые записки Кабардппского научно-исследова­
тельского института».
УЗ КЕНИИ — «Ученые записки Кабардппо-Балкарского научноисследовательского института».
УЗ КБГУ — «Ученые записки Кабардино-Балкарского государ­
ственного университета».
УЗ СОГПИ — «Ученью записки Северо-Осетинского государствен­
ного педагогического института им. К. Л. Хстагурова.
ЧИНИИ — Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт.
1ИГПИ — Чечено-Ингушский педагогический институт.
список ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1
1
Ооложка книги «Дпгорскис сказания», одпой из первых на­
учных публикаций осотппского партского эпоса. М.,
1902 ................................................. ..........................
Обложка книги В. Абаева «Из осетинского эпоса». М.—Л.,
1939 ...............................................................................
Сторожевые башни п нагорной Чечено-Ингушетии. Фото
Б. К. Далгата. 1904 (публикация У. Б. Далгат) . . .
Стотрпдцатилетний исполнитель нарт-орстхойского эпоса
вайнахов Соси Эльмурзасвнч Патпев......................
Обложка кппги «Нартла», первого издания партского эпоса
балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 1966 ...................
Группа абхазских сказителей поет песни о нартах под
аккомпанемент апхярцы (апхъарца) ..... . . • • •
Абхазский сказитель Барцыц Смел у пионеров
Кабардинские народные сказптелп Асхад Шогелов и Мамыша Казнев с народными адыгекпмп инструментами.
Исполнитель осетинского партского эпоса с национальным
инструментом — двепадцатпетруппой арфой (дууадаэстапоп)
Исполнитель осетинского партского эпоса с национальным
инструментом кпсын-фаидыром (хъпсьш-фаендыр) . .
Обложка книги «Прпключеппя парта Сасрыквы и его девядевятп братьев», первого отдельного издания аб
эпоса........................... ... • • •
поста
хазского партского
I
543
I
7
я
13
25
265
291
301
347
365
377
399
1
I
УКАЗАТЕЛЬ К ПУБЛИКАЦИЯМ ТЕКСТОВ
Инал-Ипа Ш. Д 526
532, 536
’ 527, 529,
Иоакимов А. 520
Исаев М. И. 531
Иштванович М. 537
Петросян А. А. 531, 534
Пиппшшс В. ф. 532
Померанцева Э. В. 533
Потанин Г. Н. 521
Потявпн В. М. 528
Пропп В. Я. 529
Путилов Б. 533
Пухов И. В. 533
Пчелпна Е. Г. 525
Пфафф В. Б. 520
Калмыков И. X. 536
Ка535еВ53Г7 А' 528’ 529’ 53°’ 533-
Абхазские 506, 507, 510, 511, 512,
513, 514, 515, 516, 517, 518,
519
Адыгские 503, 504, 505, 506, 509,
510, 511, 513, 514, 515, 516, 517,
518
Балкаро-карачаевские 505, 506,
507, 511, 512, 516, 517, 518
Осетинские 503, 505, 506, 507,
508, 510, 511, 512, 513, 514,515,
516, 517, 518
Чечено-ингушские 504, 505, 506,
507, 508, 509. 510, 512, 515, 516,
517, 518, 519
)
Именной указатель к исследованиям
Абаев В. И. 523, 524, 525, 526,
527, 528, 529, 530, 536, 537
Абаева 3. В. 532, 534, 536
Алборов Б. А. 522, 523, 529, 530,
537
Алиева А. И. 533, 534, 537
Андреев-Крпвнч С. А. 525
Анчабадзе 3. В. 530
Аншба А. А. 533, 536, 537
Аппаев X. 3. 532
Ардасенов X. Н. 529, 530
Аутлев П. 536
Аутлева С. Ш. 534
Ахрпев Ч. 520
Багов П. М. 528
Базанов В. Г. 533
Балтин П. И. 530
Бгажба X. С. 525, 527, 529
Бекпзова Л. А. 530, 535
Богданова М. И. 531, 532
Бозиев А. Ю. 531
Брагинский И. С. 533
Бритаев С. 527
Вылов В. 536
Виноградов В. Б. 533
Вирсаладзе Е. Б. 533
Габараев С. Ш. 531
Гагкаев К. Е. 525, 530, 531, 535
Гаглойти 10. С. 536
Гадагатль А. М. 532, 535, 537
Гарданов В. К. (Б. А.) 525
Генко А. Н. 523
Гусев В. Е. 533
Гутнов X. 527
Давлетов К. С. 536
Далгат Б. К. 521, 523
Далгат У. Б. 527, 529, 533
Джанаев И. 525
Джанашпа Н. С. 522
Дзагуров Г. А. 522
Дрягин Н. М. 523, 524
Дубровин Н. 520, 522
Дьячков-Тарасов А. И. 522
544
Радожнцкпй И. 519
Рихтер 3. 522
Рклпцкий М. В. 523
Рыбаков Б. А. 534
Салагаева 3. М. 527
Салакая Ш. X. 529, 532, 534, 535.
537
Семенов Л. П. 523, 524, 526, 529,
530, 534
Сихарулидзе К. А. 533
Скитский Б. В. 525, 526
Смирнова Я. С. 530
Соколов 10. М. 524
Соколова В. К. 533
Талпа М. 524
Тапеев С. И. 521, 525
Тейлор Э. 524
Тибилов А. 524
Теунов X. И. 525, 527
Тотров В. К. 535
Тресков И. В. 528, 530, 532, 53ч.
Лавров Л. И. 530
Лаудаев У. 520
)
I
Евсеев В. Я, 530
Егорова Л. П. 535
Ванетп 3. 524
Вертепов Т. 521
Веселовский А. 522
Калоев Г. 3. 527, 529
Караева А. И. 531, 532, 533, 536
Кармоков X. 533, 536
Керашев Т. 523
11 ид а й ш-Пок ро века я I I. В. 533
Ковалевский М. 521
Ковач К. В. 523
Коков Дж. 536
Корзун В. Б. 532, 533, 534, 535,
536
Косвен М. О. 525, 532
Котляр Е. С. 533
Крупнов Е. И. 526, 527, 528, 531,
532, 533, 536, 537
Куашев Б. И. 537
Кубалов А. 3. 522
Кулов К. Д. 524, 525, 526
Кумахов М. А. 537
Кусиков В. 519
Магдебург И. 525
Магомедов А. А. 537
Максимов Е. 521
Максимов П. 524
Мальсагов Абу 519
г
Мальсагов А. О. 535. 536, 53/
Мальсагов Д. 523, 528, 531, 53^,
533
Мальцев М. И. 526, 527, 528
Мамбетов Г. X. 537
Мамнева И. 535, 537
Мелетпнскпй Е. М- 528> 529’ 531>
533, 535
„па
Миллер В. Ф. 520, 5-1, 5—
Морина 3. М. 524
Жантпева Д. Г. 523
Жирмунский: В. М. 532
Невская В. П. 537
Нечаев 519
Ногмов Ш. Б. 519, 5-0
Зухба С. Л. 535, 536, 537
Зязиков Б. Г. 531, 532
Отаров С. А. 530
Ошаев X. Д. 532, 533
\
Трубецкой Н. С. 522, 524
Туаева О. Н. 526
Туганов М. С. 522, 525, о-6
Тугов В. Б. 537
N
Урусбпев С. 520
Услар П. К. 520
Хакуашев А. X. 529
Халансшш М. 521
Хамицаева Т. А. 537
Хан-Гирей Султан 519
■
"«* Я»
Чептиева М. Д. 535
Чпковани М. Я. 001
Чнсгов К. В. 533
545
I
1
■
Чпчеров В. И. 527, 529
Чурсин Г. Ф. 528
Шарпф А. А. 534
Шейблер Т. К. 527, 528
Шпнкуоа Б. В. 527, 530
Шогенцуков А. О. 526
Шортанов А. Т. 532, 534, 536
Щеблыкин И. П. 523
Эльмурзаев С. Я. 535, 537
I
Яковлев Н. Ф. 523
СОДЕРЖАНИЕ
БитегП О. 523, 525, 526, 527
528, 530, 531. 537
К1арго1Ь I. 519
Мтогзку V. 531
Рег1еу N. Бога 1аV 534
II. 534
V
Решенные и нерешенные
картоведения.
А. А. Петросян
5
О пременн формированиявопросы
основного
ядра нартского
эпоса у народов Кавказа. Е. И. Крупно о
15
Исторические корни древней культурной общности
кавказских
народов (опыт сравнительного
изучения нартского эпоса).
Ш. Д. Инал-Ипа .
30
К вопросу о народном мировоззрении
в
нартском
эпосе.
С. Ш. Габарасв..................................
69
Кавказские богатырские сказания древних циклов и эпос
о нартах. У. Б. Далгат.............................
103
Некоторые этнографические параллели к осетинскому
нартскому эпосу. Б. А. Калоео............................
162
Героический эпос адыгов «Нарты». А. Т. Шортанов . . .
188
Нартскис сюжеты в Грузии (параллели и отражения)
М. Я. Чиковани
226
Нартскнй эпос и охотничьи сказания в Грузии. Е. Б. Вирсаладэе
245
О нарт-орстхойском эпосе ингушей и чеченцев. А. О. Мальсагов 255
К вопросу о балкаро-карача